Предсказание
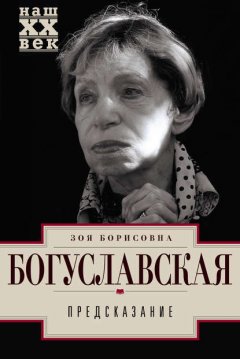
Охраняется законодательством РФ о защите интеллектуальных прав. Воспроизведение всей книги или любой ее части воспрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.
© З. Б. Богуславская, 2018
© РИА «Новости», фото, 2018
© «Центрполиграф», 2018
© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2018
Невымышленные рассказы
Ванга. Мессинг. Джуна
Судьбу мне взялась предсказывать Ванга. На дворе – 1967 год, Болгария – наша первая заграница. На пляжах толпы ярко и нагло обнаженных чехов, немцев, венгров, весело распивающих пиво, отбивающих рок на дискотеках. Это они, чехи, в следующий наш приезд будут в панике ждать у моря переправы домой – русские танки идут по Праге.
Я любила Болгарию первой любовью: только что переведена моя проза – книга «Транзитом», шалею от прозрачности моря с роскошно обустроенными пляжами, старинными замками, архитектурой новых, словно парящих отелей на взморье.
Сказительница, всемирно известная ясновидящая сидит напротив и бормочет о том, что со мной было, что будет… Мне, не верующей в Бога и таинства, а лишь в судьбу и предначертанность, это кажется особенно нелепым в полутемной нищей комнате села Петрич, что на границе с Грецией и Югославией, в 300 километрах от Софии. Слепая женщина гладит кусок сахара, который мне было велено всю ночь прятать под подушкой.
Почти все, сказанное Вангой, исполнилось за минувшие сорок лет, кое-что еще не исчерпано. Сбылось и подчеркнутое на прощание: «Тебя перестанут преследовать, ты будешь счастлива в браке, тебя признают многие. И однажды ты пересечешь океан».
Резковатый, низкий голос, глаз не видно, рыхлая, немолодая, сильно сутулящаяся женщина. Мне ее жаль, я не испытываю интереса к ее предсказаниям, только к ней самой. Для меня – в те годы невыездной – пересечь океан было так же фантастично, как увидеть сны на санскрите.
Встречу с Вангой мне устроил поэт Любомир Левчев, один из кумиров тогдашней болгарской молодежи, глава Союза писателей, а впоследствии министр культуры и фаворит знаменитой Людмилы Живковой – дочери президента. Сегодня, четыре десятилетия спустя, когда я пишу эти строки, на экране моего телевизора показывают скудные «полуофициальные» похороны всемогущего когда-то, а ныне свергнутого генсека Живкова. В 1967 году мы высмеяли любого, кто бы предсказал, что вождь болгарского народа, который еще в 1979-м получит высший советский орден из рук Л. И. Брежнева, после долгого домашнего ареста умрет в одиночестве и произойдет это через десять лет после смерти его любимой дочери Людмилы – политической звезды и первого болгарского идеолога западной ориентации, – которая покончила жизнь самоубийством.
Накануне визита к Ванге Левчев предупреждает, что прибыть надо не позже семи утра – именно в это время прорицания ясновидящей особенно впечатляют. Мне немного стыдно затраченных им усилий. К Ванге меня влечет лишь острый интерес сочинителя ко всему необъяснимому, неординарному. В особенности к тем, не похожим на нас людям, чья жизнь отмечена роковым знаком неизбежной расплаты за талант. Как выживают эти особи с бременем их отдельности от себе подобных?
До Ванги мне повезло узнать Вольфа Мессинга, впоследствии – Джуну Давиташвили. Я встречалась с ними с тайной целью «уличить» их в жульничестве – никогда не доверяла явлениям, которые наука не может объяснить. Но я ошибалась.
Уже по дороге в Петрич от левчевского водителя я слышу самые фантастические истории о Ванге. Как с этим быть? Водитель молод, несентиментален, в его рассказах нет и тени умиления – сухость протокола.
Сначала он говорит о Леониде Леонове (я уже была автором книги «Леонид Леонов», вышедшей в издательстве «Советский писатель». – З. Б.). Советского классика, осененного крылом горьковского благословения, безмерно чтили в Болгарии. Тяжеловесная вязь языка, мистика роковых переплетений сюжета (близкая Лескову и Достоевскому) не мешали восприятию его таланта, могучего, темного, почти всегда скрыто и непреклонно противостоящего коммунистической системе. Два постановления ЦК партии по пьесам Леонова подтверждали, что затаенная враждебность столь одиноко существовавшего на миру писателя была цензурой отчетливо уловлена.
От шофера я узнала, что совсем недавно, именно для встречи с Леонидом Леоновым, он вез Вангу из Петрича в Софию. Пожелание классика повидаться с ясновидящей несколько обескуражило руководство Союза писателей, но отказать в просьбе Леонову, плохо чувствовавшему себя для длинной дороги, было бы верхом негостеприимства – для почетного гостя Болгарии сделали исключение.
Номерные знаки «мерседеса» позволяли гнать с любой скоростью, и водитель с прорицательницей мчался на пределе, боясь опоздать к семи утра.
– Ты что ж, бандит, делаешь? А? – услышал он окрик невесть откуда вынырнувшего гаишника. С трудом притормозив, Гоша остановился. – А ну отдавай права!
– Какие еще права? – окатил презрением водитель постового, кивая на особые номера. – Я опаздываю к важной персоне, уйди с дороги!
Полицейский, игнорируя привилегию, обругал шофера непотребными словами. Слепая Ванга, казалось дремавшая на заднем сиденье, вдруг приоткрыла окно и веско произнесла:
– Эй, служивый, зачем ты хочешь наказать этого бедолагу за пустую провинность, когда сам повинен в столь тяжком преступлении?
Постовой затрясся, побледнел и, крестясь, попятился к кустам.
– Ведьма, ведьма! – заорал он. – Убирайтесь!
Реакция полицейского ошеломила шофера. После встречи с Леоновым он отвез Вангу обратно в Петрич, но, возвращаясь в Софию, решил отыскать полицейского. Его разбирало любопытство: какое такое преступление совершил этот гаишник и как могла знать об этом Ванга?!
Он разыскал постового. После обильной выпивки тот рассказал о случившемся пять лет назад. Отслужив в армии, он офицером полиции вернулся домой. Там обнаружил в семейной постели жену и чужого мужчину. Сознание помутилось, он выхватил пистолет, убил жену и ранил любовника. Суд принял во внимание шоковое состояние офицера, непредумышленность убийства и смягчил наказание до пяти лет. Отсидев положенное, разжалованный офицер вернулся рядовым на тот же участок.
– Что сейчас думают о Ванге? – поинтересовалась тогда у шофера.
– О… у нее большая слава, ее изучают даже в Америке. Хотя официально Вангу не признали (через несколько лет Вангу признает государство, выделит ей дом и предоставит возможность официально принимать страждущих. – З. Б.). Вас везу тоже по договоренности – это значит вне вашей культурной программы.
Помолчали.
– Еще истории хотите? Или не верите? – предложил шофер.
– Хочу верить.
– Вот и совсем фантастический случай. Молодая немецкая пара отдыхала здесь на Солнечном Берегу. Их пятилетняя дочь копалась в песке и вдруг куда-то исчезла. К вечеру позвали полицию, прошерстили весь район – никаких следов не нашли, ребенок пропал. Кто-то подсказал обратиться к Ванге. Та попросила дать ей любую вещь ребенка. К вечеру она заявила: «Ищите ребенка в деревне…» – и назвала место в пятидесяти километрах оттуда. Это было абсолютно невероятно, но других надежд не было. Отчаявшиеся родители поехали вслед за полицией. Ребенок оказался там. Девочка забрела на насыпь, прибыл поезд. Он уже трогался, когда чьи-то руки подхватили ребенка, полагая, что он не успел влезть в вагон. На конечной станции ничейное дитя сняли с поезда, поселили в деревне до установления личности родителей. Прошла неделя – никаких успехов, девочка не понимала по-болгарски, – если б не Ванга, ребенок потерялся бы!
– Как обнаружился дар Ванги?
– Ванге было двенадцать, когда она, играя с подружками, попала в ураган. В селе Струмница лишь сутки спустя ее нашли засыпанную ветками, полубезумную. Она кричала от боли, глаза были забиты песком. Девочку спасли, но она ослепла. С этого дня подросток повела себя необъяснимо странно. Все чаще ее поведение стало вызывать тревогу у родителей. Потом Ванга повзрослела, и как-то незаметно за ней закрепилась репутация ведьмы.
И вот что случилось однажды, – продолжил шофер, все более входя в азарт. – За Вангой послали полицейского, его начальник заявил, что ведьма мутит народ, ее место в тюрьме. Полицейский не церемонился, он схватил незрячую и поволок. «Ты еще успеешь меня арестовать, – вырываясь, закричала девушка, – лучше беги скорее домой, твой ребенок тонет в колодце». – «Давай шевелись». Парень терял терпение. «Запри меня, я же не убегу, – упиралась, молила арестованная, – не медли, беги же, иначе опоздаешь». Пригрозив, что все равно арестует ее, солдат пошел за подкреплением, а сам все же забежал домой. Семья причитала во весь голос, полчаса назад трехлетний мальчишка захлебнулся в колодце. Тогда полицейский направился к начальству. «Хоть как наказывайте, – рыдал он. – Я виновен в гибели собственного сына. Не пойду я за ней, не могу – и все». Так Ванга осталась на воле.
…Слушая рассказы водителя, проникаясь все большим состраданием к Ванге, я мучилась сомнением: где миф, где правда?
Жизнь преподала мне однажды жестокий урок. Случилось это в школьные годы и связано было с человеком, о котором сегодня написаны сотни статей и книг. Необыкновенный дар Вольфа Мессинга принадлежит истории, о нем знали Альберт Эйнштейн, Зигмунд Фрейд, Сталин, Гитлер и другие вершители судеб миллионов.
Школьницей я вместе с родителями во время войны попала из Москвы в Сибирь. Томский университет продолжал оставаться центром культуры, несмотря на зависимость города от ситуации на фронте. В Сибирь эвакуировали Комитет по делам искусств, Ленинградский театральный институт, Московский станкостроительный имени И. В. Сталина, профессором которого был мой сорокалетний отец, и др.
Моя мать, очень талантливый врач, отличавшаяся привлекательным обликом, с роскошными темно-русыми волосами и девичьей фигурой, была назначена завотделением госпиталя для особо тяжелораненых, тех, кто уже не мог вернуться в действующую армию. Обучившись на скоростных курсах грамоте медсестры, я дежурила по ночам через сутки в том госпитале – здесь, в этих палатах, я прошла жестокую школу «воспитания чувств», которую не преподают. Необратимость судеб, искалеченных войной, я узнала на ощупь – перевязывала, кормила с ложки. Но что было, быть может, самое важное для каждого из них – терпеливо выслушивала исповеди, разбирая душераздирающие коллизии, в которых каждый из них был невиновен и судить было некого.
Стоял 32-градусный мороз, хрустели ветки деревьев, когда, поддавшись на призывы афиш с громким именем Вольф Мессинг, появившихся в Томске, я пробиралась в местный Дворец культуры. Гастролеру приписывалась гениальная способность читать мысли, держа собеседника за руку и даже на расстоянии от него. Подобные сеансы, о чем гласила реклама на каждом стенде, он проводил по всему миру. Теперь глотатель чужих мыслей собирался проделать это с публикой в сибирском городе, обещая, что будет работать с любым, кто пожелает. Наша сплоченная компания из пяти старшеклассников подсуетилась и выведала, как протекает сам процесс мыслечтения. На сцене размещался президиум из самых уважаемых граждан города, туда поступали записки из зала от смельчаков, решившихся на эксперимент. Известные только сидящим на сцене, записки не отличались оригинальностью. Кто-то просил, чтобы Вольф Мессинг заставил парня покружиться в вальсе с девушкой или снять с нее бусы, вынуть спрятанные ключи или часы. Мессинг, находившийся в зале, не мог знать содержание записки, поступающей прямо в президиум. Держа за руку автора послания, он должен был следовать за ходом его мыслей.
К нашему изумлению, Вольф Мессинг исполнял все приказы «медиумов» без малейших ошибок, вызывая умиление сидящих на сцене. Во мне же все протестовало. Как удается артисту, думала я, читать мысли, если он прибыл из Польши и по-русски ни бум-бум? Очевидно, кто-то на сцене переводит ему текст и подает специальные сигналы.
Как разоблачить Мессинга на глазах у всех? И я придумала. Пусть я буду «медиумом». Поставим «чистый эксперимент». Мы пошлем в президиум некое задание, а когда Мессинг спустится со мной в зал, я продиктую ему совершенно другой текст. Тут-то он и будет посрамлен, когда станет делать не то, что мы отправили в президиум. Все одобрили мой план, и вперед! Признаюсь, у меня все же мелькнула мысль – а что, если Вольф Мессинг исполнит именно мои мысленные приказания, что, если он не окажется шарлатаном?
Наша записка гласила: «Пусть господин Мессинг подойдет к девушке в середине четвертого ряда (то бишь ко мне), возьмет ее за руку и, следуя ее мысленному пожеланию, подведет к мужчине, сидящему на 10-м месте в первом ряду. Они должны обняться, после чего этот молодой человек исполнит на рояле «Лунную сонату» Бетховена». Замечу, что уже неделю мы были в глубокой ссоре с моим приятелем.
Итак, Мессинг вытащил меня из ряда и волочил с неистовой силой вдоль прохода. Перепуганная своей дерзостью, на глазах многосотенной аудитории я пыталась мысленно сосредоточиться на вновь придуманном задании, чтобы не перепутать его с отосланным на сцену. И тут-то началось невообразимое! Члены президиума, осознав несоответствие происходящего в зале с заданием в записке, начали паниковать. Мужи города, недоуменно переглядываясь, вырывали друг у друга записку, решая, признаться ли им в провале вечера. Председатель медленно начала подниматься со своего места, готовясь остановить маэстро. А Мессинг нервничал, он продолжал волочить меня по проходу, выполняя мысленную команду. Снимал модную куртку с девчонки, которая стояла в проходе, нашел часы у пожилого инвалида. Конечно же ни моих объятий с приятелем, ни Бетховена в помине не было. В зале наступила кладбищенская тишина, в которой великий маэстро, обливаясь потом, делал свою непосильную работу. Через минуту не предвиденный нами скандал разразился с неистовой силой.
Мне надолго запомнились влажные бисеринки на висках маэстро со всклокоченными волосами и громадной шишкой на лбу. Вот уже устроительница вышла из-за стола, готовая к извинениям перед публикой, к тому, что «король оказался голым». Жюри недоумевало, как же прежде удавалось Мессингу обманывать людей в других городах нашей страны и иностранцев? И тут мы не выдержали. Я вихрем ворвалась на сцену, наступил момент покаяния. За мной выскочили и все «наши». Не берусь описывать, что начало твориться вокруг. Под свист и улюлюканье зала мы выбежали на улицу, чтобы не разорвали на части, и, не чуя мороза, спрятались за скамьями в любимом городском парке. Как же мне было плохо! Около часу ночи пурга смела нас из-за укрытия и заставила разойтись по домам.
Эпизод в Томске с Вольфом Мессингом врезался в память надолго, охладив самоуверенность советской школьницы, жившей со словами песни «мы все добудем, возьмем и откроем…». Начался период сократовского скепсиса – «Я знаю, что ничего не знаю».
Если б я и моя школьная компания ведали, сколь фантастична была биография человека, которого мы чуть было не приняли за жулика! Неизменно виня себя за происшедшее в Томске, я старалась узнать побольше о Мессинге, и позор нашей нахальной вылазки открывался мне в полном объеме от тотальной нашей неосведомленности (увы, из-за полной закрытости в ту пору советского общества и, разумеется, засекреченности биографии великого гастролера). Впоследствии о его удивительной судьбе я узнала из книги Варлена Стронгина «Вольф Мессинг. Судьба пророка».
Когда маэстро не стало, многие осознали, что этот неприятный, странный человек, которого все сторонились, был благороден и честен не только с другими, но и с самим собой.
Вольф Мессинг отказался от почестей, которые ему предлагали во всем мире, он ушел из жизни без званий, не накопив богатства. Похоже, маэстро стеснялся своего дара. Было ли это чувство самосохранения или необъяснимая боязнь публичности? Либо он сознавал, что только незаметность может спасти его? В дневнике он запишет: «Я старался работать, как в те годы работали все. Свои личные сбережения я передал на строительство двух военных самолетов, которые я подарил боевым летчикам. Первый – в 1942 году, второй, все накопленное за два года, – в 1944-м». Превратности жизни Мессинг вынес с исключительным мужеством, но его ждал удар, которому он не смог противостоять, – смерть жены. Когда Мессинг похоронил ее, он уже не смог вернуться к нормальной жизни. Он тихо скончался в 1974 году, и единственный некролог о смерти гениально одаренного предсказателя появился в «Вечерней Москве». Свидетели похорон Вольфа Мессинга в ЦДРИ рассказали, что прощание с великим магом походило на тайную сходку. Никакого объявления о панихиде не было. Люди узнали, образовалась довольно большая толпа. Мессинга похоронили на Востряковском кладбище, рядом с женой, как он завещал. На его погребальном костюме не было ни орденов, ни медалей. «Я – также не оплачиваемый артист, – не раз говорил он, – единственное мое звание: я – Мессинг». В этом он оказался провидцем. Сейчас, по дороге к Ванге, я думала, что его имя оказалось выше, чем звание.
Мне никогда не довелось больше увидеть маэстро. Так и остались непрощенными наш грех и глупая провокация.
Впереди была встреча с женщиной, которой людская молва приписывала, как и Мессингу, провидение судьбы человека. Ее дар болгары называли ясновидением. Она «читала» не только мысли, но и предугадывала обстоятельства жизни, прошлые и будущие.
…В селе Петрич, куда мы въехали на рассвете, я увидела толпу перед домом Ванги. Люди стояли впритык, ожидая ее появления. Шофер объяснил, что обычно в это время Ванга выходит на крыльцо и сама выбирает из толпы тех, кого примет.
– Как выбирает? Она же незрячая.
– Откуда мне знать? Сами увидите. Сейчас обязательно к ней кто-то бросится, станет умолять: «Со мной поговорите!» Извините, госпожа Богуславская, но нам тоже придется подождать. – Мы присаживаемся на ступеньки. – Сейчас кто-то из дома нас вызовет. Госпожа Бонева, наверное, уже здесь. (Дора, жена Левчева, одна из самых ярких художниц Болгарии, соглашалась мне переводить.)
Пока ждем, водитель пытается развлечь меня.
– В последний раз, когда я ждал здесь Вангу, чтобы везти ее к Леонову, – говорит он, – какая-то женщина, увидев ее на крыльце, запричитала: «У меня сестра умерла, ничего не успела сказать. Как жить? Что со мной будет? Я – нищая». А Ванга ей так спокойненько: «Не ходи ко мне. Все равно не приму. Твоя сестра два года болела, ты ни разу к ней не пришла. Она умерла в одиночестве, чужие люди были рядом. Теперь ты хочешь от меня узнать, куда она деньги спрятала? Не скажу. Уходи и не показывайся». Вот как она ведет себя! Другого просителя еще хуже отбрила: «Ты доносил на мать, на жену, избил ребенка, теперь хочешь отсудить комнату, да не знаешь, где бумаги».
– А как Ванга показывает, с кем хочет встретиться?
– Просто рукой: ты, ты и ты.
Мы входим к Ванге в комнату вместе с Дорой Боневой уже около семи утра, сразу погружаясь в полутьму комнаты. Свет чуть брезжит сквозь закрытые занавески, все как-то нерадостно, тускло. Сама Ванга тоже не впечатляет. Бледное, одутловатое лицо, стертое расплывчатым выражением равнодушия и усталости, редкие с проседью волосы убраны в пучок под платком. Я протягиваю (обязательный для ее сеанса) кусок сахара, пролежавший ночь под моей подушкой, Ванга трет его, и вдруг сквозь безжизненные черты проступает осмысленное выражение.
– У тебя и твоего мужа живы все родители, – сразу же начинает она. – Вам повезло, вы счастливая пара. – Сосредоточенно, углубленно она продолжает мять в ладонях мой сахар. – Но вот отец твоего мужа серьезно болен. Что-то у него с головой и с ногой. А мать переживет его на десять с лишним лет.
Впоследствии в памяти стерся этот первый пассаж ясновидящей, острое любопытство требовало продолжения. Я была уверена, что наступит момент явных несоответствий ее прогнозов, «сахарная» информация слиняет под напором фактов.
Однако Андрей Николаевич Вознесенский умер спустя полгода, в возрасте шестидесяти девяти лет, от инсульта, которому предшествовал острый тромбофлебит правой ноги.
Антонина Сергеевна Вознесенская (в девичестве Пастушихина) умерла в возрасте семидесяти трех лет на глазах дочери, сестры Андрея Наташи, в собственной квартире, когда смотрела по телевизору творческий вечер дагестанского классика Расула Гамзатова, – 10 марта 1982-го.
– Твоему сыну сейчас двенадцать лет. У него неважно со зрением, он носит очки, – продолжила Ванга.
Я согласно кивнула, поразившись источнику подобных сведений у болгарской слепой в селе Петрич. Если предположить даже, что кто-то собирал информацию о нас с Вознесенским, то подобные подробности о Леониде? Это было исключено. Но в следующее мгновение Ванга поразила меня еще больше. Неожиданно ее лицо исказила мучительная гримаса.
– Я ошиблась, – пробормотала, устремив бельма поверх моей головы, – твоему сыну не двенадцать, а тринадцать лет. Скажи ему, пусть всегда снимает очки, когда идет в воду.
В ту же минуту я осознала, что Ванга права. Во время нашего двухнедельного пребывания в Болгарии прошел день рождения Леонида, мы звонили, поздравляли его с тринадцатилетием. Уточнение Ванги повергло меня в шок, показавшись абсолютно невероятным.
Затем она занялась мной. Ее резковато-хриплый голос разбрасывал сведения, от которых меня начало трясти. Уже не в силах скрывать свое состояние, я вскочила, не умея скрыть охватившее меня волнение от противоестественности происходящего. Но вскоре, по мере ее откровений, мне все больше становилось невыносимо от того, что существо, наделенное столь исключительным и опасным даром, живет в безрадостных условиях нищеты, лишенное света и впечатлений. А мне ведь она сулила удивительное. «Ты будешь очень успешным человеком… однажды ты пересечешь океан…»
И теперь, прежде чем продолжить рассказ о Ванге, – небольшое отступление в будущее. По следам ее пророчеств.
Итак, в том 1968-м предсказания ясновидящей казались абсолютной фантастикой. В течение шести лет я считалась невыездной. Подписи в защиту Андрея Синявского и Юрия Даниэля – то, что не признала их «ошибкой», – отдавались долго. Чтобы разрешить мне поездку даже в дружественную Болгарию, где была издана моя книга, понадобились усилия многих людей, да и срок давности «преступлений» вроде бы истек. В этих обстоятельствах представить себе пересечение океана, то есть посещение США или Канады, было утопией. Поездки в эти страны разрешались в то время либо абсолютно благонадежным, либо под давлением Запада. Но в отношении меня все же сбылось предсказанное Вангой. Решающим оказалось приглашение посла Канады выступить в университетах страны. Господин Роберт Форд был в Москве дуайеном, то есть старейшим среди западных послов. Настойчивость г-на Форда в отношении меня (кроме врожденного чувства справедливости) объяснялась еще и тем, что он был поэтом. Он издал в Канаде небольшую книжечку стихов Андрея в своем переводе, в том числе поэму «Авось», которая легла в основу спектакля Ленкома «Юнона» и «Авось», и наблюдал ход событий, связанных с моей персоной. После бесконечных отказов наших высших инстанций при выяснении имени приглашенного визитера решающей стала совершенно неожиданная поддержка нашего тогдашнего посла в Канаде А. Н. Яковлева. Абсолютно незнакомый мне дипломат написал в «шифровках» (как я узнала много лет спустя), что «поездка писателя-женщины новых взглядов по университетам крайне целесообразна». Так я оказалась одна в Канаде, с ужасом осознавая, что я гость их правительства и моя программа – ни более ни менее как встреча со студентами в шести городах и университетах страны.
Жизнь вроде бы начиналась заново.
…Мы прощались с Вангой в полутьме прихожей. Я торопливо обняла слепую, понимая, как ждали ее люди перед домом. Внезапно слепая задержала мою руку. «У вас там, в Москве, рассказывают, есть печки, которые работают без дров, на электричестве? – вполне буднично сказала она. – Зимой я ужасно мерзну, пришли мне такую, – и уже на пороге, – привет передай вашему писателю Леонову. Он у меня был недавно».
Я пообещала.
Вскоре в Москву приехал наш друг Божидар Божилов, личность вполне незаурядная. Популярный болгарский поэт, еще более известный как автор десятков розыгрышей. К тому же редактор литературного журнала. Невероятную историю о том, как Божидар стрелял в меня и из каких побуждений, я еще поведаю.
А здесь замечу, что Божилов стал посланником к Ванге – я отыскала самый мощный калорифер в только недавно открывшемся в ту пору отделе электроприборов нового ГУМа.
Много месяцев спустя болгарин подтвердил, что свез Ванге «печку». «Я знала, что она надежная», – абсолютно не удивившись, сказала Ванга.
Последней по времени – из троих «предсказателей» – была Джуна, чей дар врачевания связывали с необыкновенно высокой биоэнергетикой. Джуне приписывали многочисленные случаи излечения болезней, когда традиционная медицина сдавалась.
В начале девяностых я нашла Джуну Давиташвили, чтобы исполнить просьбу моей дальней родственницы Нины. Ее трехлетняя дочь после перенесенного гриппа лишилась слуха. Мать девочки обращалась ко всем светилам «ухо-горла-носа», но никто не сумел добиться успеха. Друзья, прослышав о Джуне, уверяли, что сотворить чудо может только она, эта приезжая. Отыскать Джуну мне было не сложно – хотя ее телефон скрывался, мне сразу же дал его Зураб Церетели, хорошо знавший ее еще по Грузии. Джуна не отказала, приняла девочку. После курса лечения к ней вернулся слух, хотя и не полностью. С тех пор я не раз сидела с Джуной на ее тесной кухне, внимательно вглядываясь в лицо женщины с мгновенно вспыхивающим румянцем, искрящимися глазами, сорванным голосом курильщицы. У нее была завораживающе открытая улыбка, когда она протягивала сигарету к чужой зажигалке. Слухи об обаянии, доброте и бескорыстии новой звезды на небосклоне медицины распространились со скоростью радийных новостей. На этой кухне стол никогда не успевал опустошаться, всегда перегруженный овощами и фруктами. Молчаливые помощницы, быть может подруги, приносили к столу все новые закуски, а в конце посиделок – еще особый хлеб и пирожки к чаю. В любое время дня кипел чайник – кофе и заварка не переводились. Гостей у Джуны всегда бывало человек пять – минимальный набор. Время от времени вбегал темноволосый мальчуган лет шести, сын Джуны по имени Вахо, которого она то сердито отчитывала, выпихивая из кухни, то страстно прижимала к груди. В жилах Джуны текла бурная ассирийская кровь, помноженная на грузинские ментальность и привычки. Она была нерекламно щедра и хлебосольна. Первые годы ее московского пребывания быстро сделали ее крайне модной. «Я наделена сильной энергетикой, очень высоким биополем, – объясняла она, – через мои руки эти токи проникают к пораженным участкам тела и действуют на них сродни физиотерапии». Однако, добавляла она, действуют более избирательно и сильно. И чаще всего чудо случалось.
Для меня было чудом (кроме медицинских успехов Джуны) и то, в какие рекордные сроки эта ассирийская женщина адаптировалась к московской жизни, как молниеносно развилась и самообразовалась. Уже через полгода из первозданной, застенчивой южанки она превратилась в элегантную, броской красоты и врожденной уверенности изящную женщину, с редкой дипломатией и элегантностью ведущую беседы с самыми высокопоставленными и разно идеологически направленными пациентами.
Я наблюдала некоторые сеансы нетрадиционного врачевания Джуны, движения ее рук, почти безошибочную диагностику. Мы стали видеться довольно регулярно, что-то тянуло меня в этот дом, через который проходило так много страданий. Они уравнивали людей именитых и тех, кто добирался к ней на последние, отложенные на дорогу крохи. Большинство прошли круги ада и уповали на Джуну как последнюю надежду вернуться к нормальной жизни.
На моих глазах известность Джуны разрослась неимоверно. А, как известно, испытание славой не каждому под силу. Постепенно вокруг ее имени возникал рекламный вихрь, преувеличивая поле ее реальных возможностей. Последней ступенью ее достижений была победа над официальной медициной. Джуна получила в свое распоряжение целое отделение в клинике, ей дали право доказать свою методику. В те годы серьезно корректировали ее судьбу влиятельные политические фигуры. Она лечила Э. А. Шеварднадзе в бытность его министром иностранных дел, его семью и семью Байбакова – министра экономики, чиновников из горкома КПСС и многих других, о которых не упоминала. Она выезжала на правительственные дачи, в резиденции послов, а некоторое время спустя – по вызову в другие государства.
Бывал у Джуны и Андрей – она относилась к его поэзии с глубоким почтением. Ее всегда поражала разносторонность талантов, а в его поэзии – мгновенно рождающиеся метафоры. В какой-то момент они подружились. Оказалось, Джуна пишет стихи, некоторым поэтам уже их показывала, вскоре начала публиковаться. Затем столь же страстно увлеклась живописью. Удивительно, но это сочетание образа жизни, пристрастий, суеты (когда с утра до вечера уже не прекращалась тусовка) с профессией абсолютно не мешало ее преданности медицине. В Джуне уживались два существа, в одном – клубок эмоций, перехлестывающий логику, безрассудность страсти, чаще полностью исключавший выгоду, в другом – преданность людям, ответственность в использовании своего дара (она могла признаться, что не в силах помочь), способность полностью концентрироваться на больном. Когда она уединялась с пациентом, никто не имел права войти в кабинет, прервать ее общение. Этой, другой Джуне все прощалось, что бы она ни вытворяла. В последние годы особенно заметны стали быстрые, казалось безмотивные, смены настроений, забывчивость, бесконечные опоздания. Но поверх этого торжествовала неистовая жажда жизни, неуемное стремление выйти на более широкие просторы деятельности и признания. В какой-то момент, казалось, это самомнение превращается в манию. В разговорах упоминала, что ей дано разговаривать с Космосом, что к ней являются инопланетяне. Захлебываясь, она перечисляла свои успехи, называла влиятельных знакомых, которые ей безгранично верят. И вправду, ей легко стало доставаться то, чего раньше добивалась огромными усилиями, о чем прежде и мечтать не могла. После выездов Джуны за рубеж ее стали награждать иностранными орденами, принимать в члены каких-то зарубежных сообществ и медицинских нетрадиционных объединений. Я же ценила ее действительный, немифологический талант, ясно осознав амплитуду возможностей Джуны. Она легко могла вылечить многие воспалительные процессы, внутренние и внешние, справлялась с язвами, экземами, лишаями, разного рода невралгиями, бывали и случаи возвращения слуха пациентам с частичной глухотой или частичного с полной (как было с ребенком моей родственницы). По-прежнему Джуна никогда не бралась за лечение того, что было ей неподвластно, никогда не уговаривала и не обманывала больных ради выгоды или корысти.
Но настало время, когда все растущая известность поменяла ее поведение и образ жизни. Нервная, обрывающая собеседника, необязательная, она растрачивала себя, не считаясь с собственными силами, расширяя круг пациентов, которым уже боялась отказать. Я наблюдала, как постепенно сглаживается граница между истинными привязанностями и деловыми интересами. Появилась зависимость и слабость к рекламе, ожидание передач на ТВ, газетных и журнальных публикаций. Я побывала на презентациях нескольких выставок ее картин, читала некоторые из многочисленных интервью. Кстати, в одном из них она неожиданно назвала мою повесть «Близкие», появившуюся в те дни в журнале. Больше, чем ее предпочтение, меня поразил сам факт, что она успела прочитать повесть, вышедшую неделю назад. Мы годами не виделись, ее имя все больше обрастало выдумками, сплетнями, но я помнила редкую доброту этой приезжей, ее самоотверженное желание броситься каждому на помощь. Джуна могла капризничать, подводить, гулять и увлекаться призрачными фантомами, но и тогда для больных, попадавших к ней, всегда находила время и слова для врачевания и утешения.
Ахиллесовой пятой Джуны оставался ее сын Вахо. Их разговоры сами по себе были спектаклем. Для Джуны шестилетний ребенок (затем восьмилетний, девятилетний) был советчиком, младшим братишкой, взрослым мужчиной, с ним она обсуждала свои женские проблемы, сетовала на несправедливость чиновников, делилась сомнениями о новых знакомых, доказывала гениальность своей методики. Она не отказывала сыну ни в чем. Вахо участвовал в ее повседневной жизни с утра и до вечера. Предположить, что получится из этого ребенка, на которого обрушивался стихийный шквал ее любви, ураган взрослой информации, было нереально. И все же она умела быть твердой, когда Вахо хотел отлынить от учебы или пытался врать. За вранье она могла очень строго наказать сына. Совсем не выносила проявлений детской жестокости. Мальчик вырос способным, интеллигентным. Взрослый Вахо слыл человеком деловым, порядочным, сохранившим ту же степень близости с матерью, что и прежде.
…В последние годы я совсем не вижу Джуну. Изредка читаю о ней в журнальных публикациях или газетах, но думаю, коли позвоню – отзовется, мы встретимся, и все меж нами сохранится на той ноте доверия, которая установилась много лет назад.
А вот и сбылось. Как-то пробегаю сквозь вестибюль Центрального дома литераторов, где частенько выступаю, провожу вечера или представляю кого-либо, а мы с Андреем порой обедаем и регулярно забираем почту у дежурного администратора. До нас, переделкинцев, не всегда добираются курьеры, отосланные приглашения, переводы регулярно запаздывают. В последнее время на эту административную точку, где столь обязательные и интеллигентные женщины, обрушиваются также и адресованные нам в подарок книги, рисунки. На ступеньках, уже направляясь в гардероб, возникает предо мной нечто воздушное, нарядное, меня окутывает облако необыкновенных духов.
– Джуна!
– О, Зоя, это ты! Не может быть! Ты меня совсем забыла!
– Да ты что! Это невозможно!
Мы обнимаемся горячо и искренне, наша встреча поднимает в нас цепь воспоминаний.
– Позвони мне, – уже убегая, кричит она. – Только обязательно. В ближайшие дни. Идет?
– Непременно! – машу ей рукой. – Давно пора встретиться.
Мне неизвестны ее новый телефон и адрес, но все это не имеет значения. Мы конечно же снова увидимся, быть может, так же случайно и нечаянно.
P. S.
Вчера в самолете, читая газету, наткнулась на знакомые имя и фотографию. Как электрошоком полоснуло: «Погиб сын знаменитой Джуны – Вахо». В автомобильной катастрофе. Мне хочется кричать, как женщины всех времен: «За что?» Что будет теперь с Джуной? За что ей, врачевательнице, одинокому существу, для которого потеря сына равноценна уходу из собственной жизни, такое страшное наказание? Пытаюсь найти ее, дозвониться. Никто ничего не знает. Но, убеждена, когда-то пробьется сквозь неизвестность лучик ее дара и очарования, и мы снова увидим ее. Не может такая яркая сила жизни не победить отчаяние. Кто знает – впереди ее, быть может, ждет так много ярких впечатлений и неизведанных преодолений.
Держись, Джуна!
Время Любимова и Высоцкий
Однажды на пороге котельнической квартиры, где мы живем с Вознесенским, возникают фигуры Юрия Петровича Любимова и Людмилы Васильевны Целиковской. Во время нечастых встреч с Целиковской – в те годы ведущей актрисой Вахтанговского театра – в моем воображении неизменно всплывает фильм «Иван Антонович сердится», где Целиковская создала образ Симочки Воронцовой, начинающей певицы, привлекательной, сдобно-упитанной блондинки, с крупными светлыми локонами и невинно-серыми глазами. В течение нескольких лет Людмила Целиковская была Мэрилин Монро советского общества, не случайно у Галича «все крутили кино с Целиковскою». Крутили – на правительственных дачах.
Пока Целиковская излагает цель посещения, маэстро сидит непривычно тихо, как бы глядя на все происходящее со стороны. Удобно устроившись в кресле (Юрий Петрович бывает у нас регулярно, в перерывах между утренней репетицией и вечерним спектаклем), он чуть насмешливо кивает в такт голосу жены. Людмила Васильевна просит свести ее с академиком Сергеем Михайловичем Бонди, с которым я ученически знакома. Ею написана пьеса о Пушкине, хотела бы посоветоваться. Я обещаю заехать за Сергеем Михайловичем, постараться привезти его на Таганку.
Вскоре встреча состоялась, пьеса показалась Бонди интересной (хотя замечаний было немало), Любимов поставил «Товарищ, верь…» – единственный спектакль, где его жена, народная артистка Союза, выступила в качестве соавтора.
Он тяготел к зеркалам. Думаю, отражения сверху, сбоку, желание взглянуть на себя со стороны были творческой сущностью Юрия Любимова. На изрядно поднадоевший вопрос: почему «вахтанговский премьер, признанный герой-любовник и просто герой» (Ромео, Олег Кошевой, Бенедикт, Сирано, Треплев) прерывает в 1964 году «успешную актерскую карьеру», он отвечал:
«Я всегда во всех ролях как бы видел себя со стороны. Мне необходимо было все пространство сцены». Позже, в Милане, завершая постановку оперы Луиджи Ноно «Под яростным солнцем любви», он признается: «Я чувствовал раздвоение, как будто репетировал совсем другой человек. И за этим человеком я следил со стороны». Он был «со стороны», когда идея спектакля не была выношена им самим, часто был посторонним в трактовке прежних вахтанговских спектаклей.
Реальное зеркало появляется у Любимова в постановке «Берегите ваши лица» на стихи А. Вознесенского. Программная работа режиссера (зеркало было метафорой главной тезы) запрещается сразу же после премьеры, с клеймом «обжалованию не подлежит». Парадоксально, но все спектакли, отвергнутые инстанциями до этого и после, вернулись на сцену «Таганки», изуродованные, с купюрами, подтасованным названием («История Кузькина…», «Павшие и живые», «Высоцкий»). Но спектакль «Берегите ваши лица» не увидел больше никто.
Трудно забыть ту зловещую тишину на премьере, воцарившуюся в зале после исполнения В. Высоцким запрещенной песни «Охота на волков» (единственный текст, вставленный в произведение Вознесенского), шквал аплодисментов долго не отпускающего его зала и сразу же острый холодок предощущения беды. «Я из повиновения вышел за флажки – жажда жизни сильней! Только сзади я радостно слышал удивленные крики людей» – это звучало как призыв к действию.
Снимая спектакль, власти ссылались на присутствие («без всякого предупреждения») важных иностранцев, в том числе посла Канады Роберта Форда, которые стали свидетелями «ужасной крамолы». Но публика была не дура, все понимали, что суть запрета в другом.
Растянутое вдоль сцены зеркало, в котором отражались лица зрителей, где темными каплями нот сползали актеры, певшие: «Нам, как аппендицит, поудалили стыд. Бесстыдство – наш удел. Забыли, как краснеть», «Убил я поэму, убил не родивши, к Харонам хороним поэмы…», «Как школьница после аборта, пустой и притихший весь, люблю тоскою аортовою свою нерожденную вещь»… О чем уж тут было толковать?! Речь шла о фарисействе, лжи, двуличии общества, потере лица и, увы, о нас, породивших это время.
Сейчас, перебирая фотографии тех лет, вижу актеров, занятых в спектакле: В. Высоцкого, В. Золотухина, А. Демидову, В. Смехова, И. Бортника, З. Славину и др., но никто уже не восстановит атмосферу восторга публики, поверившей в победу свободомыслия, в торжество праздника на сцене – красочного, озорного, насыщенного головокружительным ритмом.
Спектакли хозяина Театра на Таганке – одной из самых ярких персон постсталинского авангарда – вобрали в себя многое из его прошлого: опыт войны, очевидцем которой он стал, картины гибели сотен людей, умиравших на его глазах, хаос разгромленной и опустошенной Москвы (ноябрь 1941 г.). В них трагической нотой звучит тема репрессий, унесших членов семьи Ю. Любимова, многих его друзей и единомышленников. Было в его биографии нечто, отличавшее его от коллег-интеллигентов.
Мы поеживались, когда Любимов, бравируя («я ничего не скрываю»), поминал работу в ансамбле НКВД, со смехом рассказывая, как Рубен Симонов, приняв его за человека, «имеющего руку в органах», просил познакомить с министром внутренних дел.
Ансамбль НКВД, где Любимов занимался конферансом, жил в двух ипостасях. Ю. П. был вовлечен и в ту и в другую.
Он колесил по фронту, слышал вопли искалеченных людей, обрубками лежавших на земле, носилках, в госпиталях, а вечером выступал в Колонном зале или Кремле, где на концертах ансамбля бывали Сталин, члены Политбюро. Привилегированный коллектив считался главным соперником военного ансамбля Александрова и неизменно стремился к опережению, ибо Лаврентий Берия внушал артистам: «Чекисты должны быть всегда впереди». Вот почему любимцам шефа карательных органов страны было позволено многое, даже некое вольнодумство творческое. К деятельности ансамбля были привлечены Д. Шостакович, Н. Эрдман и др., чьи имена столь беспощадно уничтожались впоследствии. Вспоминаю, как неистово пробивал Юрий Петрович «Самоубийцу» Н. Эрдмана, как горевал, когда узнал, что постановку разрешили не ему, а Театру сатиры «по причине соответствия» данного произведения жанру данного театра.
Конферансье не умер в нем и по сей день. Юрий Петрович остался человеком с той же мгновенной реакцией на дерзость, оскорбление, на любой промах говорящего. И часто, увы, необходимость осадить собеседника, беспощадно отреагировать – сильнее логики. А позже злые слова, брошенные в полемике, могли им быть забыты. Послушаем-ка, что он порой выкрикивал: «Система Станиславского – это для убогих, она только вредна»; «Никаких других учителей, кроме Пушкина и Гоголя, у меня нет»; «Сейчас нашествие тараканов на Москву, страну нашу узнаёшь по запаху». Или: «Я с удовольствием перечитал постановления партии и правительства о журналах «Звезда» и «Ленинград»; «Иногда по заказу получается лучше, чем по зову партии и сердца» и т. д. и т. п. А через пару дней с той же божественной беспечностью расширял список почитаемых художников: Мейерхольд, Вахтангов, Питер Штайн, Стрелер, Брук, Мнушкина, Сузуки, П. Фоменко, Анатолий Васильев. Но, что характерно, гневные проклятия, разборки на бытовом уровне с чиновниками, партийными деятелями, цензорами никогда не становились тканью, камертоном его спектаклей. Творчество существовало как бы в другом измерении. Мы не узнаем, о скольких вылетевших в гневе фразах он пожалел, когда очередной спектакль из-за этого закрывали. Когда вся искусно вылепленная стратегия обмана бдительности цензора уже сработала, разговор уведен на запасной путь, отведя от главного смысла, вдруг дьявольская искра в глазах – и у последней, финишной черты соскакивает это роковое резкое словцо. И вот уже вся дипломатия полетела в тартарары.
Не помню, чтобы он, распинаемый или празднующий победу, терял форму. Любимов всегда (даже в джинсах и куртке) был элегантен, вальяжен, начисто лишен бытовой суеты, как и любопытства к сплетням и пересудам.
Любимова вижу в разное время, в самых разных ролях. На репетициях, в гневе, ликовании, на показах актерам; в роли гостеприимного хозяина у себя дома – с обильным угощением, нескончаемым высмеиванием политической верхушки: «Гришин выкручивал руки, а я ему – «Увольняйте!»… Демичев перекрыл все в театре, а я предложил хоть завтра закрыть театр, но придется объяснить прессе, что было причиной…»
В памяти возникают сценки яркой совместности и разрыва (тяжелого для обоих) с Людмилой Целиковской, начало и развитие его сумасшедшего романа с Катей, свободолюбивой смуглянкой, залетевшей к нам из Венгрии, женитьба на ней.
Впоследствии, приходя в театр, я бывала свидетелем его мучительно тяжелых отношений с Высоцким. Но пока Любимов – еще «генерал» на свадьбе Володи с Мариной Влади (январь 1970-го). На праздновании в снятой ими однокомнатной квартирке на Фрунзенской – всего несколько друзей. Пироги, жареная утка, заливное – угощение признанных кулинаров Лили и Саши Митты, Андрей Вознесенский откупоривает нашу бутылку столетнего разлива, Зураб Церетели заносит ящик с дарами, приглашая Высоцкого с Мариной в свадебное путешествие в Тбилиси. У него они и проведут свой медовый месяц. Притихший, немного растерянный Юрий Петрович (куда заведет его главного артиста этот судьбоносный шаг?) пьет за молодоженов, желает им счастья на неведомых франко-русских пересечениях.
И все же есть в этом веселье нечто нарочитое или недосказанное, словно все стараются обойти тему неминуемого скорого отъезда Марины Влади в Париж.
Привязанность Любимова к Высоцкому была глубокой, чистой, но вовсе не всепрощающей. Многим памятны репетиции, когда жесткая требовательность постановщика доводила актера до исступления, вспоминают, как однажды, не выдержав, он швырнул в учителя гамлетовскую рапиру, а прибежав домой, вопил от боли и обзывал его «фашистом». Во время подобных всплесков сам Ю. П. сохранял удивительное спокойствие. Он пережидал «истерику» и продолжал репетицию, словно ничего не случилось. Рассказы о скандалах между ними не выносились за пределы «Таганки», актеры прятали изнанку своего театрального быта ради праздничности премьеры. И успех «Гамлета» стал общепризнанным. Публика ломилась на Высоцкого, ее покоряла кричащая правда личной исповеди актера, сквозь слова о вывихнутом веке она угадывала крик актера о собственной судьбе. Символика движущегося занавеса, потрясающе придуманного Давидом Боровским как основной элемент образного решения, была ключевой в прочтении «Гамлета». Особенно сильно звучали слова Высоцкого о предательстве, избавлении бренного тела от невыносимых мук души. Критика в то время нечасто анализировала мастерство исполнения роли Высоцким, анатомия его внутренней жизни казалась кощунством.
«Это был для меня близкий, дорогой человек», – скажет Юрий Петрович несколько лет спустя после смерти Володи. Но вряд ли кто-то сумеет определить, в чем именно состоял тот особый магнетизм, который притягивал этих двух столь не похожих художников друг к другу.
Отношения Высоцкого и Любимова особенно осложнились, когда Анатолий Эфрос начал репетировать с Высоцким роль Лопахина в «Вишневом саде». Вроде бы Юрий Петрович сам предложил эту постановку опальному режиссеру, побуждения были самыми добрыми, но ежедневное пребывание Эфроса в театре, когда актеры с восторгом пересказывали детали работы с новым для них мастером, было для Любимова труднопереносимо. Он терпел. Спектакль должен был быть доведен до конца, и на поверхности отношения сохранялись ровные.
Он встретился нам убегающим в дверях кабинета после премьеры «Вишневого сада». Публика восторженно аплодировала эфросовскому спектаклю, нескончаемо вызывая Аллу Демидову – Раневскую, Высоцкого – Лопахина. «Юрий Петрович, на банкет вернетесь?» – остановили мы его, думая, что он отлучился ненадолго. «Нет, нет! Я занят. У меня дела!» – закричал он, замахав руками; лицо выражало раздражение, неприязнь ко мне от самого вопроса.
Он бежал из собственного театра, где чествовали его актеров, любивших в этот вечер другого мастера.
Когда имя Высоцкого стало культовым, далеко перехлестнув рамки внутритеатральной жизни, Любимов радовался успехам артиста, но, кажется, не был готов к его оглушительной славе. Поначалу чуть иронизируя, он вдохновенно рассказывал, как встречали театр на первых же гастролях, как из распахнутых окон домов на полную громкость звучали песни Высоцкого, словно фанфары победителю, вступающему в покоренный город. Конечно же Ю. П. гордился этим небывалым успехом с сильным привкусом бунта, но прошло время, и как же трудно становилось вписать поведение Высоцкого в повседневный распорядок репертуарного театра, прощать бесконечные опоздания на репетиции и спектакли, забываемые монологи и время выхода на сцену, когда за пять минут до открытия занавеса в театре не знали, появится ли Высоцкий, или его надо заменять. Любимов терпел, но ему уже невозможно было мириться со всем этим, труппа оповещалась об очередном решении «окончательно уволить Высоцкого». И все же до последних дней (хотя Высоцкий уже работал по контракту) полного разрыва не было. Наступала томительная пауза, потом Высоцкий возвращался. Всегда по одному сценарию. Происходило мучительное объяснение, Володя каялся, заверял Ю. П., что «это никогда не повторится», что он «окончательно вылечится». Ю. П. верил (или делал вид, что верит). Отношения восстанавливались.
Думаю, Любимов не очень интересовался повседневной жизнью Высоцкого. Уверена, что и в окружении Володи (вопреки уверениям многих) не было человека, который знал бы, где и с кем бывал Володя в течение дня. А он бывал в десятках мест, перемещаясь по Москве и за ее пределами, мог закончить день ночью в незнакомой компании, а мог остаться в глубоком одиночестве. Известен рассказ Золотухина о том, как Высоцкий написал свою знаменитую «Баньку». Ночью, присев на край постели, опустошенный, абсолютно неспособный двинуться с места от усталости, на первом попавшемся листке записал стучавший в его голове текст.
Высоцкий особенно часто бывал у нас дома во время репетиции «Антимиров» и спектакля «Берегите ваши лица». Рассказывал о театре, читал стихи, чтобы услышать мнение Андрея на только что сочиненное, и конечно же пел новое. Мой тринадцатилетний сын Леонид много записал в те годы на наш хлипкий магнитофон. Впоследствии записи «кто-то заиграл», все мои попытки обнаружить их для взыскующих сотрудников музея Высоцкого пока не увенчались успехом.
Однажды Леонид, заявив, что у него в школе неприятности (сорвал занятия, уведя пол-класса в поход), сказал мечтательно:
– Если бы в школе побывал Высоцкий… Директор отпустит мне все грехи.
Я позвонила Высоцкому:
– Понимаю, тебе это абсолютно не с руки, но выручи меня, выступи в школе у сына.
– Нет проблем, – мгновенно отозвался Володя. – Вот гитара… Нет гитары.
Где достать гитару? В магазине тогда гитарами не торговали, обзвонили многих. Безуспешно. Володя предложил позвонить Зурабу Церетели. Зураб мог все!
– Лучшую гитару достанем, – не колеблясь заявил Зураб. – Какая проблема?
В назначенный час Володя заехал за мной, и мы помчались на Щербаковку, в школу. Я рассматривала спокойное, задумчивое лицо и коренастую фигуру человека, которого знала вся страна. Ничего от привычных экранных кумиров тех лет.
Сильные, округлые плечи, мускулистая шея и узкие, влезавшие в фирменные джинсы бедра. Он был низковат, ниже тех, кто обычно сопровождал его или играл с ним на сцене. Когда он был спокоен, в улыбке было что-то отрешенное, доброе, разящее наповал.
Он умел мгновенно преображаться, легко овладевая собой и переходя от «Волков», «SOS», «Чуть помедленнее, кони» к песням приблатненным, типа «Ну и дела же с этой Нинкою, она жила со всей Ордынкою». Иронизируя, прищуривал глаза, губы кривились в ухмылке, приоткрывая неправильно сдвинутые передние зубы. Когда же он пел, шея напрягалась, вздувались жилы, лицо искажала боль, казалось, он – на последнем пределе, на грани нервного срыва.
Но сейчас, в машине, он был таким же, как всегда, доступным, тихим, его голос, сводивший с ума «хрипотцой», звучал обыденно. В жизни речь Высоцкого была лишена ненормативной лексики и сильных выражений. А с дамами он и вовсе вел себя всегда грубовато-джентльменски.
Это был один из самых фантастических концертов Володи, школьный зал захлебывался аплодисментами и криками, ребята не отпускали Высоцкого до глубокой ночи. После концерта, когда все стихло, никто не стал расходиться, лохматые челки и распущенные косы взмокли от восторга. Лицо директора сияло – все обойдется, мы ликовали.
– Знаешь, я тут обещал подъехать еще в один дом, – сказал Володя, когда уселись в машину. А мне-то казалось, от усталости он свалится на пороге своего дома. – Там праздник, будут ждать… Может, оставишь мне гитару? Зурабу завезем завтра.
Конечно, эту гитару больше никто не увидел. Утром позвонил Володя. Выяснилось, что он всю ночь передвигался, где оставил гитару – не помнит.
– Чтоб это была последняя трагедия в твоей жизни! – весело отреагировал Зураб, узнав о происшествии. – Считай, мы подарили ее Высоцкому.
Был и еще один случай, когда Высоцкий выручил меня.
После известной сцены в Кремле 8 марта 1963 года, когда Н. С. Хрущев орал на художников, а потом сгонял с трибуны Вознесенского («Вон, господин Вознесенский, из Советского Союза, паспорт вам выпишет Шелепин»), мы бедствовали довольно долго, жили под прессом страха – посадят. Книги Андрея были изъяты из библиотек, новые стихи не печатались. Деньги в доме давно иссякли. И все-таки мы не слишком унывали, считая по молодости: все образуется. Сочувствующих было много. Как-то позвонил Высоцкий: «Давай встретимся».
Он пришел в плотно пригнанной кожаной куртке на молниях, отложной воротник светло-голубой рубахи был ослепительно отглажен, как всегда он куда-то спешил. Присев на минутку, посетовал на очередное изъятие его из фильма, затем вдруг заявил:
– Почему вы должны терпеть? Кому вы что-то доказываете? Я же нахожу выход.
Он вскочил, забегал по комнате.
– Мне стоит только сказать, и Андрею предложат десятки выступлений. Уговори его, пусть выступит.
Я промолчала.
– Чего вы ждете? Лучше, что ли, будет?
Сам Высоцкий давно бы пропал, если бы не эти «левые» концерты. Собирались все больше на квартирах ученых (физики и лирики были дружны), скидывались на «билеты» и платили за выступление небольшие деньги. Кто-то вспоминал, что у Высоцкого были «самые высокие гонорары в Москве». Не могу утверждать ничего доподлинно, но знаю – большинство выступлений Володи были бесплатными. Сколько раз он пел до потери голоса просто так, уступая настойчивым просьбам. Он дарил себя щедро, на износ. Таким он бывал с актерами, с близкими и друзьями. Предложение Володи как-то меня не воодушевило.
– Может, что-нибудь толкнуть? – предложила. – Книгу, к примеру…
В нашей квартире (при полной бессистемности хранения) было множество редких книг, рисунков и картин, приобретенных либо подаренных в разное время.
– Это идея, – согласился Высоцкий. – Посоветуюсь с Шемякиным, он в таких делах знаток. Что у вас особо ценное?
Затаив дыхание от предчувствия расставания, называю несколько книг. Володя не реагирует.
– Еще есть Библия, иллюстрированная Сальвадором Дали. – Как такое слетело с языка! – Это вообще бесценная книга.
– Здорово. Я тебе перезвоню.
Через день Володя радостно сообщил, что предложили хорошую цену, он может забрать книгу немедленно. Названная сумма была для нас огромной, месяца два-три можно было прожить безбедно. Я и не догадывалась, что отдаю Библию даром, проконсультироваться у специалиста нам с Володей не пришло в голову. Важен был порыв Высоцкого. Он искал возможность помочь нам и сделал это.
…Мы возвращались из Адлера после отпуска, когда неожиданно в салоне лайнера объявился Высоцкий. Рубаха навыпуск, на плечах накинуто что-то типа шарфа, в руках дорожная сумка на молниях с еще не оторванными этикетками. Не было фирменной куртки с лейблами, которую он не снимал, – подарок Марины. После их женитьбы Высоцкий начал одеваться стильно, в дорогие, со вкусом подобранные вещи. Он льнул к молодежной моде: черное, коричневое, много молний, ремни. Перехватив мой взгляд, расхохотался.
– Обокрали до нитки, вот осталось то, что было при мне.
– Где?
– Спешил на съемку, одежду в номере развесил, чтобы проветривалась. Вернулся – все подчистую вымели.
– Ничего себе! Что ли, ключи подобрали к двери?
– Окно оставил распахнутым. Влезли на пихту и, представьте, через окно крючком все отловили.
– «Обидно, брат, досадно…» – цитирую.
– В куртке – весь набор ключей: от квартиры, машины. «Мерседес» бросил в аэропорту, чтобы поскорее добраться. Там двери на такой сложной секретке, что ни один слесарь не справится.
Он был одним из первых, кто лихо ездил на «мерседесе», и вся гаишная братия отдавала ему честь. Тогда для Володи это был не столько знак благосостояния, сколько самореализация. Это были лихость, пижонство, но и дикая радость – прокатить своих из театра, показать Марине, что он, как Ален Делон или Бельмондо, может себе позволить многое.
– Что будешь делать? – спросил Вознесенский.
– В аэропорту ждут «ребята». Эти любой сейф вскроют.
Когда мы входили в зал прилета, к Володе шагнули скуластые широкоплечие детины, которые резко отличались от потока обычных пассажиров, и подхватили его…
А за два месяца до Володиной кончины мы летели в Париж одним самолетом. Там должна была выйти моя повесть «Семьсот новыми». Нужно было поработать с переводчицей. На таможенном контроле перед отлетом подошел Володя. Лицо серо-бледное, лоб – в капельках испарины.
– Как хорошо, что тебя встретил!
– Что с тобой? – спросила. – Ты болен?
– Обойдется, – отмахнулся. – Хорошо, что летим вместе. Пошли, я – в первом классе, на этом перегоне меня знают все летчики.
Когда принесли завтрак, сказал, вытирая лоб платком:
– Ешь, не стесняйся. Не смотри на меня. Меня выворачивает.
– У меня с собой есть байеровский аспирин. Не пробовал?
– А что это?
– Жаропонижающее.
Он выпил стакан отшипевшей жидкости, на какое-то время ему стало лучше. Но ненадолго. На глазах Володе становилось все хуже. Высоцкий корчился от боли, температура зашкаливала, казалось, он вот-вот потеряет сознание. Не подозревая, что это связано с наркотиками, я молилась, чтобы мы долетели, надеясь, что в аэропорту встретит Марина.
– Я так любил перелеты, – в какой-то момент просвета очнулся он. – На одном месте не сиделось, мечтал побывать всюду. А вот сейчас – сама видишь. – Он улыбнулся. – Надо что-то решать, но поздно. Устаю от перелетов, людей. Почти каждый день вот так скручивает… Какая уж это жизнь! А в общем-то ничего не сравнимо с самой жизнью. Когда здоров и живешь взахлеб, ни в чем себя не ограничивая…
– Может, все и образуется…
– Нет. Ничего не образуется, все запуталось. Чтобы выйти из этого штопора, надо здоровье. Если б я только мог работать в полную силу, театр, личное – все встало бы на место. Но вот эти приступы…
Он замолк. Казалось, он задремал, бледный, со свистящим дыханием, со слипшимися от пота волосами.
Когда прилетели в Париж, из-за перепутанных аэропортов моих встречающих не оказалось. Я собиралась сказать Марине, чтобы позвонили моим издателям, но Володя уже скрылся, опершись на ее руку.
В Москве при первой же встрече Высоцкий подошел, начал извиняться.
– Марина тогда должна была сделать укол, – объяснил, – меня эти боли достали.
Я не знала, о каком уколе речь, лишь впоследствии узнала, какую нестерпимую боль испытывают наркоманы во время ломки.
…Мы встретились с ним в последний раз у театра, я приехала, чтобы взять билеты на «Гамлета». 25 июля шел последний спектакль в этом сезоне. Из служебного входа выскочил Володя. Как всегда торопясь, не оглядываясь по сторонам. Наткнулся на меня.
– Сама будешь смотреть? – спросил радостно.
– Нет, беру для приятелей.
– Жаль! Приходи и ты, если сможешь. Сколько мне еще осталось играть?
Он спешил. Машина стояла во дворе, у него был расписан каждый час.
Увидеть «Гамлета» уже не пришлось никому. Спектакль отменили в связи со смертью главного исполнителя.
Молва разносила по Москве, что худрук «Таганки» – человек тяжелый, несговорчиво категоричный, убедить его в чем-либо невозможно. Это мнение разделяли многие, даже восхищенно поклонявшиеся маэстро. Мне он виделся другим. Если вы были настроены любить его театр, понимать его искусство, разделяя его боль, сопротивление непреодолимо трудным ситуациям, он мог быть удивительно деликатен. Обаянию Любимова, если он хотел того, поддавался каждый, кто с ним встречался. Но тот, кто не разделял его убеждений или невпопад совался с советом, призывая к компромиссу, мог быть мгновенно уничтожен его сарказмом. Он бывал и груб, деспотичен, когда исполнитель роли не воспринимал его трактовки, казалось, он словно «разряжался», наблюдая унижение бестолкового актера. А уж если кто-нибудь отваживался переспросить его о часе предстоящей репетиции, можно было нарваться на издевательство. Но за пределы «Таганки» отголоски этих сцен не выплескивались, мы знали Любимова другим. Он никогда не боялся обнаружить, на чьей он стороне, как бы ни были тяжелы для него последствия. Он бывал смел, предельно честен, когда надо было заступаться за своих коллег, режиссеров, писателей, загнанных властями в тупик. Он дружил с изгнанниками на наших и других берегах.
В какой-то момент он очень тесно сошелся с прозаиками, в особенности писавшими о деревне. Период увлечения поэтическими спектаклями отошел, на смену «Антимирам», «Маяковскому», «Пугачеву», «Павшим и живым», «Товарищ, верь…» пришли инсценировки повестей Федора Абрамова, Бориса Можаева, затем – Юрия Трифонова, Михаила Булгакова, а потом и Пушкина. На протяжении всех лет, конечно, были Брехт, Шекспир, Мольер. Дружба с Борисом Можаевым свела его с А. И. Солженицыным, которому он поклонялся все эти годы. К его 70-летнему юбилею он поставил спектакль «Шарашка», где сам сыграл Сталина.
Помню походы Любимова к Солженицыну в Переделкино, когда под бдительным оком осведомителей он пробирался на дачу Корнея Ивановича Чуковского. В воздухе поселка жило сознание, что тот легендарный человек, о котором вкривь и вкось толкует вся пресса, скрывается здесь, но доподлинно знали об этом единицы. К их числу относились Любимов, Можаев и те, кто впоследствии был помянут в книге Солженицына «Бодался теленок с дубом». Естественно, подобное бесцензурное поведение не облегчало жизнь руководителя «Таганки». Но он продолжал вступаться за каждого, кто подвергался тогда гонениям, – А. Эфроса, О. Ефремова, А. Васильева и др. Анатолий Васильев получил возможность ставить свои спектакли в театре у Любимова.
Как в этих условиях театр выпускал премьеры, как (лишь с некоторыми сбоями) наращивал мускулы, усложняя и обогащая замыслы, – непостижимо. Театр стремительно набирал высоту, подбираясь к пику своей славы, влияние на умы и души современников все возрастало. Настало время Любимова! За кулисами перед выпуском каждого из спектаклей царил хаос, порой абсолютное неверие, что удастся протащить постановку сквозь «приемную комиссию». Но вся эта атмосфера на грани истерики, неразбериха и крик в грим-уборных за несколько дней до премьеры выстраивались в то, что впоследствии становилось новой вехой в истории театра. И если бывала преодолена бюрократическая возня, торговля с цензурой оканчивалась победой, спектакль выпускался, публика валила валом – в течение десятилетия Театр на Таганке был самым посещаемым в стране. От тех времен на стенах кабинета главного режиссера остались автографы и рисунки самых известных людей века: Петра Капицы, Артура Миллера, Сахарова, Солженицына, Генриха Бёлля, Луиджи Ноно и др., уж не говоря о всей московской элите.
Замыслы постановщика усложнялись.
В спектаклях «Гамлет», «Борис Годунов», «Галилей» почти ушли плакатность, скороговорка, здесь режиссура Любимова достигала философского звучания. Позднее Любимов определил три остальных направления, в которых работал театр: поэтическое, балаган и классика. Периферия пыталась перенимать кое-что созданное режиссером совместно с художником Давидом Боровским. В других театрах появляются шерстяные занавесы из «Гамлета», захлопывающиеся двери из «Преступления и наказания», высовывающиеся из окошек персонажи из «Тартюфа», частокол берез из «Живаго», поднимающийся деревянный помост, на который всходил Пугачев, световые занавесы, проекции теней на задник и многое другое, что сопровождало становление Любимова как серьезного художника, мимо чьих открытий в искусстве уже нельзя будет пройти.
Многими забыто, что поиски нового репертуара, нужной тональности порой кончались неудачей. Таким был спектакль о Лермонтове. Золотухин – Грушницкий, Губенко – Печорин. Недовольство собой Любимова, охлаждение публики. И, как каждому художественному организму, театру понадобились манифест, программа. Валерий Золотухин вспоминал, как Любимов метался по кабинету: «Нам нужна новая пьеса, нужен скандал. Сегодня Лермонтов не вызывает взрыва в зале. Сегодняшний Лермонтов – Вознесенский. Найдите Вознесенского!»
Вознесенский, автор поэмы «Мастера», стихотворений «Антимиры», «Бьют женщину» и «Осень в Сигулде», овладевал сознанием поколения. У Любимова родилась идея вечера «Поэт и театр». Приехав с завлитом Эллой Левиной на Красносельскую, на квартиру тридцатилетнего поэта, он предложил: в первом отделении стихи читает сам поэт, во втором – артисты театра.
Спектакль «Антимиры» на Таганке играли рекордное количество раз (по подсчетам Бориса Хмельницкого – около двух тысяч раз). На первых гастролях театра в Ленинграде (1965) спектакли «Десять дней, которые потрясли мир» и «Антимиры» имели сумасшедший успех, публика Северной столицы атаковала Любимова, Вознесенского, Высоцкого и других участников спектакля.
Эти гастроли стали нашим свадебным путешествием, Любимов поселил нас с Вознесенским в одном номере гостиницы «Октябрьская», объявив законной парой. В эти дни мне впервые довелось наблюдать Любимова так близко. А наблюдать за ним было наслаждением. Он сам был – театр одного актера. Оживал, когда был хотя бы один зритель, перевоплощаясь в легко угадываемые политические персонажи. Он неиссякаемо фонтанировал, его гостиничный номер был забит посетителями. Если бы тогда существовала скрытая камера, из историй и пародий Любимова можно было бы смонтировать фильм не менее увлекательный, чем его спектакли. В те времена невозможно было представить себе его впавшим в депрессию, хотя к успеху театр продирался сквозь запреты, усечения текста, повседневные цензурные искажения. Но Ю. П. упрямо шел непроторенным путем. Цикл по этических спектаклей (не имевших аналогов в российской истории) – «Павшие и живые» на стихи поэтов – участников войны, «Пугачев» по Есенину, «Послушайте!» по Маяковскому, «Товарищ, верь…» по Пушкину, а дальше – на стихи Булата Окуджавы, Евгения Евтушенко – завершил «Реквием» по Высоцкому, быть может самая трагическая и высокая нота его творчества, на которой обрывается первая половина российской жизни режиссера. Он еще успевает выпустить «Бориса Годунова» – последнюю постановку перед отъездом. Полагаю, что именно в «Борисе Годунове» Любимов реализовал на полную мощность все три направления. Поэтический текст, соединенный с глубинным симфонизмом Альфреда Шнитке, появление хора, непривычная концепция воплощения «самого трудного, не сценичного» творения Пушкина вызвали волну дискуссий, нового интереса к режиссеру «Таганки».
Ушли в прошлое клише прессы о театре политического плаката, о режиссере, который будоражил современников «фигами в кармане», на повестке дня стоял серьезный анализ творческой природы мастера, который не только способствовал разрушению официальной нравственности, благолепия (процесс, начатый спектаклями «Современника»), но и создавал новые формы в искусстве.
И все же он уехал. Версий и высказываний было много. Но кое-что пропало из поля зрения.
Репутация творца новых сценических форм помогла Любимову пересечь океан, опровергнув мнение, что, лишенный «питательной среды» российских перебранок, он потускнеет на Западе, как и многие другие, не сумевшие вписаться в иные условия игры и законы. С Любимовым этого не случилось. За границей судьба режиссера складывалась трудно, но все же за короткое время он одерживает победу. «После долгого перерыва, – пишет в своей книге Соломон Волков, – первым знаменитым русским режиссером на Западе стал именно Любимов». А сам мастер спустя короткое время заметит: «Я здесь, на Западе, фантастически много сделал. Бывало, одновременно работал над шестью вещами». Заграничные маршруты, которыми прошел режиссер, удивительны. Вашингтон и Париж, Милан и Карлсруэ, Иерусалим и Будапешт – трудно найти другого художника, который за такой рекордно короткий срок оставил бы свои творения в разных концах Земли.
Но уезжал он в сильнейшем стрессе.
После запрета «Реквиема» по Высоцкому и «Бориса Годунова» он чувствовал особую горечь. Он переживал нервную истощенность, когда художник любой ценой хочет переменить окружение, вырваться на свободу. И все же причина глубже хорошо известной схемы событий. Напоминаю, чиновник из посольства во время репетиций «Преступления и наказания» в Лондоне (театр «Арена Стейдж») вторгся в театр, потребовав, чтобы Любимов явился в посольство. Тот отказался. Чиновник повторил приказ и после неподчинения сказал: «Ну что ж, преступление налицо. Будет и наказание». Свидетели этого разговора подтверждают, что угроза была реальной, заявление Любимова об отказе вернуться обоснованно. Что оставлял Любимов за плечами, что ждало его впереди, когда обстоятельства подтолкнули его к решению уехать?
Можно догадаться о том отчаянии, которое охватывало Любимова при мысли о театре, оставленном им с кастрированным репертуаром, об актерах, брошенных на произвол гонителей. Но момент его исхода был выбран судьбой не случайно. Основной круг людей, с которыми нерасторжимо был связан Любимов, поредел до прозрачности. Уже не было на свете П. Капицы, Н. Эрдмана, Ю. Трифонова, Ф. Абрамова, выдворен был из страны А. Солженицын, вынуждены были уехать на Запад А. Шнитке, Э. Денисов, регулярно покидали театр для съемок и участия в других спектаклях некоторые ведущие актеры. Но главным, смертельным ударом, на мой взгляд, была гибель Высоцкого и запрещение спектакля его памяти. Этот шок утраты остался незаживающей раной и незаполнимой пустотой на долгие годы, провалом, образовавшимся в жизни Ю. П. после смерти человека и артиста (фактически уже ушедшего из труппы и лишь игравшего по контракту свои главные роли), – да, это была дыра, как в гамлетовском занавесе Любимова, которую некому было залатать.
Отъезд Любимова, как уход Л. Толстого, был не только освобождением от гонителей, запретов, но и уходом от самого себя.
А дальше все было совсем не просто.
Василий Аксенов как-то сказал, что Юрий Петрович перед каждым выпуском спектакля провоцировал скандалы. Так было в Москве, так было и в Вашингтоне, когда в 1989 году, перед премьерой «Преступления и наказания», был пущен сенсационный слух, что Любимов возвращается в Москву, что ему вернут гражданство и руководство театром. Скандал как форма борьбы с компромиссом и приспособлением ко лжи – существенная сторона его художественной личности – на Западе эффекта не произвел. Слухи подтвердились, горбачевское время вернуло Любимова на родину.
Как Москва встречала Юрия Петровича в 1989 году! Тогда и представить себе было невозможно, что его возвращение обернется не меньшими сложностями, чем те, от которых он бежал, тогда было – одно ликование: «Папа приехал», «Он опять с нами», «Это значит – «Таганка» всем еще покажет!», «В его голове тысячи планов». Его не судили, не перешептывались: могли не уезжать, была ли опасность столь велика, что нравственнее – довести сопротивление власти до конца или остаться с теми, «которых приручил» и которых не бросают?
Он жил тогда у Николая Губенко, ведущего актера театра, человека сильного, волевого, воспринимаемого всюду как лидер, автора щемящих фильмов «Подранки» и «И жизнь, и слезы, и любовь». При всеобщем одобрении именно он возглавил труппу в отсутствие мэтра и сразу же вернул эту должность истинному владельцу, когда тот оказался в России. Чета Губенко-Болотова добросовестно ухаживала за гостем, стремясь создать иллюзию собственного дома, угадывая его привычки и желания. Готовили любимые блюда, звали людей, приятных Любимову, в горячих спорах обсуждали, что делать дальше. Помню застолье в честь приезда Юрия Петровича, устроенное Жанной и Николаем, куда слетелись, помимо театральных, и все друзья Юрия Петровича, все, кто ждал этого момента. Помню эти запредельные по искренности речи и тосты и многое другое. Тогда мы знали, что возвращение Юрия Петровича произошло усилиями многих «связных» (Дупак, Смехов, письма деятелей культуры), но главным курьером «туда и обратно», ходатаем по делам в министерстве и выше был хозяин квартиры. Любимов вернулся, были возвращены гражданство, квартира, пост главы театра.
Куда все делось? «Куда исчезают утки, когда озеро замерзает?» Можно ли было предвидеть эту невероятную трансформацию крупного актера в мелкого политического деятеля? Как могли истрепаться и истлеть слова о свободе выбирать способ жизни и способ мысли? Неужто и вправду: «Он сжег все, чему поклонялся, поклонился всему, что сжег»? Сегодня Любимов не желает (не может) говорить на болезненную тему раскола труппы, противоестественного деления на своих и чужих (может сказать об одном из своих лучших актеров, прикованном к постели, что он и имени его слышать не хочет). А ни от кого другого ответа тоже не услышишь. Нет ответа на вопрос, что происходит с людьми на переломе эпох. Откуда эта необъяснимая агрессия, замещение созидательной энергии пустопорожней борьбой, уход от вечных истин в сиюминутные компроматы? Трудно воспринимать эти метаморфозы.
Эйфория возвращения спала очень быстро. Другим вернулся Юрий Петрович, обретя опыт работы со многими зарубежными мастерами, привыкнув к ритму постановок и выпусков спектаклей, иными стали актеры, отвыкшие работать с ним. Но все-таки театр существовал, держался. Хотя его взлеты – уже с одним крылом, что не может не нарушить целостности художественного организма. Раздел помещения, зарубежные гастроли вместо регулярных репетиций и репертуарных планов. Любимов ставит «Электру» и «Медею», «Живаго» и «Пир во время чумы» и много чего другого. В ту пору мы встречались с ним редко. Но составляющие этой уникальной личности неизменны, как группа крови. Мне мешает моя постоянная горячая приверженность к нему как к художнику, то ожидание чуда, с которым я приходила в театр. Поэтому я часто путаю процесс с результатом.
Но вот, как всегда непредсказуемо, наступает третий, совершенно иной виток в художественной биографии художника, теперь, когда ему за восемьдесят. Спектакль «Марат/Сад», страстный, молодой, стал праздником театральности, словно ожили «Турандот» и «Добрый человек из Сезуана». Сегодняшний Любимов соединил свой опыт встречи с мировым театром и традиции русской театральной культуры. Он ищет особую отточенность слова, обогащенного музыкой, движениями (когда танец граничит с акробатикой), современными ритмами. Он добивается взлета нового интереса к театру, завоевывает новую публику и впервые удостаивается признания властей. Нынче он живет в Москве в почете и достатке. Но поразительно, почти неправдоподобно, что Любимов, в сущности, совсем не изменился. Тот же блеск в глазах, желание возражать и противостоять, та же нетерпимость к неряшливой игре актера, тот же саркастический окрик. Получая независимую премию «Триумф» – награду за высшие достижения в искусстве – вместе с А. Германом, Г. Канчели, Ф. Искандером и В. Красовской, он будет куражиться и острить, никого ни за что не благодаря, а услышав два года спустя о награждении его призом «Золотая маска» (за честь и достоинство), покинет зал, полагая, что достоин награды как режиссер спектакля… Сейчас он поставил «Хроники» Шекспира, выпускает пушкинского «Онегина», репетирует «Театральный роман» Булгакова, он полон новых замыслов, планирует далекие гастроли. Спектакль «Марат/Сад» приглашен на Авиньонский фестиваль. Оставим его в момент высшего признания… Но кто знает, что предстоит еще пережить Мастеру и каков будет следующий аккорд в партитуре, которая пишется уже не нами, – а там, где «дышит почва и судьба»?
1997
«Самый-самый…»
Олег Меньшиков
Прилетевшая на Московский кинофестиваль мировая знаменитость Ванесса Редгрейв спросила организаторов, удастся ли ей повидаться с Олегом Меньшиковым. «Это самый крупный бриллиант вашей кинематографии. Самый-самый», – сказала она, напомнив, что артист получил премию Лоуренса Оливье в Англии, сыграв Есенина в их совместном спектакле «Как она танцевала».
«Самый-самый» – этот хор сопровождал каждое появление российского артиста в пространстве наших предпочтений. Вполне ходовое: самый загадочный и непредсказуемый, культовый, гениальный, в английской прессе – «маниакально завораживающий талант», «играет так, что сойдешь с ума» – о роли Есенина. После выбора фирмой «Лонжин» в качестве лица крупнейшей часовой фирмы Швейцарии – еще и «самый элегантный и интеллигентный русский». Потом начался спад, он вышел из парадной обоймы всеобщего восхищения, перестав быть звездой молодежного поколения. И, как часто бывает, возникли разборки: «Это не удалось», «Что-то мало играет», – поток недоброжелательства сметал все.
Как живется самому-самому в условиях преследования любовью и неприязнью? Когда возрастанию популярности сопутствует желтый PR, попытки препарировать талант сквозь щель собственных представлений о предмете?
…Я познакомилась с Олегом Меньшиковым после премьеры «Утомленных солнцем» в «Пушкинском». Пела Гурченко, разносили шампанское, аппетитные канапе. На фуршете был представлен бомонд политики, бизнеса, кумиры сцены и экрана. Постановщик Никита Михалков сиял от обвала комплиментов, фильм имел оглушительный успех.
Я подошла поздравить главного исполнителя. Молодой артист, который стоял, помахивая розовой гвоздикой, не выглядел «титулованным» – загорелый, статный, с привлекательным нервным лицом и скованными движениями. Официальный галстук. Парадный черный костюм, казалось, сидел на нем отдельно и непривычно. Удивляла и странная неловкость в общении с незнакомым человеком, полное отсутствие самодовольства. Неужто, подумалось, это он только что на экране был столь мстительно беспощаден и так трагически несчастлив? Гипнотическая сила таланта, сметая мои собственные чувства и размышления об увиденном, делала экранную историю абсолютно достоверной.
Прошел год. Мы перезванивались. Я наблюдала феерический взлет карьеры Меньшикова: вручение ему премии «Триумф», награждение несколькими Государственными премиями, «Никой» за лучшую мужскую роль; он был отмечен на фестивалях в Каннах, Торонто, на «Кинотавре», на «Балтийской жемчужине». Никита Михалков за «Утомленные солнцем» был удостоен «Оскара». Мы редко, но регулярно встречались с О. М., я бывала на его премьерах, он участвовал в наших триумфовских фестивалях в Москве, Тольятти, Париже. Одно его присутствие в фильме или спектакле гарантировало «повышенный спрос». Казалось, к этому баловню судьбы слава сама плывет в руки.
Уже тогда за всенародную любовь Олег Евгеньевич Меньшиков платил сполна. Сумасшедшая поклонница из газового пистолета в подъезде прыснула ему в лицо. Теряя сознание, почти ослепленный, он чудом дополз до дверей соседей. Известен эпизод в дагестанском ауле, когда О. М. с группой «Кавказского пленника» взяли в заложники, требуя выкупа.
О том, чего стоит профессия, может, и рассказывать не стоит? Сегодня мы уже видели уйму докадров с бесчисленными синяками на теле актрис, которых избивали и насиловали как бы понарошку, актеров, прыгающих с грузовика или идущего поезда, со сломанными ногами, выбитыми ребрами. Довольно регулярны и нервные срывы, когда съемки прекращаются, пережидая кризисное состояние исполнителя. Спектакль «Нижинский» (один из шедевров отечественной театральной антрепризы) предполагалось показать, кажется, сорок раз в Москве, столько же – в Питере. Он шел недолго. Меньшиков слег с воспалением легких, затем открылось язвенное кровотечение. Посреди съемок у Сергея Бодрова-старшего в «Кавказском пленнике» О. М. скрывает приступы болей в желудке, участвуя в тяжелейших силовых эпизодах. Кризисы прерывали и репетиции «Горя от ума», съемки фильмов «Восток-Запад» в Париже и «Сибирского цирюльника» в Москве и т. д. и т. п. До предела обнажая «мильон терзаний» своих героев, О. М. достигает вершин трагедийности за счет сбоев нервной системы. Говорят, актер много пьет. Во время работы Меньшиков не пьет никогда, в паузах может загулять, и как! Пара фоток папарацци на празднике жизни – и вот уже возникает аккомпанемент компромата СМИ, которым не дает покоя личная жизнь артиста.
Несколько лет назад Меньшиков сменил квартиру, номера телефонов, появилась охрана. Недаром на вопрос: «Что более всего не любите?» – шутит: «Телефонные звонки».
Так и живется…
Интересуюсь, есть ли люди, которые ему противопоказаны. Один вид которых вызывает желание ускользнуть. «Порой возникает острая необходимость перемены, – говорит Меньшиков, – просто не устраивает предсказуемость ситуаций. Когда наперед знаешь, чего от человека ждать в следующую минуту. И все же, – добавляет, – больнее всего для меня – потеря близких. В прямом и переносном смысле. Людей, к которым привык, с кем дружил, кому абсолютно доверял. Хотя вряд ли это обо мне думают».
Меньшиков позволяет себе роскошь жить так, как ему интересно. В кругу артистов, своих близких упоенно весел, безоглядно щедр и легок. Будет до изнеможения играть на рояле, аккомпанируя себе и гостям, хулиганить, петь все песни подряд, при особом настрое – Вертинского. Память на тексты – русские, французские, английские – феноменальная. Но в будничной повседневности может быть мрачен, оскорбительно резок, высокомерен. Как-то сказал: «Я могу быть очень жесток с самыми близкими мне людьми». Тех, кто клеится без повода, может отшить не задумываясь. Меньшиков не «пасет» своих поклонников, на престижных тусовках отмалчивается. Востребованный, перегруженный, в какие-то отрезки жизни он любит часами бродить один. В Москве, Лондоне, Париже… О. М. – человек свободный. Внутренне свободный.
У Меньшикова особый талант творить праздник. После каждой премьеры, встречи Нового года, дня рождения он непременно позовет человек пятьдесят, а то и больше, придумает вокруг себя что-то красочное, необычно нарядное и будет гулять до утра. Уйдет с последними гостями, с каждым поговорит, одарит тостом. Не помню, чтобы он кому-нибудь испортил веселье своим плохим настроением.
Меньшиков необычайно привязан к родителям. Во время одного из празднеств после премьеры, перехватив его взгляд, спросила: «Что-то случилось?» И он, продолжая держать бокал, с улыбкой на публику кивнул: «Никто же не знает, у нас два дня назад умерла бабушка. Представляете состояние мамы, как я играл спектакли все эти дни и какого труда мне стоило притащить ее сюда!»
Если вы пригласите его на концерт или просмотр: «Вам два билета?» – он смущенно попросит четыре. Потом в зале окажется человек восемь его друзей. Для новогоднего бала в Большом театре (Миллениума) дирекция подарила для жюри «Триумфа» несколько столиков. 2000-й мы с А. Вознесенским встретили с И. Чуриковой, Г. Панфиловым, Н. Ананиашвили, Г. Вашадзе, В. Васильевым и Е. Максимовой, Р. Хамдамовым и Р. Литвиновой, Ю. Башметом, М. Жванецким, А. Демидовой, В. Абдрашитовым, Ю. Давыдовым (ныне, увы, покойным) и др. – всего нас было пар пятнадцать. За нашим столиком оказались Олег Меньшиков и его спутница, милая, изящно сложенная, в длинном белом платье с глубоким вырезом. Часа через полтора начались танцы, все разбрелись по театру. И тут я увидела Меньшикова. В одной из лож первого яруса он свешивался через перила, обвитый пестрым серпантином, размахивая воздушными шарами. Он бурно веселился в компании своих друзей.
О необязательности О. М. ходят легенды. Не позвонил, не пришел, начал репетировать, потом сбежал. Договариваться с О. М. на неделю вперед бессмысленно. Можно – накануне вечером, а лучше в тот же день, часов этак в двенадцать дня. Похоже, что твердая договоренность для него – та же несвобода.
Он может месяцами отказываться от интервью, не общаться, не отвечать на заманчивые, почти обговоренные предложения будущих режиссеров или продюсеров. Видела, как в жесткой форме отшил двух молоденьких корреспонденток влиятельных газет, приехавших издалека, чтобы написать о нем.
На показ в Париже картины «Кавказский пленник» (в рамках фестиваля «Триумфа» в кинотеатре «Бальзак» на Елисейских Полях) к нам пришли Режис Варнье и Анни Жирардо, специально чтобы посмотреть фильм с О. М. После моего краткого сообщения оба выступили, чтобы предупредить публику, какого великого актера предстоит ей увидеть. Меньшиков переминался с ноги на ногу, затем промямлил несколько дежурных фраз, явно торопясь перейти к показу. После просмотра спрашиваю Варнье:
– А сценарий вашего фильма «Восток-Запад» уже готов? Когда приступаете к съемкам?
– Готов-то готов… Но, если откровенно, я до сих пор не могу понять, хочет Олег сниматься или нет.
– Как это?! Уже все газеты написали, что роль врача-эмигранта Алексея Головина играет Меньшиков.
– Да, написали. А я не могу поручиться. Вот уже сколько времени он вообще не отвечает на звонки, прячется.
И в то же время… После съемок «Полетов во сне и наяву» на пресс-конференции Роман Балаян, смеясь, рассказывал:
– Уж так меня запугивали Меньшиковым, так запугивали… Мол, он такой трудный, неточный, с капризным характером, с ним все нервы истреплешь. Полный бред! Я никогда не встречал такого дисциплинированного актера. Ни разу не опоздал, не манкировал. Если бы все были такие!
Вторит ему и Сергей Бодров-старший:
– Олег – поразительный актер. Он выполняет всю черную работу, иногда более самоотверженно, чем все. От него трудно добиться согласия, но если он решил – все будет в порядке.
Как-то пообещал мне приехать в Тольятти. Уговорила его дать творческий вечер перед показом фильма «Утомленные солнцем» – никогда его зритель не видел целый вечер одного на сцене. Да и вообще, вряд ли в жизнеустройстве О. М. существует понятие «творческий вечер». И все же он не отказался. Честно говоря, я плохо представляла, чем ему удастся заполнить эти полтора часа. Ситуация к моменту показа создалась тупиковая: назначенная дата застала О. М. в дагестанском ауле, съемки «Кавказского пленника» дошли до середины. Вырваться оттуда казалось практически невозможным, рядом – война.
Накануне далекий голос, словно из шахты: «Зоя Борисовна, в котором часу я должен быть?» – «В шестнадцать вы уже на сцене».
Он добирался тремя видами транспорта. В три – о, чудо! – уже пробовал рояль.
В тот вечер на сцене появился едва узнаваемый Меньшиков, усатый, со слипшимися, всклоченными волосами – дикий горец. А через минуту он преобразился. В пушкинских стихах боль, ревность, ирония. «Я вас люблю, хоть я бешусь, хоть это труд и стыд напрасный…»…Потом он лихо отстукивал чечетку, пел романсы под рояль. И еще минут сорок отвечал на записки. Жаль, что не записали на пленку, – в тот вечер О. М. превзошел сам себя. Но, видно, без ложки дегтя не может обойтись ни один его успех.
После выступления О. М. во время показа картины произошло событие, выбившее всех нас из колеи. Фильм и выступление Меньшикова заканчивались по плану к семи вечера. Уже в 19.30 начинался концерт Евгения Колобова с оркестром. Обожаемый маэстро всегда притягивал фанатов самой элитной категории. И надо же такому случиться, что Меньшикова держали на сцене дольше минут на сорок, оркестр Колобова прибыл, когда показ «Утомленных» подошел к кульминационной точке. Колобовские музыканты устроили «бунт», пригрозив, что, если их немедленно (то есть вовремя) не выпустят на сцену, они развернутся и уедут из Тольятти. Директор коллектива Лена Опоркова вбежала бледная в зал и зашептала мне горячечно: «Зоя Борисовна, надо останавливать картину, оркестр ничего не хочет принимать во внимание». «Это исключено!» – ужаснулась я. Но Лена, перепуганная грядущим скандалом со своим коллективом, самовольно включила свет в зале и объявила публике, что фильм прерывается по техническим причинам, показ будет возобновлен завтра. Публика сидела не шелохнувшись, зал не освобождали, зритель терпеливо ждал устранения технической поломки. Что творилось!
За кулисами народ отчаянно переругался, администраторы сваливали вину друг на друга, «пострадавший» Меньшиков не шумел вовсе. Он бросил мне на ходу: «Зоя Борисовна, не волнуйтесь, они этого не сделают». Сделали.
Утром участники фестиваля толпились в вестибюле, поджидая Меньшикова, он улетал обратно в Дагестан. Я прийти не рискнула, мне стыдно было за вчерашнее, казавшееся неслыханным кощунством.
Он постучался в номер, улыбающийся, гладко выбритый, с зачесанными назад мокрыми волосами, в руках бумажный кулек.
– Зашел попрощаться. Вот, пробежался до рынка, орехи купил. Угощайтесь… – Уже в дверях обернулся: – Да не расстраивайтесь вы так! Что ж теперь, всю жизнь будем про это вспоминать? Ну случилось, ну бывает… Да, кстати, по программе сегодня Башмет? Жаль, что отбываю. Поклон ему.
Отбыл как ни в чем не бывало. Что это, маска, железная самодисциплина? Не может же Олег Евгеньевич забыть, как оборвали «по техническим причинам» показ фильма в момент, когда его герой присутствует при избиении в машине легендарного комдива Котова! Может, это характер. Позже он так же простит Колобову, что его дирекция, пообещав труппе «814» репетиционный зал, откажется предоставить его перед самой премьерой. Он забудет обиду, посчитает случившееся сутки назад далеко ушедшим. Он выбросит из своего сознания невезучий день, несостоявшийся проект, даже обман. Для него вчерашнего не существует.
А две обиженные корреспондентки, прибывшие в Тольятти, которым О. М. наотрез отказал, все же опубликовали не взятые ими интервью. Они скалькировали его ответы со сцены на записки зрителей.
Что ж, обязательный и необязательный, высокомерный и доступный – кому как повезет с Меньшиковым.
«Что быть должно, то быть должно», – полагает Александр Блок. О. М. – фаталист. Уверяет, что ждет счастливого случая, который развернет его жизнь в новом направлении. Мол, каждый замысел ждет своего часа…
Случайностям Олег Евгеньевич действительно обязан многим в жизни.
Грибоедов давно будоражил воображение Меньшикова. К моменту выбора «Горя от ума» своей первой режиссерской работой он знал наизусть весь текст. «Не образумлюсь, виноват…» Во мне сразу что-то начинало вибрировать, – признается. – А когда читал монолог Чацкого, шевелились волосы, ничего не мог поделать, не мог остановить слез». Когда-то был разговор и о роли самого Грибоедова в биографическом фильме, задуманном Никитой Михалковым. Не состоялось, быть может, отложилось…
Отдыхая в Португалии, Меньшиков натыкается в журнале «Другие берега» на полный текст «Горя от ума» и мгновенно заболевает пьесой. Однако судьба режиссерского дебюта Меньшикова была драматична. Рижская премьера, а затем челябинская сопровождались шквальным успехом, я была тому свидетелем. Переулок, в котором помещался латвийский Русский театр, закидали цветами, после спектакля занавес поднимался несчетное количество раз… В тот вечер вместе со зрителями Риги я наблюдала, быть может, один из самых счастливых дней Олега Меньшикова. Опьяненные, веселились до утра, с сумасшедшим куражом объяснялись в вечной верности, вспыхивали романы, невероятные замыслы.
А через несколько недель в Москве грянул гром. Без единой репетиции, на необжитой сцене, с плохо пригнанными декорациями и с заболевшим актером спектакль «Горе от ума» провалился. На сцене Театра имени Моссовета он прошел со многими непростительными накладками и был встречен прессой враждебно: «Вяло, беспомощно», «Прославленный Меньшиков повторяется», «Пусть не лезет в режиссуру». В кулуарах шептались, что новоявленному постановщику еще и мстили: проигнорировал показ для прессы, дал рецензентам плохие места.
Не пройдет и месяца, как многие из тех критиков, вновь посмотрев «Горе…», скажут: «Неужто это тот же спектакль? Здорово же он его переработал». А были всего лишь дополнительные прогоны, уточнения мизансцен. Появились и похвалы «классиков» – С. Юрского, М. Ульянова, М. Козакова, Г. Волчек, П. Фоменко и др.
О своем новом амплуа Меньшиков говорит: «Это, безусловно, этап. Самый важный этап в моей творческой жизни. По всем статьям. Ведь я попробовал себя в другой профессии, которую уже, смею сказать, полюбил и с которой не собираюсь прощаться… Видно, эта профессия режиссерская давно во мне сидела, надо было взять и рвануть себя в это. Новое качество – ответственность за других людей, эта тяжелая ноша оказалась для меня очень радостной. Ты же не просто там имеешь дело с артистами разного возраста, характеров, судьбы. Понимаете, я же претендую на вторжение во внутренний мир человека, с которым работаю. Я не просто претендую, я, так сказать, лезу в этот мир… Сейчас я могу сказать, – добавляет он, – что «Товарищество» – уже коллектив. Не знаю, будет ли он завтра, но он есть. Я не ставил задачи сохранения этого коллектива, новую кровь вливать надо обязательно, это должен быть постоянный процесс. А когда мы начинали, общности не было. Несколько друзей и знакомых: Павел Каплевич, Галя Дубовская, Сережа Мигицко, Таня Рудина, Саша Сирин, конечно, Игорь Охлупин, остальные – сплошь чужие люди. Их надо было приручить… Самое главное – было заставить их всех, весь актерский состав, поверить в меня».
«Товарищество 814» – слоган Олега Евгеньевича. Либо – один, либо – все вместе. Порой в его жизни возникает кто-то особенный, ближе других, но чаще всего это круг людей. Для О. М. вообще типичен командный принцип устройства жизни. «Сколотилась неплохая компания, мы начали обдумывать спектакль». Можно еще прямее: «Мне не так важно, что играть, была б хорошая компания и общий настрой». Командный настрой превалирует во всем. Двумя составами артистов («Горя от ума» и «Кухни») регулярно играют в футбол, любая вечеринка или «культпоход», как помним, тоже – всем «миром». Компания – составная образа жизни. Когда О. М. спросили, что для него «сообщество «Триумфа», – ответил: «Триумф» – это образ жизни».
Спрашиваю, что для него было самым сложным в «Горе от ума». Отвечает: «Выучиться читать стихи. Непривычность трактовки. Я вдруг подумал, что Фамусов, Скалозуб, Хлестова – люди совсем неплохие, ни в чем они не виноваты. Жили себе в своем мирке, вполне счастливом, и вдруг появляется Чацкий со своими терзаниями, он – совершенно не тот, которого помнили раньше и ожидали. Скорее для них виноват он, так как исчез надолго… Ну и, конечно, стихотворный, поэтический театр особенный, его нельзя решать через быт… с баранками, кухонными перепалками».
О быте О. М. думать вообще не любит. Не покупает продукты, не готовит, ест в ресторанах или в офисе, часто вообще не ест, так как голодает. Некто с женским голосом изредка отвечает на звонки – в квартире убирают, следят за порядком. Вдоль комнаты О. М. – длинная югославская стенка под одежду. Как на шампур, нанизаны пиджаки, темные и светлые, рубашки с модными воротничками и пуговицами – все фирменное. Время от времени на О. М. надето что-то одно новое: куртка с немыслимой меховой оторочкой, черный свитер с клоунскими рукавами, приталенный светло-серый костюм в полоску, пальто до щиколоток. Он любит черный и белый цвета – самые простые, на вопрос о любимых блюдах отвечает: «Чего только не ел», но предпочитает лососину и макароны по-флотски и непременно свежевыжатый морковный сок. «Только сейчас научился есть всякие салаты». С «лонжинских» времен носит часы на обеих руках. «Самый элегантный» – это обязывает. В комнате Олега Евгеньевича доминируют современная живопись и фотографии близких, коллег, кумиров. По величине снимка и приближенности к центру можно вычислить степень привязанности хозяина к объекту. Удивительно, но гораздо меньше собственных фотографий в ролях. Есть и стеллаж с любимыми книгами, на встроенных полках – CD и DVD, караоке.
«А как же сверхбытовая «Кухня»? – спрашиваю. – Если готовить не любите!» «Никогда не готовлю! А «Кухня»… Мне хотелось с Максимом Курочкиным сочинить спектакль. Открыть какое-то новое драматургическое имя, придумать с ним пьесу, показать на молодых ребятах – вот они, живые. Хотя я согласен со Стрелером, что в театре единственным творцом является драматург. – Чуть помедлив: – Хочу соотнести себя, свое поколение с концом века, быть может, с концом тысячелетия. Счастье и несчастье, как известно, были одинаковы – что сейчас, что триста лет назад. Мне хотелось, чтобы в спектакле были наши амбиции, желания, но вовсе не разборки на уровне помойки».
Как только выпустили «Кухню» – пожалуй, самый зашифрованный тяжеловес меньшиковской режиссуры, – Олег Евгеньевич придумал прощание с «Горем от ума». Во время «похорон» особого веселья не наблюдалось. Труппа возмущалась, что спектакль снят с репертуара на пике успеха (билеты перекупали по двести долларов). В тот день текст Грибоедова смешно прерывался вкраплениями капустника, лихо высмеивались исполнители, естественно, больше всех досталось Меньшикову-Чацкому. Потом в фойе пели цыгане, разодетые гости отплясывали и закусывали, поздней ночью в скверике Театра имени Моссовета водружали камень-памятник по усопшему: «С 14 сентября 1998 г. по… здесь играли «Горе от ума». Когда музыка отгремела, а мощь воинственных выкриков гостей достигла Зала Чайковского, ко мне подошла Инна Чурикова: «Зоя, зачем он это делает? Как может надоесть такая роль, так сыгранная им? Для меня в любой роли (за редким исключением), когда я выхожу на сцену, – все остальное умирает. Я жду этого часа. Без сцены не могла бы существовать».
Да, трудно представить себе Меньшикова, который, как Анни Жирардо (кстати, его почитательница), будет играть двадцать семь лет одну и ту же пьесу.
Меньшиков не устает повторять, что для него жизнь дороже профессии. Парадокс, но это так: О. М. не лицедей в привычном смысле слова. Для него действительно жизнь, ее взрывное, случайное течение, порой важнее сцены. Отсюда и тяга к новым впечатлениям, заставляющая менять театры, окружение, страны пребывания. И вместе с тем О. М. сетует на то, что гораздо хуже ориентируется в жизни, чем в театре. «Я даже не знаю, что с этим делать. В театре всегда все представляю, а в жизни жду случая».
Вот что говорит Рустам Ибрагимбеков, написавший для О. М. не одну роль: «Время от времени появляются актеры, которые могут играть все, это связано с тем, что они личности, соответствующие данной эпохе… Просто появляется человек, личность которого как бы соответствует массовым представлениям о герое, массовой общественной потребности в такого рода герое… Меньшиков совпадает со временем, его аурой и в том своем убеждении, что все-таки мы рождены, мы пришли в мир не для работы, а для жизни… Сам способ существования Меньшикова, его поведение, взаимоотношения с людьми убедили меня на протяжении долгих лет нашего знакомства, что он действительно ставит жизнь выше своего актерского дела… Именно увлеченность жизнью позволяет ему играть все! Благородного героя, обманутого миром одаренного убийцу, несчастного любовника. Он мог бы играть и Отелло, и Яго, Гамлета и Бенедикта из «Много шума из ничего», Иванова из пьесы Чехова и Хлестакова. Разве что не мог бы стать Дездемоной».
Особенно тесно соприкоснулся Ибрагимбеков с О. М. во время съемок «Утомленных солнцем», куда на роль главного героя Никита Михалков пригласил Олега Меньшикова, до этого студентом сыгравшего эпизод в его фильме «Родня».
– В сущности, вся ваша профессиональная жизнь связана с Никитой Сергеевичем. Влиял ли он на вас человечески?
– Наверняка влиял. Быть может, не смогу объяснить как, во всяком случае, творчески – точно. Понимаете, я снимался в «Родне», когда мне было девятнадцать лет. Естественно, он кое-что зарядил в меня. Быть может, заложил программу, по крайней мере разборчивым и требовательным я стал, слушая его и поняв, что он имеет в виду под этим. Я понял, что нельзя работать где попало, с кем попало, когда попало. Эта его установка была уже тогда… Думаю, что в раннем возрасте нужно подпадать под влияние сильных личностей.
– Вряд ли можно попасть под влияние любой сильной личности, если ты к этому не склонен.
Меньшиков кивает:
– Я считаю, что мне повезло, что уже в молодости сотрудничал с Михалковым, Балаяном, Козаковым. Все трое абсолютно разные, но все очень яркие личности. Я часто думаю над этим. Некоторые молодые актеры труппы порой сетуют: «Я так боюсь подпасть под ваше влияние, то есть стать вторым Меньшиковым». А что плохого в чужом влиянии? Избавляться от него можно потом, сначала нужна школа. Как музыканту. Быть может, некоторые работы я сыграл под интонацию Козакова. Ну и что, это мне повредило?
– Вы и сейчас главная игровая фигура на поле режиссера Михалкова. Как сегодня вы чувствуете себя в этом тандеме?
– Странно, но все полагают, что мы друзья, ну хотя бы товарищи. Я даже так не могу сказать. Мы не созваниваемся с ним, не поздравляем друг друга с днем рождения, Новым годом, Рождеством. У нас нет никаких личных пересечений. В работе – да. Естественно, тогда мы и проводим время вместе, и репетируем. А потом очень надолго можем расстаться.
– Изменился ли Никита Сергеевич за двадцать лет? Как режиссер, наставник и по-человечески.
– Конечно, изменился. Было бы смешно, если б не изменился. В какую сторону? В худшую или лучшую – не знаю. Быть может, стал более нетерпимым. Он был веселее. Он и сейчас веселый, но уже по привычке: вроде бы так надо. Случается, что он одно и то же повторяет, забывая, что уже говорил это, но повторяет с такой энергией и убедительностью, что все равно заставляет себя слушать. Безусловно, в Михалкове существует какое-то поле, которое он распространяет вокруг себя.
– Как две сильные личности взаимодействуют при пересечении? Вам тоже удается без особого труда подчинять себе людей?
– Как-то сосуществуем.
– Все актеры, работающие с Михалковым, привержены ему, любят, никто не хочет с ним расставаться. Масштаб, интересно фантазирует, создает атмосферу комфорта на съемках. А в жизни – бесконечные конфликты, разборки. В чем дело?
– Думаю, он многим мешает. Раздражает и вкус к власти. Если Никита Сергеевич что-то задумал, он не смотрит по сторонам, ни направо, ни налево. Но в кино пока лучшего не вижу. Работать с Михалковым хорошо, я готов к этому.
– Киношники полагают, что всем было бы лучше, если бы Никита Сергеевич занимался своим основным призванием. Мне-то кажется, что яркая художественная личность и власть несовместимы. Бывают редкие исключения, но все равно что-то одно преобладает. Вряд ли у крупного мастера возникает мысль использовать силовые методы для доказательства своей художественной правоты. Кстати, многие замечают, что в своих интервью Михалков почти никогда не говорит о вас. Только если вопрос задан впрямую. Вряд ли это случайность. Слышала от участников и то, что многие эпизоды с вами из обеих картин постановщиком были изъяты в монтаже, якобы во имя «цельности» замысла. Что это?
– Думаю, здесь много чего… Знаете, став режиссером, я его еще больше понимаю. Возникает чувство – «ну вот это мое!». А когда кажется, что это не только мое, но еще оно свободное, хочешь его подчинить себе.
– Режиссеров не может не раздражать ваша манера работать. То, что вы репетируете чисто формально. Начинаете работать всерьез, как только прозвучит команда «Мотор!».
Режиссер Варнье в своем дневнике удивляется: «Невероятный человек, который все время выскальзывает из рук. Таинствен и недоступен… Он выкладывается лишь тогда, когда идет съемка. На репетиции абсолютно ничего не известно. Катрин Денев была поражена работой Олега, совмещающего столь разные черты. Он играет раздвоение. Те, кто рядом, – должны думать одно, зритель – подозревать другое».
Александр Хван, режиссер «Дюба-дюба», тоже жалуется: «Меньшиков существует совершенно обособленно, мне не удается влиять на него». Согласитесь, крупный режиссер к подобной «саморежиссуре» с трудом приспосабливается.
Меньшиков поясняет:
– Никита Сергеевич потом уже относился к этому нормально. Даже смеялся, ведь у меня действительно это не только с ним. Для меня на съемках сложно совмещение в Н. С. актера и режиссера. Группа воспринимает его, конечно, больше как режиссера.
– Ну уж! Вы-то сами теперь совмещаете. Да и раньше, как мы уже говорили, вы, по существу, были соавтором собственной роли.
– Я считал, что так все и работают. Ничего подобного! Конечно, у меня всегда было желание взять на себя ответственность за весь спектакль. Хотя бы попробовать.
В конечном счете Меньшиков не только всегда ждал предложения Михалкова, но прощал ему то, что никому другому не простил бы.
Были моменты, когда казалось, эти двое разбегутся навсегда.
Съемкам «Утомленных…» и «Сибирского цирюльника» сопутствовали многие сложности: несовпадение с прописанной в сценарии натурой, когда на внезапно нагрянувшую зиму пришлось накладывать летние сцены. Глядя на ослепительное солнце, изнывающих от жары обитателей усадьбы во главе с прославленным командармом Котовым (Н. Михалковым), невозможно предположить, что актеры дрожали от холода, мурашки на теле Дапкунайте и Нади разглаживались с трудом, трава и листва были искусственными. Никита Сергеевич не делал поблажек ни для кого, даже для собственной дочери – подростка Нади.
Не просты были и взаимоотношения в жизни двух главных героев фильма. Быть может, у Меньшикова, легко прощающего обиды, не выветрилась из памяти история награждения «Утомленных солнцем» «Оскаром». Зловещая пауза между «Утомленными…» и «Сибирским цирюльником» возникла в момент ослепительной победы фильма в Голливуде, за которой посыпались праздники, отмечания, чествования Михалкова, лента была в центре внимания. Успех разделили некоторые создатели фильма, ездившие на вручение «Оскара», участвовавшие в премьерных показах в России и за рубежом. Меньшикова кинули, его не приглашали ни на вручение, ни на чествования. Телефон в его квартире не умолкал: «Что случилось? Как это объяснить?» Казалось, разрыв неизбежен.
Предложение сниматься в «Сибирском цирюльнике» тоже долгое время не подтверждалось.
Сложность ситуации заключалась в том, что роль в сценарии Рустама Ибрагимбекова была написана специально для Меньшикова – Андрея Толстого – семь лет назад. Конечно, «несколько повзрослевшему» актеру сложно было доверить роль молодого юнкера, лишь вступающего во взрослую жизнь. Передать роль другому и изменить многие свойства героя, предназначавшиеся индивидуальности О. М., или остаться верными прежним намерениям и смириться с тем, что возрастная разница неминуема, – этот вопрос стоял и перед сценаристом, и перед режиссером. Ибрагимбеков переписывать сценарий, увеличивая возраст героя, отказался. Простой Меньшикова, уходившего от всех других предложений, непоправимо затягивался, хотя они сыпались во множестве.
– Почему не стали работать с Шоном Пенном? – спрашиваю. – А студия Спилберга, из которой – сама слышала – звонили вам в Париж? А сколько Козаков искал вас! Есть же границы и вашего долготерпения?
– С Пенном не сложилось, прислали сценарий – не показался интересным. О Балаяне думаю. Уж очень мне не хочется его огорчать.
– Так вы что, всерьез полагаете, что будете сниматься в «Сибирском цирюльнике»?
– Куда они денутся!
И вправду, не делись. Мне рассказали, как это произошло. Михалков позвонил Меньшикову: «Куда ты пропал? Никогда не позвонишь. Даже не поздравил меня с «Оскаром». – «Могли бы и вы меня поздравить. Между прочим, я тоже сыграл в этой ленте кое-какую роль». – «Ну что поделаешь, «Оскара» дают за режиссуру. А в новой картине у меня сниматься собираешься?» «Надо еще почитать сценарий», – после паузы заявил О. М. «Хорошо. Я подожду, но имей в виду, если будешь сниматься – по существу, в трех ролях: двадцатидвухлетнего юнкера, десять лет спустя – сосланного каторжника, затем его сына, солдата американской армии, – то ставлю три условия: весь период съемок «Цирюльника» не работать ни с кем другим, довести до совершенства английский, фехтование и прочее, держать форму (сбросить вес, заниматься спортом, обучаться военному ремеслу)».
На съемках Меньшиков неукоснительно выполнял условия, работал, как все, проходя муштру и физические нагрузки для юнкеров. Единственной его привилегией была отдельная комната, в которой собирались по вечерам, расслаблялись.
Когда съемки «Сибирского цирюльника» подходили к концу, Меньшиков узнал, что избран председателем жюри Московского международного кинофестиваля. В составе: Джина Лоллобриджида, Де Ниро, Беата Тышкевич, от наших – Соловьев, Янковский, Дапкунайте и т. д. Торжественная церемония вручения премии «Ника» некстати совпала с работой над последними эпизодами фильма Михалкова.
В качестве председателя международного жюри Меньшиков был подобен воздушному шару, из которого выпущен воздух. Представление мировых знаменитостей граничило с неуважением. Несоответствие парадности одежды (миллионное платье Джины было ослепительно), торжественности лиц ожиданиям зала бросалось в глаза каждому.
В вестибюле О. М., увидев меня, зазвал в опустевшую комнату жюри.
– Что-то с вами не то… – говорю.
И правда. Меньшиков был в шоке после сцены, разыгравшейся за час до церемонии закрытия между Н. С. и им. Когда необходимо было уезжать в Дом кино на вручение, Михалков запретил артисту уходить. Меньшиков вяло повторял, что его отсутствие невозможно, он сорвет вручение. Никаким аргументам Михалков не внимал.
– Пойдешь в Дом кино – забудь мое имя, – крикнул вслед уходящему Олегу, – навсегда!
Еще месяца два на глазах группы «Цирюльника» разыгрывалась сцена под названием: «Пусть Меньшиков доснимается в роли, но для меня он больше не существует».
«Паша, – обращался Н. С. к оператору Лебешеву, – скажи Олегу Евгеньевичу, чтобы он повторил проход (или что он может отдыхать)». Управление художественным процессом шло через третьих лиц и так, быть может, и продолжалось, если бы в финале не снимали одну из первых по сценарию сцен: когда входит Джейн, героиня Джулии Ормонд, в вагон с юнкерами. Очевидно, Меньшиков был в особом ударе, когда вышел на перрон, его подхватили десятки рук исполнителей, начали качать. Азартно, восторженно. Минуты через две кольцо разомкнулось, и все увидели в конце перрона Никиту Сергеевича с высоко поднятой бутылкой коньяка. Он раскрыл объятия, поздравляя с удачей главного исполнителя. На этом в многодневном конфликте была поставлена точка.
И, как не раз бывает, после ликующей премьеры празднование в Кремле впоследствии обернулось постыдным эпизодом. В одной из желтых газет был помещен грязный репортаж, проиллюстрированный снимком, где только что недосягаемый герой «Сибирского цирюльника» был подловлен на банкете нетрезвым с дамой навеселе.
– Как это можно? Вы видели? Что ж это за люди! – сквозь спазм кричит по телефону. – Представляете, если это прочитают мои родители?!
Знаю, потрясение будет недолгим. Пройдет не более суток, и Олег Евгеньевич забудет этот репортаж, этот прием и устремится в будущее.
– Все, – сказал О. М., – больше я на пушечный выстрел не подпущу ни одного фотографа. Попрошу ребят, чтобы охраняли.
Думаю, что Меньшиков не только совпал со временем, но и влиял на него. Его актерская индивидуальность сконструировала героя, которому хотели подражать, как в свое время Печорину, Болконскому, Бендеру, Чапаеву. С появлением О. М. возникли молодые люди, которые презирают, любят и ненавидят, носят часы и курят под героев Меньшикова. На молодежных тусовках так часто я замечала этот взгляд «напрокат», исполненный презрения, обожания, неприкаянности или злопамятства.
Веселый, покоряюще обаятельный артист беспощадно точен в воплощении жестокости, ненависти, добирается до истязающих душевных пыток героев. Откуда это? Свойство, присущее личности? Или интуитивное постижение сегодняшнего героя и действительности в ее перспективе? Не думаю. Почему-то зло в интерпретации О. М. показано со странной терпимостью. Даже нравственные изгои (Калигула, Митя, Слай – Алексей Лукин, Андрей Плетнев) всегда выглядят у него жертвами обстоятельств, вызывая сострадание. Авторский текст, как бы проходя абсорбирование, внутреннее очищение, облагораживается личными качествами артиста. Новый герой, пришедший с Меньшиковым, соединил интеллигентность облика, порой изысканность манер с беспощадностью поступков и способностью их оправдать. Предельно эмоциональный, легковозбудимый, он играет жестокость и холодность современника, который прошел Афганистан и Чечню, видел смертельные разборки на наших улицах и в подъездах, он сведущ в «заточках», «арматуре» более, чем в «сострадании», «гуманизме», «общечеловеческих ценностях». Увы, в XXI веке его разрушительная сила образа спровоцирована обесцененностью человеческой жизни.
Амплитуда возможностей О. М. захватывает и образы прямо противоположные. Мало кто из сегодняшних актеров может вызвать такое глубокое сопереживание происходящему на сцене и экране, желание защищать героя, абсолютно веря в истинное существование людей с подобной судьбой: это люди, отвергнутые обществом и любимыми женщинами, потерянные, которые ищут спасения от одиночества, безысходной неприкаянности. После монолога Чацкого он заставит публику неистовствовать, сожалея о бездомности, погубленной молодости этого блестящего юноши, который не вовремя родился. Он вызовет потрясение у зрителя в «Утомленных…», когда, предавший всех и преданный всеми, он попытается вскрыть вены, ничего уже не видя впереди.
Почему столь безвременно уходят от нас блестящие актеры на самом пике творческих возможностей: Даль, Миронов, Высоцкий, Папанов, Богатырев, Солоницын? И несть им числа.
Задумаемся, что происходит с психикой актера, если его герой, порой его сверстник, проходит через убийства и пытки, отнюдь не только нравственные. Когда проблема «человек или вошь» решается на уровне далеко не психологическом. Накладывает ли подобное перевоплощение отпечаток на внутренний облик человека?
А если к тому же он вечером играет Калигулу, а утром снимается в «Дюба-дюба»? Почему так короток век наших лучших актеров, игравших «на разрыв аорты». И конечно же быть может, спасая свое «я», Меньшиков хочет принадлежать жизни больше, чем профессии. Но и среди действующей сегодня блистательной плеяды есть примеры прямо противоположные: Евгений Миронов, Чурикова, Янковский, Неелова, Фрейндлих, Басилашвили, Ясулович, Райкин.
На вопрос, как удается выдерживать, Меньшиков отвечает: «Иногда с трудом. Спорт. Голод. Футбол два раза в неделю. Все говорят: как это, голодать целый пост? А для меня – раз плюнуть: не ем, и все».
Готовясь к режиссуре, О. М. сказал: «Я перечитал все, что нашел: «Театр для людей» Джорджо Стрелера, «Зеркало сцены» Товстоногова, «Блуждающую точку» Брука и, конечно, Станиславского, Вахтангова, Мейерхольда, Брехта, Гоголя и Набокова – несколько раз. И всегда Пушкин. В разные периоды разные увлечения. Было время сильного увлечения Лермонтовым. И вдруг посреди всего этого наткнулся у Эфроса: «Режиссер должен работать весело». Я так обрадовался, когда это прочитал».
Легко можно предположить, что это «весело», помноженное на оптимизм, унаследованный, по словам Меньшикова, от отца, восстанавливает душевное равновесие актера после нервных потрясений роли. Уходя от быта, он полагает, что «в театре должно быть все красиво, весело и празднично», в рифму с чеховским «В человеке все должно быть прекрасно…».
Не похоже, но Меньшиков – религиозен. И не со вчерашнего дня, когда верующим стало быть модно. Больше десяти лет назад он крестился, вслед за ним крестились его мать и сестра. Отец – до сих пор нет.
Спрашиваю: «Как к вам, взрослому, сложившемуся человеку, пришло это?» Отвечает: «У моего поколения воспитывался страх перед церковью, это было во мне, я все время старался обходить храмы стороной, сейчас мне кажется это ужасным, но так было. А произошла эта перемена, ну, я не знаю, как-то достаточно быстро: если грубо, в двух словах, я просто в один прекрасный день встал и пошел креститься. Мне было двадцать семь лет… В Сокольниках рядом церковь была. Пришел, а там еще несколько человек стояли. Вот это и произошло».
Спросила: воздействует ли политическая ситуация на мироощущение? Ведь сегодня она влияет, в сущности, на каждого человека. «Меня совершенно не волнуют ни политика, ни экономика, – отвечает он. – Я мог бы жить где угодно, при любом режиме и в любом государстве, но хочу жить здесь. Из других стран любимая – Англия». – «Хотели бы что-нибудь возглавить, стать министром, к примеру?» – «Упаси боже! Да нет же, конечно же нет, не хотел бы!» Он может гулять на даче у Михалкова с В. В. Путиным, соприкасаться с высшей властью, абсолютно не стремясь к сближению, наверх.
Он водит знакомства вне политических убеждений, никогда, даже словесно, не предает близких ему людей. Не позволяет себе злословить об отошедшем на три шага собеседнике – занятие столь приятное и частое в театральной среде. Ему просто не хочется, неинтересно. Даже если выгодно поддакивать, даже если злословящий тоже друг. Невыгодно сегодня хвалить снятого худрука, отставленного начальника. В каком-то официальном интервью на вопрос, что у него общего с Березовским, ответил что-то вроде «Не в курсе его политических амбиций, но как к человеку отношусь к нему с огромной симпатией».
Олег Евгеньевич не расчетлив в полезных связях, игнорирует противостояния политические и общественные, маловероятно увидеть Меньшикова и на трибуне, при слове «борьба» он скучнеет. Необходимость кого-то поздравить сводит к трем фразам. Сам он принципиально ни за что не борется: либо выжидает, либо отходит в сторону. Упорство лишь художественное.
Появлению в Лондоне Меньшиков обязан случайности. Когда госпожа Редгрейв задумала спектакль об Айседоре Дункан, ей потребовался русский на роль Есенина. Продюсер Роберт Фокс напомнил ей об актере, которого она видела в Москве в роли Калигулы. Самое начало альянса О. М. с Редгрейв складывалось на грани скандала. Незаурядная актриса, звезда, ждала актера, который будет обслуживать ее бенефис в «Айседоре». Возникшее непонимание, порой резкое противостояние грозило разрывом контракта, но длилось недолго, через неделю актриса уже не помышляла ни о ком другом в этой роли. Вот что написал А. Вознесенский, побывавший на спектакле: «В Меньшикове есть шик профессионала высшей лиги. Я видел его игру в Лондоне, в «Есенине и Айседоре». Спектакль стал гвоздем сезона. Драма некоммуникабельности двух великих любовников решена беспощадно просто… я пришел на спектакль, приглашенный Ванессой, ушел – ошеломленный Меньшиковым».
Там же, в Лондоне, Меньшикову попадается дневник Нижинского. Исповедь безумного танцовщика потрясает его. Он сообщает в Москву продюсеру и другу Г. Боголюбовой, что неотступно думает о Нижинском, мечтая что-то из этого сделать. Позже Боголюбова скажет: «Репетиции были сплошным счастьем, у нас образовалась как будто целая семья. Это было незабываемое время».
В Англии, после роли Есенина, О. М. неожиданно предлагают сыграть роль Ихарева в «Игроках» Гоголя. В отличие от «Айседоры» спектакль особого следа в прессе Туманного Альбиона не оставляет. Но фатально закольцованные «Игроки» вернутся к Меньшикову десять лет спустя. Он станет постановщиком и исполнит роль шулера Утешительного.
«Игроки» – пьеса розыгрышей. Четверо решили надуть весь городок. Розыгрыши, переодевания, мистификации – стихия Меньшикова на сцене и в жизни. Вспоминаю появление старца (в «Утомленных солнцем») с клюкой и в рясе. Бородатый, неузнаваемый, он врывается в дом Головиных, принюхивается, садится за рояль, и только тут все узнают Митю, их воспитанника. Как-то мы все попались на розыгрыш О. М. Однажды в Доме приемов чествовали лауреата премии «Триумф» года Евгения Кисина. В разгар торжества появился бритоголовый паренек в черном кепаре. Разряженные гости при виде вошедшего бритоголового недоуменно переглядывались: «Как мог просочиться на прием?» А парень не оглядываясь прошел в угол, тихо нырнул в кресло. И тут все ахнули: «Да это ж Олег!»
В спектакле «Игроки» в карты режутся достоверно. Когда-то и Меньшиков играл. «Достаточно серьезное увлечение, – говорит, – но я себя остановил, понял, что в этом моя погибель… Вообще я чересчур азартный, если прихожу в казино, меня оттуда уже не вытащишь. Если зашел, то придется посидеть. Рулетка меня влечет меньше всего, мне больше нравится покер. Когда ты открываешь карту и замираешь в ожидании… когда не знаешь, что тебе светит через секунду». В спектакле эпизоды картежных схваток заводят зрителя и актеров. Вполне профессионально тасуют колоду, сдают, со смаком бьют о стол выигрышной картой, от невезения на лбах проступает пот.
Постановка «Игроков», в особенности после мук работы над «Кухней», дала простор фантазии, браваде, дерзости, которые О. М. не удавалось реализовать раньше. Лихо срежиссированная, с виртуозно подобранной музыкой (В. Назаров), в стильных декорациях (декорации изготовлены под руководством Л. Керпека, сценография А. Попова) эта постановка – бесспорный хит «Товарищества 814». Испытываешь наслаждение от виртуозности пластики, истинной слаженности ансамбля, разнообразия выдумок у Сухорукова, Татаренкова, Усова, Сирина, Горбунова, самого Меньшикова.
Всегда вспоминаю Петра Наумовича Фоменко, почитаемого О. М. со времен постановки «Калигулы»: «В театре главное – единение… нельзя ходить топая каблуками, потому что ты себя затаптываешь. Надо, чтобы с ног до головы актер чувствовал дыхание другого за спиной». Похоже, О. М. удалось создать единый антрепризный коллектив.
«Игроки» были поставлены в рекордные сроки. Актеры уверяют, что Меньшиков – ас в умении объединять людей, он работает без крика, авралов, без форсирования голоса. «У него феноменальная выдержка». «Если надо, исполнители будут работать у него столько, сколько надо, не ропща».
В какой-то момент О. М. попытается закрыть и «Игроки», но протест актеров оказался столь единым, что этого не случилось. На праздновании дня рождения Олега Евгеньевича в тостах прорывались возмущенные решением О. М. голоса. Больше всего расстроился Сухоруков, блестящий исполнитель нескольких ролей в спектакле. «Все мы на разные голоса вопили, что закрывать спектакль – безумие, он оказался столь успешным, что идет и по сей день, отыгранный в Нью-Йорке, Париже, Израиле, Челябинске и т. д. и т. п.».
Пауза после «Игроков» была заполнена киноролями, не слишком удачной постановкой К. Серебренникова «Демона» в «Товариществе 814» с О. Меньшиковым в главной роли, ролями Остапа Бендера, Фандорина в «Статском советнике» и блестяще, на мой взгляд, сыгранным доктором Живаго в фильме Прошкина.
Казалось, пик славы остался позади.
Очевидно, для художника такого масштаба и самосжигания нужно обновление мощной режиссурой, крупной личностью. Кто там? Фоменко, Някрошюс, Додин, Кончаловский? «Я не прочь был бы поработать с ярким режиссером, – заявляет О. М., – который развернул бы меня другими сторонами». Попытка под названием «сам себе режиссер» не может длиться годы. Нижинский, Чацкий, Утешительный, Андрей Соколов и другие – создания двуединого режиссерского процесса: постановщика и актера. Долго ли будет О. М. ставить спектакли и фильмы на самого себя?
Спрашиваю:
– Что хотели бы играть?
– Я бы предпочел, чтобы нашелся режиссер, который специально на меня поставил бы фильм. И вообще, поработать бы с большим мастером, который во мне что-то раскрутит еще.
– А куда денется «Товарищество 814»?
– Ищу для них что-нибудь интересное, читаю множество пьес.
– Никита Михалков заявил, что собирается снимать продолжение «Утомленных солнцем». Без вас?
– Вроде бы нет. Встретились, предлагал участвовать в фильме. Я спросил: «Никита Сергеевич, может, вы не в курсе, что меня убили?»
Сегодня уже реже говорят о непредсказуемости Меньшикова. Великий молчальник, загадочный персонаж, информация о котором просачивается по капле, уходит в прошлое. Пусть редко, но он дает интервью, показывается на премьерах и юбилеях, о нем сделаны ТВ-передачи, пишутся книги и портреты в гламурных журналах «Культ личностей» и «Эль». Да и миф о его непредсказуемости родился, как и всякий миф, когда поступки человека не совпадают с привычными стереотипами поведения… Сегодня от него ждут только новых ролей и постановок, исключительность и яркость этой фигуры вызывает интерес, уже не связанный с тайной его образа жизни или поведения, ждут потому, что твердо знают, что в личности этого художника, которому так много отпущено Богом, всегда откроется что-то новое и еще более значительное.
Он – Скорпион, родился под знаком Солнца. «На первый взгляд, – говорится в его гороскопе, – у него есть все, чтобы добиться успеха: живость ума, энергия, сила, из-за характера у него много врагов, но первая трудность для него – жить».
Как-то сложится судьба артиста, рожденного «с солнцем в крови»?
Недавно вхожу в Дом книги на Новом Арбате. Слышу, продавщицы перешептываются:
– Ты думаешь, удобно? Когда еще такой случай выпадет взять автограф!
Оборачиваюсь. Олег Евгеньевич с двумя фолиантами под мышкой пытается незаметно выскользнуть из магазина. Худой, с обострившимся профилем, темные очки. Как всегда, прячется.
– Конечно, удобно. Догони, догони его!
Продавщица выбегает из-за прилавка. Возвращается расстроенная.
Не догнала.
2002
Страсти по Рустаму
Рустам Хамдамов
Сижу с Рустамом Хамдамовым в его непроходимо заставленной квартире-мастерской (тогда еще на улице Неждановой), говорим о том, что принято называть искусством. За окнами вечер, на столе возникают закуски, вино, Р. Х. активно двигает ко мне баклажанную икру и сыр. Рустам – один из самых блистательных собеседников, которых я встречала. В отличие от большинства коллег Р. Х. не любит говорить о себе, зато мгновенно загорается, когда речь заходит о том, что меняет привычную карту арт-истории. Спрашиваю:
– Что для вас поставангард или постмодерн? Эти понятия различаются для вас?
Наконец усаживается.
– Поэт Ахматова считает, что вся поэзия – это цитата. Когда смотришь на искусство из данного времени, своего возраста и места в конце века… понимаешь эту простую формулу: почти все мелодии спеты.
Голос у Р. Х. сипловатый, негромкий, его не услышишь, если в комнате соберется более трех человек.
– Чем же прикажете искусству удивлять нас в двадцать первом веке, откуда появится гений?
– Очевидно, происходит новое сочетание некоторых нот по отношению к бывшим сочетаниям. То есть в каждом следующем, допустим, семнадцатилетии – своя мелодия. Для меня постмодерн – это как раз самое точное сочетание из всего, что было: скажем – традиция, но плюс немного продвинутая вперед или в сторону. Таким образом создается новое или хотя бы имитация нового. Думаю, в искусстве такой же бег, как и в моде. Все «-измы» уже придуманы до тебя, и приходится сочинять свой собственный «-изм» или смысл, чтобы попасть в мелодию. Короче, как у Ницше, вечное возвращение к главному – к традиции. И преемственность здесь может быть поддержана только на уровне вкуса или внутренней ориентации человека при большой внешней свободе.
Пытаюсь возразить, но в этот момент Хамдамов исчезает из комнаты. В соседнем помещении слышны шуршащие звуки, словно развертывают рулоны бумаги, затем – звонок телефона, гудков пять-шесть, прорвавшихся в громкую связь, узнаю чей-то знакомый голос, все же заставивший хозяина снять трубку.
Рустам Хамдамов – затворник. Редкостно одаренный, с шлейфом загадочности, манящей незавершенности, Хамдамов существует в сознании современников скорее как миф, сотканный из обрывков информации, чем реальная фигура… А ведь о нем написаны сотни статей, фрагменты его фильмов цитируются лучшими режиссерами мирового кинематографа, о «притягательности, которую нельзя объяснить», говорит Андрей Кончаловский.
Скупой на похвалы коллегам, порой злоязычно точный (что часто не соответствует его истинному отношению к человеку), он боится внимания толпы, скрывается от репортеров, манкируя презентациями. Неделями, месяцами не подходит к телефону, не появляется на людях, болезненно стараясь уйти в тень. Он может внезапно исчезнуть в чужом городе, застрять у стойки паба с первым попавшимся собеседником и остаться ночевать в его доме. А в это время его будут ждать в выставочном зале или на кинопросмотре обожатели и поклонники именно ради того, чтобы выразить ему свое восхищение. Но он так и не появится. Он заставит волноваться самых близких друзей и почитателей, вообразивших, что с ним случилось нечто ужасное. Как объяснить им, что герой сегодняшнего действа на какое-то время выпал из собственной пьесы, из главной роли, что ему надо спрятаться, потеряться, обретя «публичное одиночество» в толпе?
Мое знакомство с Рустамом Хамдамовым было отмечено почти мистическими совпадениями. Листая журнал «Арт Престиж», наткнулась на большую публикацию репродукций картин незнакомого мне художника. Хамдамов. Волшебство цветовых сочетаний, прелесть женских лиц и силуэтов, переливающиеся драгоценными камнями одежды и кокошники завораживали. Редактор «Арт Престижа» Валерий Стародубцев напомнил, что Рустам Хамдамов – известный кинорежиссер, автор фильмов «В горах мое сердце» и «Нечаянные радости». Конечно же я знала эти ленты, отпечатавшиеся в памяти почти каждым эпизодом.
Через несколько дней летим в Нью-Йорк к Эрнсту Неизвестному, чтобы отобрать эскизы для статуэтки «Золотого эльфа» к пятилетию премии «Триумф». Ювелирная статуэтка Эрнста Неизвестного при участии галереи Ф. Комарова «Русский мир» исполнена в золоте и платине, с постаментом небесного лазурита. Она символизирует содружество муз: папирус, лира, мольберт, театральная маска, Терпсихора, – и ежегодно вручается пяти лауреатам нашей премии. Но пока мы еще не видели эскизов. Летим к Неизвестному. Во время полета в руках у известного продюсера Метелицына вижу журнал: опять Хамдамов, свежая публикация.
Ненастным утром в Нью-Йорке направляюсь в галерею Комарова, что на Пятой авеню, 800. В ней обнаруживаю целый простенок картин все того же Хамдамова. Живьем, собранные вместе, они завораживают, смотрю – не могу оторваться. Комаров хвастается: «Это эксклюзив». Уроженец Ленинграда, Феликс Комаров, приехавший в США, сумел собрать обширную коллекцию русского поставангарда, но картины Хамдамова – безусловная редкость.
Мистические напоминания о Хамдамове продолжались и в Москве. В первый же вечер звонит Люся Чернавская, шеф молодежной секции Дома актера: «У нас творческий вечер Хамдамова. Приходите обязательно. Представляете, он дал согласие. Невероятно! Покажем его ранние фильмы, а главное – еще не завершенную ленту «Анна Карамазофф» с Жанной Моро и Еленой Соловей».
Увы, как часто впоследствии при упоминании имени Рустама Хамдамова будет звучать это обидное «незавершенный». Гениально запрограммированный художник сегодня все чаще воспринимается как кладезь нереализованных идей. Оборванные замыслы, незавершенные фильмы, невоплотившиеся проекты.
Но вот в Нью-Йорке я видела выставленные в галерее картины, общалась на протяжении двух недель с самим художником, и имя Хамдамова стало для меня незыблемой ценностью в мире искусства.
На его творческом вечере в Доме актера впервые вижу фильм «Анна Карамазофф», и меня охватывает то же чувство. Странная нереальность происходящего на экране, таинственное погружение в небытие, колдовское многоцветье изображения с чередующимися черно-белыми клавишами эпизодов и, конечно, магия игры Елены Соловей и Жанны Моро… Казалось, еще чуть-чуть – и картина обретет цельность, фрагменты сложатся в композиционную гармонию.
Кто это увидит? Показанная во Франции на Каннском фестивале в 1991 году и еще на каком-то просмотре и вот теперь в Доме актера, лента напрочь исчезла.
Версии случившегося сменяли одна другую: то продюсер Зильберман, залетевший во франко-русскую кинопродукцию, заблокировал съемки, то потерялось отснятое, а на продолжение не было средств – так или иначе, но картина до сих пор находится в чьих-то тайниках, а уже в печати сообщили, что продюсер Зильберман скончался.
…И снова, как два года назад, сижу в полуподвале Р. Х. Ранняя талая весна 1997 года. На сей раз весь интерьер: творческая мастерская, кухня, офис – совмещены в еще более ужасающей тесноте. В воздухе – запах плова, печеных пирожков. Нынче здесь хозяйничают его друг Давид Саркисян, известный кинодокументалист, сегодня возглавивший Музей архитектуры, и любимая племянница Рустама Камилла – время от времени одна из его моделей.
После трапезы остаемся вдвоем. Телефон трещит постоянно, настойчиво, но хозяин теперь уже не подходит. Звонки отслеживаются: все приспособлено к тому, чтобы отвечать было не обязательно. Посреди нашего разговора в квартиру врываются представители какой-то богатой фирмы, их сменяют элегантные дамы-меценатки. Эти посетители быстро исчезают, их легко отличишь от тех, с кем действительно близок художник. Среди них – Тонино Гуэрра (автор сценариев ряда фильмов Феллини, Антониони, Пазолини, одаривший впоследствии хамдамовских ангелов-царевен названием «Ночные принчипессы»), русская жена Гуэрры и бессменный его переводчик – ослепительная Лора; Кира Муратова, Рената Литвинова, Павел Каплевич, Алла Демидова, Петр Шепотинник и Ася Колодижная, Валентина Панфилова, пригласившая Рустама главным художником в Театр имени Моссовета, а еще Григорий Цейтлин, который приютил Хамдамова в этой мастерской, англичанин Майкл, живущий в Литве, Ариела Сеф. Познакомилась я и с сыном Рустама Даней, удивительной прелести юношей, живущим в Париже.
Говорим о фильме.
– Откуда такое название – «Анна Карамазофф»?
– Это название я не люблю. Очевидно, что оно уже не в мелодии, с удовольствием бы его изменил. Помните, в «Далеких берегах» у Набокова: в массачусетском колледже студентка, добротно одета… фланелевая юбка, английские башмаки – и тут же глупый вопрос: «Мистер Набоков, к следующему семинару мне готовить роман «Анна Карамазофф»?» Студентка выставила абсолютно постмодернистскую формулу (очевидно, объединив в одно «Анну Каренину» и «Братьев Карамазовых»). Подобный постмодерн присутствует и в фильме. В нем нет моего текста. Идет бесконечное вырывание цитат из Толстого, Зайцева, писем Цветаевой… и даже Ираклия Квирикадзе. «Анна Карамазофф» – как самоирония, реплика в сторону. Ошибка, которую сделала набоковская студентка.
– Это род мистификации или отчуждение от собственного «я»?
– Отчуждение, пожалуй. Возможность соприкосновения с наивом. Он всегда присутствует у больших художников, возьмем Шагала или Параджанова. Отход к чудесному примитиву под контролем художника придает оттенок неуязвимости и свободы. Пьеру Паоло Пазолини отлично это удается. А как умело пользуется методом «наив» Кира Муратова, снимая людей с улицы с их провинциальной речью!
– Почему же фильм не был окончен?
Р. Х. сразу скучнеет, похоже, вопрос ему изрядно поднадоел. У него свой вариант произошедшего.
– Страна распадалась, съемки затянулись – не было возможности их продолжать, Жанна Моро сердилась. Права на фильм принадлежат Зильберману, а негатив весь попал на склад «Мосфильма». Как это все соединится и когда – решит лишь закон, который только сейчас у нас появляется. Здесь вспомнишь Шопенгауэра: «Продолжение наших недостатков – наши достоинства. И наоборот». Страна исчерпала себя, и Зильберман, как истинно постмодернистская личность, съел фильм. Постмодерн предполагает такие фигуры. Процитирую теоретика постмодернизма Дугина: «Удачливым в постмодерне, как и в политике, является тот, кто тоньше надует и злее посмеется». Но конечно же я шучу.
Делаю вид, что соглашаюсь. Увы, если бы роковые совпадения, преследующие Хамдамова, не были столь закономерны, история казалась бы банальной. Фильм «Анна Карамазофф» был оставлен как залог за неуплаченный долг у владельца, французского продюсера Сержа Зильбермана. Долг так и не был выплачен, фильм стал пленником. В начале девяностых собственником «Анны Карамазофф» оказалась немецкая компания, которая прервала съемки в Париже, потребовав немедленной выплаты перерасходов за уже отснятые сцены. С тех пор вот уже сколько лет не счесть попыток спасти картину, отыскать других спонсоров, выкупив созданное. Рухнули и планы расчленить картину на многосерийный телефильм или смонтировать уже существующие эпизоды, придав ленте завершенность. И все же рискованные попытки возобновляются, энтузиазм почитателей творчества Р. Х., к счастью, не иссякает.
Судьба была к Хамдамову крайне несправедлива, она преследовала его творения буквально на каждом повороте его творческой биографии. По небрежности был утрачен негатив его первого фильма, сразу ставшего классикой, «В горах мое сердце» (1967). Следующую ленту, «Нечаянные радости» (1972–1974), по решению Госкино уничтожили, исчезли даже копии. Многие годы после этого Хамдамов существовал в стране как внутренний эмигрант, имя которого стирают, как и его негативы. Елена Соловей, Наталья Лебле, открытые им для кинематографа, прославлены другими режиссерами. Кира Муратова, одаривающая Р. Х. самыми высокими эпитетами, сетует: «Он живет во мне, как рана».
И все же… Хамдамов обладает особым талантом оказаться на перекрестке чьих-то коммерческих интересов, запутаться в клубке неразрешимых чужих интриг. Тупик возникает именно тогда, когда уже виден просвет в конце тоннеля, надо только сделать последний шаг. Но Р. Х. уже не осиливает конец пути, не может разорвать невидимую паутину.
Фильм «Вокальные параллели» с Ренатой Литвиновой в главной роли ведущей и певицами мирового уровня Араксией Давтян, Бибигуль Тулегеновой и солистом Эриком Курмангалиевым тоже застревал неоконченным, на сей раз где-то в коридорах киностудий Узбекистана, в прокате. А в это время Рената Литвинова на каждом перекрестке заявляла: «Мне довелось сняться в бесспорном шедевре».
Долгое время фильм оставался недоозвучен и без нескольких завершающих эпизодов.
– Нужны один-два съемочных дня, – тогда горячо убеждал меня Рустам. – Хотите, я покажу вам фильм, только без звука? Хотите, да? Ну я позвоню!
И опять мгновенно возникшие надежды поправить ситуацию почему-то внезапно испарялись.
Затем возникла идея издать работы Хамдамова в суперальбоме. Собрать в одно репродукции экстра-класса с короткими текстами и комментариями художника. Нашлись деньги, типография, автор комментариев, отыскался художественный редактор Наташа Золотова. Ее энтузиазм, эрудиция вселяли уверенность, что альбом будет издан. Мы встречались. Втроем, вдвоем. Было угощение, блеск в глазах мастера. Через две недели Р. Х. сказал: «Вот-вот придут слайды из Парижа и можно будет начинать». Я уже была сильно занята, от процесса реализации отключилась. Все терпеливо ждали. Проект каталога, перечень картин – все было полностью готово. Ожидание затягивалось, через месяц инициатива издательства и редактора начала гаснуть, отпущенные на проект (довольно солидные) деньги просто не были востребованы. Можно ли себе представить такую ситуацию у кого-либо другого? Чтоб деньги – да не взяли?
А еще – идея создавать костюмы для «Травиаты» в Мариинке по приглашению Валерия Гергиева, переговоры с Олегом Меньшиковым по поводу декораций к «Горю от ума», законченный проект мозаики в Каннах для Дворца кинофестивалей, достаточно широко разрекламированный в СМИ (как всегда, не хватило денег), – все не завершилось.
Скольких людей подводил Хамдамов! Со мной он поступал более гуманно. Но бывали и у нас моментики…
Выставка работ Р. Х. в Центральном доме литераторов (в рамках фестиваля «Триумф» «Рождественская карусель», 1999) была всего-навсего третьей его выставкой в Москве. Первая – по возвращении Р. Х. из Парижа (где у него с 1992-го по 1995-й была мастерская). Затем, в 1996-м, состоялся вернисаж на Крымском Валу в ЦДХ, который стал подлинной сенсацией. И вот теперь – в ЦДЛ.
…Верхнее фойе писательского клуба сияло непривычными ликами боярышень в кокошниках, гроздьями винограда, коричнево-малиново-желтыми натюрмортами. Почитатели, съехавшиеся сюда из всей России, дальнего и ближнего зарубежья, подолгу задерживались у каждой картины, затем плавно перетекали к буфету. Открытие затягивалось. Многие уже осушили шампанское, закусывая орешками, уминая бутерброды. Автора не было. Я позвонила ему и, к своему удивлению, застала дома.
– Уже иду, я уже оделся, выхожу, выхожу!!! – взволнованно восклицает он.
Громко объявив, что Хамдамов вот-вот будет, предложила собравшимся выпить еще винца, отведать свежих тарталеток. Бледный, взволнованный Давид Саркисян, активный участник экспозиции, пытался отвлечь прибывавших, поток которых становился все гуще. По второму заходу позвонили художнику, но никто не отозвался. Надежды вновь ожили: вот-вот прибудет. Однако настал момент, когда нашим заверениям перестали верить, публика начала покидать зал. Хамдамов так и не появился.
– Ну как это могло случиться? – возмущалась я на следующий день. – Как вы могли так меня подвести? Сказали бы, что не придете, выход нашелся бы.
Хамдамов что-то бормотал о болезни матери, об опоздавшей машине. Но мне уже не хотелось его слушать.
Через какое-то время, наобижавшись вдоволь, когда отношения возобновились, я вернулась к этой истории.
– Теперь уж скажите мне честно: что же все-таки произошло в тот вечер? Как это вообще могло случиться? Вы же мечтали о выставке, сколько усилий и нервов ушло на то, чтобы она состоялась.
– Как-то так получается, – сказал Р. Х. понуро, – на меня что-то находит, и я решаю пойти в другую сторону. В самый последний момент я пугаюсь всеобщего внимания. Представляю себе, как все на меня будут смотреть, о чем-то спрашивать.
Значит, кроме всего прочего, Хамдамов – «человек, который пошел в другую сторону».
Сколько раз впоследствии я обнаруживала, что это желание скрыться, спрятаться за мистификацией, за чужим образом или известными цитатами – одна из составляющих природы Р. Х., сколько раз наблюдала, как желание уйти от публичности, от переполненного зала, восхищенно ожидающего его появления, опрокидывало логику.
А вместе с тем…
С первого же дебютного фильма «В горах мое сердце» все, что экспериментально делал Хамдамов в кино, становилось предметом изучения, цитировалось в учебниках и лентах многих мастеров.
Фильм «В горах мое сердце», снятый третьекурсником, демонстрирует поразительное пристрастие Р. Х. к своим мотивам, верность которым сохранится в течение всей жизни и надолго определит изобразительную партитуру художника. Киноимпровизация на тему рассказа Уильяма Сарояна вместила в себя и хамдамовских барышень в матросках на двух велосипедах, и черно-белые клавиши костюмов влюбленной пары (она – в белой блузе и черной юбке, он – в темной рубашке и белых брюках), и взмывающих вверх с мостовой птиц, и одинокую фигуру музыканта с трубой. Явственно обозначилось и переплетение мотивов узбекской сказки и русского романса. Хамдамов поставил венский стул и рояль посреди булыжной мостовой, и, по мнению критики, эта мизансцена стала вехой в искусстве кино, сделала режиссера одной из самых выдающихся фигур современного кинематографа. Неизменно и отношение Р. Х. к деньгам: «Мой отец пишет стихи, – заявляет мальчик в фильме. – Больше он ничего не делает. Он один из величайших неизвестных поэтов мира». «А когда он получит деньги?» – спрашивают его. «Никогда! Нельзя быть великим и брать за это деньги». Сохранился и этот дар Хамдамова производить продукт синтетического искусства. В его ленте сосуществуют сценарист, режиссер, художник, его фильмы отчетливо авторские… Сохранилось и это стремление (даже при наличии литературной основы) всегда предпочитать литературному тексту яркую изобразительность.
Через несколько лет входят в моду акварели и рисунки Р. Х., Европа узнает Хамдамова и как художника. Редкие выставки его картин, прошедшие, как уже говорилось, в Москве, в Париже, оставляют следы в обзорах ТВ, в гламурных журналах, итоговых статьях газет. Расходясь по всему миру, рисунки попадают в руки коллекционеров и ценителей искусства. Мнение классиков кинематографа и крупных дизайнеров служит дополнительным пиаром для имиджа Хамдамова. Так, итальянский кинорежиссер Лукино Висконти, однажды увидев акварели российского мастера, декорирует ими стены своего дома. Впоследствии Тонино Гуэрра вспомнит: «В далекие времена моих первых приездов в Россию у меня с собой всегда были драгоценные рисунки Рустама Хамдамова. Я вез их и Висконти, и Феллини, и Антониони, и они восхищались вместе со мной этим электризующим умением, всегда укрощенным грацией и чувственной полнотой, которой умеет напоить все свои работы Рустам».
Одним из последних реализованных замыслов Хамдамова стал золотой приз «Слава-Глория», изображающий девушку со свирелью – воплощение высокой музыки. Он был присужден Мстиславу Ростроповичу в США (1997) как лучшему музыканту года.
Хамдамов работает много: эскизы костюмов, оформление ресторанов, заказы от модных фирм одежды, обуви, шляп. Это разнообразие увлечений сродни природной щедрости Р. Х. Не понимая тех, кто трясется над каждой картиной, он раздает созданное, одаривая почти каждого гостя, попавшего к нему в дом. Часто, войдя в незнакомое помещение, будь то офис, ресторан или частная квартира, видишь портреты, натюрморты, букеты, зарисовки Хамдамова. Его ангельские красотки, виноградная лоза, его букеты солнечно преображают помещение. В комнате молодежной секции СТД стены опоясаны гирляндой рисунков Рустама. И у нас в Переделкине висят работы художника: коричнево-белый кувшин на блюде и мои портреты в графике и акварели. Два портретных рисунка открывают двухтомник «Зазеркалье» (1997), где собраны мои проза, драматургия, эссе за разные годы. Думая о Хамдамове и его наследии, разбросанном в разных частях света, задаешься вопросом: «Где же тот коллекционер, который проявит дальновидность и соберет все созданное Р. Х. воедино? Кто представит публике эти фильмы, ни один из которых не был в российском прокате, картины, рисунки, чертежи, ставшие достоянием всего нескольких выставок и собраний любителей?»
Хамдамов много говорит о природе искусства, о понимании его законов, от которых зависит развитие новых его форм. Художник исповедует принцип метафизического воспроизведения иной реальности, сознательно противостоящей бытовому миру, достоверному изображению жизни. Александр Сокуров, предваряя свою выставку в Испании, заявил, что представители авангарда пытаются создать новую реальность, исходя из своих субъективных ощущений. «Цель искусства, – подчеркнул он, – повторение основных человеческих истин год за годом, десятилетие за десятилетием, век за веком. Люди страдают забывчивостью». Хамдамов же видит основы постмодерна в отходе от реальности.
– Мир выдуман предельно, – утверждает он, говоря со мной, – мир даже не стилизован под эпоху реалистических режиссеров типа Висконти, где столь подробно описание фактуры, сродни деталям в прозе. Висконти – бытописатель. Феллини отказывается от этого, он делает просто поразительно новый виток своего «я» от привычного, представая нам в абсолютно новом качестве. Вот он-то и изобретает новую ноту звучания в кино.
– В «Репетиции оркестра»? – спрашиваю.
– Ну да. Здесь, пожалуй, больше всего. Допустим, эти ноты звучат особенно явственно в фильме «И корабль плывет» (где тонут все в бумажном, целлофановом море) и в «Казанове», где еще и бумажный театр, то есть откровенный отход от бытового кинематографа.
– Вряд ли новизна только в этом. Еще и в сознательном искажении, преображении увиденного, в гротеске, невнятности или размытости.
– В последних фильмах Феллини опять самоцитаты: эти толстые женщины, это сборище сумасшедших, людей, откровенно неспособных реалистически жить, но они так чудесно сочетаются. Это уже не «Амаркорд» – завершающий конкретный виток неореализма, это фильм о бедных людях в определенном бедном городке. В последних лентах уже возникают несуществующие птицы, выдуманные женщины. Все выдумано: мужчины, корабли, Казановы.
– И невыдуманные красавицы. По-вашему, это сознательный уход?
– Более того, ведь «Казанова» – это уход от стилизации под восемнадцатый век. Ни грамма стилизации нет! Феллини относится к восемнадцатому веку как к материалу, который он изобрел бы в театре абсурда. Кинематограф – абсолютно реалистичный с точки зрения материала, Феллини преподносит как новую материальную веху в кино.
– Кто относится к постмодерну, а кто – нет? Сейчас модно считать, что все новое, созданное после войны, так или иначе соотносится с постмодерном.
– Ахматовская формула «все – цитата» имеет смысл только в приложении к подлинной культуре, так что к постмодерну имеют отношение не очень многие. Масскультный «постмодернизм», с его издевательством над формами и стилями, взятыми у разных народов и культур, не есть культура. Но как доказывать, что есть что? Недаром Зинаида Гиппиус говорила: «Если нужно объяснять – не нужно объяснять!»
В связи с вашим вопросом мне вспомнился Бродский. Его стих достаточно внутренне изобразителен, он симпатичен, и густое, сильное литературное мышление не отпугивает. Сгусток образов и мыслей поначалу непонятен, но шарады угадываемы, потому что через тебя прошли те же книги и образы. Мы брали их с одной полки времени. И ты переводишь себя с Цельсия на Фаренгейта и думаешь: да, да, вот они, те самые координаты, то самое полушарие, эти самые холодные широты Петербурга-Москвы, эти самые пятидесятые-шестидесятые-семидесятые годы присутствуют, ты все угадываешь, ты все понимаешь.
– А дальше что? Не можем же мы предполагать, что поле искусства будет сужаться, блекнуть.
– Ведь тот же Набоков сказал про рецепт спасения: «Когда тебе за сорок, и ты устал, и ничего не можешь читать… Но у тебя есть удобная комната, хороший свет, ты выпростал ногу из-под одеяла, чтоб чуть-чуть холодило, и ты точно знаешь, что опять спрячешь ее в тепло, – ты берешь роман «Война и мир» и открываешь его. Его невозможно понять ни в детстве, ни в молодости. А именно в этом среднем, уставшем возрасте ты думаешь: «А вот это – оно». Ну, конечно, можно пойти и дальше, сказать, что на свете существует одна книга – Библия. К искусству мы относимся избирательно: в этом десятилетии воспринимаешь одно, потом – другое. Предположим, двадцать лет назад нравились Моранди и Бэкон, а теперь может нравиться Шишкин. И читаю я сейчас «Былое и думы» Герцена. Все связано и зависит от твоего времени и взгляда.
– И все же, в чем именно для вас новый закон сочетаний, сближающий столь разных Петрова-Водкина, Кандинского, Серебрякову?
– Я убежден, – отвечает, – что постмодерн присутствует в большей или меньшей доле во всем искусстве двадцатого века – с того момента, когда художник отошел от чистого жанра, чистого реализма. К примеру, от Писемского в литературе, в живописи – Шишкина или Саврасова. Про того же Петрова-Водкина, которого вы упомянули, читаю у Бродского (ему были небезразличны эти вещи), что в основе его творений – византийское искусство, которое пошло на север и превратилось в русскую икону, пошло на восток – в персидскую миниатюру. Петров-Водкин и то и другое объединил. Те же самые глаза-пуговицы, те же копченые лица, как бы полусвятые, пустой, спокойный взор, наклон головы – те же самые движения, которые ты знаешь, но говорит об этом поэт. Приятно, что не художник, а человек из отдаленной сферы искусства называет тебе вещи, которые просто лежат на поверхности.
Мне кажутся сомнительными подобные аналогии и сближения. Не соглашаясь, я не могу не поддаться обаянию художника, выстраивающего собственную систему взглядов, вписывающего творчество в продолженность времени.
– Рушился мир, – продолжает Хамдамов. – Катастрофы, равных которым не знала Земля, имели своих героев. Это были авангардисты. Они переосмыслили звучание традиционных нот, смели призрачный стиль «Мира искусства». Авангардисты упразднили положительный персонаж. Идеологом стала идея, она же форма. Если вы будете искать этот положительный персонаж, то не найдете. Он персонифицирован в идеальный стиль. Он воплотился в авторе. В творчестве Маяковского, Довженко, Эйзенштейна образ положительного героя воплощен в метафизическом облаке, конях, лестнице, ста двадцати миллионах. Малевич пошел дальше. «Суприм» – это значит беспредметность, это значит «ничто» в мире видимом. Видимое невозможно представить в его картинах. Он разрушал традицию. Древняя философия натолкнула его, Малевича, на четыре ипостаси невидимого, то есть «суприма». Он обозначил эти понятия неосязаемого четырьмя точками. Это были Север, Юг, Запад, Восток. Или еще четыре понятия, как то: весна, осень, зима, лето. Художник соединил однажды эти четыре точки крестом, в другой раз – квадратом. Получился знаменитый квадрат. Малевич заявил, что это последняя точка в искусстве. И что это самая лучшая и самая умная картина. Он повесил ее в Третьяковской галерее. После этого вроде бы всему другому в искусстве – конец.
Но даже гении в науке или искусстве не приходят на пустое место, а стоят на плечах людей предыдущих поколений, отталкиваются от того, что уже было. Маяковский, Эйзенштейн и другие не создали положительного, сострадательного героя, но они сами заявили: положительный герой – это автор и его новаторский стиль. Квадрат Малевича не стал концом искусства. Победили последователи. Тысячи людей на Земле размножили квадраты, треугольники, цилиндры, круги. Они понеслись по диагонали всего мира. Авангард перевоплощался в традицию. Архитектура, мебель, крепдешин переваривали эту «небыль», и сейчас она уже – традиция и доля в постмодерне. Она стала цитатой, как знак внутренней ориентации человека в культуре. Проиллюстрирую идею репликой для литературы и для кино. В книге итальянца Томази ди Лампедуза «Леопард», написанной в тридцатые годы, а опубликованной в шестидесятые, есть прекрасная цитата к моей мысли о цитате. Итак, действие: Италия, Сицилия, времена Гарибальди. На бал в Палермо, где самые знатные аристократы собрались у князя ди Салина, приходит буржуазка Анжелика (в одноименном фильме Висконти ее играет Клаудиа Кардинале). Все взоры устремлены на ослепительную красавицу – «парвеню». Но центр фокуса – ее брошь. «Гигантский солитер ошеломил толпу, – пишет автор. – Его нельзя ни с чем сравнить. Это был шедевр – солитер». Далее ди Лампедуза продолжает: «Этот шедевр равен, может быть, коляске Эйзенштейна на одесской лестнице в фильме «Броненосец «Потемкин». И это чистый постмодерн.
– Не кажется ли вам, – говорю, – что все новое, рожденное двадцатым веком, содержащее элементы постмодерна, скорее дань моде? Некий снобизм «так носят», чем осознанный художественный стиль, как в двадцатые годы? Бог мой, как же я не перевариваю эти попытки постмодернистов заслонить собой все, весь многомерный, многокрасочный мир, сведя его к уже сыгранным мелодиям! А не лучше бы, чтоб внутри аквариума плавали рыбки золотые, хвостатые, с головами на спине, на животе, но разноцветные, меняющие при свете свои очертания?
– Я уже говорил: в постмодерне граница обусловлена определенным временем, думаю, семнадцатилетием. В разные времена в постмодерне может превалировать литература или театр, как сейчас в искусстве кино доминирует и то и другое – более, нежели кино в чистом виде. Но элементы общего стиля, присущие сегодняшнему дню, все были заложены в том самом семнадцатилетии. Допустим, та же Кира Муратова: она, несомненно, создает не операторские фильмы. У нее литературные фильмы. Это бесконечное синкопирование… «Вот плохая собака», «вот плохая собака», «вот кормить детей нечем – собак выгуливают», «вот кормить детей нечем – собак выгуливают», – раз сто повторяет она эту фразу, и думаешь: что-то среднее между джазом и литературными поисками двадцатых годов, какими-нибудь обэриутами. Думаешь: как беспредельно все это движется в какую-то чудесную пропасть! Надеюсь, не упадет.
– Думаю, что Бакст, Попова, Серебрякова при общности живописного мышления скорее пытались отталкиваться, чем объединяться.
– Нет, несомненно, было единство. Очень сильное единство было в двадцатые и шестидесятые годы. Больше, мне думается, такое не повторится, потому что те годы были, по-видимому, исходными точками для нового витка в авангарде. В двадцатые годы стиль был отчетливо провозглашен, и это объединило всех – и талантливых, и неталантливых. Эпигоны вполне благополучно участвовали в общем движении. Например, какой-нибудь Родченко… или Лисицкий – их тоже можно включить в первую десятку, как Малевича, потому что и они, безусловно, супрематисты, но рисовал-то один Малевич, и путь на голгофу честно прошел он один. В шестидесятые Пикассо, скажем, дошел до африканского искусства, до полного разложения рисунка. А какое количество у него эпигонов! Вот именно те два исторических момента, двадцатые и шестидесятые, определили постмодерн, сделали это направление чистым и продуктивным. Мне кажется, в новом веке это уже не повторится.
– Вы так уверены? А вдруг на обломках новоренессансного стиля родятся великие имена? – возражаю я.
…На этот раз в Нью-Йорке, прилетев на юбилей галереи «Русский мир», живем с Р. Х. в одной гостинице, в «Мариотт-Маркиз», что на Таймс-сквер. Огромная тридцатидвухэтажная башня, стиснутая строительными кранами и незавершенными зданиями, круглосуточно сияет рекламными щитами спектаклей и мюзиклов, которые не выходят из моды много лет: «Кошки», «Чикаго», «Отверженные», «Виктор и Виктория»… За окном моего номера на тридцатом этаже – город чудовищной пестроты и эклектики, сплошной поток людей, машин. Ни деревца, ни газона. Урбанизация. Хотите обрести природу – пробегите сотню метров и наткнетесь на роскошный Центральный парк. А в промежутке – на множество мини-парков.
Мы ежедневно вместе завтракаем, он терпеть не может есть один. В первые дни торжеств Р. Х. еще соблюдает ритуал. На шумном открытии галереи он стоит с бокалом красного вина в окружении почитателей, вблизи своих картин, немного поодаль в большом хрустальном «манжете» – его ювелирные броши. Их рассматривают, к ним прицениваются. У микрофона с приветствиями поочередно возникают Эрнст Неизвестный, Олег Целков, Борис Заборов, потом и Михаил Шемякин, чьими работами началась коллекция Феликса Комарова. Включая Хамдамова, эти пятеро – главное «блюдо» галереи, все они в мире искусств – мастера с солидными репутациями. Их картины, графика, ювелирные изделия сегодня недешевы на мировом рынке.
(Скоро все это кончится, русское искусство на многие годы выйдет из моды на Западе. Как, впрочем, и все русское. Кажется, только сегодня ситуация начинает несколько меняться. Однако такого времени, когда совпали успехи русского искусства и раннего предпринимательства, уже не будет. Все проходит. Но, как известно, мы проходим тоже.)
В последующие дни вижу Хамдамова только в гостинице. Он прячется от телекамер и фотовспышек, никому из корреспондентов не удается взять у него интервью. Он появится только на заключительном вечернем приеме в итальянском ресторане. Присядет у стола, беззвучно, безымянно, словно отбывая повинность, мы и не заметим, когда он исчезнет.
Но десять дней, проведенных в Нью-Йорке, оказались для Хамдамова редкостно плодотворными.
Как-то между завтраком и обедом Рустам звонит, приглашая заглянуть к нему в номер. В дверях застываю. Проем окна наполовину заслонен большим полотном, еще дышащим краской. Остальное пространство вместительного номера сплошь заполнено незаконченными или только начатыми картинами. Небывалое пиршество цветов. Хамдамов, небритый, перепачканный краской, с черными провалами глаз, по-детски разводит руками: «Не сплю, не ем. Не знаю: за окном день или ночь?..»
Думаю, в эти дни Р. Х. создал не менее дюжины полотен большого формата, Комаров хорошо изучил характер художника, избрав тактику вынужденного затворничества Хамдамова в номере гостиницы. Он фактически «запер» его в номере, заказав ему серию картин с оплатой по окончании работы. В те дни никакие развлечения Рустама не соблазняли. Кроме единственного – оперы. Сумасшедший меломан, он не пропускает оперных премьер, знает некоторые партитуры до последней ноты. Помню, как-то в Москве пригласил меня: «Пойдемте на «Хованщину». Это была премьера в Большом – сенсация. Дирижирует Ростропович, постановка Б. Покровского. В антракте Рустам жмется к стенке, спектакль его разочаровал.
В другой раз Тонино Гуэрра и Лора «организовали» по его просьбе билеты на премьеру «Евгения Онегина». Мы, прогуливаясь вдоль колонн Большого театра, вспоминая прошедшие дни, наши встречи в России и в Европе, спохватились после третьего звонка. Кошмар! В зал Большого не пускают после открытия занавеса. «Он не может не появиться, – волновалась Лора, – ведь он сам напоминал днем». «Он звонил и мне», – улыбаюсь я. На другой день Рустам виновато мямлил что-то о неспособности следить за временем, сказал, что зашел не туда и заблудился…
Помнится, была еще «Манон Леско» в Париже. Кажется, тогда ничто не помешало.
Шли годы, и верность «женщинам, спрятанным под влажными пятнами света», мотивам, которые кочуют из одного фильма в другой (так черно-белая лента «Нечаянная радость» была целиком смонтирована с новыми кадрами «Анны Карамазофф», что и стало одной из причин для претензий Зильбермана во время съемок), все чаще навлекала на Р. Х. обвинения критиков. В разговорах возникали намеки, что репутация Хамдамова дутая, что он – просто хорошо раскрученный бренд. «Хамдамов – чистый гений», – настаивали другие, уверенно отводя ему место классика в постмодерне.
Как-то осенью мы встретились. Рустам вернулся из Греции, с острова Парос. Загорелый, светящийся, его красила чуть отросшая бородка, порой выглядевшая стойкой небритостью. Он был полон надежд и планов.
– Какое для меня было блаженство остаться в полном одиночестве! Никто не тревожил, не погонял. На острове Парос у одного ирландца расписывал интерьер, рисовал картины для его дома. Простая еда, молчаливый хозяин по имени Шон.
– Остались бы подольше, поработали, расслабились.
– Да вы что? – машет он руками, решительно опровергая только что сказанное. – С ума сойдешь! Садитесь вот сюда.
Он помещает меня поближе к лампе и пристально рассматривает. Под взглядом Хамдамова начинаешь мысленно просчитывать, как ты выглядишь, что на тебе надето. Рустам замечает все. С редкой наблюдательностью комментирует, отнюдь не всегда комплиментарно.
– Щеки надо красить свеклой. Очень естественный цвет. Старая русская аристократка в Париже рассказывала секреты красоты. Женщинам надо носить всегда стилизованную английскую обувь. Лучше мужскую… Как Грета Гарбо. Или как у Армани. Водку всегда наливайте в большой стакан, а не в маленький… Быстро выпьешь из маленького – опять подливаешь, подумают: алкоголик. Еще лучше из серебряного, замороженного. Не видно, сколько налил… и вкусно прилипает к губе. Значит, хорошо пошла…
Сразу чувствуешь знатока. Надо же, английская обувь и свекла. А по части выпитого, полагаю, и собственный опыт у него не маленький.
– Как хорошо вы краситесь, – вдруг заявляет он. – Сейчас такие тона в моде, а вот брови надо рисовать пошире… Вы не пробовали красить губы с обводкой? Теперь носят с обводкой, жакеты с удлиненной талией. Этот покрой вам пойдет, почему не носите короткие юбки? Как-то видел вас в синем костюмчике с короткой юбкой – было элегантно.
Зная это, всегда ловлю себя на том, что, собираясь к Хамдамову, непривычно долго болтаюсь у зеркала. Приходится еще учитывать, что когда он не в духе, раздражен, то новости непременно будут сдобрены злыми репликами, к примеру: «Вот такая-то критикесса, она же не умеет писать. Говорит хорошо, но литературно выразить свою мысль не умеет». Или, в другой раз, об одной известной художнице: «Она же не видит, что на ней надето, может прийти в разных чулках». И в том же роде. Когда в хорошем настроении, будет щедр, гостеприимен, а то и комплимент перепадет. Выставит на стол все, что есть в доме, не отпустит без подарков. У него какая-то необыкновенная легкость в одаривании. Ты и не заметишь, как уйдешь с рисунком, многоцветным шарфом, даже с коробкой экзотического кофе, быть может кем-то привезенной. Отказаться невозможно, обидится и все равно настоит на своем. Это – расслабляет бдительность. Я знаю художников, у которых патологическая боязнь расстаться даже с маленьким пейзажем или натюрмортом. Пообещают, уже прикажут запаковать, потом будет обильный стол, фантастическое гостеприимство, но в последний момент «забудут» отдать картинку. Если невзначай кто-то напомнит, скажут: «Ну сейчас вы спешите – в другой раз». Другого раза не будет.
Хамдамов раздает нарисованное без оглядки. Иной раз поинтересуется: «Где повесили, а в окантовку отдали той женщине, которую я порекомендовал? Правда повесили?» И никогда не угадаешь, хочет ли он, чтоб повесили у всех на виду или спрятали в тайный уголок квартиры, действительно хочет, чтобы была красивая окантовка, или спросил, чтобы помочь той женщине, которая на этом зарабатывает.
Сегодня мне повезло. Народу нет. Хамдамов весел, собран, греческий воздух явно пошел впрок. Возвращаю его к любимой теме:
– Назовите кого-нибудь, кто, по-вашему, продвинул находки прошлого в нынешние работы? Кто нашел этот «плюс новых сочетаний», который, по вашим словам, делает эпоху в искусстве?
– Что перечислять? Это почти все значительные лица. Ну, предположим, тот же самый Феллини. Можно сказать, что человек заговорился, ему не о чем больше сообщить окружающим, закончился расцвет его кинематографа. А можно – что лучший Феллини – это Феллини, цитирующий самого себя. Вы же понимаете, что культура – вещь в себе, конец ее невозможен никогда. Допустим, в старости человек уединяется, он возвращается к истокам, становится религиозным. Даже если он всю жизнь был агностиком, он понимает, как важны простые истины: дерево, луна, солнце, вода, птицы…
– А как же «Иду – красивый, двадцатидвухлетний»?
– Молодость – ровно одна половина, средний возраст – это вторая половина нот. А все дегустирует следующее поколение, которое смотрит на уже созданное с усмешкой. Вот цитата из молодого Набокова: «Дуб – дерево, роза – цветок, соловей – птица, Россия – мое отечество, смерть неизбежна». Чувствуете библейские истоки? Очень точная есть формула у Эйзенштейна – «монтаж аттракционов». Возможно, ее неправильно понимают. Не в буквальном же смысле монтаж, кадр за кадром, а монтаж мыслей. И Эйзенштейн очень точно провел генеральную линию в кинематографе, поскольку в кинематографе было возможно почти все: это трехмерное пространство, зафиксированное на пленку. Он придумал такой очень формальный трюк, который есть, может быть, и в хорошей поэзии: в каждой строке – сцене – должен быть аттракцион, то есть должна быть выдумка.
– Выдумка и удивление.
– Да. В фильме должно быть три выдумки. И вот эта коляска Эйзенштейна, поразительная формула какого-то несчастья, гибели, какого-то движения вниз, вперед, но коляской же не просто выстрелили в глаз, она существует именно как факт искусства. Это и есть аттракцион. Не многие могли повторять эти подвиги. Например, у Тарковского на каждый фильм есть всегда два таких аттракциона. Эйзенштейновская коляска была ведь еще раньше, чем Набоков. Я по крайней мере и «Лолиту» Набокова, и лекции его прочел гораздо позже… Сейчас столько печатается, что не знаешь, что читать. А помните, раньше, когда ничего не было, мы все читали одно и то же, жили этим. Как мы были едины – все в одном строю!
– Ну уж не все! Зато человек мог стать знаменитым за одно утро. Или вечер. Представимо ли это сегодня? Все было сфокусировано на прочитанных «Прощай, оружие!», «Белой гвардии» или «Лолите», просмотренных «Заставе Ильича» или «Blow up» («Крупным планом»). Любовь Орлова стала звездой после «Веселых ребят», Никита Михалков проснулся знаменитым после «Я шагаю по Москве». Факт искусства мог жить в обществе годами. Литература, как классическая, так и современная, была нашим путеводителем в любви чувств, формировании личности, в том, как мы принимали решения и поступали. По ней мы выбирали напитки, перекраивали брюки и джемпера, объяснялись в любви текстами Аксенова, Хемингуэя, Ремарка, стихами Булата, Андрея, Беллы и Жени. Бродский пришел позже. Писатели были создателями моды, а моды в советское время не было. Слава Зайцев был первооткрывателем. А как вы думаете, после бума стилистов в двадцатом веке куда направится мода?
– Мир унифицируется, – заявляет Р. Х., – общество превращается в сплошной средний класс, поскольку высокие технологии позволяют людям не умирать с голоду – в тех странах, где живут полноценной технологической жизнью. Но стиль не может унифицироваться: человек рождается, ему нужны пеленки, одежда, человек женится, ему нужен свадебный наряд, он умирает, нужно заказать траурное одеяние. Сколько людей, столько будет самых разнообразных нужд и пожеланий по поводу одежды… Потребительская система массового общества, конечно, очень на многое влияет.
– А если страна технологически не развитая, то там как?
– Даже какая-нибудь полувосточная страна все равно ориентирует себя на Запад. Та же Япония островная сохранила все причуды восемнадцатого-девятнадцатого веков – вплоть до сложнейшей церемонии чаепития. Но наряду с мертвой традицией одежда пластмассовая будет все равно присутствовать. Как в моде, так и в искусстве. Думаю, что искусство, поскольку оно движется всегда, потоптавшись, как в синкопированном джазе, все-таки будет выходить на новую мелодию. Искусство всегда будет сочинять новую мелодию. Торжества уникальности, большого взлета, который был в двадцатые и шестидесятые, не предвидится, он невозможен.
– «Никогда не говори никогда».
– И все-таки такого взлета не стоит ожидать. По-видимому, это последние настолько яркие мелодии, которые были спеты человечеством. Будет бесконечный постмодерн. Но нового стиля – никогда не будет. К примеру, модельер Вивьен Вествуд… Полное отсутствие золотого сечения. Театр без логики. Литературная сатира без размера. Длина не существует. Присутствуют оборки, тесемки, кальсоны, блестки, дырки, кожа, замша, лен, шерсть, мочалки… Все возможно, а красоты нет. Люди на сквозняке. Хиппи – в отличие от нынешней моды – были стильные, класс тихих бунтарей, с вышитыми цветами и грустной философией.
– Но это не дизайн. Я имею в виду помешательство на Гуччи, Ферро, Иве Сен-Лоране, Версаче, Кристиане Диоре. Из них подлинным творцом была, наверное, только Коко Шанель?
– Это правда. Кроме нее, все поименованные – чистые стилисты. Каждый художник выбирает какие-то ориентиры в прошлом. И, сочиняя новое, глядит в это прошлое. Возможности перемен, принесенные эпохой спутников и космических полетов, уже обыграны двести раз в наших головах. Даже в «космических» фильмах вдруг видишь, что персонажи-то одеты каким-нибудь Луи Ферро – стилизация под Японию, театр кабуки и заодно Шекспировский театр, а при этом идет откровенно коммерческий фильм про завоевание звезд, замешенный на сексе.
– Значит, вы считаете, что перекличка двадцатые-шестидесятые – это неповторимый феномен? То есть война исторгла из истории культуры период с сороковых до шестидесятых, а семидесятые-восьмидесятые – это, в общем, реализация придуманного раньше? Сомнительно.
– Отчего же? Стиль хиппи – это формотворчество на темы модерна начала века. Розы, цветы, кудрявые волосы, батисты. Это ж было – помните народные мотивы у «Битлз»? В сущности, они ушли в ту самую стилизацию, которую проповедовал Римский-Корсаков: брали за основу слагаемого восточную мелодию, но звук был новый – порождение прогресса в технике. А я то же самое трансформировал в «Вокальных параллелях», да и в «Анне Карамазофф» та же система координат.
– «Анна Карамазофф» – тоже монтаж аттракционов?
– В какой-то степени.
– Когда я смотрю ваши фильмы, мне всегда хочется остановить кадр, рассматривать его как живопись, как картину, у которой можно постоять сколько нравится. Иногда мне жаль, что ваши крупные планы держатся секундами. Промелькнул – интрига ушла дальше. А мое воображение еще там, в той прежней сцене. Сильное чувство не насыщается, трудно переключиться, потому что не успеваешь прожить внутри себя предыдущее.
– Люди очень часто смотрят фильм как литературу и хотят скандала в тексте. А я этого избегал. «Анна Карамазофф» – сознательно занудная, длинная картина. Я ее и представляю себе как «Одиссею».
Когда зритель погружается в живопись Хамдамова, бывают резкие разночтения. Точно проник в его секреты один из крупнейших итальянских эссеистов, философ Ремо Гвидьери в очерке, предваряющем каталог художника. «Хамдамовское отношение ко времени поворачивается спиной ко всему в нашем столетии и в России и на Западе – все менее и менее (увы!) отличающихся друг от друга, кроме разве что соревнования в производстве стереотипов или клише и комментирующего их жаргона», – пишет он.
Гвидьери также отмечает, что ранние творения Хамдамова, эти уравновешенные фигуры молодых женщин, вышедших на мгновение из мифологической ниши, во второй половине девяностых годов словно бы утрачивают гармонию: «Грации или колдуньи, нарядные женщины Рустама Хамдамова продолжают в глазах тех, кто знает кинематографический мир, которому Рустам посвятил свою жизнь как режиссер, то навязчивое присутствие женских незабываемых образов из другого времени, где сливаются и виденья сюрреалистов начала XX века, и те женские фигуры, которым не положено перескочить границу Одера… На итальянский или французский взгляд, эти хамдамовские дамы ускользают от обычной моды: это не настоящие портреты, не настоящие сцены, даже не антропоморфизмы сезанновских натюрмортов, которые показывают женский бюст, как будто это притолока над дверью или шкаф… они напоминают те лоскутки, которые у венецианца Тьеполо держатся чудом невесомости наподобие кучевых облаков. А здесь они спускаются на землю и тревожно смешиваются с загадочными норами…» И завершает анализ: «Штрих у Рустама Хамдамова становится более прижимистым, он подчеркивает мрачными тонами ту неопределенность, которая их окружает… На повороте столетий нависают предзнаменования, которые складывают прошлое и настоящее, усиливают интенсивность силуэтов будущего – переливчатые, накрахмаленные, не человеческие, а только метаморфические, в них человеческое лишь иллюзия, взгляд или поза, подобно доолимпийским божествам, ведь они, тревожные и тем не менее милосердные, показывают и дарят людям только одно: сценические костюмы. Костюмы, которые прячут ужас или пустоту – неопределенность. Их узнаваемые черты расплывчаты, и в них мы можем обнаружить удаленность, безразличие…»
– Почему так неотчетливы лица двух ангелов? – спрашиваю. – Яркая расцвеченность, дымчато-розовый фон одежд приглушают лица принчипесс.
– На самом деле две ночные принчипессы, – хитро прищуривается Рустам, – это просто кадр из размытой пленки фильма. Вы не поверите, эта сцена шла под реплику: «Откуда вы?» – «Мы хлебные девушки». Здесь «хлебные» в смысле «доходные». Эти девушки хотели выткать ковер из лоскутов, продать его и купить хлеба. Мне захотелось восстановить этот кадр, и я перенес его… В том числе и на холст. Теперь размытость лиц на этом полотне – уже судьба. Сейчас картина существует сама по себе, отдельно от кинопленки и от меня самого. Она будет висеть в Эрмитаже.
На закрытии торжеств, посвященных 300-летию Петербурга, в 2003 году, Рустам Хамдамов был удостоен Гран-при и назван «культурным достоянием нации». «Господин Рустам Хамдамов, – записано в дипломе, – благодаря Вашей деятельности мировая культура сохраняет свои высокие позиции».
Он отказался публично и от этой торжественной церемонии, чтобы избежать вспышек фотокамер, крупного плана телевидения. Ему пошли навстречу – премию он получил в кабинете директора Эрмитажа Б. М. Пиотровского из его рук. А в «Зимней галерее» музея появилась одна из самых знаменитых картин художника – ангелы-царевны «Ночные принчипессы».
Словами о высоких позициях, которые сохраняет мировая культура благодаря деятельности Рустама Хамдамова, мне и хочется закончить мой беглый очерк его творчества.
Снайпер
Михаил Жванецкий
Это редкий дар попадать словами в цель, чтобы сказанное отпечаталось в нашем сознании слоганом, стало формулировкой. Исключительность Михаила Жванецкого – в этой способности импровизационно или продуманно отпечататься навсегда. В отечественном юморе он – снайпер.
Михаил Жванецкий много сказал о себе сам. Четырехтомное собрание, ТВ-цикл «Весь Жванецкий» (на еще не рухнувшем НТВ), юбилейное 60-летие. Конечно же бороться – с насыщенностью тобой информационного пространства, раскрытием твоих тайн жизни и творчества – трудновато. Но можно. А вот наступившее время? Предательская гласность, разрушающая твой стиль, когда каждый может… Каждый может сказать все обо всем. Когда ежечасно «фигляр презренный вам пачкает Мадонну Рафаэля» и самые лакомые куски абсурда растаскивают грубияны, пошляки и дилетанты. Как пережить, перебороть, победить этот поток зубоскальства, компромата, скандалов, притупляющих слух к «настоящему»? Но Жванецкий – смог. Продолжал свое и прорвался, как трава сквозь асфальт. Небольшая заминка, легкая ненавязчивая пауза годика в полтора – и все!
Попытки объяснить Жванецкого абсолютно безуспешны. К примеру:
«Одно неверное движение – и ты отец»;
«Не берем… Борщ со сметанкой, селедочки с лучком и сто грамм… не берем»;
«Раки по пять рублей, но сегодня, по три рубля, но вчера».
А облетевшее всю страну «Миш, а Миш? Это ты?» – вопрос сонной жены, реагирующей на разбудившего ее посреди ночи мужа.
Популярность Жванецкого приближается к 100 процентам. Он «свой» – куда бы ни приезжал. Залы набиты до отказа. Даже иностранцами. Непереводимость его текстов не препятствие. Они все равно ходят, до конца не вникая. Лично наблюдала, как отбивали ладони в Париже (в основном французы второго новорусского поколения), зал не вместил толпу, хлынувшую из фойе. А сомнения были. Были. Погорячившись, арендовали «Сен-Жермен» – 800 человек (фестиваль «Российские «Триумфы» в Париже», 1998 год). Что им Жванецкий? Вдруг не поймут, недооценят?
– Ну как? – окатил меня ледяным взглядом Михал Михалыч после конца выступления. Очередь за автографами не иссякала. – Потянули бы и на большее.
Слышу: «Когда еще приедете?»
– Как спасаетесь от всеобщего внимания? – спрашиваю.
– Не спасаюсь, а радуюсь. Всеобщего внимания нет. Та доза, что есть, меня радует. Наверное, мои поклонники интеллигентные люди: не докучают.
Заниженная самооценка – это типично для Михал Михалыча.
– Как я пишу? Если б я знал и мог объяснить, – как-то сказал, – я бы преподавал в техникуме. Сам не знаю. И не скромничаю, не дай бог… Я думаю, что перестань писать – много вопросов не возникнет. Но иногда кто-нибудь подвыпьет и вдруг спросит: и где это вы темы берете? Как будто он ходит в другую поликлинику.
Кстати, к вопросу об «интеллигентности». Авторский вечер в городе Тольятти (фестивале «Триумфа» «Рождественская карусель», 1995 год). Билеты раскуплены задолго до приезда, город вибрирует заряженными магнитофонами, реплики из его текстов звучат в очередях. Власти, естественно, напряглись, но препятствий нашим партнерам (АвтоВАЗу и Дворцу культуры) не чинят. На этом выступлении Жванецкий был особенно в ударе, зал сотрясал шквал оваций.
Утром, в кафе гостиницы, завтракаем. Вокруг с молниеносной быстротой поглощают пищу трудяги и деляги – спешат на рабочие объекты.
Жванецкий, молчаливый, притихший, не поднимая головы, ковыряет яичницу. «Успеет съесть?» – думаю, увидев мощную фигуру, вальяжно приближающуюся к нам. Мускулы натягивают свитер, помятую кожанку.
– Спасибо, Михал Михалыч, за вчерашнее, – лыбится молодой поклонник, – а я к вам с предложением.
Жванецкий поднимает голову, разглядывает подошедшего.
– Приезжайте выступать у нас, мы бы вас так встретили! – Парень называет город, широким жестом иллюстрирует, как именно встретят.
– Спасибо, – пытается выбраться из-за стола М. Ж. – Может, и выберусь.
– Вы уж меня не отфутболивайте, – смущается парень. Бросок руки во внутренний карман, и со щелчком припечатываемая к столу пачка зеленых. – Здесь двадцать пять кусков, приезжайте, не пожалеете. Это – аванс.
Сдерживая смех, наблюдаю за М. Ж.
– Нет-нет. Этого не надо, – отодвигает от себя купюры Жванецкий, почти равнодушно разглядывая «клиента». – Приеду, тогда и поговорим.
Поклонник юмора нехотя отходит, через минуту официант подкатывает к нам сервировочный столик. Он уставлен напитками наивысочайшего достоинства.
– Вам презент, – официант кивает на дальний стол, – от товарища бизнесмена. Он просил передать, ежели что не так – раздадите артистам.
Интеллигентно? А? Ничего не скажешь.
Полагаю, на Жванецкого бабки сыпались бы дождем, преступи он черту. Всего один ход навстречу («одно неосторожное движение»), и ты – в холуях.
– Больше всего ненавижу ложь, – говорит М. Ж., когда спрашиваю, чего не принимает в людях.
Я ему верю. Вранья у Жванецкого не найдешь. Он бесстрашно вторгается в шоковые зоны. Без всякой страховки.
А вот от ответа на вопрос «Легко ли быть мужем молодой красивой женщины, да еще актрисы?» уклоняется. Естественный иммунитет против иных СМИ, привыкших живописать художника через замочную скважину. Михал Михалыч не из той породы, что тиражирует романы, обстановку спальни, болезни, способы омоложения, скандалы, рукоприкладство.
Этот шумный, шокирующе откровенный в текстах писатель Жванецкий, похоже, застенчив. И не только это. Он панически боится сцены и суеверен до болезненности.
– Всегда в привычном пиджаке и свитере, – подтверждает он мое предположение. Зрители не видят его без потертого, засаленного портфеля, с тетрадками, разнимающимися на страницы, одноцветно-серого пиджака и свитера, «неотъемлем как отсутствие галстука, – комментирует М. Ж., – объясняемое отсутствием шеи. У Райкина подсмотрел вычищенные ботинки, глаженую сорочку».
– А если нужен смокинг? – спрашиваю. – К примеру, парадная церемония или в Кремль позвали?
– Есть смокинг. Есть. Но не люблю. Оно мне не идет. Все равно читаю как привык.
Объяснить природу обаяния невозможно. Оно как отпечатки пальцев или роговицы глаза. Не стремясь скрыть несовершенство фигуры, лысину, отсутствие интереса к моде (как говорилось, прикид самый мизерный) – на сцене он король («но когда он играет концерт Сарасате, он – божественный принц, он – влюбленный Пьеро»). В Жванецком нет ничего отвлекающего от таланта. Никаких украшений, манков, вокруг не суетятся стилисты и визажисты. Похоже – это принцип. Чистый талант, голая правда, истинная порода. Имеющие власть над толпой, всегда одиноки. В том или ином смысле. У Жванецкого нет свиты, ждущих у подъезда фанов, думаю, нет набора персонажей, которые по первому его звонку дадут ему дачу или джип. Хотя желающих «примкнуть» много.
– Существуют ли законы смешного? Универсальные, групповые, – стучусь я в заведомо не отворяемую дверь. – Одинаковы ли для говорящего творца? Для читателя?
– Если законы смешного существуют, то я их не знаю, – признается Жванецкий. – Я пишу все подряд – остается смешное. Его отбирает публика. Какие-то примитивные правила, наверное, есть. Можно повторить уже найденный свой прием. Можно повторить чужой прием. Можно в очередной раз рассказать о стариковских болезнях. Вы все это слышите в передаче «Аншлаг». При тоталитарном режиме смех вызывает все, а достижения-то были только спортивные, ничего другого. – И добавляет: – Я до сих пор не уверен, но, кажется, если написано смешно, то читаешь либо вслух, либо про себя – смеяться будешь.
– Алла Демидова вспоминает, что Эренбург никогда не умел смеяться по-настоящему и как-то сказал ей совершенно искренне (после очень смешного эпизода, который он просидел не разжимая губ): «Вы видели, как я смеялся?» Надо, чтоб люди громко и заразительно смеялись? – спрашиваю.
– Да. Я полагаю это критерием. Тогда очевидно, что люди получают удовольствие. Могут слушать с уважением, с замиранием, с восторгом. Но покупают билеты, если слышат хохот. Они стремятся туда. Вот этот шепот в зале «Что он сказал?» – главный. В тяжелые времена смех вызвать проще, чем в легкие. Ну а легких не бывает. Все-таки смех – это смех, когда он звучит. Тихо хохотал один Эренбург, и его не стало.
В книге Жванецкий напишет: «Работаю в мелком жанре, рассчитанном на хохот в конце. Если слушатели не смеются, расстраиваюсь, ухожу в себя и сижу там. Чужой юмор не понимаю: в компании лучше не приглашать».
От тома к тому, увы, Михал Михалыч грустнеет. «В молодости была какая-то веселость, – сегодня констатирует он. – Привычка к смеху вокруг себя. Мы смеемся вместе. Вы смешите меня, потом этим же я смешу вас».
Он прошел через многие времена – непризнания, сверхбдительности цензуры, анонимности, когда порой читал одному слушателю, безденежья первых лет в Театре миниатюр… Но нынче, когда он живет «вопреки времени» и полагает, что оно счастливое (не трогают, не рубят текст, пускают на сцену, в эфир), он делает неожиданное признание: «Мне помог комсомол, космонавты, все, кому я читал, кого веселил, кто открыто меня не поддерживал, но в душе присоединялся…»
Михал Михалыч любит снегопад, метель, к морю шел всю жизнь – «дошел наконец». Любит смотреть футбол, хоккей. Поясняет: «Только когда уже чемпионат, то есть когда не спорт, а уже трагедия. А от чемпионата мира балдею». Его предпочтения в классике: «Гоголь, О. Генри, Зощенко, Ильф и Петров, Булгаков. А Чехов? Господи! А Достоевский?» В сегодняшнем пространстве – Ф. Искандер, Т. Толстая, Е. Шестаков, А. Трушкин.
Совмещение, казалось, несоединимых дарований всегда останавливает. Булат Окуджава: больше всего – поэт (прозаик?), в меньшей степени композитор, и уж точно не бельканто. Просто – Окуджава. Сегодня Гришковец – не до конца писатель, не совсем актер, больше всего – исполнитель сочиненных историй. Так и Жванецкий.
Спрашиваю:
– От чего отлавливаете наибольший кайф? Когда нашелся сюжет? Или уже на публике звучащий текст? Или похвалы критиков на другой день после выступления? Либо просто – аплодисменты… аплодисменты?
– В разное время по-разному. На концерте – длительные аплодисменты. Утром – высокая оценка критики. Они редко совпадают. Сейчас критики, кажется, нет. Есть журналисты, пересказывающие текст твоего концерта. Значит, остались длительные аплодисменты. Бывает, когда зал встает. Это счастье.
– Легко ли обижаетесь? – интересуюсь. – Что задевает больше всего?
– К сожалению, легко. На обидах написано почти все. Больше всего травмирует ложь: во времена советской власти – от государства, в наши времена – бизнесовой моралью.
– Деньги приходилось занимать?
– Ни у кого не одалживал уже лет примерно тридцать. Сам ссужал. Иногда не отдавали. Честно говоря, даже не напоминал. Просто стыдно было ему смотреть в глаза. Переставал общаться.
– Будут ли изучать нравы современного общества «по Жванецкому»?
– Вы знаете, я бы обратил внимание на построение фразы.
– А довелось бы побывать неделю президентом или Богом – какое желание первое?
– Отмечать и выделять порядочность, то есть честность, сдержанность, вежливость и тишину. Люди уезжают из России от хамства. Запретить и наказывать! И это было бы моим желанием – не слышать мат, ругань, беспричинную повседневную ненависть.
– И все же – о женщинах. У вас о них столько ласкательного. Что они в вашей жизни?
– Без их голосов, аромата, слов, мыслей и подтекстовок не представляю. Волнует обтянутость даже в больнице. А что они значат? А что значит воздух? Еда? Весна? Всё! Очевидно!
Классик и плейбой
Василий Аксенов
Василий Аксенов, как принято нынче говорить, – фигура культовая. Мало кто из здравствующих сочинителей столь рано овладел сознанием поколения. Его стиль общения, сленг, пришедший из «Звездного билета», «Апельсинов из Марокко», «Затоваренной бочкотары» и другого, стал повседневностью в молодежных компаниях и любовной переписке шестидесятых-семидесятых, приклеился к целому журавлиному клину устремившихся за ним молодых писателей.
Аксенов – художник. Он занимается именно художественным творчеством. В повествовании доминируют образность, изобразительность, парадоксально влекущие за собой интригу и поступки персонажей.
Несмотря на опыт репрессированных родителей, он не стал диссидентом, его сопротивление больше всего обозначалось на уровне стилистики и свободы поведения. Много позже, вызвав на себя огонь хрущевского гнева на встречах с интеллигенцией в 1963 году, он становится фигурой и политической. Под голубым куполом Свердловского зала произойдет новый слом в его судьбе. Находясь в зале, он рискнет возражать разъяренному Хрущеву, когда тот обрушится на него с Вознесенским за их интервью, данное в Польше: «Вы мстите нам за смерть отца!» – орал генсек. И далее в том же духе. «Мой отец жив», – поправил его Аксенов и поблагодарил за разоблачение культа личности и возвращение из тюрем и лагерей. После исторических встреч главы страны с интеллигенцией, разноса творений художников, писателей в биографию Аксенова отчетливо вплетаются его гражданские выступления: он протестует против ввода войск в Чехословакию, высылки Солженицына, его многолетнее противостояние цензуре увенчается созданием альманаха «Метрополь», позднее названного «бастионом гражданско-этического неповиновения». Комментарием к сегодняшнему политическому курсу станет серия его острых выступлений в ведущих СМИ.
Как личность Василий Павлович Аксенов был сконструирован из первых впечатлений костромского приюта для детей «врагов народа», затем – Магадана, где поселился в двенадцать лет с высланной матерью, Евгенией Семеновной Гинзбург. По словам Василия Павловича, круг реальных персонажей «Крутого маршрута» (принадлежащего перу его матери) состоял из выдающихся людей того времени: репрессированных ученых, политиков, художников, образовавших своеобразный «салон», содержанием которого были рассуждения на самые высокие темы. Влияние этих рассуждений на детское сознание трудно измерить. Мне хочется расспросить его об этом подробнее. Выбрав момент, говорю:
– Можешь ли выделить какие-то особые черты этого сообщества? Уникальное явление – общение естественных людей в неестественных обстоятельствах?
Аксенов полагает, что такое сообщество существовало в их доме и раньше, но в лагере духовная жизнь стала для интеллигенции единственным способом выживания. А я сегодня уже знаю последнюю статистику, сделанную учеными, которая доказывает, что в годы сталинских репрессий в лагерях и тюрьмах выживали вовсе не самые сильные, спортивные, физически тренированные, а люди умственного труда, интенсивной духовной жизни, сознательно боровшиеся против насилия. Закаляя характер, дисциплинируя тело, они заставляли себя планомерно идти порой к нереально осуществимой цели. Известная работа Натальи Бехтеревой называется «Умные живут дольше». В окружении матери Аксенова создался круг людей, у которых это внутреннее сопротивление было развито очень сильно.
– Еще в молодости, – продолжает свой рассказ Василий Павлович, – у мамы появилась склонность создавать вокруг себя своего рода «салон» мыслящих людей. Первый такой салон, в который входил высланный в Казань троцкист профессор Эльвов, обернулся для мамы трагедией, стоил ей свободы. Читатель «Крутого маршрута» найдет такой гинзбурговский салон в лагерном бараке. В послелагерной ссылке, в Магадане, возник еще один салон, уже международного класса… Советский юнец Вася Аксенов просто обалдел в таком обществе: он никогда не предполагал, что такие люди существуют в реальной советской жизни. Мамин муж, доктор Вальтер Антон Яковлевич, был русским немцем, гомеопатом и ревностным католиком. Для меня он стал первым источником христианской веры. Доктор Уманский был сионистом и ни от кого не скрывал, что мечтает умереть в Израиле (эта мечта не сбылась). С порога он начинал читать какую-нибудь новую поэму: «Достоин похвалы Лукреций Кар, он первым тайну отгадал природы». Мама смеялась. На дворе стоял 1949 год, ГБ готовила вторую волну арестов.
– Был ли у членов салона доступ к газетам, книжкам, вообще к какой-либо информации?
– В какой-то мере был. Мама открыла мне, школьнику, один из главных советских секретов – существование Серебряного века, – поясняет он. – Кроме того, она познакомила меня с кумиром своей молодости Борисом Пастернаком. К окончанию школы я знал наизусть множество его стихов, которых нигде тогда нельзя было достать в печатном виде.
Какая-то дикая, пронзительная жалость к невостребованным богатствам личности собственной матери, к погубленной в лагерях ее молодости зазвучала в его прозе с особой остротой («Негатив положительного героя») после момента «ознакомления с делом арестованной в 1937 году матери», которое ему дали после разоблачения культа. На ее тогдашнем фото: «анфас и профиль, взгляд затравленного подростка, бабушкина «кофтюля» на исхудавших плечах».
Безусловно, этим чувством была выношена мечта сына показать матери Европу, дать ей возможность говорить на немецком и французском, видеть людей, чьи книги она читала в подлинниках, постоять у шедевров мирового искусства, которыми она восхищалась по репродукциям. Аксенова поразило, что его мать после возвращения из ссылки сохранила черты терпимости к человеческим слабостям, любовь и интерес к жизни, очарованность природой. У нее была редкая тяга к новым впечатлениям, открытию новых стран и способов существования.
Мы жили в Париже в соседних номерах гостиницы L’Eglon, что по-французски «Орленок», встречаясь ежедневно. В те дни мне довелось наблюдать детский восторг Евгении Семеновны, смертельно больной женщины, которая в последние месяцы жизни попала в мир высокого искусства, живший до этого только в ее воображении. Василий осуществил все задуманное: он с матерью проехал через всю Европу и был поражен, откуда брались силы, выносливость, а главное – неиссякаемая доброжелательность матери, которую ни капли не ожесточили все издевательства, через которые она прошла. Окна нашей гостиницы выходили на кладбище Монпарнас, где похоронены Бодлер и Сартр.
Евгения Семеновна Гинзбург вернулась умирать в Россию. Ее хоронили в дождливый день, мало кто был оповещен о траурном событии. Однако близкий круг людей сомкнулся у ее могилы, капли дождя сползали с мокрых деревьев на лица людей, которые не плакали. Каждый думал о судьбе этого редкого таланта, о ее книге, ставшей настольной у десятков тысяч современников, переведенной во всех цивилизованных странах, оставшейся одним из самых человечных памятников жесточайшего времени. А у меня в памяти всплывала картина, как мы с Евгенией Семеновной сидим на крыльце переделкинской дачи драматурга И. Ольшанского (где ей снимали комнату), она читает мне завершающую главу рукописи «Крутого маршрута».
Салон Евгении Гинзбург аукнется и после ее смерти. Ее сын вместе со своими единомышленниками в квартире своей матери начал придумывать неподцензурный альманах «Метрополь».
Спрашиваю:
– Как возникла мысль о квартире мамы?
– После ее смерти однокомнатная квартира в кооперативе у метро «Аэропорт» некоторое время пустовала. Моему сподвижнику по «Метрополю» Жене Попову тогда негде было жить, и я ему дал ключи. Таким образом мамин последний «салон» превратился в штаб-квартиру альманаха, вызвавшего такой шум и преследования.
Мы видимся с Василием регулярно в течение многих десятилетий. Теперь каждый раз, когда он наведывается в Москву. Застать его на Котельнической набережной, где у них с Майей квартира, сложно. Он расписан по телевизорам, издательствам, интервью. Интерес к Аксенову с годами не ослабевает, его «рвут на части». При этом он никогда не похвастается. Не скажет: «Посмотрите «Итоги», «Герой дня». Или: «Сегодня полоса обо мне…» Или: «В Штатах только что вышла моя новая книга…» Спрос на Аксенова сегодня больше, чем на экземпляры его произведений. Личность порой перерастает творческий имидж. Былым компаниям, верному кругу друзей (Евг. Попов, А. Козлов, А. Арканов, Ю. Эдлис, Г. Садовников, А. Кабаков и, конечно, Белла Ахмадулина и Борис Мессерер) Аксенов нынче частенько предпочитает одиночество.
– Почему тебе пишется лучше, по твоим словам, в Вашингтоне и Европе, чем здесь?
– В Вашингтоне за письменным столом у меня остается только один собеседник – В. П. Аксенов. В России слишком много собеседников, и я, так или иначе стараясь им соответствовать, забалтываюсь. Сочинительство и эмиграция – довольно близкие понятия.
«Забалтываюсь» – очень емкое словцо.
Он отдал дань разным жанрам: прозе, поэзии, драматургии, публицистике. Впоследствии выйдет и первая книга его стихов. Спрашиваю:
– Кем себя считаешь по преимуществу?
– Последним представителем умирающего жанра романа. Умирающего в молодом возрасте, так как его можно считать «подростком» рядом с другими, – говорит Аксенов. – Я не поэт, а романист. И может быть, поэтому острее других, то есть не-романистов, чувствую кризис романа. Уже сейчас испытываю какую-то ностальгию по любимому жанру. В процессе «романостроительства» у меня возникает особое, почти лунатическое состояние. Домашние это заметили и даже начали в такие периоды называть меня «Вася Лунатиков». Вне романа меня никогда не тянет писать стихи, внутри романа то и дело начинаю ритмизировать и рифмовать.
Только что появившийся роман «Кесарево свечение» наиболее точно отразил тягу к «слоеному пирогу» сочетания поэзии и прозы. Три обитающие здесь пьесы, по мнению автора, «играют роль остановок, перевода дыхания, повода для создания своего рода «парада персонажей».
Сочинительство как главный способ общения и времяпрепровождения выдает предназначенность Аксенова писательству. Похоже, сегодня это главный смысл его существования.
– Влияют ли общественный климат и бурные политические баталии на твои творческие интересы?
– Сама по себе политическая ситуация никак не влияет, однако возникшие в связи с ней человеческие типы начинают бродить в некоем полуметафизическом пространстве, чтобы в конце концов превратиться в образы литературы: чаще всего на грани абсурда.
С годами Аксенов все более привержен одиночеству, письменному столу, хотя его семья, уклад жизни занимают существенное место в его предпочтениях. Сегодня его интересы группируются вокруг литературы, семьи и общественной жизни. Мало кому под силу давать такое количество интервью, печатать в средствах массовой информации свои размышления порой о важнейших событиях современной политической жизни. Роль главной женщины по-прежнему крайне существенна для него. После кончины Евгении Семеновны его заботы, волнения, сочувствие окружают его жену Майю. Вспоминаю, как в свое время именно она выхаживала тяжелобольную Евгению Гинзбург, что очень сблизило их. Не забуду и регулярные наезды Майи в Переделкино с «передачами» – свежевыжатый морковный сок, фрукты, протертая горячая пища, – облегчавшими участь больной.
– Помнишь, у Юрия Казакова: «Каждый мой роман – это мой ненаписанный роман». А у тебя как?
– Считается, что каждый состоявшийся роман (в данном случае любовное приключение) может стать ворохом увлекательных страниц. Это верно, но к этому можно добавить, что несостоявшееся любовное приключение может стать ворохом еще более увлекательных страниц. Вот эти «состоявшиеся» и «несостоявшиеся» женщины в той или иной степени отразились в образе моей основной лирической героини, которая кочевала из романа в роман. С возрастом и с накоплением писательского опыта я стал чаще отходить от этого образа. В «Московской саге» читатель находит разные женские типы, не имеющие отношения к моей личной лирике. Там есть героини старые, больные, нелепые, и я в них не меньше влюблен, чем в свою постоянную красотку.
Аксенов – джентльмен. Он одевается модно, изысканно, ощущается его любовь к фирменным вещам. Рубашечку с маленьким отложным воротничком он подберет в тон шарфу, свитер, серый, голубой, чаще одноцветный, разнообразные куртки на пуговицах, молниях, спортивного покроя сидят на нем с легкой небрежностью. Как и герои его повестей, он пропустит даму вперед, он успеет поднести зажигалку, когда она закуривает, ринется в драку, если столкнется с хамством.
Однажды в пору нашей «Юности», во время вечерней прогулки в Переделкине, затеялся откровенный разговор, и я спросила Аксенова, как он относится к той брюнетке со светло-голубыми глазами, которая частенько стала с ним появляться. Он ответил: «Конечно, я сильно увлечен, и она тоже, но она жена моего друга, поэтому быть ничего не может». Вот так. У него и тогда были моральные принципы. Сегодня, увидев симпатичное существо женского пола, Василий Павлович начнет улыбаться, появятся острота и яркость речи, цепкая внимательность взгляда, но как развивается увлечение прозаика, создавшего десятки женских образов, – не берусь анализировать. Отделить материал литературы от биографии не под силу никому.
– Я вообще-то в большой степени феминист, – признается он, – давно пора, мне кажется, обуздать зарвавшихся мужланов и открыть новый век матриархата наподобие нашего блистательного восемнадцатого.
Одну из своих пьес Аксенов целиком отдал женским персонажам, это «Лизистрата» (парафраз Аристофана), где действие отдано только персонажам-женщинам. Представительницы прекрасного пола, названные именами близких знакомых, обладают разнообразием характеров, однако сплачиваются, чтобы противостоять мужчинам, захватить или удержать власть.
– Почему сегодня забросил драматургию?
– Всего я написал на данный момент восемь пьес, это целый театр. Театр, который остался практически не востребованным существующими профессиональными подмостками. Почему они меня не ставят, черт их знает. Для них важнее в очередной раз пережевать Чехова. Одни жуют его левой стороной рта, другие – правой, третьи – крошат резцами. Так или иначе, мой театр существует в глубине моего романа, и таким образом он создает для меня атмосферу постоянной премьеры.
Замечаю, что два его «хита» – «Всегда в продаже» и «Затоваренная бочкотара», блистательно сочиненные им вместе с «Современником», – поминаются довольно часто и сегодня. Что ж, две яркие репертуарные пьесы – уже достаточно, чтобы сказать, что у драматурга есть «свой театр».
– Как рождается жанр, если это не проза?
– Не уверен, что могу убедительно ответить. Почему какие-то куски сочинительского процесса обретают театральные формы, а другие стараются влезть в жесткую сетку рифм и ритмов? Дело, может быть, в том, что я работаю в основном в самом молодом жанре словесного искусства, в романе, которому, возможно, приходит конец. Быть может, о нашем времени будут говорить: «Это было еще тогда, когда писались романы». Что касается поэзии, то она, конечно, является древнейшим и вечным жанром словесности. Человек еще в пещерах начал что-то бормотать, заниматься камланием, творить мифы, от этого он не откажется до скончания дней. Театр, маски, мизансцены возникли сразу вслед за этим. Этот жанр тоже отличается исключительной живучестью, о чем говорит хотя бы тот факт, что после советского развала из всех искусств главнейшим оказался театр. Очевидно, у людей всегда будет существовать потребность в какой-то вечер собраться вместе в небольшом зале, вместе ахать от восхищения или, наоборот, ворчать: «Опять нас обманули, ну что за говно показывают!»
– Можно ли в твоих романах (пьесах, стихах) обнаружить полное сходство с прототипами или автобиографические мотивы?
– Еще ни разу не было, чтобы я кого-то «описывал» или чтобы я кому-то из «детищ» впрямую приписывал что-то свое. Вот почему, кстати, я не пишу мемуаров. Уверен, что в процессе воспоминаний на бумаге все переверну, перекрою и заврусь окончательно.
Сегодня Василий Аксенов живет на два дома. Только недавно обустроился под Вашингтоном, где листья падают прямо в окна. Он по-прежнему занимается джоггингом, в близлежащем парке бегает трусцой по сорок пять – шестьдесят минут. Да, в этом доме ему хорошо работается, его привычки, атмосферу, наиболее благоприятную для творчества, обеспечивает Майя. По его словам, он любит осваивать разные предметы цивилизации, например стиральную машину с сушкой или автомобиль. Машину водит давно и постоянно. Вообще по-прежнему спортивен.
– Отличительной чертой нашего быта, – рассказывает Аксенов, – является то, что мы живем на два дома: в Вашингтоне и в Москве. Сейчас к этому еще присоединился маленький домик в Стране Басков. Постоянно забываешь, где оставил свитер или штаны. «Майя, ты не знаешь, где мой костюм, тот, другой?» А она отвечает: «А ты не помнишь, Вася, где мой плащ висит, в Котельниках или Фэрфаксе?»
– Как менялась твоя личная жизнь, когда «беды тебя окуривали»?
– В конце шестидесятых я пережил тяжелый личный, хотя отчасти и связанный с общим поколенческим похмельем (Чехословакия, брежневизм, тоталитаризм) кризис. Мне казалось, что я проскочил мимо чего-то, что могло осветить мою жизнь и мое письмо. И вот тогда, в семидесятом, в Ялте я встретил Майю. Мы испытали очень сильную романтическую любовь, а потом это переросло в духовную близость. Она меня знает как облупленного, я ее меньше, но оба мы, особенно теперь, в старости, понимаем, на кого мы можем положиться. До 1999 года Майя никогда не плакала, но потом, после гибели нашего Ванюши, она пролилась всеми своими слезами. И все-таки я до сих пор люблю, когда она смеется.
– Как сегодня ты оцениваешь американский период жизни? Я имею в виду профессиональную деятельность в Штатах: преподавание в университете, сочинительство. Пожалуй, ты один из немногих, у кого здесь сложился имидж не только писателя, переводимого с русского, но и американского литератора. Несколько вещей, как известно, написаны тобой по-английски. Помню, как еще до отъезда ты переводил «Регтайм» Доктороу для журнала «Иностранная литература».
– Я отдал двадцать один год жизни «американскому университету», точнее, преподаванию руслита и своей собственной филконцепции мальчикам и девочкам (иногда и почтенного возраста) из разных штатов и стран. Университетский кампус для меня – самая естественная среда, но сейчас я уже подумываю об отставке. Где буду проводить больше времени, еще не знаю. Надеюсь, на родине все-таки не вырастет снова тот сапожище, что когда-то дал мне пинок в зад.
– Если бы ты не писал, что бы делал?
– Не знаю, что бы я делал, если бы не писал. Честно говоря, даже не представляю себе такой ситуации.
2001
Аристократ духа
Алла Демидова
Она не сразу стала такой. Помню ее остроносую, со впалыми щеками, обозначенными скулами, тонкой талией – актрисой Театра на Таганке. Затем уже на экране – когда товарищ Спиридонова, жесткая революционерка («6 июля» М. Шатрова), отдавала распоряжения, демонстрируя беспощадность и фанатизм. Впоследствии к впечатляющей оригинальности облика прибавилась красота. Как будто бы с годами Демидову кто-то дорисовывал, сглаживая угловатости, заполняя пробелы природного несовершенства. Ее пушкинская Марина Мнишек была обольстительно хороша, хотя интонации голоса были так же властны и непреклонны.
Совершенно новой гранью открылся талант А. Д. в чеховской Раневской («Вишневый сад», постановка Анатолия Эфроса в Театре на Таганке).
Дуэт Раневской, появлявшейся на сцене в поэтически-воздушном платье, придуманном для нее Валерием Левенталем, и Лопахина, в образе которого Владимир Высоцкий открывал нам тип «нового русского», был поразительно нов по трактовке, исполнен глубины и силы чувств.
Платье Раневской, как и декорации к спектаклю Валерия Левенталя, вписывалось в атмосферу постановки о крушении иллюзий, гибнущих садах романтического прошлого, властном вторжении в жизнь новых отношений. Таким же сценическим открытием трагической природы дарования А. Д. стала и роль Маши («Три сестры», постановка Юрия Любимова).
Однако, что характерно, даже при самом слаженном ансамбле всегда ощущалась некоторая отдельность этой актрисы, несоединяемость с другими.
Алла Демидова – несомненно, яркая индивидуальность. На сцене и в жизни. Она может предстать изысканно-гармоничной, молчаливой, а может казаться экстравагантной, непредсказуемо эпатажной. Сегодня, будучи актрисой, известной во многих странах, чье имя произносится порой с восхищенным придыханием, она может в интервью сказать, что вовсе не обладает никаким даром, а ее сценическую жизнь определяет судьба. «Я принимала жизнь, какую мне давала судьба… Профессию я все-таки выбрала неправильно, и я не считаю, что моя жизнь удалась, что я самовыразилась…» Она ни в коем случае не признает себя звездой, она уверяет, что у нее нет желания встречаться с публикой, равно как и появляться в каком-либо спектакле. Иногда еще более шокирующе: что ей давно уже не интересно играть женщин: «Ни старых, ни молодых… они все сыграны, переиграны, пережиты… а вот мир мужской ментальности – это как полет на другую планету». В перспективе у А. Д. Гамлет, «Записки сумасшедшего» в постановке знаменитого Боба Уилсона, сегодня ей интересно, когда женщина на сцене думает, что она – Гоголь и пишет историю Поприщина. Вообще, она готова играть, но только нечто необычное, с «вывертами».
Я верю и не верю словам актрисы. Не только потому, что всякая самооценка очень недостоверна и недостаточна…
Два удивительных моноспектакля с Демидовой в «Новой опере» Е. Колобова – «Поэма без героя» Ахматовой и «Пиковая дама» Пушкина – это некие музыкально-поэтические новеллы, в которых смысл, сюжет, воплощенный чтецом, обретают редкостную многомерность и полифонизм. Совпадение голоса, приобретающего то повествовательную напевность, то азарт поражения, то бессилие, держит зал в напряжении. И снова темный наряд, наброшенная шаль, скупые, хорошо продуманные мизансцены – во всем стиль, безупречный вкус. Не многие актеры нынче могли бы удержать зрительское внимание в течение нескольких часов. Демидова может.
Она пишет книги. Сама, не прибегая к помощи литобработчиков, – «А скажите, Иннокентий Михайлович!», «Высоцкий», «Тени Зазеркалья», как и ее книга «Бегущая строка памяти», выпущенная в октябре 2000 года («ЭКСМО», «Золотая коллекция «Триумфа»), стали заметным фактом культурной жизни последнего года. В них – самостоятельность оценок, несомненный литературный дар, точность наблюдений и характеристик.
А. Д. прямолинейна в высказываниях, точна в обязательствах, никогда не «суетится перед клиентом». Она слывет отшельницей, редко бывает на публичных встречах, хотя регулярно появляется на концертах в Большом зале консерватории, выступлениях крупных музыкантов. Входя в любой зал, она обращает на себя внимание, даже если скромно сидит в конце ряда. Ее костюм, неброский, не крикливый, вы станете долго рассматривать. Она не вхожа к большим начальникам, хотя является членом жюри многих премий, в том числе Государственной. Она – член жюри премии «Триумф». Слушая высказывания о номинантах, я всегда поражаюсь ее эрудиции, широте интересов, хотя ее суждения редко совпадают с мнением большинства.
Сегодня Алла Демидова – одна из самых ярких звезд на культурном небосклоне. В отношении к ней нет середины в оценках. Ей страстно поклоняются или неприязненно отвергают. Ей приписывают высокомерие и снобизм, а вместе с тем у многих она почти культовая актриса. Мне трудно представить себе, когда и как репетируются роли, выучиваются тексты, пишутся книги. Чаще всего, полагаю, – когда она скрывается на дачу, где-то на Икше, где, окруженная поэзией ласковой подмосковной природы, собаками и кошками, она чувствует себя счастливой в полном уединении.
Пожалуй, выражение «Человек – это стиль» подходит Алле Демидовой в наибольшей мере. Поэтому спрашиваю:
1. Вы всегда очень элегантно одеваетесь. Как редко случается с харизматическими актрисами, вас можно принять за фотомодель или избранницу очень изысканных кутюрье. Какого предпочитаете? Сколь велика составная костюма в вашем рисунке роли?
– Почти всегда в роли я начинаю с костюма, и если мое первоначальное видение совпадает потом с идеей образа, то зрители часто через много-много лет вспоминают мой костюм. Например, в Раневской в эфросовском «Вишневом саде» в решении этого костюма было: «мама живет на пятом этаже», «она порочна, это видно в каждом ее движении», «мороз в три градуса, а вишня вся в цвету». Незащищенная беспечность богемы начала века. В жизни главное – к месту и в сезон. Предпочитаю в Sonia Rykiel.
2. Был ли разрыв с «Таганкой» для вас болезненным? С Театром на Таганке, предполагаю, контактов нет. А с Ю. Любимовым? С актерами?
– Все произошло безболезненно, так как Любимова в это время не было в России. Особых контактов ни с Любимовым, ни с Таганкой, ни с актерами Таганки нет, и, кстати, никогда не было. Была работа. Но, восстановив «Доброго человека из Сезуана», Любимов пригласил меня сыграть один раз свою маленькую роль матери Янг Суна. На этом спектакле был Боб Уилсон, и он пригласил меня работать с ним. Мы выбрали «Записки сумасшедшего» Н. В. Гоголя.
3. Есть ли в сегодняшнем художественном пространстве режиссер (западный или российский), которого вы предпочитаете Ю. Любимову?
– Robert Уилсон, Сузукки, Терзопулос.
4. Ваш распорядок дня. В обычный день? В день спектакля?
– Я поздно встаю, долго себя реанимирую и начинаю жить только после четырех часов дня. Как-то в первом русском журнале «Вог» мне были заданы вопросы, один из которых – «ваш завтрак». Я ответила: «Чай с пасьянсом». Пасьянс продолжается до двух часов.
Во время спектакля стараюсь не есть, пью крепкий чай.
5. Можете ли описать убранство вашей квартиры? Любимые вещи, картины.
– Нереально. Квартира большая, безалаберная, без ремонта, набита картинами, книгами, цветами, безделушками. Любимых вещей нет, они бывают любимыми в момент приобретения.
6. Соблюдаете ли вы диету? Занимаетесь ли спортом?
– Нет-нет. Никогда.
7. Какие животные вас радуют?
– У меня всегда были коты, собаки, четырнадцатилетний Миша. Недавно умерла подобранная пятнадцать лет назад пуделиха Маша. В поездках меня часто сопровождает пекинес Микки. Он даже снимался со мной в Ялте в «Маленькой принцессе» и сейчас со мной в Афинах, где я репетирую «Гамлета» с Терзопулосом.
8. Любите ли спорить? Убеждать оппонента? Или готовы оставить его при собственном мнении?
– Никогда не спорю и не стараюсь никого переубедить, но своего мнения не скрываю.
9. Как относитесь к новым технологиям? Компьютеру? Интернету? Враждебно или дружественно?
– Дружески, но на большом расстоянии.
10. Развитие цивилизации – благо или гибель для человечества?
– Определенно – гибель.
11. Допускаете ли теоретически, что можно убить человека? В каких случаях?
– Нет, человек не вправе это делать.
12. Опередят ли нанотехнологии возможности человеческого мозга?
– Мозг мозгу рознь. У одних – опередят, безусловно, но за божественным гением не угнаться.
13. Когда возникает неожиданное свидание – предпочтете искусство или жизнь?
– Предпочитаю остаться дома.
14. В вашем окружении много ли людей, с которыми вы хотите встречаться как можно чаще?
– С годами их все меньше и меньше.
15. Случалось ли похулиганить? Напиться? Учинить скандал?
– К сожалению, нет.
16. Что для вас важнее театра и кино?
– Человеческие отношения.
Клоун и король
Олег Табаков
Самым интересным парадоксом на творческом пути Табакова Олега Палыча было явление его в образе Обломова («Несколько дней из жизни Обломова» Н. Михалкова). Актерский шедевр припечатался к человеку, начисто лишенному в жизни обломовских черт. Порывая с аналогией, скажу, что сегодняшний глубоко национальный характер, столь разнообразно воплощенный в цепочке отечественных героев от гоголевского Акакия Акакиевича до толстовского Протасова (полагавших, что, делая что-либо, он тем самым приумножает зло в жизни), Табаков реализует убеждение, что деятельность, инициатива умножает добро. От одного перечисления его сегодняшних должностей рябит в глазах: художественный руководитель МХАТа и «Табакерки», педагог в Московской школе-студии, организатор первой и единственной пока в Америке драматической школы (Институт высшего театрального образования и Летняя театральная школа имени К. С. Станиславского при Гарвардском университете) и т. д. и т. п. И все это соединено в одном человеке. Перечислять возможности Табакова – значит описать хорошо смазанный, всегда спешащий от слов к делу механизм учреждения, со многими службами и линиями связи.
– А мечта на оставшееся время? – настаиваю.
– Хотел бы знать, сколько времени доведется видеть Пашку (маленького сына). Вот дожить бы, чтобы увидеть, как он вырастет, каким будет. Увидеть Полину (внучку) замужем. Сейчас ей двенадцать.
Оглядываю его сегодняшний кабинет во МХАТе. Фотография с Марчелло Мастроянни.
– После «Очей черных» у Никиты Михалкова, – поясняет Олег Павлович, – хотели вместе еще поработать, возник интересный проект, но что-то не состыковалось.
Акварельные пейзажи, удивительно теплые, с прозрачными стволами на фоне неба. Четыре картины Фомичева. И то и другое повесил, осваивая кабинет Олега Николаевича Ефремова.
Над письменным столом фотопортреты основателей и продолжателей: К. С. Станиславский, В. И. Немирович-Данченко, В. О. Топорков (учитель О. П.), О. Н. Ефремов. А еще – живописный портал входа в театр «Табакерка», который Олег Павлович по-прежнему возглавляет. Спрашиваю:
– Что чувствовали двадцать лет назад и что сейчас, выходя на сцену? Есть разница?
– Разницы почти нет. Это всегда радость, подъем, когда физически здоров, в хорошей форме.
– Что предпочитаете – сниматься в кино или играть в театре?
– Кино – это другое, – уклоняется он от прямого ответа. – Театр – это живая игра, напротив тебя – зритель, ты его каждый раз обязан убедить в чем-то, заставить поверить, что это происходит единственный раз. А кино – это пятьдесят процентов искусства, пятьдесят – производства. Как ты снимешься – уже не подправишь, это застывает, как воск.
Но сколько бы названий ни было в пресс-релизе Табакова, сколько бы обязанностей, ежедневных, независимых от места пребывания (его мобильный телефон, думаю, самая часто прижимаемая к щеке подруга), все равно Табаков – это актер.
– В чем смысл той жизни, которую вы прожили, и той, которая вам суждена судьбой? – спрашиваю, чтобы утвердиться в этом мнении.
– Не меняться. Я по природе – созидатель, собиратель. В моей жизни один стержень – театр.
Я люблю цитировать его слова, когда ему подсовывают мысль о том, что все нынче покупается и продается, что PR может раскрутить любую посредственность в знаменитость, общедоступную звезду. «Понимаешь, в чем штука, – как-то сказал он мне, – ведь с нашей профессией как обстоит дело. Вот он вышел на сцену, и через две минуты публике ясно – перед ней актер или не актер».
Табаков справедливо полагает, и я с ним полностью солидарна, что среднего профессионала в искусстве можно вылепить. Настоящий талант – никогда. Нельзя притвориться гением, никакая мистификация не может сочинить Уланову, Качалова или Эйзенштейна. Амплитуда актерских возможностей Табакова очень широка. Табаков может быть на сцене Моцартом и Сальери, Матроскиным и Петром Адуевым, старым Ванькой Жуковым («Комната смеха») и продавщицей («Всегда в продаже»), пожилым инвалидом, которого убивает ребенок («Три истории» К. Муратовой) и Талейраном («Ужин» Ж.– К. Брисвиля). Переход из одного образа в другой происходит без надрыва, долгих предварительных усилий, в этом смысле в Табакове есть нечто моцартианское.
– Как боретесь с народной любовью, с тем, что повсеместно узнаваем, каждый норовит дотронуться, выхватить на память шарф?
– Я с ней не борюсь. Я отношусь к всенародной любви всегда с нежностью, признательностью и уважением. Не могу сказать, что стою на коленях, но уважаю всегда и стараюсь соответствовать. С годами это усугубляется. Нередко, когда на улице Горького со мной здороваются люди, я вспоминаю, что должен соответствовать этому. В моем актерском детстве говорили, как о сказке, как о легенде, о том, как здоровались с Василием Ивановичем Качаловым. Несмотря на все мое честолюбие, все-таки не могу сравнивать себя с Василием Ивановичем Качаловым, а вот чувство ответственности растет с годами. В молодости ждешь этого, мечтаешь о всенародном признании, в зрелости неоднократно оно бывало дискомфортно, особенно в годы длинного романа с Мариной Вячеславовной Зудиной. Но, что делать, «человек за все платит сам, – пишет Алексей Максимович Горький, – за веру, за неверие, за любовь, за ум, человек за все платит сам. И поэтому он свободен».
Спешу заметить, что Качалову было «легче» – от него не требовали телевизионных клипов, интервью, он не был растиражирован на миллионах фотографий.
Вспоминаю ослепительные фотографии Табакова с Зудиной, на сцене, на отдыхе, с ребенком, в кругу друзей, вспоминаю и их неразлучность, их жизнь взахлеб во время фестиваля «Рождественская карусель» в Париже.
– Можно любить нескольких женщин сразу? – спрашиваю.
– Нет. Ничего не получится. Проверено, что я не могу. В моей жизни случалось раза два, но было очень стыдно перед собой.
– Считаете ли себя богатым человеком?
– Богатым нет, но жизнь своей семьи, своего сына уже обеспечил. Даже если перестану работать. Дважды терял деньги в момент «обвала». Немалые деньги, которые лежали в банках.
– За что не жалуете рекламу?
– Нет вотума доверия. На девяносто восемь процентов сегодняшняя наша реклама не соответствует моим представлениям о качестве товара. Будь то реклама художественного события или мужского одеколона.
– С каких лет начали сниматься?
– С двадцати. Фильм «Саша» на «Мосфильме».
– В скольких фильмах удалось сняться?
– Ребята чествовали меня в юбилей и вычислили: за сорок пять лет трудовой деятельности – сто фильмов.
– Если возникает ситуация и надо выбрать: жизнь (свидание, чья-то болезнь, страсть) или искусство (выступление, репетиция, съемки на телевидении) – что предпочтете?
– Вопрос вечный и достаточно искусственно поставленный для человека, занимающегося моим ремеслом – актерским. Актерская профессия – профессия солдатская, требующая дисциплины и исполнения. Холодно – надо играть, грустно – надо играть, умер кто-то из близких – надо играть, но в принципе, если говорить серьезно, то, конечно, выбираю жизнь, хотя никогда работу свою я не подводил из-за жизни. Даже в день похорон матери пришлось играть в спектакле «Большевики», поскольку в ту пору я был директором театра «Современник», на сцене которого шел этот спектакль.
– Если вы договариваетесь об участии в каком-либо проекте, на каком месте для вас деньги?
– Деньги для меня явно не на первом месте. Сначала смысл и художественная интересность, манкость того, что предлагается. И уже потом, когда я даю согласие на участие в том или ином проекте, договариваюсь о деньгах.
– Если бы ваши собственные дети совершили поступок, наказуемый по закону, – на чью сторону встали бы вы?
– Все-таки встал бы на сторону закона, хотя плакал бы, пытался бы выручить, но в рамках закона до самой последней черты.
– Какие роли даются труднее всего? Как удавалось сыграть женщину и какой опыт использовали для этого?
– Честно говоря, никакие роли мне трудно не давались, я люблю заниматься своей профессией, своим делом, и, когда здоровье мне позволяет, делаю это радостно и даже, можно сказать, весело, вообще это веселенькая профессия. Никаких трудностей особых не испытываю и с большой долей юмора и даже сарказма отношусь к рассказам моих коллег о трудностях работы над ролями, о физических и психических осложнениях в этой работе. Женщину играть не менее сложно, чем мужчину. Никакой исключительной сложности воспроизведение женщины на сцене, да и в кино не представляет. Если ты умеешь делать свое дело, то и женщину с легкостью можешь сыграть, да и стул тоже можешь сыграть.
– Влияют ли на принятие каждодневных решений общественное мнение или раскладка в СМИ?
– Нет, на меня не влияют. Для меня определяющими и диктующими являются интересы дела, которым я занимаюсь.
– Какую другую страну, кроме России, любите больше всего?
– Если говорить о душевной идентификации, наверное, это Финляндия. По той простой причине, что, будучи рожденным в средней полосе России, на Средней Волге, в Саратове, где климат континентальный, даже резко континентальный, и попав впервые лет в тридцать на Вологодчину, я понял, что душевно родом я оттуда. Бескрайняя зелень деревьев, ситцевое голубое небо, синяя или свинцовая вода и белый пароход, проходящий по этому квадрату просеки, по которому ты едешь на машине, – это почти райская картина для меня. Я – отсюда родом. И, несколько лет подряд работая в Финляндии, я испытывал абсолютно ту же тихую нежную радость, растворялся в этом чуде и не мог никак наглядеться. Если же говорить о политкорректности, то в смысле терпимости, – конечно, Англия.
– Где и когда вы учили английский? Что этот язык прибавил к вашей судьбе?
– Изучил я английский в школе. Я был влюблен в свою учительницу, и любовь вышла на последний рубеж. Когда я пытался что-то объяснять ей руками, то есть методом пластического наложения, она, желая дисциплинировать меня, постоянно повторяла: «Only in English» – «Только по-английски», что заставило меня изучить этот язык. Английский прибавил в моей судьбе многое. Практически после Второй мировой войны весь мир говорит по-английски. Я не могу сказать, что говорю свободно, вернее, говорю-то я свободно, но не все понимаю. Но все-таки знание языка – это крайне необходимая современному человеку особенность, актерам она вдвойне необходима. Владея языком, я за какие-то полчаса снюхался с серьезными мировыми звездами. Речь идет о моей последней работе в кино у режиссера Иштвана Сабо, которая называется «Taking sides».
– Знаю, что у вас очень развито понятие долга. При каких обстоятельствах оно сметается чувством?
– Я, пожалуй, только в любви чувство долга сметаю. Все остальное всегда выполняю, даже учитывая особенности, вытекающие из понятия долга.
– Как отдыхаете, расслабляетесь? Если не секрет, то где?
– Расслабляюсь я в постели или на сиденье автомобиля – очень люблю водить автомобиль, это занятие мне доставляет сплошное удовольствие, радость, особенно быстрая езда. Наверное, надо отослать интервьюера к Николаю Васильевичу Гоголю, у него все про это сказано: «Какой же русский не любит быстрой езды?» И чтение, конечно, – одно из средств отдыха. Несколько книг, составляющих релаксацию души.
– Если вы видите дерущихся людей – вмешаетесь или предоставите им разбираться самим?
– Если будут обижать ребенка или женщину – вмешаюсь. А так, я вообще-то трус по натуре, постараюсь не вмешиваться.
– Владеете ли оружием? Довелось ли им пользоваться?
– Владею духовым оружием. Стреляю хорошо. Пользоваться боевым оружием доводилось только на съемках. Ощущение неприятное. Больно бьет в плечо. Хотя держать пистолет в руке – приятно. И на стрельбище стрелять – приятно. Для мужчины это, наверное, игра. А поскольку у меня в детстве не было игрушек, то иногда даю волю нереализованным желаниям.
– Что значит быть мужем молодой красивой актрисы?
– То и значит – быть мужем молодой красивой актрисы.
– Как разделяются сферы влияния в вашем доме? Во МХАТе? В «Табакерке»? Чья верхняя? Выбираете единоначалие или коллегиальность?
– Всегда единоначалие, кроме дома. Просвещенный абсолютизм – это правильная форма правления. Дома, конечно, главой является Марина.
– Любите ли играть: на бегах? в рулетку? в карты? на бильярде? И т. д. Как ведете себя, если проигрываете, или, иначе, умеете ли проигрывать?
– Да, умею. Проигрываю регулярно. На бегах играть не люблю, в рулетку – умеренно, в карты – не очень. На бильярде вообще не играю. Работая в странах, где русский язык не является вторым, я имею в виду Венгрию или Финляндию, вынужден был играть с автоматами, потому что, работая дважды в день, очень устаешь, после второй репетиции особенно. Трудно бывает заснуть, а проиграешь какое-то количество денег – и спишь хорошо.
Коллажи Парижа
Марк Шагал. Хулио Кортасар
1
В отеле «Эглон» на бульваре Распай мой тихий номер выходит на кладбище Монпарнас, знаменитое могилой Бодлера. Автор «Цветов зла» верил в бессмертие поэзии, но вряд ли мог предположить, что шестьдесят лет спустя советский поэт Владимир Маяковский, поселившись напротив в гостинице «Истрия», придет на его могилу, чтобы отдать дань таланту буйного француза, сражавшегося на баррикадах.
Рядом с кладбищем – бульвар Монпарнас. В сущности, это тот же мемориал. На углу, в «Ротонде», бывали Модильяни, Матисс, Сутин. Рядом, в ресторане «Дом», выбирали устриц всех мыслимых сортов Пикассо и Брак. А через дорогу, чуть наискосок, в Куполи – художественной Мекке Парижа – в зале подковкой и на застекленной веранде работали Хемингуэй, Габриэль Гарсиа Маркес, Натали Саррот, Арагон, заказывая, быть может, знаменитый кокиль и запивая его рислингом.
– Вот здесь, в Куполи, – говорит за ужином Антуан Витез, ныне главный режиссер народного театра в Шайо, – познакомились Арагон и Маяковский. Арагон мне рассказывал, как Эльза Триоле обратила на него внимание Маяковского. Французский поэт сидел у стойки бара. Через несколько минут пришла записка: «Арагон! С вами хочет встретиться русский поэт Маяковский. Второй столик слева». Так ли это было? – улыбается Витез. – Но знакомство состоялось в Куполи.
Антуан Витез, создатель хорошо известного театра в парижском предместье Иври, знаток русской литературы и искусства, начал с постановки «Бани» Маяковского. Затем – «Электра» Софокла, сделавшая его всемирно известным режиссером, «Пятница» – в театре Шайо.
Мне довелось видеть в его театре «Фауста» Гете, где сам он играл главную роль. Бурный новатор в режиссуре, актер, блестяще владеющий искусством преображения и характерности, в жизни Витез тих, задумчив, удивительно напоминает Арлекина из комедий дель арте: изломом темных бровей, резкими полосами треугольником у уголков рта.
– Мой Фауст, – говорит он, – это трагедия необратимости времени. Я кричу, взываю к окружающим: «Ничего нельзя ни вернуть, ни переделать, ни повторить! Остановитесь! Осмыслите каждое мгновение жизни». Разумеется, это только одна тема Фауста…
– А еще?
– Еще… – задумывается он. – Меня всегда волновала проблема двойников. Мне кажется, старый Фауст следит за юношей, каким был когда-то, словно ходит вслед за ним (собой) по улице, видит себя с другими людьми, с возлюбленной. Торжествует или ненавидит себя. Это тема «Смерти в Венеции» Томаса Манна и Лукино Висконти в его фильме – тема, гениально разработанная двумя великими стариками, осмыслившими прошлое. Для меня же двойное самоощущение Фауста – обратное. Это юноша, заглянувший в будущее старика.
В декабре 1967 года театр закончил сезон новой постановкой по роману Арагона «Базельские колокола», потом Антуан Витез поставил в Московском театре сатиры «Тартюфа» Мольера.
– Актеры привыкли у вас к «застольному периоду», – говорит режиссер, – мы же связаны временем, его всегда в обрез, поэтому я предпочитаю с первых дней делать все на сцене. «Пьесу вы знаете хорошо, роли тоже, – сказал я своей группе в Театре сатиры, – будем сразу двигаться, действовать». Две репетиции актеры помучились, а потом пошло. Там замечательно интересные актеры.
Спектакли Антуана Витеза – это коллажи. В его постановках, точно вклейки, обыгрывание натурального реквизита и мебели, подлинных блюд (салат, лапша, сыр в «Базельских колоколах»), цитаты из греческого, турецкого, русского, немецкого языков – все это равноправные участники событий, такой же инструмент актера, как голос, пластика, мимика.
Узкий жанр, открытый в живописи дадаистами, сегодня, мне думается, трансформировался, мощно проникнув во многие сферы искусства. В фильмы, как в «Сумасшедшем Пьеро» Годара, где эпизоды злоключений героя Бельмондо вплелись в хронику циркового триумфа французского клоуна Раймонда Дево. Следы коллажа у Р. Щедрина в балете «Анна Каренина», в романах-коллажах Хулио Кортасара или Андрея Битова, где выдержки из газет, афиш, документы и художественный вымысел нерасторжимо сращены в единый сплав прозаического повествования.
– Кстати, о Маяковском, – возвращается к началу нашего разговора Витез. – Только что я принял участие в фильме о нем, снятом для французского телевидения режиссером Коллет Джиду и продюсером Тери Дамиш по сценарию Клода Фриу. Недели через две можете его увидеть. А Фриу наконец закончил свое многотомное исследование о Маяковском и его окружении. Раньше все свободное время уходило у него на университет.
– Да, быть президентом Венсена – дело героическое…
– Вы бывали там? – спрашивает Витез.
– Не однажды.
…С Клодом Фриу меня познакомили в доме Робелей (он – известный русист и переводчик советской поэзии) на приеме в честь юбилея агентства Сориа.
– У нас совершенно необычный университет, – сказал тогда Фриу, – приходите, убедитесь.
Сам президент показался мне тоже необычным. Громадный лоб, распространившийся до половины темени, длинные рыжие кудри, развевающиеся сзади, в движениях экспансивен, стремителен, несмотря на массивную фигуру, в застолье тягостно молчалив. А оказался Клод Фриу человеком яркого, парадоксального мышления, с редким даром оратора и проповедника.
– Учтите, послезавтра начинаются рождественские каникулы, – добавил он, прощаясь.
На другой день я побывала в Венсене у выпускников русского факультета.
Говорят, характер француза начинается с обеда. Не менее ритуален для него, на мой взгляд, выбор маршрута.
Как проехать? «Нет, по рю де Рени быстрее, но у отеля «Пон Рояль» все перерыто, простоим уйму времени». – «А по бульвару Распай?..»
Выбрав идеальный маршрут, профессор Венсенского университета Ирина Сокологорская, скорее похожая на студентку длинными золотыми косами, веснушчатым лицом и манерой улыбаться до ушей, благополучно застревает в пробке на сорок минут. Отбиваемся от парней и девиц, просовывающих через ветровик листовки. Нас призывают: вступить в общество охраны собак, религиозную секту, принять участие в митинге солидарности с бастующими печатниками типографии «Паризьен либере», бойкотировать закон о налогообложении… Листовок накапливается штук двенадцать, а продвинулись мы метров на сто.
– Не дергайся, – с олимпийским спокойствием заявляет Ирина, – мои не разойдутся.
Действительно, студенты не разошлись. Но картину, которую мы застали, стоило бы заснять на пленку.
Дипломники русского факультета набились в аудиторию студентов первого курса, откуда неслось: «Не уезжай ты, мой голубчик» с цыганским перебором и стуком каблуков: новички праздновали окончание первого в жизни семестра. На сдвинутых столах – напитки, в том числе русская водка, сэндвичи с ветчиной и сосисками. В освобожденном от мебели пространстве отплясывают танго, шейк, бамп сначала под Николая Сличенко, потом под парижского цыгана Алешу и, наконец, под «Калинку-малинку».
Профессор делает строгое лицо – пытается остановить загул своих учеников. Время занятий вышло, ситуация тупиковая.
– Отложим до следующего раза? – осторожно спрашиваю.
– Почему это? – останавливается длинноволосая брюнетка в цветастой юбке, отороченной роскошной оборкой. – Бланш, – протягивает она руку.
А за ее спиной командует кудрявый паренек в джинсовой куртке, которого называют Пьером, и через пять минут, перейдя в свою аудиторию, дипломники замирают, точно восковые фигуры мадам Тюссо. Невозможно вообразить, что минуту назад в каждом теле все двигалось, переливалось, как ртуть. XX век. Переключаемость!
– Может, сами назовете темы дипломов или семинаров?
Конкуренция с шейком мне явно не импонирует.
– Горький… Чуковский… Ильф и Петров… Платонов… Бабель… Драматургия Маяковского… (Достаточно, достаточно!..)
Рассказываю о диспуте «Надо ли ставить «Мистерию-буфф»?» в 1921 году, о безудержно сломанной Вс. Мейерхольдом сценической коробке и соединении сцены с залом, о том, как заменены были привычные декорации конструкцией из системы лестниц, мостков, окружавших часть глобуса с надписью «Земля», о появлении с потолка «Человека будущего»…
– Ну и как? – перебивает мое повествование седой студент с ярким шарфом, обмотанным вокруг шеи. – Это прошло?
– Вопросы после! – шипит кто-то сзади.
…Потом говорим о Корнее Чуковском, о том, как в писательском городке Переделкино жил необыкновенный кудесник, который подарил подмосковным детям библиотеку и костер со стихами и плясками. Он был фантазером и жизнелюбцем, детским классиком при жизни и ученым с мировым именем, переводчиком и наставником…
Потом речь о «Климе Самгине», об Ильфе и Петрове… Звенит звонок.
– Мы вас отвезем, – заверяет студент в шарфе.
– Полчаса остается на вопросы, – бросает Пьер, и ему поддакивает его окружение. – Вот мы слышали, что вы встречались с разными людьми. Что они думают о будущем цивилизации? Или они довольны своей жизнью, а после нас – хоть потоп?
Сейчас у Пьера синева глаз отливает лезвием и весь он напружинен, точно струны теннисной ракетки. Не отмахнешься.
– Не берусь, месье, отвечать на такой замечательный вопрос. Но многих во Франции я сама спрашивала… вот хотя бы это: «Что бы вы хотели переменить в окружающем вас мире, чтобы быть более счастливым?» Ответы самые неожиданные. Хотите, некоторые из них я зачитаю?
Роясь в записках неказистого блокнота, пытаюсь выбрать нужное, и, словно кинонаплыв, возникают лица, силуэты, отпечатки фраз, очертания берегов…
…Под Ниццей, в горах Сан-Поль-де-Ванс, как в лесном заповеднике, живет в Коллин седовласый мечтатель Марк Шагал. В ту первую встречу, в 1974-м (последняя состоялась за несколько месяцев до его кончины, десять лет спустя), он еще полон был впечатлениями от поездки в Москву, переделкинскими соловьями и березами, толпами людей у входа на его выставку в Третьяковке, встречей с друзьями, балетом Большого театра. А час спустя в своем просторном рабочем ателье, где со стен на вас глядят летающие малиновые русалки, фосфорические синие рыбы, лиловые леса, розовое небо, зеленые птицы, он уже погружается в атмосферу живописи. На этюдниках рядом со старыми картинами, которые Шагал подправляет, стоят новые, еще неизвестные эскизы, наброски, большие полотна, здесь же рядом – мольберты, краски, коробки с разноцветными мелками. Легко, точно ребенок, он порхает между столами и так же легко перескакивает с темы на тему. Он говорит о живописи, поэзии и о времени, которое осталось ему в жизни для работы.
– Ведь еще столько надо успеть, – сетует он. – Только бы потеплело на улице. Что бы я хотел переменить? Нелегкий вопрос. Самое главное для меня – это сознание, что в мире сегодня не убивают людей. В особенности детей. Я бы мечтал, чтобы каждый прожил на земле отпущенное ему и успел выполнить свое предназначение. – Шагал смотрит в окно. Теперь он удивительно похож на свою цветную фотографию в одном из альбомов. – Я остановил бы все войны, убийства, если бы мог. Да, я был бы более счастлив, если б в мире не умирал ни один ребенок.
В тот день в Ницце было очень холодно – пустынное море, пустые лежаки, свернутые зонтики, тенты. В Коллин еще холоднее, Шагал все время мерз – впервые в эту пору в горах выпал снег. По дороге непривычно было видеть незаселенные отели, незаполненные кинотеатры. Но в залах музея Шагала, в сокровищнице Пикассо – Антибе, во дворце Леже (как и на выставке Брака в Париже) было многолюдно, будто на празднестве, концерте или торжественном богослужении. Люди нуждались в искусстве больше, чем в курорте. На Парнасе, заселенном гигантами только лишь одного поколения, была другая температура…
Два года спустя, в декабре 1976-го, я вновь побывала в гостях у Шагала. Уже в канун его девяностолетия.
Через месяц президент республики Жискар д’Эстен вручит ему высшую награду – Большой крест, и будет решено, впервые во Франции, при жизни художника устроить выставку его картин в Лувре.
Этот декабрь совсем не походил на зиму 1974-го. Казалось, в Ниццу вернулось лето, пляжи заполнились полуодетыми людьми, скамейки, шезлонги были заняты загорающими, а около трех часов публика, одетая в вечернее, заполнила Концертный зал в Монте-Карло, чтобы увидеть балет Бежара «Мольер» – коллаж, соединивший высочайшую хореографию, пение и пантомиму, где буффонада и трагедия слились воедино.
В сумерках ясного неба дом и парк Шагала по-особенному красивы.
– Шагал по-прежнему работает с утра до вечера, – встречает меня Валентина Григорьевна, жена Шагала, и ее громадные сливовидные глаза грустно улыбаются. – За эти два года расписал плафоны в Лондоне, Чикаго, Париже… – Она оглядывается на дверь. – Сейчас закончит разговор с издателями из ФРГ и придет. Последние дни он чувствует себя немного уставшим, болеет. Стараемся приглашать друзей в это время, к чаю.
Шагал появляется минут десять спустя, чуть бледноватый, движения его несколько скованны из-за лечебного кушака, но он, как всегда, необыкновенно приветлив. Усталое, в сетке морщин лицо сияет по-ребячьи.
– Не могу забыть деревья в Подмосковье, – говорит он, чуть захлебываясь. – Я так хотел бы писать русскую природу! Там у деревьев особый наклон, форма, все другое. – Он с трудом усаживается в кресло, совсем близко. – Левитан мало что говорит западному человеку, а я гляжу на его картины и чуть не плачу. В этих ветвях и наклонах столько для меня близкого! Я бы мечтал перенести все это на полотно, но уже поздно, все поздно…
Он заглядывает в глаза, словно ожидая опровержения. Удивительная у него эта привычка – заглядывать в глаза, как бы зрительно проверяя смысл сказанного собеседником.
Спрашиваю о предстоящем юбилее, выставке.
– Боюсь этого ужасно, – шепчет он, – этих почестей. Не привык быть на виду. Награда – это, конечно, почетно, но я чересчур нервничаю. Последнее время я ведь почти не выхожу, мало бываю на людях.
– Но обо всем все знает, – вставляет Валентина Григорьевна. – Читает газеты, интересуется всем, что происходит в мире, особенно в России. Слушает радио, страшно любит музыку.
В этот момент шофер вносит корзину с розами и тюльпанами, она едва пролезает в дверь.
– Мне все несут цветы, – разводит руками Шагал. – Я весь в цветах. Меня это удивляет. Я часто думал, что я и моя работа мало кому интересны. Мне никогда не нравилось то, что я делал. Всегда думалось: кому это нужно – эти мои мечты, фантазии, причуды воображения?
Вспоминаю заоблачную высь синих витражей в Концертном зале музея Шагала в Ницце, выставленную там и единственную в своем роде коллекцию картин на библейские мотивы, думаю о выставке «Автопортрет в русском и современном искусстве» в Москве, которая три месяца в пятнадцати залах Третьяковки собирала тысячи посетителей, где были экспонированы работы Шагала, и среди них завораживающая «Свадьба», и сквозь все это смутно начинают проступать лица студентов Венсена.
…Стараюсь переключиться, попасть зрачком в настороженные глаза слушателей. Минута, и снова листаю записи в затрепанном блокноте.
2
В середине декабря, когда вдруг потеплело и после обильного дождя небо высветило неправдоподобно синим, обнажая прозрачную чистоту силуэтов Пале-Рояля и площади Конкорд, в город вернулся из поездки в Женеву Хулио Кортасар. Кумир латиноамериканской молодежи, книги которого сравнивают с романами Толстого и Достоевского, для меня тогда он был создателем сборника рассказов «Другое небо», одной из книг, что «берут на необитаемый остров».
В доме женщины с прекрасным, значительным лицом, светлыми волосами и темными глазами в день рождения ее сына горели огни рождественской елки, а мальчик в одежде Деда Мороза одаривал гостей, когда вдруг на лестнице, ведущей в мансарду, раздались тяжелые шаги и появился вампир с кроваво-вывороченными губами и веками. Он рычал и плясал, выделывая ногами немыслимые кренделя. Мальчик сдернул маску кровопийцы, и открылось лицо удивительной доброты и одновременно застенчивости, как бы антимаска вампира. Скульптурная бугристость кожи, густая шевелюра и борода Че Гевары оттеняли блестевшие азартом глаза, цепко перебегавшие по фигурам гостей. В комнате все словно уменьшилось в размере – столь громаден, масштабен был человек, появившийся среди нас. В тот вечер много говорили о погибшем Пабло Неруде, о книгах, которые имеют свою судьбу, как известно отличную от судьбы их творцов. Кортасар кивал, соглашаясь, на лице его появилось выражение напряженного страдания, а я думала о неповторимой магии его новелл, в которых чудодейственно смешаны краски самой точной бытовой и психологической реальности, обжигающая сопричастность человеческому горю и вдохновенный вымысел фантаста, изображающего невероятное как вполне естественное.
Когда два года спустя я вновь побывала в доме на рю де Савуа, в Москве уже вышел новый однотомник прозы Кортасара, привлекший широкое внимание читающей публики…
– Фантастическое… – задумался Кортасар, отвечая на мою тираду о сплаве магического, чудесного с реальным, имеющим некоторые традиции и в русской прозе. – Фантастическое – это для меня совершенно будничное, то, что может случиться в любой момент: в кафе, в метро, в обществе женщины, в каком-нибудь путешествии. Подобное происшествие ввергает меня в то состояние «сосредоточенности и рассеянности, входа и выхода» в различных изменениях, которое в конечном итоге предопределяет появление невероятного во многих моих романах и новеллах.
Мои романы содержат элементы чистой фантастики, – продолжал он, – введение персонажей, немыслимых в обычной жизни, например присутствие пингвина на парижских улицах, но параллельно этому в моих книгах существует ситуация и обстоятельства, созданные из реального опыта, на базе сегодняшней драмы, как латиноамериканской в целом, так и, в частности, драмы Аргентины.
– Как в романе «Выигрыш»? – спрашиваю. – Где элементом фантастики становятся для пассажиров парохода невероятные события, происходящие в запретной зоне – на палубе.
– Конечно… И вообще, я хотел бы видеть мир более счастливым, чем он сейчас, мир, где бы вещи не были так подчинены условиям, организующим их таким образом, который, на мой взгляд, не является на самом деле для этих вещей органичным. Я хотел бы видеть мир, где возможности человеческого существа не были бы затоплены и задушены печальным воспитанием, которое дается детям, и все направлено лишь на то, чтобы сделать из них граждан логического города, города Аристотеля. Я хотел бы, чтобы человек стал более открытым к тому, что люди назовут идеальным или чудом, а я называю проявлением фантастики. Чтобы человек был более расположен к состраданию и в конечном счете сам почувствовал его на себе. Я хотел бы, чтобы в будущем человеке максимально раскрылось поэтическое, чтобы поэзия делалась всеми…
Спрашиваю Кортасара, какие обстоятельства влияли на его творчество, сделали его художником, столь глубоко чувствующим страдания каждого человека в отдельности и всего человечества в целом.
– С самого детства, – говорит Хулио, – я был страшно восприимчив или, если хотите, чувствителен. Очень близко воспринимал все, что происходило вокруг меня. Для меня горе любимого существа и даже гибель животных и растений с самого начала моей жизни были обстоятельствами до такой степени потрясающими, что я сам заболевал. Это распространилось на меня самого. Осознав существование ближнего как исторического существа, то есть что я принадлежу народу и что этот народ принадлежит, в свою очередь, всему человечеству, я ощутил свою неотторжимость от судеб моей страны, и сила этого чувства с годами все увеличивалась. Говоря грубо, когда я был ребенком, болезнь моей бабушки делала меня больным, а теперь болезнь Чили и Аргентины делает меня больным. И у меня возникает потребность возмутиться, включиться, сражаться против существования коллективного несчастья, происхождение и причины которого мы знаем и против которого все имеем право бороться…
Думая над словами Хулио, я жалею, что размеры кратких заметок не позволяют мне передать более полно все высказанное им, но я понимаю теперь, что сквозь «магические дыры его реальности», о которых столько писала мировая критика, всегда просвечивает «другое небо» Кортасара – небо того человечества, где каждый будет поэтом.
…Рабочая комната Натали Саррот сплошь заставлена книгами: французскими и русскими, классика и современность – рядом. Многие представители «нового романа» уже не вызывают интереса сегодняшнего читателя, а книги Натали Саррот – всегда в центре внимания. Одна из ее последних книг – «Слышите ли вы их?» – о столкновении поколений. Два этажа жилого дома, два способа существования, две точки отсчета ценностей. Все – не совпадает.
Натали Саррот протестует против варварства, которое порой сопровождает стремление молодых порвать со старым, закостеневшим, но она имеет мужество сказать: «Прислушайтесь к ним». Она любит тех, о ком пишет, и молодежь отвечает ей взаимностью.
– Нельзя подходить к молодым с готовыми схемами, – говорит она в ответ на мой вопрос. – Предвзятость представлений – преграда на пути людей к счастью. Я бы уничтожила эту предвзятость и воспитала у каждого человека и народа умение смотреть на жизнь других, отбросив заведомую вражду, предрассудки.
…Сзади слышится чей-то вопрос.
– Наверное, хватит на сегодня? – обращаюсь к студентам, откладывая в сторону записи. – Как вы видите, Пьер, среди моих собеседников не было «довольных», но духовные ценности, созданные нацией, принадлежат новым поколениям. Вам предстоит жить в том пространственном «окружении», которое создали лучшие умы Франции, дух и гений ее народа. Менять – прекрасно, но «кое-что», может быть, стоит и сохранить?
А два года спустя, в конце семестра, я приехала в Париж уже по приглашению Венсенского университета. Теперь я многое прочла об Университете-VIII, знала, что у него новый президент – Пьер Мерлен, талантливый специалист в области нового градостроительства, автор известных работ о современных условиях жизни, один из создателей плана реконструкции Парижа[1].
На этот раз движемся к Венсену с той же Ириной Сокологорской в непроглядной тьме – с полудня началась забастовка работников электростанций.
В вестибюле центрального корпуса горят свечи, факелы, коптилки – в их огнях различаем одеяла, шкуры зверей, расстеленные на полу, а рядом мексиканское сомбреро, чилийские пончо, сумки, вырезанные из кожи, мечи из дерева. Здесь, в полутьме, Ирина расстается со мной: лекция ее на полчаса раньше.
А это еще что? Наклоняюсь, чтобы проверить. На цепочке – позолоченная бритва. Их у бородатого гиганта целая серия. На темном вельвете салфетки они поблескивают, наводя на дурные мысли. Ощупываю бритвы. Не режутся, и то хорошо.
– Новая мода, – слышу над собой голос на ломаном русском.
Оборачиваюсь. Кудрявая блоковская голова, круглая детская физиономия. На груди – цепочка с бритвой.
– Услышал русскую речь и нашел вас в темноте. – Парень мнется. – Вы очень спешите? Меня зовут Жан.
– Не очень. Еще двадцать минут.
Присев на самодельный табурет, пишем по просьбе Жана поздравительную открытку в Киев. Рядом двое его друзей.
Дальше идем вместе. Обращаю внимание на старинные амулеты. На цепочках – кольца с полумесяцем внутри, лежащие перед молоденькой мулаткой.
– Она из Африки, – поясняет Жан. – Кажется, полумесяц – это знак возвращения. Многие покупают талисман, чтобы вернуться. Как в Риме бросают монетки в фонтан Треви.
Все трое провожают меня в аудиторию по какой-то лестнице – голову сломаешь. И вдруг зажигается свет. Ура!
Видно, чтобы оценить преимущества цивилизации, надо их на время лишиться.
И вот знакомая аудитория. Комната заполнена, прокурена до потолка, сзади настежь распахнутое окно – проветривают.
На этот раз говорим о прозе В. Шукшина, Ю. Трифонова, В. Белова, В. Распутина, А. Битова, Б. Окуджавы, М. Рощина и др., о разноликости ее представителей, раскованности повествования, о ее новых героях, о французских переводчиках прозы, донесших их неповторимые интонации, – Лили Дени, Люси Катала, И. Сокологорской и др.
Сопоставляю, цитирую, вспоминаю о женщинах – моих коллегах-прозаиках – И. Грековой, Е. Ржевской, Н. Барановой, М. Ганиной, Г. Демыкиной, И. Велембовской, А. Беляковой, В. Токаревой и др.
Сыплются вопросы:
– Подробнее о личности В. Шукшина.
– К какой литературной традиции вы отнесли бы последние повести Ю. Трифонова?
– Знаете ли вы повесть А. Битова «Улетающий Монахов»? Только что мы читали ее в «Звезде».
– Что делает начинающий писатель с рукописью? Куда идет?
– Какие права дает членство в Союзе писателей?
– Есть ли в вашей литературе антагонизм между различными течениями?
– Как женщины совмещают быт и творчество?
И вдруг:
– Знакомы ли вы с писателем Григорием Гориным?
Ничего не скажешь, подкованные студенты в Венсене!
И все же что-то изменилось в них. В воздухе нет радости, приподнятости. После нашего разговора студенты начинают шушукаться, к ним присоединяются преподаватели – составляется какая-то листовка, завтра лекции в университете отменяются.
– Почему?
– Демонстрация у министерства.
– Что же вы будете там делать?
– Проведем занятия прямо на улице, у здания. Снова урезали средства на образование, нам в особенности. Уж очень мы колем глаза властям.
– Значит, стало труднее, чем два года назад?
– Намного, – грустно пожимает плечами один из молодых преподавателей. – Редко кто из окончивших может устроиться по специальности. «Фабрики безработицы» – вот как называют сейчас французы свои университеты. Помните Бланш? Та, что отплясывала прошлый раз? Очень способная, а вот, окончив, работает машинисткой… Все бурлит, – добавляет он.
Теперь я знаю, что за шесть летних недель 1968 года в лесу были выстроены корпуса Университета-VIII, чтобы создать экспериментальное учебное заведение нового типа, где были бы соединены признаки очного и заочного института. Венсену предрекали близкую гибель, начались бесконечные дискуссии. В спорах раздражение порой заглушало смысл происходящего.
…Открыты двери в университет для людей, даже недоучившихся в лицее? С заводов и ферм, иногородних и иностранцев, даже для тех, кто уже имеет образование и не удовлетворен им? Не может быть! Да-да, лекции построены с расчетом на самостоятельное освоение дома, в библиотеке… Город гуманитариев, где кроме социологии и права преподают психоанализ, биоэнергетику и сексологию? Кому это нужно?
…Венсен существует уже девять лет. Выпускники его разбрелись по разным городам и странам. В университете сделана попытка создать новую методику преподавания, критически переосмыслить знания, десятилетиями носившие печать академизма, господствовавшего в социальных науках. Статистика показывает, что по кредитованию на научные исследования Венсен находится на семьдесят первом месте среди университетов Франции, по расходам на штаты – на втором, а по количеству научных публикаций – на первом.
Теперь это городок со своими средствами массовой коммуникации, со своей многотиражкой и кинозалом, театром, залом скульптуры, живописи. Библиотека университета обладает редким собранием книг по социологии, эстетике, праву, воспитанию, культуре. Университет становится на ноги. И все-таки споры вокруг Венсена не утихают до сих пор.
В последнее время все упорнее говорят о необходимости переселения университета из Парижа в пригород Марн-ля-Валле. Почему? Истекает срок, на который муниципалитет Парижа предоставил университету участок в Венсенском лесу, временно построенное здание неуклонно разрушается. Резонно. Но только ли о здании идет речь? «Следует ли воспользоваться переселением, чтобы уничтожить душу Венсена, надеть на него смирительную рубашку?» – задает вопрос Жерар Птижан в «Нувель обсерватер». Оказывается, переселение связано отнюдь не только с переменами условий бытия университета. По дороге от Парижа до Марн-ля-Валле должна произойти трансформация Венсена из университета экспериментального в университет, обслуживающий нужды микрорайона, с сокращением числа студентов с тридцати двух тысяч до пятнадцати, с заменой важнейших дисциплин духовного формирования человека полезно-утилитарными – управление производством, экономическое правоведение и т. п. Но на каком основании? А на том, что «…Венсен – это своего рода роскошь, – приводит Птижан слова служащего государственного секретариата по делам университетов. – Это миф, определенный климат, который не поддается административному управлению».
Да, да… не поддается. Как вдохновение и творчество, воздух и талант. Что же, и душа – это тоже своего рода роскошь? Но не станет ли и человек роскошью, если только алгеброй проверять его духовную жизнь, если гуманитарные познания общества, его связи с миром сократить до нужд сиюминутных?
«Вот уже много лет пытаются понемногу убить Венсен, – завершает свою мысль автор статьи в «Нувель обсерватер». – Переселение в Марн-ля-Валле будет днем его гибели». Нет, поверить в это невозможно. Борьба за Венсен продолжается, за него вступились силы прогресса и мужества, и он еще постоит за себя.
…Через месяц я прощалась с Венсеном. Спускаемся по знакомой крутой лестнице. «Минуту, – задерживают меня двое молодых слушателей, – не торопитесь, мы сейчас…»
Уже внизу, в дверях, запыхавшись и улыбаясь, они протягивают коробочку.
Отклеиваю скотч, открываю крышку. На синем бархате поблескивает уже знакомый талисман – кольцо с полумесяцем.
Женщина с бульвара Ланн
Брижит Бардо
В этот день из окна новой квартиры Брижит Бардо на бульваре Ланн были видны темный ноябрьский лес и свежеполитая дождем ярко-зеленая поляна. Квартира на последнем этаже словно продолжает пейзаж за окном. Комнаты выходят на обширные балконы, как в сад или парк: не видишь асфальта, автомобилей, никаких примет индустриального Парижа.
– Я хочу, чтобы вокруг была только природа, вообще то, что я люблю, – говорит она, дымя сигаретой. – Потоки машин, толпа, ужасно! В новой квартире я все устроила по своему вкусу. Вам нравится?
Она поднимается, чтобы сварить на кухне кофе. За ней вскакивают три собаки: белая пятнистая Мифи с угольно-черной маской по глазам и ушам, часто позирует для фото, за ней – такая же пятнистая, побольше, третья – рыжая, пришлая, гостит у нее до понедельника. В вихре собачьего счастья Брижит идет к двери ритмической, танцующей походкой.
У двери она оборачивается:
– В следующий раз угощу вас обедом. Очень люблю готовить сама.
Пока ее нет, рассматриваю гостиную, просторную, как класс для танцев. Слева от серого пушистого дивана и кресел со столиком, где мы сидим, – стеллаж. Лаковые корешки книг, фигурки из дерева, проигрыватель. У стены сзади – вазы, сосуды – подарки из Бразилии, Соединенных Штатов. Тщетно ищу вокруг хоть какое-нибудь «алиби» звезды. Ни одной фотографии Брижит, ни афиши, журналов, пластинок – ничего о ней, как будто она сама себе до смерти надоела.
Все кажется малоправдоподобным. Два потока информации движутся в моем сознании навстречу друг другу не соприкасаясь. Будни ее домашней жизни, четкая, лишенная всякой аффектации речь. Никакого стремления казаться, а только быть.
В то же время память монтирует сенсационные заголовки газет, эффектные позы на обложках журналов, вызывающие высказывания – все, что, слившись с ее экранным существованием, составило механику рождения super star (суперзвезды).
Увы, миф, творимый массмедиа, часто кажется неопровержимее самой реальности, как непреложность печатного слова и иллюстрации сильнее сиюминутных эмоций.
Но сначала немного статистики.
«…Несомненно, что Брижит затмевает Одри Хепберн, Мэрилин Монро и им подобных, – писал Клод Кроес в молодежном еженедельнике «Авангард». – Брижит Бардо сама по себе является фактом социальным, который начали изучать весьма серьезные философы. Малейший слух о Брижит стоит 10–20 тысяч франков, некоторые ее фотографии – 100–150 тысяч».
«Брижит Бардо ежемесячно посвящается десять миллионов слов в печати, – подсчитал писатель Жан Ко в еженедельнике «Экспресс». – Журналисты всех мастей, премудрые философы, психологи, невропатологи, идеологи, историографы самого разного толка создали миф, личность, драму, водевиль, явление, факт, вещь под названием «Бардо».
«Она стала самой известной в мире француженкой!» – восклицал Робер Лешен в «Юманите диманш». Брижит Бардо принесла казне валюты не меньше, чем все проданные на экспорт автомобили «Рено».
Но вот наступает катастрофа.
…28 сентября 1968 года в возрасте двадцати шести лет «наиболее высокооплачиваемая звезда», у которой «любящий муж и девятимесячный сын», закончившая съемки в фильме Клузо «Истина», может быть лучшей своей роли, пытается покончить с собой. В тот осенний ненастный день ее находят во дворе со вскрытыми венами. К тому же она приняла солидную дозу яда. «Она лежала у колодца, – пишет бесстрастный французский хроникер, – без чувств. На хрупких запястьях угрожающе алели тонкие струйки крови. Рядом на траве серебрилось лезвие бритвы».
Трагедия бессилия звезды завершается в этой высшей точке. Смерть отступает, чтобы всего через год перед нами предстала другая Брижит.
19 ноября 1961 года Бардо получает письмо от некоего Ленуара, начальника финансового отдела ОАС, под именем которого, как оказалось, скрывался путчист Андре Орсини, с требованием пожертвовать деньги.
Получив это письмо, Брижит подает в суд и предает гласности шантаж оасовцев.
Мстя Брижит, через месяц, 19 декабря, «ультра» у входа в ее дом взрывают бомбу. Дом пострадал, Брижит – нет.
А десять лет спустя имя Брижит, пройдя по параболе сенсации до точки всеобщего культа, приобщается к историческим ценностям нации. Скульптор Аслан создает новый бюст Марианны – символа Франции. «Четвертой моделью послужила самая популярная французская киноактриса Брижит Бардо», – сообщала пресса.
«Несомненно, – приходит к выводу социолог К. Теплиц в книге «Мир без греха», – «явление Брижит Бардо» – одно из крупнейших творений общественной мифологии, какое когда-либо создавала европейская культура».
Такова проекция внешней цепи события на газетную полосу, подобная следу самолета, который уже улетел.
Сейчас я пытаюсь понять, что же при этом происходило с личностью Брижит, как формировалась или деформировалась ее индивидуальность, что, наконец, творилось в это время с такой «банальностью», как ее душа.
В спальне Брижит Бардо над широкой постелью висит большой гипсовый барельеф. Обнаженная фигура женщины, на лице – гримаса восторга или экстаза. В пластике тела та предельность отчаяния, за которым – срыв.
– Что это?
– Портрет возлюбленной моего друга – художника. Талантливо, правда?
Я представляю себе мысленно, как каждый день, вставая утром и ложась вечером, она видит это.
– Вам хорошо в этом доме? Вы независимы? – спрашиваю ее.
– Независимость, – пожимает она плечами, – она ведь не вне нас, она внутри. Если я внутренне от кого-нибудь или чего-нибудь завишу, мне не помогут даже очень благоприятные обстоятельства.
– Если обстоятельства паршивые, тоже мало хорошего… – замечаю я.
Она кивает.
– Порой удивляешься, как много у вас пишут о свободе женщин. Вы тоже за равноправие?
– Для меня это – быть естественной, быть женщиной, – говорит она. – Равноправие – это высшая несвобода для нас, потому что мы по природе своей отличаемся от мужчин. Мужчина должен охранять, защищать женщину. И еще… не убивать.
– Политика, вы интересуетесь ею?
– Нет. В том смысле, какой этому придают теперь. Политика – это когда кто-то от кого-то чего-то хочет. Знаете, политика нужна, но только чтобы люди оставались людьми. И по отношению к животным тоже.
– Да, я слышала, что вы учредили общество защиты зверей. Бездомные собаки теперь благодаря вам могут найти приют.
– Это правда, – кивает она. – Мне всегда очень жаль собак. Остальными проблемами занимаются многие, а животными – никто. Они совсем беззащитны перед человеком.
Она встает, чтобы переменить пластинку. Музыка льется со стеллажа не переставая, она окутывает нас, не мешая, не перебивая.
– Какую вы любите музыку? – спрашиваю.
– Разную. Я всегда с музыкой. Ем, читаю, танцую, а вокруг меня музыка. Когда работаю, я люблю серьезную музыку – Брамса, Баха, Моцарта. Вашу русскую музыку страшно люблю.
– А литературу? Вам нужна она? Можете без нее обойтись?
– Могу, – пожимает она плечами. – Когда я поглощена чем-нибудь в жизни, я никогда не читаю. Но если я внутренне не занята, то должна отдаться чтению целиком. – Она улыбается.
Невольно разглядываю ее. Щеки, веки, рот – выпукло-мягкие, чрезмерные для маленькой головы. Прямая, как у балерины, спина, густая копна жестких желтых волос и длинная шея придают пугливую легкость каждому ее движению.
Она листает мою книгу «Семьсот новыми», которая только что вышла на французском в издательстве «Галлимар». «Брижит Бардо, которую знают все и которую никто не знает», – подписываю я ее экземпляр.
– Вы правы, меня действительно не знают, – говорит она с легким замешательством. – Я совсем не star в том смысле, какой в это вкладывают. Ведь я ценю самые что ни на есть простые вещи.
– Да?
– Конечно. Для меня наслаждение уехать, просто копаться в земле, дышать воздухом, не отравленным бензином, смотреть на распускающиеся листья.
Мне не верится (в деревню, в глушь, надолго ли?).
– Да, я слышала, что вы заявили об уходе из кино. Вы уверены, что сделали правильно?
– Я уравновешенна, спокойна. Для меня это счастье.
«В чем покой для Брижит? – думаю я. – Ведь желания этой женщины исполнялись с такой быстротой, словно она держала в руках лампу Аладдина».
– Казалось, я получила в жизни все, – замечает она, словно проследив за ходом моих мыслей, – но я не могу этим воспользоваться. Не могу жить как хочу, я лишена простого удовольствия бродить по улицам. Понимаете? Я во всем несвободна.
Сейчас я пытаюсь понять. Раздумывая над судьбой многих «идолов» западной публики, перелистав кипы иллюстрированных еженедельников, журналов и газет, я начинаю постигать место Брижит Бардо в системе символов буржуазной цивилизации, и в первую очередь в системе массмедиа.
(Сразу же оговорюсь, что сказанное в этих заметках вовсе не касается многих замечательных художников Франции, чья жизнь неразрывно связана с искусством и творчеством, здесь речь лишь о суперзвезде как социальном феномене, существующем не только в искусстве и не только для искусства.)
Хронология звезды началась с пятидесятых годов двумя фактами: фильмом Роже Вадима «И Бог создал женщину» и браком с Роже Вадимом.
С тех пор все, что касалось ролей в кино, и все, что имело отношение к ее личной жизни, неотделимо перемешивается на страницах газет, создавая одно целое: некий образ-маску, вобравшую в себя массовый идеал и ажиотаж каких-то слоев молодежи конца пятидесятых – начала шестидесятых годов, поклонявшейся этому кумиру при жизни, как никому раньше. Не только ее вещи или события ее частной жизни возводились в культ. Ее репликами пользовались для объяснения в любви и уходов из дома. Ее манера сидеть, носить потертые джинсы, обтягивающие свитера, сумку через плечо, негодуя, кричать в голос, беспечно, независимо улыбаться тотчас же размножались миллионными тиражами, порождая массовый, незапрограммированный урок жизни. Этого не могли объяснить ни мастерством актрисы, ни красотой женщины, ни фантастической рекламой, сопутствующей ее карьере, ни ее поступками.
Феномен звезды заключает в себе как условие то непостижимое, что рождается из сплава многих компонентов, разъятие которых ведет к ординарным слагаемым.
Ничем в отдельности этого и нельзя объяснить.
В основе сложного сплава образа Брижит Бардо было одно неосознанное понятие – «свобода». Свобода от многих условностей общества, свобода поступать по-своему, наконец, свобода любить и бросать нелюбимого. Каждый вкладывал в нарушение Брижит Бардо привычного идеала свое представление.
Одни, как французская писательница Симона де Бовуар, видели в этом протест против серости и обывательщины. «Молчите, спрячьте эту девушку, – издевательски бросала она публике в нашумевшем эссе о Брижит, – уберите ее с дороги, обрейте ей голову, заткните ей рот! Но что это? Она по-прежнему смеется! Ну хорошо, вы правы, так будет проще и вернее: сожгите ее».
Другие, подобно американскому режиссеру Альфреду Хичкоку, спрашивали: «Она что – актриса кино или газетная актриса?»
Третьи, как Михаил Ромм, отмечали истинное мастерство Брижит Бардо.
Но что бы ни восклицали и ни спрашивали, ясно было одно: на смену аристократкам кино, красавицам тридцатых-сороковых годов пришла на экран девочка с улицы, с ужасными выходками, презиравшая все нормы воспитания, отбросившая многие условности буржуазной морали.
Усиленные прессой любопытство и жажда сенсации гнали толпы молодежи Америки и Франции посмотреть сцену в ленте «И Бог создал женщину», где восемнадцатилетняя Жульетта (Брижит Бардо) бросала вызов деньгам, карьере, благопристойности.
На яхте промышленника Эрика Каррадайна, волочащегося за Жульеттой, один из его гостей лениво бросает ей:
«– Вы слышали о пылесосах Вижье?
– Да.
– Это я. Вы знаете сахар Лефранк?
– Да.
– Это я… Потанцуем?
– С пылесосом – никогда!»
Такого зритель еще не слышал с экрана.
Брижит Бардо не раз сравнивали с Мэрилин Монро. Да, в формах фанатизма публики было много общего, но небольшой сдвиг во времени сформировал два разных символа.
Мэрилин Монро – возлюбленная всей Америки (sweet heart) – была порождением Голливуда в его первоначальном стандарте «фабрики грез». Ее сделали блондинкой, учили хохотать, когда ей было тошно, олицетворяя процветание и успех, ей даже придумали искусственное имя – Мэрилин Монро – взамен собственного. Когда Галатея была готова, ее искусственно подняли из нищеты приюта на пьедестал всеобщей возлюбленной Америки. В тридцать шесть лет это кончилось. Она не выдержала кошмара публичности, одиночества, бессонницы, доводящей ее до нервных расстройств. Поразительно, снявшись в роли мисс Фитц с Кларком Гейблом в одноименном фильме, она так и не сумела примениться к роли, которую ей предназначало общество. Ей недостало сил доиграть до конца современный вариант сказки о Золушке, выбившейся в принцессы.
Брижит Бардо была прежде всего беззастенчиво натуральна. Раскованностью чувств, независимостью поведения, эпатажем выходок и высказываний она отрицала привычные атрибуты «фабрики грез». В ней все было естественное, все свое. Как и Мэрилин Монро, она раздевалась на экране, но, казалось, без всякого желания разжечь публику, а просто потому, что ей так самой захотелось, с такой легкостью, будто нагота была ее костюмом. В ней был тот шик естественности, который стал повальной модой.
– В чем же, по-вашему, причина вашей фантастической популярности? – спрашиваю ее.
– Ничего таинственного, – смеется она. – Мне кажется, я просто отвечала определенному образу, которого требовало время.
Брижит Бардо действительно попала в «подходящий момент». В этом прямая связь между нею и временем. Но символы эпохи, подобные Брижит Бардо, всегда вступают с действительностью и в обратную связь. В мире, творимом массмедиа, история выворачивается наизнанку. Она начинается фарсом, а кончается трагедией. Существование Брижит породило поток сознания, вещей, системы представлений, которые сами наложили свой отпечаток на последующее развитие событий.
Увы, миф всегда имеет две ипостаси. Одну – восходящую, когда кумир – это божество, недоступность драгоценного оригинала; другую – нисходящую, когда, размноженный в бесчисленных копиях, его воспринимают как общедоступную репродукцию. В период формирования, наращивания слава кумира – всегда отражение новых форм и понятий. В период массового тиражирования создается клише, отливающее черты «идола» в стандартную маску. Теперь толпа хочет одного: чтобы каждый вздох, каждая подробность жизни кумира принадлежали только ей…
В какой-то момент, когда выпит кофе и о многом уже говорено, я все же решаюсь на бестактность и задаю вопрос о причинах ее ухода из кино.
– Если не хотите, не говорите, – замечаю я, – но только правду: почему все же?
– Откровенно? Мне надоело сниматься в плохих фильмах. Больше я этого делать не буду.
– Значит, решение не бесповоротно? А если будет интересный сценарий и режиссер?
– Ну, если все это будет, тогда и посмотрим.
Тема явно не интересует ее.
– Разве вы не будете тосковать по процессу съемок, самой работе?
– Нет, – говорит она убежденно. – Кино для меня никогда не было существом жизни.
– Что бы вы хотели изменить в окружающем мире, чтобы быть более счастливой? – задаю я ей вопрос, который задавала многим.
– Людей, – выпаливает она не задумываясь. – Характеры людей. Надо жить с людьми, а это невозможно.
– Но почему? – поражаюсь я. – Разве люди не доказали вам свою любовь?
– Нет. Известность – это совсем другое. Но и слава моя создана в значительной степени ненавистью.
Действительно, на разных ступенях славы Брижит как рефрен в ее высказываниях возникает мотив враждебности к ней окружающих.
«Это большая радость – говорить с людьми, чувствовать их любовь и дружбу, – замечает она в интервью четырем корреспондентам крупных газет и журналов, данном ею на телевидении год назад. – Но вообще-то первая реакция человека по отношению ко мне – агрессивность».
– Говоря со мной, люди теряют естественность, – жаловалась она раньше, – я подхожу к ним, они уже совсем другие. Подчас я даже думаю, что я – это не я.
За поклонение толпы, за предание гласности каждой подробности личной жизни – расплата, как в «Фаусте», одна – душа.
Публичность звезды делает ее внутреннюю жизнь такой же собственностью публики, как и ее фотографии.
Осенью, перед поездкой в Париж, я прочитала книгу австрийской писательницы Ингеборг Бахман «Синхронно». Никто, как мне кажется, с такой силой в последнее время не передавал процесс растворения «я» женщины в конвейере делового мира.
Первое, что мне сообщили в Париже, – о недавней гибели Ингеборг.
Писательница, удостоенная многих литературных премий мира, у себя в квартире в полном одиночестве пыталась погасить огонь вспыхнувшей от сигареты ночной рубашки, вызвать подругу, дозвониться кому-нибудь…
В повести «Три дороги к озеру», в рассказе «Синхронно», давшем название сборнику, она словно заглянула в свою судьбу. Героиня «Трех дорог» так и не может спуститься к заветному озеру своего детства и уезжает, чтобы умереть в чужом, далеком городе; синхронная переводчица, мастерски переводя со многих языков на конгрессах, деловых встречах, симпозиумах, бежит после недели отдыха на взморье с возлюбленным в привычный ритм жизни, который будет ее все дальше обезличивать и отнимет то последнее, что было когда-то ею.
К рассказам Ингеборг Бахман можно было бы предпослать эпиграфом восклицание Брижит Бардо: «Подчас я даже думаю, что я – это не я».
И сейчас, когда я сижу в атмосфере тепла и покоя ее квартиры, слышу шелест осенней листвы за окном, я, может быть, больше всего удивляюсь тому, что, пройдя все стадии непрерывной сенсации, она осталась самой собой, сумев сохранить интерес к себе как личности у миллионов людей.
За двадцать лет жизни Брижит в кино сменились пласты нравственности, ушли в прошлое формы эпатажа.
В свое время в емкой, психологической тонкой ленте Отан-Лара «В случае несчастья» с Брижит и Жаном Габеном в главных ролях сталкивались два понятия морали.
Застав свою девчонку Иветту после приема наркотика, седой адвокат (Жан Габен) в бешенстве кричит:
«– Зачем ты это делаешь?
– Успокойся, – утешает она его. – Сама я только так, попробовала. Это для продажи.
– Для продажи? – в изумлении отступает покровитель. – Но у тебя же все есть. Зачем тебе деньги?
Иветта исподлобья глядит на него:
– Я хотела с вами расплатиться. Отдать вам за защиту на процессе.
– Но зачем? – не понимает он. – Ты же знаешь, что мне не нужны деньги. Я тебе дам столько, сколько тебе надо.
– Нет. Нет, – протестует она. – Я должна расплатиться. Иначе… – она поднимает глаза, – я должна быть вам верна. А этого я не могу».
Иветта-Брижит может торговать наркотиками, но не своим правом поступать по-своему.
В «Последнем танго в Париже» с Марлоном Брандо и Марией Шнайдер случай тоже сведет в любви людей двух поколений, но, если чувственность миновала, девчонка сама убьет возлюбленного, заботясь лишь о том, чтобы не попасть в полицию.
Сменилось время, сменились герои.
Но кто же пришел сегодня на смену Брижит Бардо? – задаюсь я вопросом.
Пришли многие, но никто – один. В ранг суперзвезды в нынешней системе массмедиа был возведен лишь Христос. Театральный бестселлер «Иисус Христос – суперзвезда» обошел все телеэкраны и магнитофоны мира, но на грешной нашей земле этого титула не удостоился никто.
Случайность? Нет, скорее закономерность. Здесь допустима параллель с социологией.
Известный американский экономист Дж. Гелбрейт в книге «Новое индустриальное общество» отмечает, что современное буржуазное общество может быть понято лишь как «синтез групповой индивидуальности, вполне успешно осуществляемой организацией».
Пик славы Брижит приходится на 1960–1964 годы. Экранный пунктир его прочерчивается после «И Бог создал женщину» по фильмам «Истина», «В случае несчастья», «Частная жизнь», «Вива Мария».
Но что же случилось в 1964 году?
На звездную арену вышли «Битлз».
Четверо парней завоевали публику, заполнили вакуум идолопоклонничества. Их было четверо, но идол не может быть коллективом. Ансамбли звезд – нечто социально и психологически совсем иное, чем идеал, воплощенный в одном человеке. Вслед за «Битлз» пришли «Роллинг стоунз» и другие группы в той или иной области, но никто один не занял пьедестала вселюбви публики.
Брижит Бардо, в которой толпа персонифицировала первую героиню буржуазной раскрепощенности, как бы начала новый отсчет времени всеобщего отрицания, дошедшего до сжигания многих ценностей западной цивилизации, до студенческих волнений 1968 года.
Последняя суперстар Брижит Бардо стала первой хиппи в кино.
Будут ли новые звезды, вызывающие подобный фанатизм буржуазной публики «конца века»? И если да, то кто «счастливчик»?
– До следующей недели, – сказала она, прощаясь. – Как договорились.
– Спасибо. Ваш голос у меня на магнитофоне. На память.
Она кивнула:
– Если вам захочется написать – пожалуйста. Можете писать все. Я ничего не скрываю…
Американки и другие
Еще вчера – первые леди
Хозяйки Белого дома всегда притягивали к себе внимание американцев. Вызывая восхищение, кривотолки, желание подражать им или дискредитировать их, первые леди накладывали неповторимо-индивидуальную окраску не только на ритуал Белого дома, но и на психологическую атмосферу. Будучи свидетельницами целых периодов истории Америки, они сами принадлежат ей.
Жаклин
Тот день, когда Жаклин Кеннеди – женщина, с чьим именем соединилась в моем сознании одна из самых непостижимых трагедий современной Америки, – появилась в доме министра торговли Питера Питерсена и его жены Салли, был не совсем обычным. Накануне прохладного ноябрьского вечера 1977 года газеты сообщили, что в машине, откуда только что вышла дочь Жаклин, Каролина, взорвалась бомба. К счастью, девушка не пострадала. Она успела подняться к своим знакомым.
Просторная квартира Питерсенов на Грэйс-сквер, известная в интеллектуально-артистических кругах Нью-Йорка, была обставлена с изысканностью и выдавала любовь хозяев к модерну, живописи начала века, современному дизайну. Нарядно-белая гостиная со звуконепроницаемыми окнами во всю стену, дымчато-ворсистые настилы вместо паркета, блекло-серая обивка диванов и стульев контрастировали с яркими пятнами абстрактных картин, с молодой зеленью словно прорастающих сквозь пол деревьев. В доме истинно любили искусство, покупали картины, предметы стиля ар-нуво. Салли Питерсен мечтала приобрести Кандинского. Кроме Жаклин Кеннеди, как мне помнится, было несколько молодых сенаторов с гуманитарным уклоном, высокий, с пышной седой шевелюрой издатель «Нью-Йорк таймс», изобретатель новых программ игр на телевидении (только входивших в моду), уже почитаемый у нас писатель Курт Воннегут, дизайнер и художница по костюму Молли Парнис. Мне выпало сидеть между Жаклин и молодым профессором Колумбийского университета Уэсли Фишером, свободно говорившим по-русски.
Сохранились редкие любительские фотографии, сделанные Дэвидом – сыном хозяйки. Момент беседы за столом, группа улыбающихся гостей у дерева, у окна с видом на Манхэттен. Сегодня они ценны как отпечатки времени, которое переиначило многие судьбы. Распались супружеские пары, сменились посты, ушли в прошлое дружеские связи. К тому же Жаклин (Джекки) всегда избегала лишний раз фотографироваться.
Трудно было воспринимать эту женщину, ставшую легендой, в обычной обстановке, нелегко следить за напряженно-интеллектуальным разговором на чужом языке. Для меня, как и для многих в России, убийство Джона Кеннеди в 1963 году и последовавшие за ним события были потрясением, изменившим в определенном смысле восприятие современной Америки. Все, что переплелось и связалось в те месяцы с выстрелом, оборвавшим жизнь одного из самых обаятельных и умных президентов мира, который уцелел под пулями врага в годы войны, выжил после тяжелого ранения, а теперь был сражен на глазах у всей Америки, покачнуло веру моих сверстников в торжество американского правосудия. Нам, не ведавшим меры беззакония в собственной стране, казалась немыслимой безнаказанность, с какой уничтожались свидетели и улики, как только они обнаруживались по ходу следствия; мы не верили, что «дело Кеннеди» могло быть закрыто без обнаружения и наказания всех преступников, причастных к убийству. Это разочарование в правовом демократизме Америки, длившееся полтора десятилетия, прекратилось лишь в пору Уотергейта, когда вера в престиж судопроизводства и силу общественного мнения американцев была в наших глазах восстановлена.
Пока я вслушиваюсь в плавное течение беседы за столом в нарядной гостиной Питерсенов, услужливая память высвечивает кадры кинохроники: кортеж во главе с открытой машиной президента в Далласе на пути от Мейн-стрит к Элм-стрит, непроизвольное движение Джона Кеннеди вперед после выстрела, с лицом залитым кровью, его жену, в розовом костюме и изящной шляпке, с ярким букетом цветов, только что ослепительно улыбавшуюся, а теперь как бы сползающую вслед за ним из машины с остекленевшим взглядом. Вспоминаю я и череду последовавших событий: удар, быть может не меньший для Жаклин, чем смерть мужа, – близкое, как эхо, убийство Роберта Кеннеди, брата президента, долгое и мучительное расследование, страх за детей – весь этот поток несчастий, связанных с насилием и бессилием, быть может, повлиял на ее решение – заключить новый, многими непонятный брак с крупнейшим греческим судостроительным магнатом Аристотелем Онассисом в 1968 году и уединиться с детьми под надежной охраной на его острове Скорпиос. Когда и это безопасное уединение оборвалось смертью второго мужа, миссис Онассис вернулась в Нью-Йорк и вскоре начала сотрудничать в издательстве «Вайкинг», где, в частности, выпустила интересную книгу об истории русского костюма.
Очевидно, в связи с публикацией книги беседа за столом коснулась истории России. Воображение американцев поражают изысканность узоров на тканях царствующих особ, своеобразие и обилие драгоценных украшений на платьях, головных уборах, поясах. Жаклин немногословна. Отвечая на вопросы, она вспоминает о недюжинном уме и образованности императрицы Екатерины II, ее силе духа, вольном поведении; кто-то приводит в пример переписку с Вольтером и другими просвещенными людьми века. Затем разговор становится общим, перекидывается на последние газетные новости, касается предстоящей выставки советского авангарда, возрождения интереса в мире к Кандинскому, Петрову-Водкину, Малевичу, Филонову, Гончаровой, Серебряковой.
В какой-то момент наступает затишье, ковровые настилы поглощают остатки голосов, и тут я все же решаюсь и задаю Жаклин вопрос, который мучил меня весь вечер:
– Что же случилось с вашей дочерью Каролиной?
Гости спешат разъяснить происшедшее в Лондоне, высказывают предположение о том, как могла попасть бомба в машину. И сквозь все это – моя неуместная настойчивость, неудержимое желание проникнуть в психологию женщины, которую преследует рок.
– Как вы теперь поступите? Наверное, небезопасно ей оставаться в Лондоне?
Впоследствии свидетель разговора, профессор Уэсли Фишер (уточнявший для меня многое из сказанного за столом), заметил, что вряд ли кто-либо другой из присутствующих мог поговорить об этом с Жаклин. На подобный вопрос могла отважиться только иностранка.
По лицу миссис Кеннеди проскальзывает легкое недовольство.
– Я думала об этом, – поднимает она широко расставленные, всегда чуть удивленные глаза. – И первым моим побуждением было немедленно потребовать, чтобы Каролина вернулась. Но я остановила себя. Поразмыслив, я пришла к выводу, что, заставив ее вернуться, я навсегда передам ей мой страх. – Жаклин медлит, переводя взгляд с одного собеседника на другого. – Моя дочь не должна испытывать страха, иначе не выдержит. Каролина обязана знать, что это может случиться, но не испытывать страха, ведь она – Кеннеди.
Наступает пауза. Мы никогда не узнаем, о чем подумала вдова президента в ту минуту. Потом она добавила:
– Я спросила дочь по телефону: «Что ты собираешься делать?» Она ответила: «Ничего. Все нормально». И я не стала настаивать на возвращении.
Мне не захотелось тогда соглашаться с подобной философией матери. Однако много позже, когда открывались все новые подробности жизни семьи Кеннеди, а досужие «кумушки» в разного рода публикациях пытались оценить поступки вдовы президента с точки зрения мещанских, бытовых претензий, я осознала ее правоту. Сохранение престижа семьи с ее нескончаемой Орестеей, за которой следил мир, вызывая у одних восторг на грани обожествления, у других – ненависть (как к клану), было самым надежным способом самосохранения ее членов. И Каролина должна была жить, отбросив тревогу, с высоко поднятой головой.
Прошли годы.
В следующий приезд мне не довелось увидеться с Жаклин Кеннеди-Онассис. Но получилось так, что на сей раз я ненадолго задержалась в Далласе. Все кипело вокруг предстоящих через три дня выборов. Сторонники Буша и Дукакиса выбрасывали на страницы газет и телевизионные экраны последние доводы в пользу своих кандидатов. Моя переводчица и спутник в путешествии американка Мишель Берди (Мики) очень радовалась, что мы будем наблюдать предвыборные митинги, затем само голосование, да к тому же в Далласе! Но мне хотелось еще успеть пройти по улицам, которые хранят память о последних днях и часах погибшего здесь президента.
В самолете от Лос-Анджелеса до Далласа нам, как бы для воскрешения в памяти событий минувшего, показали документальный фильм. Плохо смонтированный, немного рекламно-бравурный, но подлинный. Детство Джона Кеннеди: хорошенький мальчик бежит по берегу моря; подросток в окружении братьев, сестер, матери, отца, бабушки, дедушки; стройный молодой офицер с отличной выправкой и с копной светлых волос; потом уже жених, с победным видом стоящий рядом с будущей женой-красавицей. Да, гордость его естественна – изящная француженка, в открытом подвенечном платье, с обнаженными тонкими руками и роскошным водопадом темных волос, притягивает взгляды окружающих.
Но вот возникают обошедшие мир стоп-кадры: за несколько часов до выстрела Кеннеди с Жаклин в толпе улыбающихся, счастливых людей, с энтузиазмом протягивающих руки президенту, едва различимая на заднем плане фигура одинокого полицейского; потом – открытая машина с президентской четой, губернатором Джоном Коннэли, и вслед за этим, крупным планом, – пораженный пулей в голову Джон Кеннеди рядом с ошеломленной женой; затем уже в самолете, в том же розовом костюме, забрызганном кровью мужа, рядом с вице-президентом Л. Джонсоном, теперь уже фактически президентом, и губернатором Коннэли; оба своим присутствием рядом с вдовой как бы свидетельствуют о реальности происшедшего, казавшегося дурным сном. Завершает фильм снятая рапидом церемония похорон. На белом воинском лафете плывет над движущейся многотысячной процессией тело президента. За лафетом – траурной группой его семья и отдельно, высвеченная и приближенная камерой, Жаклин, ее профиль, затененный черной кружевной накидкой…
Стою у скромного монумента, с двух сторон огороженного белой балюстрадой, в небольшом сквере, расположенном рядом с улицей, на которой его убили. Ноябрь, по свежей зеленой траве, не тронутой увяданием, ползет луч солнца. Из-под тоннеля, на пути, по которому следовал в момент рокового выстрела автомобиль президента, вырывается слабый ветерок, пробегая по гирлянде листьев, вокруг царит необычайный покой. Редкие в этот час туристы разговаривают вполголоса. Читаю надпись на монументе:
«22 ноября 1963 года Джон Фицджеральд Кеннеди, 35-й президент Соединенных Штатов, посетил город Даллас. Кортеж с президентом ехал на север по Хьюстон-стрит до Элм-стрит, а потом свернул на запад на Элм-стрит, когда в 12.30 раздался выстрел, ранивший президента и тогдашнего губернатора Техаса Джона Коннэли. Исследования комиссии Уоррена показывают, что выстрел был совершен из окна шестого этажа здания Техасского школьного книжного хранилища, которое находится на углу улиц Элм и Хьюстон. Президент Кеннеди скончался в больнице Паклэнд-Мемориал в час дня».
– Я очень хорошо помню все пленки, – помолчав, говорит Мики. – Это, по-моему, любитель снимал. И кортеж, и то, что случилось. Все присутствовавшие слышали несколько выстрелов. Но они сомневались: один ли это был выстрел, отозвавшийся множественным эхом, или несколько выстрелов. Я помню, что мне показалось непонятным на снимках это движение вперед жены президента в открытой машине, она как будто увидела что-то, гильзу, пулю или что-то еще, и автоматически двинулась туда, чтобы это взять. Потом она объясняла, что совершенно ничего не помнит, не знает, почему она это сделала. Из комиссии Уоррена кто-то подтвердил: нашли еще одну гильзу и эта гильза была не из винтовки Освальда, значит, стрелял не он один. Но это все до сих пор покрыто тайной.
Потом мы пытаемся войти в дом номер 411 по Элм-стрит, где располагалось бывшее Техасское школьное книжное хранилище. На красный терракот здания, где полукружия венецианских окон с черными рамами напоминают отверстия ствола с прицельной мушкой, прибита вывеска нового учреждения. На шестом этаже, откуда раздались выстрелы, несколько окон приоткрыто. Подняться нам не удается. Объявление гласит, что посещения не разрешены, так как мешают работе офиса, но что вскоре будет открыт музей и тогда доступ в верхние этажи возобновится.
Словно помогая мне осмыслить происшедшее в те дни, восполнить некоторые пробелы следствия, случай подбрасывает в день отлета свежий номер журнала «Домоводство» («Ледиэ Хоум джорнал»), где двум журналисткам, Марне Блиф и Джейн Маррел, удалось получить к траурной дате интервью у Марины Освальд-Портер, вдовы убийцы Джона Кеннеди.
Впервые за двадцать пять лет Марина заговорила о происшедшем в ноябре 1963 года, о том, что изменило, как она выразилась, «всю американскую национальную историю и ее собственную жизнь». В свое время под влиянием шока, когда она узнала о поступке мужа, из страха перед опасностью быть уничтоженной, как это случилось с другими свидетелями, вдова Освальда дала зарок молчания. И вот новый человеческий документ, полный боли и горечи, заставил взглянуть на те давние события по-иному. Во всю страницу на меня смотрела круглолицая, еще молодая женщина с умным взглядом немыслимо ярких синих глаз.
«Я жила столь многие годы с ощущением страшной вины, – прочитала я на первой же странице. – В течение стольких лет я пытала себя – могла ли я что-нибудь сделать, чтобы предотвратить убийство в 1963-м? В своих мольбах я всегда испрашивала прощения у Джекки Кеннеди, я думала о моей роли жены убийцы и приходила к выводу, что все, что я могу, – это желать ей самого лучшего».
Так переплелись для меня в неожиданной точке судьбы двух столь разных по происхождению, положению в обществе женщин, до 22 ноября 1963 года не ведавших о существовании друг друга.
Кто же она, Марина Освальд-Портер? Русская американка, попавшая в водоворот историй, что она знала и думала о муже? О мотивах преступления? Как жила в чужой стране, окруженная стеной ненависти к покойному мужу?
Родилась Марина Прусакова в Советском Союзе. В двадцать лет познакомилась в Минске с Ли Освальдом, затем они поженились. Вскоре у них появилась одна дочь, потом другая. Всего за семнадцать месяцев до страшного дня убийства Марина с мужем переехала в Техас, поселилась в Далласе (где и сейчас живет) с двумя детьми, полутора лет и четырех месяцев.
В тот день по телевизору она видела покушение на президента, но, когда вошел полицейский и сказал, что это ее муж – виновник случившегося и это ему предъявлено обвинение в убийстве, она испытала такой ужас, что все последовавшее долгое время выталкивалось из ее сознания. Несчастье усугублялось плохим знанием нового для нее английского языка. На первом же допросе она подтвердила, что оружие принадлежит мужу, и, следовательно, признала, что он виноват… «Я была тогда как слепой котенок, – говорит теперь Марина. – Мне было так страшно. Одного я не могла понять: зачем Ли понадобилось убивать президента? Ведь он не раз говорил мне, что очень уважает и любит Кеннеди». Потом она вспомнит многое, что ей казалось странным в его поведении перед покушением. «Он как будто бы специально появлялся то в одном, то в другом месте, чтобы потом кто-то мог его вспомнить, и это всплыло». Анализируя прошлое, Марина теперь говорит и о двух моментах, которые казались неубедительными в официальной версии, согласно которой Освальд все это задумал и выполнил один. В канун убийства, как ей потом припомнилось, вдруг возник какой-то человек, которому понадобилось выдавать себя за Ли Освальда, чтобы запутать потом следствие. К примеру, свидетели подтверждали, что видели Освальда, который хотел купить новую машину, пил в баре… Однажды человек из ФБР повел ее в магазин, где Ли якобы купил оружие, и кто-то даже описал Марину, сказав, что женщина, схожая с ней внешне, носила платье, подобное тому, что носят беременные. Такое платье у нее было на самом деле. Но Освальд никогда не пил и не умел водить машину. А она никогда не была в том магазине, где якобы ее видели с ним. Это были подставные люди. Ведь кому-то понадобилось, чтобы Джек Руби убрал Ли и никогда не раскрылась правда. Сейчас она думает, что Освальд был пешкой в каком-то замысле, кому-то было нужно, чтобы убили Кеннеди, и мужу поручили это. До сих пор Марина не уверена, что президент был убит именно Освальдом, это окончательно не доказано, полагает она. Не доказано, что это его выстрел был смертельным. Подтвердилось, что Ли выстрелил из окна шестого этажа дома, но нет доказательств, что из многих выстрелов именно выстрел Освальда убил президента. «Незадолго до 22 ноября, – рассказывает Марина, – Ли хотел меня отправить с детьми на родину, я тогда решила, что у него появился кто-то и что я ему мешаю. Я отказалась уехать, но теперь думаю, что он просто хотел защитить меня и детей от того, что на нас надвигалось. Теперь я думаю, что он был агентом, работал на американское государство. Может быть, разведчик, работал на ЦРУ или на другую госслужбу как шпион, но он не был одиночкой, который сам принял решение убить президента. Ему это было поручено. У меня осталось на совести, что я не сумела найти доводов в защиту Ли, а сразу все признала. Потом, когда они его убили и некому стало его защищать, мне было особенно тяжело. Он-то уже не мог себя защитить. Я очень горевала, когда он умер. Я не говорю, что он не виноват, конечно, он участвовал в сговоре, знал обо всем, но я не уверена, вылетела ли та пуля, которая убила президента, из ружья Ли. Это был сложный заговор, гениально выполненный, неужели один человек мог все это организовать? Ведь само убийство Освальда от руки Джека Руби и гибель других свидетелей были частью того же прикрытия…»
Два года истечет со дня убийства, и Марина Освальд выйдет замуж. За фермера Портера. И Марине понадобится защита мужчины, который возьмет на себя ответственность за нее и двоих ее детей…
Но и теперь ей кажется, что наступит все же день и кто-то из правительства придет к ней и скажет: «Извините». Она уверена, когда-нибудь найдут тех, кто послал Ли Освальда на убийство, потому что пока никому – ни ей, ни народу – не сказали всей правды об этом… «Не имеет значения, сколь вы богаты или бедны, – добавляет она, – две женщины чувствуют одинаковую боль, Джекки несет в сердце свою, я – свою. Я желаю ей благополучия. Когда ее дочь Каролина родила малыша, я была в восторге. Я слышала, что ребенок здоровый, и радовалась, что это так. Я хожу на могилу с прежней уверенностью, что Ли восторгался Джоном Кеннеди. Откуда, по-вашему, я тоже научилась любить его? Теперь я уже не та девочка, которая попала в чудовищную ситуацию, у меня взрослые дочери и сын. Я счастлива быть женой и матерью, мой муж заботился обо мне. Но я верю – когда-нибудь я узнаю правду, потому что прекрасная страна Америка стоит того, чтобы ей сказали правду, она достойна правды, и я тоже должна узнать правду». Что ж, не будем подвергать сомнению наивные предположения Марины, отдадим должное смелости ее сегодняшнего признания. Мысленно расставаясь с Джекки Кеннеди-Онассис, как и с вдовой убийцы ее мужа, решившейся на исповедь, я надеюсь, что, быть может, когда-нибудь и мы узнаем многое, о чем еще не пришло время говорить открыто.
Бетти
Мое знакомство с Бетти Форд началось с ее книги «Радостное пробуждение». Безоглядные мужество и откровенность бывшей хозяйки Белого дома, решившейся открыть перед всей Америкой свой страшный алконедуг, поражали, вызывая восхищение. Редакционная заметка, предваряющая книгу, вышедшую в 1988 году в «Даблдей», гласит: «Все выглядело прекрасно. Бетти Форд была замужем за мужчиной, которого любила. У них родились четверо замечательных детей. И после того как она стала первой леди Америки, все люди, друзья, окружавшие ее, хорошо узнали интеллигентную, очаровательную, полную неиссякаемой энергии Бетти. Но о чем не знал ни один человек, кроме нее самой, – это ее болезнь. Как многие миллионы американцев, Бетти Форд страдала алкоголизмом, принимала наркотики…» «Радостное пробуждение», – говорилось далее, – это глубоко личная история одной из самых знаменитых женщин нашего времени. Это трогательные мемуары, в которых автор передает свой опыт, понимание и надежду другим женщинам и мужчинам, чтобы они не отчаялись в своей жизни… Эта книга представляет собой гораздо больше, чем просто повествование одной женщины об одиссее ее одиночества, отчаяния и, наконец, счастья выздоровления, эта книга исключительна как поддержка, как путеводитель для всех семей и для каждой индивидуальности, чтобы выжить, начать новую жизнь и идти дальше».
Не скрою, факт публикации подобной истории мне показался беспрецедентным. Я знаю исповеди бывших разведчиков, печальные повести о жизни легендарных спортсменов и кинозвезд, литературные покаяния общественных деятелей и политических лидеров, но чтобы это сделала женщина столь известная, чей имидж годами складывался совершенно иным, – подобного что-то не припомню. Для советской женщины, занимающей высокий пост в обществе, это было бы исключено. Представить себе исповедь подобного рода Нины Петровны Хрущевой, или Галины Брежневой, или жены Хасбулатова абсолютно немыслимо.
С этим ощущением я входила на ранчо «Мираж» в Палм-Спрингс («Пальмовый источник»), где теперь живет Бетти Форд с мужем Джералдом Фордом, в Калифорнии. Зеленый городок в пустыне, как и Беверли-Хиллз – городок голливудских звезд, обиталище знаменитостей, – соседствует с Центром Бетти Форд, созданным ею и теперь всемирно известным как центр излечения от разрушительной болезни, которую самой ей удалось преодолеть.
По дороге в Палм-Спрингс я все пыталась вспомнить, была ли Бетти запечатлена на фотографиях, в свое время обошедших газеты мира, когда американский президент встречался с Леонидом Брежневым на Дальнем Востоке? Облик Джералда Форда сохранился в памяти по снимку, где президент стоит в белом русском полушубке нараспашку и меховой волчьей или лисьей шапке рядом с главой нашего государства.
Серо-голубой день 5 ноября непривычно жарок, сух; машина, взятая напрокат Мики, мчится по идеальной дороге; однообразие дикой красоты дюн, зеленых пальм и цитрусовых не утомляет. Вот он, благословенный край, не знающий бездорожья, где цветут лимоны, апельсины, не бывает морозов, зелень сохраняет первозданную свежесть и блеск круглый год, гранича с открыточной сентиментальностью. Наше представление о фланирующей по главной улице вечером толпе миллионеров в костюмах от Кардена и Сен-Лорана, в драгоценностях от Картье кажется немыслимо комичным. Обитатели многоликих городов и дачных мест вблизи океана порой ходят круглые сутки полуодетые. Видя мое изумление, Мики шутит: «Знаешь, здесь говорят: «Важно не кто лучше оденется, а кто лучше разденется». Люди в шортах, плавках, мини-юбках, в бикини и купальниках вылезают из автомобилей и устремляются в учреждения, магазины, на пляжи. У нашего отеля – такая же картина. Много хлопот доставляет жара. Даже сегодня, в начале ноября, 25–27° по Цельсию, жители спасаются кондиционерами и бассейнами, непременной принадлежностью каждого дома.
В офисе Джералда Форда, просто и строго обставленном, стройная насмешливая секретарша Лора, извинившись, сообщает, что Бетти будет через несколько минут, ее задержали в Центре, она просит нас подождать. Мы идем в дом по живописной дорожке, мимо апельсиновых деревьев, брызжущих зеленью кустов и газонов. Первые пояснения в доме, и сразу же к нам входит Джералд Форд.
Высокий, седой, с располагающей внешностью добряка и выправкой хорошего спортсмена, он широко улыбается и, протягивая руку, произносит несколько любезных фраз о своем пребывании на Дальнем Востоке, о русских и их гостеприимстве. «Вы ведь приехали к Бетти?» – кивает он, как бы удостоверяя общность интересов и привычек обоих супругов.
Я успеваю объяснить, что прочла книгу его жены, была поражена серьезностью всего предпринятого Бетти. Президент улыбается еще шире, он явно доволен, когда ее хвалят.
– Вы из Москвы? – уточняет он.
Я подтверждаю.
– Не хотели бы вы побывать у нас еще? – спрашиваю в свою очередь.
– Очень бы хотел! – откликается он. – Я бы показал вашу страну Бетти, ведь ваш посол тогда же пригласил нас поехать поездом в Москву, но вызывать Бетти, чтобы прокатиться семь дней в дороге… – Он расхохотался. – Это для Бетти невозможно представить!
Несколько вежливых фраз, и, поклонившись, Форд удаляется. Пока мы рассматриваем обстановку, картины, памятные дары глав других держав, ценную утварь (на видном месте закреплена гравюра на металле «100-летие Гостиного двора»), появляется Бетти Форд. Непринужденная осанка, простое, облегающее, в цветочек платье, волнистые светлые волосы, золотящиеся на солнце, и молодая, как бы прячущаяся улыбка вызывает мгновенную симпатию. С таким обликом как-то не вяжется кипучая деятельность, неиссякаемая энергия и… болезнь.
Рассаживается на угловом диване за квадратным столом в гостиной, залитой солнечным светом, но сохраняющей прохладу. Упоминаю о заготовленных вопросах. Каким временем она располагает?
– Увидим, как у нас все пойдет, я к вашим услугам, – весело заверяет Бетти. – Мне Лоретта Баррел (одна из ведущих сотрудниц «Даблдей») прислала вырезки из газет и журналов, где написано о проекте вашей книги. Как я поняла, книга о женщинах в США? Это ваша тема?
Говорю, что для меня «Американки» – первый опыт подобной работы. Прежде публиковала повести, эссе, пьесы. О советских женщинах была статья в газете, ее как раз перевела для американского сборника Мики Берди. Мики кивает и передает вместе с материалами из газет и журналов мою статью, поясняя, что после этой статьи, собственно, и родилась идея книги у издательства «Прогресс» в первоначальном, советско-американском варианте.
– Сегодня в Америке мы ощущаем особенно остро, что женщины даже через океан должны протягивать друг другу руку, – говорит Бетти, придвигаясь поближе, – у нас сейчас большой прогресс в этой области. Но мы надеемся приумножить наш опыт, поэтому я очень рада нашей беседе. Многие у нас оказались в плену страха перед тайными сторонами жизни женщин и были в какой-то мере шокированы, что я так открыто написала о моей болезни – алкоголизме. Я это сделала для того, чтобы показать людям, как сумела выздороветь. Для меня было важно вселить надежду в тех, кто найдет в себе силы осознать свою беду и обратиться за помощью, прочитав книгу. Так и оказалось на самом деле. Многие женщины приходили в наш Центр, объясняя, что, если бы не моя книга, они бы никогда не решились вслух заявить о своей проблеме. Они говорили: «Если уж жена президента не побоялась признаться, то мне тем более надо сделать это».
– Что бы вы лично хотели прочитать в книге, посвященной женщинам Америки?
– У меня самое общее представление о моих соотечественницах, – сожалеет Бетти. – А мне бы хотелось узнать побольше. Что они думают, как складываются отношения в семьях, если жена работает, в чем природа возникающих конфликтов. Как окружающие воспринимают женщину во всех ее ролях. И то, как это сегодня меняется. Меняется ли у вас все это так же, как в США? Расскажите немного.
Пытаюсь в ритме убыстряющегося хода поезда дать хоть какое-то представление о происходящем у нас. Об открывшемся неблагополучии десятков тысяч женщин на разных уровнях жизни, о внутренней раскрепощенности интеллигенции, широте духовных интересов и внешней зависимости от быта, процесса добывания продуктов питания и, как у нас шутят, «ненавязчивого» сервиса, что все это деформирует личность и природу представительниц прекрасного пола, а подчас и ломает их жизнь. Пробую раскрыть и специфику восприятия слова «равноправие». Под этим девизом многие годы использовали женщин на самых тяжелых физических работах, в ночных сменах, на железных дорогах. К примеру, движение против «оранжевых жилетов», в которых работают, укладывая асфальт на дорогах или железнодорожные шпалы, стало символом борьбы за право женщин отказаться от непосильной работы. Мое кредо – одинаковые возможности для осуществления себя. Я не за равноправие, а за полноправие женщин.
– А как вам кажется, каков предел равноправия женщины? – обрывая свой рассказ, обращаюсь к Бетти. – У нас об этом идут все более непримиримые споры.
– Женщины, безусловно, отличаются от мужчин, они другие – в этом нет вопроса, – задумчиво роняет она. – У них иные свойства души, которые так же ценны, как и у мужчин. Может быть, женщины даже более приспособлены в некоторых областях, чем мужчины, есть у них и свои особенности, талант в чем-то другом. Да, и я верю в такое равноправие, когда осознается и поощряется способность любого человека, будь то женщина или мужчина. Но у нас-то я не вижу, чтобы судили о женщине по тем же меркам. Поскольку мы разные в физическом и психологическом смысле, то, естественно, что-то женщины делают лучше, чем мужчины…
– Не «что-то», а все! – раздается за нашей спиной возглас секретарши Лоры, на минуту заглянувшей в комнату.
– У нас существует поговорка, – улыбается Бетти. – «Если хочешь, чтобы дело было сделано хорошо, – поручи его женщине!» Конечно, когда мы говорим о мускулах, подъеме тяжестей и других качествах, о физической нагрузке – это сфера мужчины. Каждому свое.
– Как родился Центр? И была ли книга «Радостное пробуждение» продолжением той же идеи?
– Когда я вернулась домой из больницы после двадцати восьми дней лечения в Лонг-Бич по программе борьбы с алкоголизмом и злоупотреблением наркотическими лекарствами, я вовсе не собиралась помогать другим. Я хотела продолжать нормальную, повседневную жизнь, которая до того была у меня отнята болезнью. Мы только что переехали в Калифорнию, построили этот дом, так что мне показалось: у меня достаточно забот, чтобы быть занятой и продолжать свою деятельность. Какую? Способствовать развитию искусств, помогать детям, которые лишены многих благ, и, наконец, направлять свои усилия на облегчение судьбы женщин, страдающих раковыми заболеваниями. Спустя примерно год я осознала, что ответила на колоссальное количество писем от разных людей. Всем им стало известно, что я лечилась в больнице, и теперь они, нуждаясь сами в помощи или желая помочь близким, взывали ко мне. Я почувствовала себя обязанной каким-то образом участвовать в облегчении и этой беды. Может быть, этой особенно. Я была членом совета больницы имени Эйзенхауэра в Палм-Спрингс и подумала, что мы должны организовать в этой больнице центр лечения алкоголизма. Идея не сразу встретила поддержку. Пришлось преодолеть сопротивление директоров, убедить их. У них были опасения, что пациенты, которые появятся, нарушат гармонию этих мест, будут буйными, придется запирать их, ставить решетки на окнах. А это ужасающе подействует на окружающих. Директора даже обсуждали, можно ли давать таким пациентам вилки и ножи, вот до какой степени они считали их опасными! Антиалкогольная клиника казалась им только лишним бременем. И тут мне очень помог мой сосед, господин Фаерстон, бывший посол в Бельгии, который имел большой общественный вес в округе и присоединился к нашему проекту… Минуточку… – Миссис Форд останавливается на половине фразы, чуть задыхаясь, от щек медленно отливает краска. – Не правда ли, душно в помещении? – оборачивается она и глядит на окно. – Извините. – Бетти стремительно идет к двери, когда возвращается, уже заработал кондиционер.
– Сказалось ли на вашем отношении к людям пребывание в Белом доме? Менялось ли оно? Что вы больше всего любите в женщинах и что вас не устраивает в них?
– Я восхищаюсь всегда людьми искренними, честными, которые хотели что-нибудь сделать для других. Так и в женщинах. – Бетти мгновенно оживляется, лицо молодеет. – А что не устраивает?.. – Она подыскивает слова. – Не устраивает, когда люди используют других в своих корыстных целях. И еще мне антипатичны те, кто о себе слишком высокого мнения. Я часто замечала, что людям свойственно ошибаться относительно самих себя. К примеру, не стоит обвинять кого-то в том, что он ленится или недостаточно энергичен, когда это касается общего дела. Я за это не упрекаю, но мне это не нравится.
В связи с 25-й годовщиной убийства Дж. Кеннеди вспоминаю, что случались покушения и на Джералда Форда.
– Каковы были мотивы? Испытывали ли вы после этого страх, когда президент уезжал? Как преодолевали его?
– Когда мы находились в самом Белом доме, я чувствовала себя в безопасности, так как система охраны президента там надежная. Но после первого покушения на мужа вне Белого дома я стала постоянно беспокоиться. Когда он уезжал, у меня возникал этот страх нового покушения. Я стала бояться «человека с пистолетом».
– Стреляла женщина, как я слышала?
– Да, оба раза. Первый раз это было в гостинице «Файермонт» в Калифорнии (в той самой, где в Сан-Франциско останавливались мы с Мики), покушение совершила молодая женщина Сквики Фром – одна из нашумевшей группы Чарлза Мэнсона. Вы, наверное, знаете об этом деле?
Я отчетливо помнила актрису Шарон Тейт с лицом мадонны в классической ленте «Бал вампиров», которая по ходу фильма превращается из ангельской чистоты дочери хозяина корчмы в кровопийцу-вампира, помнила я и смелого, скандально известного кинорежиссера Романа Поланского, фотографии зверского убийства актрисы, обошедшие газеты мира. На восьмом месяце беременности ее зарезали ночью на собственной вилле вместе с другими ее обитателями. Это преступление привлекло к себе широчайшее внимание общественности не только своей жестокостью, но как крупнейшее в те годы среди так называемых «безмотивных» преступлений. Явившись предметом исследования психиатров, социологов молодежных групп, специалистов в области поведения человека, оно обозначило один из пиков синдрома насилия. Мне довелось в свое время прочитать стенограмму процесса, хотелось постичь феномен насилия, найти «объяснение» сути преступления столь юных девочек и мальчиков. Все они показали суду, что девизом их было истребление чувства страха. Кумир и руководитель группы, точнее, секты Чарлз Мэнсон – человек с гипнотической волей и несомненными психическими отклонениями – учил их преодолению всех человеческих слабостей, в том числе спокойно, без колебаний уметь уничтожать себе подобных. Поразительна была для меня полная уверенность преступников в правоте избранного пути, в том, что они – носители некой высшей идеи. Девочки и мальчики не только не каялись, не сожалели о содеянном, они не пытались смягчить приговор, словно шли на крест в желании пострадать за своего вожака. Дело Мэнсона, приобретя широчайшую огласку, заставило цивилизованное общество содрогнуться, осознать опасность фанатизма, беспримерного мучительства одних людей другими во имя какой-либо навязанной или воспринятой идеи. Итог кровавой истории был тем более символичен, что к концу процесса выяснилось: акция была задумана против иных людей, среди них предполагался хозяин фирмы грамзаписи, отвергший пластинку Мэнсона. Ночные «гости», захватившие виллу, ошиблись адресом. Они истязали и издевались над людьми, абсолютно ни в чем не повинными, движимые ненавистью, они выполняли приказ, будучи загипнотизированы словами. Люди ли это? – спрашивал мир.
Я делюсь с Бетти размышлениями от процесса Мэнсона, заметив, что гипнотическая сила слова, направленного во зло, приобретает сегодня все более сокрушительную травматическую силу, воздействуя не только на психику людей, но и на весь организм человека.
И все же почему понадобилось покушаться на жизнь Форда? – домогаюсь я ответа у его жены.
– Думаю, тут дело не в личности мужа. Второй раз это было тоже здесь, в Калифорнии. Ее звали Сара Джейн Мур. Она стреляла в Джерри три недели спустя после первого покушения в гостинице «Файермонт». Этому вообще нельзя было найти объяснения. Но после второго выстрела в Джералда охрана уже начала предпринимать меры безопасности. Если ему предстояло находиться в большой толпе, то какое-то время он даже надевал пуленепробиваемое пальто. – Бетти вздыхает. – Но я обо всем этом узнавала не от него. Он всегда пытался от меня скрыть такие вещи, чтобы я не беспокоилась. Так до меня дошли сведения, что виновница второго инцидента была психически больна. Обе стрелявшие в мужа до сих пор в тюрьме. Вероятно, можно было сократить срок, но судьи отказали обеим. Сквики Фром однажды удалось бежать из тюрьмы, но ее вернули обратно. Она и во второй раз убегала. Может быть, вам это покажется странным, но, когда я узнала о ее побеге, а муж вернулся из командировки, я нашла в себе силы пошутить: «Знаешь, сегодня у меня для тебя есть хорошая и плохая новости. Плохая, что Сквики Фром убежала из тюрьмы, а хорошая, что ей понадобятся еще сутки, чтобы добраться до тебя».
– И все же я понимаю, что вам уже не раз задавали вопросы о мотивах покушения, не правда ли? Ведь жены президентов могут пристально наблюдать и анализировать случившееся. У вас, вероятно, есть своя версия. Ведь что-то «человек с пистолетом» придумывает для себя, идя на такое преступление?
– Сейчас все службы безопасности, – кивает Бетти, – согласились с тем, что покушения на президентов совершаются людьми с нарушенной психикой. Но по моему глубокому убеждению, они «атакуют» не человека, а пост, который занимает президент. Вот мое объяснение.
Бетти неспокойна, и я увожу разговор от нелегкой темы. Как она проводит свободное время, счастлива ли своей независимостью, свободой, в частности от забот Белого дома?
– Я очень семейный человек, – говорит хозяйка ранчо «Мираж», – и испытываю большую радость от успехов наших детей и внуков. Бог сделал нам подарок, одарив нас здоровыми детьми и внуками, так что мы себя считаем счастливыми. И особое удовлетворение я испытываю от работы в Центре. Я уверена, что наша страна продвинется еще дальше в просвещении людей в этой неблагополучной сфере жизни. Уже проведены глубокие исследования о генетической склонности к алкоголю в определенных семьях, и, может быть, люди займутся профилактикой, если у них эта склонность есть. Надо помочь им не опуститься на дно, чтобы семья и друзья могли вмешаться, пока не наступила духовная, физическая, эмоциональная деградация.
– Ну а в самом Центре каковы ваши обязанности, занимаетесь ли вы непосредственно больными?
– Я работаю с сотрудниками, советую им, иногда обучаю и направляю – тем самым я помогаю и их пациентам. Будучи президентом Центра и председателем наблюдательного совета, я участвую во всех сферах его деятельности самым активным образом.
– Там она и была, когда вы приехали, – раздается голос вошедшей Лоры. – Бетти счастлива своими достижениями в Центре. – Она присаживается подле нас, поглядывая в сторону двери.
Я догадываюсь, что ее послал Джералд Форд, полагая, что мы сбили весь их дневной режим.
– В моей жизни не было многих несчастий, – игнорирует Бетти намек Лоры, – мне во всем везло: с мужем, с детьми, люди уважали нашу семью. Но сколько из-за моей болезни было потерянных дней, напрасных усилий и затрат. Мне так от многого приходилось отказываться, ведь болезнь начисто выбивала меня из колеи. Сейчас я имею возможность жить полной жизнью, и мне хочется еще расширить круг моих интересов. В последнее время меня беспокоят экологические проблемы, этот слой озона и парниковый «мешок», нависший над Землей, – они грозят всем людям. Надо предпринять все возможное, чтобы наши внуки пили хорошую воду, гуляли по лесам, дышали чистым воздухом, – в этом я вижу первостепенную задачу правительства и общества сегодня.
Спрашиваю, что значит для Бетти отдыхать.
– Мой муж и я спустя сорок лет стараемся проводить время вместе, что раньше было нам недоступно. Мы плаваем, гуляем, путешествуем, интересуемся искусством. Джералд очень поддерживает меня, если я стараюсь делать что-либо, а я стараюсь поддержать его. Если он хочет смотреть спортивный матч, – смеется она, – я сижу и смотрю с ним. Это все приходит с возрастом, ему – семьдесят пять лет, мне – семьдесят, и наконец наступает момент, когда осознаешь, что это не может длиться бесконечно. Пока еще есть время, надо заниматься друг другом. Дети приезжают к нам обязательно два раза в году. Сыновья – с подружками (те, кто еще не женаты), остальные – с семьями, в общем, нас за столом собирается человек пятнадцать. На Рождество все съезжаются к нам, и мы едем в штат Колорадо. Там много снега, и мы пытаемся кататься на лыжах, даже маленькие внуки. Потом мы все собираемся летом. У младшей – единственной дочери – тоже две дочки.
– Вот вы и описали одну модель американской семьи, свою собственную, – радуюсь я подробностям, которые дарит мне Бетти.
Не желая злоупотреблять ее гостеприимством, я встаю, Бетти останавливает меня. Глаза светятся неостывшим интересом.
– Я еще не расспросила обо всем, ведь я никогда не была в России. Мне хотелось бы поехать, когда это будет уместно (значит, думаю я, ее не могло быть на фотографиях с Фордом). Было бы приятно, если бы нам удалось это с Джералдом, – улыбается она. – Недавно в Центр приезжали по обмену советские ученые, две разные группы. Я наблюдала за их методикой. Интересно. Но что меня удивило, в составе этих групп не было женщин. Ни одной.
Я киваю:
– К сожалению, пока это типично. Моим соотечественницам мало что известно об обязанностях жены президента, – рискую я задержать ее еще. – Может быть, вы что-нибудь расскажете об этом?
– Я старалась всегда быть открытой к просьбам Джералда, – кивает она понимающе. – Чтобы он мог обратиться ко мне по любому поводу. И он верил, что всегда найдет у меня поддержку, отзвук. Если он обсуждал со мной какой-либо важный вопрос, я старалась повернуть проблему многими гранями, чтобы он мог ориентироваться в возможных последствиях. Мне казалось, что я (как бы со стороны) могу представить ему более объективно волю народа, общественное мнение, чем окружавшие его люди из «внешней» администрации. Они-то связаны с ним определенными отношениями и обязательствами. Бывало, что посторонние люди более свободно обращались ко мне, чем к президенту. Очевидно, они предполагали, что смогут через меня найти путь к нему. Даже не к нему лично, а приблизиться к решению своего вопроса, обойдя сложный «протокол». И бывали случаи, когда мне приходилось быть мудрой и взвешивать – передавать ли информацию мужу, или это будет неуместно и я поставлю его в трудное положение. Кроме того, очень непроста роль хозяйки Белого дома в прямом смысле… Вы не представляете, как сложно быть ею в Белом доме! Ведь здесь во время приема возникают разговоры на международном уровне. И надо подумать, прежде чем ответить представителям других государств по тому или иному поводу. Вот вам пример. Часто возникает тот же вопрос о равноправии женщин. Я – за изменение поправки к первой статье Конституции. Это всего несколько слов, но они дискредитируют человека из-за его пола. Однако не все так думают. И это приходится учитывать. До сих пор еще не принято изменение.
– А внешний вид женщины? Когда к вам приходят с просьбой, судите ли вы о посетительнице «по одежке»?
– Думаю, что выглядеть нужно приемлемо, это важно для всех. Но о человеке не стоит судить по платью. Я стараюсь выглядеть как можно лучше, но я не думаю, что меня будут вспоминать только из-за этого. Хотелось, чтобы у людей в связи со мной были другие, более глубокие ассоциации, а не те, появилась ли я в черном костюме или красном.
Теперь Бетти поднимается.
– Мы окружены вещами, которые принадлежали нам в Белом доме, и теми, что приобрели здесь, – показывает она на разные предметы обстановки. – А больше всего времени мы проводим на площадке для гольфа. Это весьма типично для жителей Палм-Спрингс. – Она смеется, затем ведет нас по дорожкам вокруг дома.
Абстрактная скульптура во дворе, цитрусовые вдоль газонов, бассейн, в который можно прыгать прямо из столовой. Со двора видна комната, где естественный свет создает причудливую перекличку в зеркалах, словно удваивающих, утраивающих лампу, стол, ковры на стене. Нежно, как цикады, журчит поступающая в бассейн вода, голубая, свежайшая.
– Я еще не посадила огород, – делает Бетти жест в сторону газона, – слишком жаркое лето, надо ждать осени. (Это когда же осень?) Взгляните на это дерево у террасы.
– Да, я впервые вижу такое количество лимонов на ветвях.
– Снимите несколько. Бывает до ста двадцати лимонов на одном дереве. А вон те розы цветут круглый год…
Мы снова входим в дом.
– Это комната для внуков, – показывает Бетти. – У них здесь все свое: спортивные принадлежности, телевизор, холодильник. Чтобы они могли сами хозяйничать, а мы им не мешали.
Лишний раз убеждаюсь, что принцип самостоятельности и умение пользоваться современной техникой внедряется в сознание американских детей с самого раннего возраста.
Затем Бетти подводит нас к стеллажам. Заставленные книгами, фигурками из бронзы, из старинного чугунного литья, они наполовину заполнены альбомами с фотографиями. Мы рассматриваем их.
На корешках – нумерация, даты съемок: фототеке здесь уделяется серьезное внимание. Передо мной проходят политические деятели, острые моменты переговоров, семейные группы, словно запечатленные скрытой камерой. Задерживаюсь на нескольких фотографиях Жаклин Кеннеди с детьми.
– Не каждая женщина способна была бы перенести все, что досталось ей, не правда ли? – поднимает голову Бетти. Потом добавляет несколько теплых слов по адресу Жаклин Кеннеди.
– Кто, по-вашему, победит на выборах? – задаю вопрос, когда мы заканчиваем листать альбом. – Интересно, сбудется ли ваш прогноз?
– Уверена, что будет избран Буш, – без заминки реагирует Бетти, уводя нас в сад. – Люди сомневаются, есть ли достаточный опыт у Дукакиса для такого поста по сравнению с Бушем. Возможно, разница при голосовании будет небольшая. Но победит Буш. Кстати, очень неприятная предвыборная кампания, – добавляет вдруг она. – Чересчур много произнесено мелкого, нелестного друг о друге. И как мало обсуждали проблемы страны по существу…
Бетти оборачивается на шаги. Появляется Форд. Он шутит на наш счет, снова приглашая в дом. Но я отказываюсь.
– Вам было интересно? – спрашивает он улыбаясь. – Может быть, вы с Бетти снова увидитесь, когда мы соберемся поехать в Россию.
Обнимаемся, потом еще долго машем издали рукой. Лора провожает нас к машине, и вот уже уплывает вдаль ранчо «Мираж» – островок среди дюн и пальм, словно не связанный с огромным муравейником современного Лос-Анджелеса, насыщенного благами и трагедиями цивилизации, куда нам сейчас предстоит вернуться.
По дороге в многоголосии впечатлений возникает стойкое ощущение подлинности четы Форд, самоценности личности обоих. И мне вдруг вспоминается прочитанный в одном из тонких журналов отрывок из мемуаров охранника президентов Марти Беннера, десять лет прослужившего в Белом доме. За свою многолетнюю «вахту», наблюдая четырех президентов, он выделил и высоко поставил человеческие свойства Джералда Форда. «Он всегда вел себя с нами как равный, – приблизительно так высказался Беннер. – Помню, как-то пришлось нам охранять его в дикий мороз, мы дрожали от холода, не смея уйти со своих постов. Вдруг появился президент, в руках его был поднос с кусками мяса, хлеба и бутылкой вина. Он сказал: «Ребята, вы, наверное, продрогли, подкрепитесь» – и протянул нам поднос. Такое не забывается».
Мне хотелось бы поблагодарить Бетти и Джералда Форд за неформально радушную встречу.
Такое не забывается.
Нэнси
Впоследствии она скажет, что дни пребывания в Москве и особенно в Переделкине были счастливыми днями ее жизни. Для Нэнси Рейган, сопровождавшей президента США в его единственной (к тому времени) поездке в нашу страну в 1988 году (завершившейся столь успешно), многие представления, созданные стереотипами прежнего восприятия нашей страны, были опрокинуты. Привыкшие к кинохронике американцев (как бы в противовес оптимизму картин, создаваемых советскими коллегами), вырывавших из повседневной жизни России хмурые лица вождей во время военных парадов, унифицированно-серую одежду чиновников на официальных встречах, их безучастное «единомыслие» при голосовании, окаменелость женщин в длинных очередях перед открытием магазинов, а потом ожесточенные споры с раздраженно-остервенелыми лицами, когда товары кончаются, и, уж конечно, – бесконечные свалки мусора, – после всего этого Рейганы были ошеломлены бьющей через край активностью людей на московских улицах и площадях, редким дружелюбием по отношению к ним лично. Они подпали под то необъяснимое обаяние атмосферы нашей жизни и общения при встречах, которое испытали на себе почти все побывавшие в Союзе американцы уже в шестидесятых-семидесятых годах, в том числе и корреспонденты, написавшие об этом отрезке времени книги.
Несмотря на краткость визита президентской четы, рассчитанную по минутам программу деловых встреч и мест обзора в Москве и Ленинграде, им удалось «войти в контакт» с людьми, не предусмотренными регламентом, как это было на Красной площади, Старом Арбате и на улицах городка писателей в Переделкине.
Фотографии, присланные Нэнси, запечатлели переделкинских жителей, стоявших по бокам улицы Тренева, растроганных, аплодирующих, с охапками полевых цветов. Впоследствии Нэнси вспомнит момент, запечатленный на снимке, где прорвавшаяся сквозь охрану молодая женщина что-то горячо говорит Нэнси, протягивая к ней полные обнаженные руки.
В то утро, 30 мая 1988 года, в Переделкине наступило лето. Пахло молодой сосной, небо, с рассвета едва проглядывавшее из-за облаков, к десяти стало синим, прозрачным. До прихода к нам гости побывали в больнице, в древней переделкинской церкви Преображения в Лучине, где служба не прекращалась многие годы и рядом с которой находится резиденция бывшего патриарха Алексия. Посетили они и могилу Бориса Пастернака, потом с его сыном Евгением Борисовичем прошли на дачу, где предполагалось к 100-летию со дня рождения поэта открыть музей. Спутниками Нэнси были жена посла США в России Ребекка Мэтлок, известная своими фотопортретами, и профессор Дж. Биллингтон, один из известнейших американских славистов, директор Библиотеки Конгресса. Встретив гостей у ворот, мы с мужем, поэтом А. Вознесенским, увидели, как сомкнулась толпа за вошедшей Нэнси, а она все оборачивалась, пытаясь кому-то ответить.
Пока хозяин показывает гостям арендуемые нами нижние комнаты дачи, перенасыщенные книгами, живописью и просто лишними предметами, я завершаю приготовления к завтраку.
Нэнси – легкая гостья. Она ни от чего не отказывается за столом, когда утомлена, не скрывает этого, переспрашивает, если чего-то не знает.
Ее пребывание оставит запах духов, сходных с запахом подаренного ею букета из фиолетовых гелиотропов и хвойных веток, ощущение цепкости ее взгляда, словно вбирающего в себя картины, стихографику, корешки книг американских поэтов и прозаиков. Но главное – после нее останется ощущение естественности, «нормальности» ее реакции на происходящее, что вовсе не совпадало с представлениями, сложившимися о ней по многим публикациям и рассказам.
В прошлом киноактриса (как и сам Рейган), первая леди сохранила безукоризненную форму, изящество, приобретя с возрастом вдумчивую заинтересованную манеру слушать. Нэнси внимательна к любому, кто обращался к ней на улице или в офисе, – качество, которым она покорила многих моих соотечественников. В ее манере ходить, сидеть на стуле, как балерина «держа спину», легко носить костюмы и платья разного цвета, покроя, длины не ощущается заданности, «сделанности». Впрочем, умение в любых обстоятельствах вести себя естественно редко бывает приобретенным, это особый дар природы. Одним словом, москвичи заключили, что миссис Рейган обладает не только наблюдательностью, но и талантом привлечь к себе симпатии людей. Таковы были и мои первые впечатления после встречи в Переделкине и той второй, что состоялась 31 мая.
Тогдашний прием, устроенный президентской четой в резиденции американского посла в Москве господина Джека Мэтлока и его супруги Ребекки в честь М. С. Горбачева и Р. М. Горбачевой, в известном смысле был примечателен для нового времени, когда вчерашние диссиденты и опальные художники, получившие широкое признание на Западе, сидели рядом с властью. За одними столами с руководителями наших стран можно было увидеть, к примеру, Андрея Дмитриевича Сахарова, Е. К. Лигачева, Беллу Ахмадулину, Татьяну Толстую, Д. Т. Язова, Н. И. Рыжкова, Юрия Афанасьева, Владислава Третьяка, Роя Медведева, А. Н. Яковлева, Татьяну Заславскую и др. Члены партийной верхушки первых лет перестройки смешались со многими выдающимися представителями отечественной интеллигенции, иные из которых еще вчера не могли быть упомянуты даже в разговоре. В определенном смысле это не имевшее прецедентов в нашем отечестве парадоксальное сочетание на празднестве американо-советского рукопожатия как бы символизировало время гласности, ломки старых устоев в его переходной стадии.
Резиденция посла, разместившаяся в особняке 1914 года, получила название от небольшой церковки (1711 года) с чудесным двориком, что поодаль. Дворик очаровал в свое время художника В. Д. Поленова, запечатлевшего его в дымчато-лирической миниатюре «Московский дворик», которую можно увидеть в Третьяковке. Приглашенные на прием, пройдя громадный вестибюль, увенчанный высоким куполом, попадали в главный зал с роскошной люстрой работы серебряных дел мастера Мишакова, придающей залу величие и благородство.
Ритуал неподвластен бурным переменам века. Новоприбывшие поочередно приближаются к чете Рейган – хозяев и чете Горбачевых – главных гостей, чтобы поздороваться. Хозяева приема стараются обменяться с подошедшими несколькими фразами, дольше задерживаются со знакомыми.
Затем гости группируются «по интересам». Вдоль стены, демонстрируя скромность, демократизм и лояльность к каждому вошедшему, расположилась партийная верхушка и правительство.
Распределение гостей на 10–12 человек за столом как бы не предполагает привычную табель о рангах, все умело перемешано. За каждым сидит свой «генерал» и обязательно кто-то из молодых, часто только что взошедшая звезда. Мои соседи по столу – Булат Окуджава, Гарри Каспаров, Эдуард Шеварднадзе, жена госсекретаря Шульца, президент Академии наук Г. И. Марчук, маршал Ахромеев, председатель горисполкома Москвы Зайков и кто-то еще. Нэнси Рейган сидит рядом, за «главным» столом с М. С. Горбачевым, где я вижу Т. И. Заславскую, Дж. Биллингтона, А. Вознесенского, Т. Толстую, балерину Н. Ананиашвили, академика Е. П. Велихова и др. Идет обмен репликами, звучит смех, в какой-то момент слышу громкий голос Татьяны Толстой за соседним столом: «А почему бы вам, Михаил Сергеевич, не дать мне автограф?» Горбачев, чуть помедлив, улыбаясь ставит свою подпись на обороте ее пригласительного билета. Он демократичен, дружелюбен, настроение его радостно-приподнятое – он не ведает еще, через какие «тернии» ему предстоит пройти в ближайшие годы. За нашим столом говорят о шахматах, о бардах, делах академических, два военачальника, рассуждая о сокращении ракет, как картошку в фильме «Чапаев», передвигают на столе рюмки – для наглядности. Острый, проницательный взгляд Э. Шеварднадзе останавливается на каждом из нас, пока он слушает рассказ Г. Каспарова о предстоящем чемпионате, затем обменивается репликами с миссис Шульц. Ужин подходит к концу, звучат первые такты популярной американской мелодии. Звезда джаза темнокожий Дэйв Брубек, приглашенный президентом США специально по этому случаю, своим исполнением мгновенно нарушает торжественность обстановки. Гости расслабляются, ток оживления, столь необычного на официальных приемах, проходит по залу. Но вот все замолкают. Рейган идет к микрофону. Небольшая приветственная речь о важности достигнутого взаимопонимания, где умелым сочинителем вкраплены пословицы, даже цитата из Б. Пастернака. Затем президент представляет музыкантов, снова бравурно звучит джаз, и тут я перехватываю взгляд Рональда, брошенный на Нэнси. Словно отбросившая всех присутствующих, музыка, как пароль в молодость, как сигнал чего-то, только им одним хорошо известного и важного, оставляет их наедине друг с другом в этом зале. Чуть начинают подрагивать плечи и голова сидящей за соседним от меня столом Нэнси, и едва заметно в такт ей вторит Рональд Рейган. «Вот оно, их кровное, родное, то, что действительно оба они любят, что всегда напоминает им артистическую молодость!» – осознаю я, и этот заключительный прием в резиденции посла США, завершающий визит президента США в Москву, для четы Рейган не просто расставание с великой страной, благосклонной к ним и чужеродной, приезд в которую превзошел все их ожидания, – он последний мазок в многоцветной картине удивительно счастливой политической карьеры 45-го президента и его жены, завершающий их пребывание в Белом доме через четыре месяца.
В конце года, прилетев в Америку в связи с работой над книгой «Американки», уже в Далласе, штат Техас, я из телефонного звонка редактора издательства «Даблдей» Хейварда Айшема узнала, что приглашена к Нэнси Рейган, в ее резиденцию в Белом доме. Еще предстояли встречи в Бостоне и затем перелет в столицу.
Неделю спустя, 14 ноября, к пяти часам вместе с Мики я направляюсь на свидание с Нэнси Рейган. Холодно, накануне прошел дождь, идти неуютно, но я не замечаю слякоти.
Сколько бы вы ни повторяли себе, подходя к Белому дому, что равнодушны к властям предержащим, не ощущаете священного благоговения перед высоким постом и что вообще облик сегодняшнего главы цивилизованного государства, как и его супруги, во многом создается средствами массовой информации, – все равно, как только вы ступите на дорожку небольшого сквера перед ампирным зданием, много раз виденным по телевизору и на страницах журналов, и вам предложат сфотографироваться на фоне статуи Джефферсона, вы испытаете нечто вроде трепета. Слишком многое ассоциируется у людей с этим местом, к тому же для русских противостояния или сближения с Белым домом, подобно приливам и отливам в океане, всегда что-то привносили с собой или отнимали. Не упустила случая сделать свои фотографии и Мики, сохранив для меня этот момент моего присутствия у подножия прославленной статуи.
Оранжевая дорожка газона словно подгоняла, ведя за ограду Белого дома, казалось, бордюры темнеющей зелени строго выпрямляют пейзаж, а зелено-красный отлив полуоголенных ветвей лишь оттеняет здание, красоту колонн и пилястров.
Нелишне будет напомнить, что к концу правления чета Рейган, как известно, достигла в США беспрецедентной популярности, что опросы общественного мнения подтверждали: подобной популярности мало кто достигал у народа из прежних президентов. Здесь не место говорить о причинах, о типе этой популярности. Для меня важнее был сам феномен случившегося. Два средних актера, вышедшие из Голливуда, поднялись по лестнице политической карьеры до ее вершины – не повод ли это при случае задуматься над тем, какие человеческие качества требуются руководителю, ценимому народом, и из каких кубиков складывается репутация подобного рода лидера? И пусть вы знаете, что вклад умелых режиссеров облика и поведения Рональда Рейгана велик и во многом благодаря их усилиям публика воспринимала президента и его супругу именно в том, а не в ином ракурсе, это уже детали, которые важны профессионалам. Мне же не захотелось до конца согласиться с моим другом, известным американским журналистом, автором книги «Русские» Хедриком Смитом в том, что «лепщики» образа президента во главе с Бобом Холдеманом полагали: в «век телевидения визуальное впечатление сильнее, чем акустическое» («глаз берет верх над ухом»): «Чему вы хотите верить – фактам или своим глазам?» Пусть в этом значительная доля правды, но все равно я убеждена, что без редких личных качеств, которыми обладала президентская пара, подобный результат был бы невозможен. Просто то были иные качества, чем те, которыми некоторые из нас привыкли мерить ценность личности.
Входя в апартаменты Нэнси Рейган на втором этаже, вижу ее, улыбающуюся, на пороге с дружелюбно протянутой рукой, и мне кажется, что ее приглашение посетить Белый дом не было простой данью вежливости, что она действительно рада вспомнить со мной Москву.
Пока мы рассаживаемся под большой люстрой в Вермельской гостиной, прозванной «золотой», с бежево-золотистой мягкой мебелью, где на стеклянных полках выставлены предметы утвари, сделанные местными мастерами из позолоченного серебра, многие из которых подаются на парадных завтраках и обедах, я мысленно воспроизвожу то немногое, что мне удалось узнать из официальной биографии первой леди.
Мать Нэнси Дэвис, актриса из Нью-Йорка, и тот, кого она считала истинным отцом, – профессор Нортвестернского университета доктор Ройаль Дэвис, ее отчим, – с пониманием отнеслись к успехам дочери в драматическом искусстве. Начав карьеру с кино и телефильмов на Бродвее, Нэнси успела сняться в одиннадцати лентах. Из них в трех – уже будучи женой Рональда Рейгана (обвенчались они 4 марта 1952 года), и в последнем своем фильме «Дьявольские кошки на флоте» Нэнси появляется на экране вместе с мужем вскоре после того, как становится госпожой губернаторшей (1967). Однако во время войны карьера актрисы прерывается. Нэнси ведет колонку хроникера, уделяя много внимания событиям во Вьетнаме. Все заработанное в эти годы она отдает женам заключенных, и с тех пор на многих, кто нуждался в этом, обращено ее сострадание. Нэнси посещает госпитали, помогает раненым, принимает участие в судьбе обездоленных детей. Вскоре она выпускает книгу «Полюби ребенка» в соавторстве с Джейн Уилки, а впоследствии появится песня под этим же названием, которую запишет на пластинку Фрэнк Синатра. Доход от книги и пластинки Нэнси пожертвует в фонд программы для престарелых. Минет десять лет, и многие из этих благотворительных программ поднимутся на общенациональный уровень, но главная забота миссис Рейган и дело ее жизни будет впереди, когда при ее помощи возникнет программа борьбы с наркоманией. С идеей ее осуществления – преимущественно в среде молодежи – она не раз выступит на телевидении, объединит множество стран и городов, привлекая внимание к этому злу и собирая пожертвования. С апреля 1985 года программа борьбы против наркотиков выходит на международный уровень, Нэнси выступает на брифингах в Вашингтоне, становится первой из жен президентов, которая удостаивается доклада в ООН – о проблемах наркомании. В общественном сознании за Нэнси долгое время сохраняется роль лидера в борьбе с разрушительной болезнью. В 1987 году она удостаивается звания доктора гуманитарных наук, «гонорис кауза» Джорджтаунского университета. По опросам Института общественного мнения Гэллапа миссис Нэнси Рейган много раз называлась среди самых популярных женщин мира.
Зная все это о хозяйке Белого дома, я осознаю, как непросто будет найти свежие ракурсы для предстоящего разговора. Пусть я предупреждена, что встреча носит частный характер и не подразумевает официального интервью, все же я получаю право передать содержание беседы читателям книги.
– Пожалуйста, можете обо всем писать, – охотно откликается Нэнси на мой вопрос. – Исключая, может быть, очень личные моменты. Не правда ли?
Когда встреча была уже позади, я не нашла в разговоре особо «личных» моментов, поэтому воспроизвожу ответы Нэнси почти полностью.
– Как я довольна, что могу вспомнить мою поездку в Москву и Переделкино, – говорит миссис Рейган, когда мы садимся. – Она прошла так успешно. Только что нам сообщили, что освобождена из заключения еще одна пара, мы за них просили в Москве. Как же их фамилия? Никак не вспомню. Вдруг забыла их имена… Садитесь, пожалуйста, сейчас принесут чай.
О ком идет речь, к сожалению, не знаю, поэтому просто благодарю Нэнси за присланные мне в Москву фотографии, возможность здесь встретиться с нею. Потом перехожу к главному в деятельности миссис Рейган.
– Совсем недавно вы говорили о борьбе с наркоманией с высокой трибуны ООН. Доклад ваш был столь непривычен в устах женщины. Поддержали ли вас жены других глав правительств?
– О… это хороший вопрос, – улыбается Нэнси. – Сначала – нет. Теперь стало чуть-чуть легче. Понимаете, в чем оказалась сложность? Никто вообще не хотел признаваться, что у них существует эта проблема.
– Но почему?
– Знаете, как это бывает в семье. Никто не хочет, чтобы знали – именно у них поселился этот порок. В мире бизнеса такого рода признание имеет и другую сторону. Если торговля наркотиками выплывает на международную арену, страна сталкивается с политическими и торговыми осложнениями, а это влияет на международный климат вокруг нее. Я хорошо изучила эти вопросы, когда выступала на сорок третьей сессии. – Нэнси оборачивается, кивает вошедшей женщине с фотоаппаратом, под вспышкой шапка ее вьющихся светлых волос отливает рыжиной. – Уверена, что не следует бояться открытого разговора о наркомании, скрывать такие вещи. От этой глобальной проблемы нам все равно не уйти.
– Как и от СПИДа?
– Конечно. Ведь эти проблемы тесно связаны – наркомания и СПИД. Вот когда мы были в Москве, меня уверяли, что известен только один случай СПИДа в России. А как может быть один случай, ведь больного кто-то заразил? – Она усмехается. – К этому человеку ведь от кого-то перешла болезнь? То же самое с наркоманией.
– У нас только начинают громко говорить о таких вещах, как наркомания, СПИД или однополая любовь. Для нас это так непривычно («неприлично»), что возникает лавина протестов, когда подобные темы поднимает телевидение, – поясняю я. – Вот перед самым отъездом я видела передачу, и на экране возник портрет двадцатидевятилетней проститутки из Санкт-Петербурга, умершей от СПИДа. Врачи пытались с помощью телевидения установить партнеров этой женщины. После этого авторов передачи атаковали ханжи. Но видите, сдвиг у нас все же произошел…
– Безусловно. Сейчас у вас происходят очень серьезные процессы. Даже то, как нас встречали. Мы же не знали, как нас будут встречать. Может быть, враждебно? Но выражение симпатии было так искренне, мы были прямо поражены теплотой советских людей. – Нэнси словно заново переживает прежнее состояние. – Как-то мы вышли на Арбат, все бросились к нам, узнавая, пожимали нам руки, желали успешного завершения всех начинаний. Все это не могло быть запланировано. Это было для нас так поразительно!
Я киваю:
– Когда пронесся слух, что вы приедете в Переделкино, знакомая повариха, жительница городка, меня спросила: «Правда ли, все говорят, что к вам приедут Рейганы?» Я засмеялась: «Первый раз слышу!» И это было правдой. Вы удивитесь, но нам действительно ничего не было известно. Мы узнали о вашем посещении только накануне вечером. Пришли американцы, среди них советник по прессе в посольстве Сьюзен Робинсон, и после нескольких фраз вдруг спрашивают полушутя: «Чем вы будете угощать жену президента и двух других гостей?» Я немного даже возмутилась: «Каких гостей? Откуда вы взяли это?» Американцы были поражены, но нам и правда никто ничего не сказал. Когда я поняла, что вопрос о визите не розыгрыш и гости придут на утренний завтрак, у меня действительно возникли немалые проблемы. Как мне быть? Что ест на завтрак первая леди? И сможем ли мы за ночь, да еще в дачных условиях, приготовить такой завтрак?
– Еда была такая вкусная, ваш дом удивительно милый, – оживленно отзывается Нэнси. – Меня торопили, а мне было так хорошо, и я все хотела как-то задержаться. Я подглядела, там у вас на подоконнике стоял свежеиспеченный сладкий пирог, от него очень вкусно пахло, и мне ужасно хотелось его попробовать… – Она смеется. – И потом, когда я от вас уходила, уже на улице… Эти три женщины, я не могу их забыть. Они бросились ко мне, я не удержалась, пошла им навстречу, они обняли меня, на глазах у них были слезы. Одна – та, что на снимке, – повторяла: «Сделайте так, чтобы не было войны для наших детей». У вас тоже есть этот снимок? Среди тех, что мы послали? У меня их много. Как в замедленной съемке, женщины ближе, еще ближе, еще… Представляете, как это было? Наши агенты безопасности чуть с ума не сошли! Они увидели чужих и боялись, что со мной что-то случится, но когда я села в машину, то заметила, что у них самих влажные глаза. – Нэнси превозмогает волнение. – У меня, знаете, почему-то было такое чувство, что я бросила этих женщин. Я так благодарна была за этот импровизированный ланч в вашем доме, передайте и вашему мужу Андрею Вознесенскому мою признательность, что состоялся этот визит. Где он сейчас?
Рассказываю о необычном фестивале в Гренобле во Франции, где впервые под одной крышей объединились для чтения стихов поэты из нашей страны и эмигранты. Это будет сложная дискуссия, ведь у нас еще такая разноголосица мнений вокруг неделимости русской культуры. Уверена, что близится день, когда не только будут сняты все ограничения на выезд из страны, но и на въезд. И тем, кто уехал не по своей воле, вернут гражданство независимо от их постоянного местопребывания. Смотрю на вежливо-сочувственное лицо Нэнси и останавливаю себя. К чему объяснять необъяснимое. Чтобы хоть что-то понять в нашем времени, надо самому прикоснуться к нему. Открывая скрытые страницы, похищенные десятилетия, летопись двадцатых-семидесятых все равно остается наполовину зашифрованной. Что значат для «непосвященных» эти разрывы и разлуки, когда даже проводы (казалось, «навсегда») были сопряжены с политическими обвинениями – и это уже в послехрущевские годы?
Мы с Андреем ходили на проводы каждого из близких, к друзьям и родным (многие из которых стали американцами), видели столь разные расставания и отъезды, среди них: Виктор Некрасов, Василий Аксенов, Юрий Любимов, Анатолий Гладилин, Георгий Владимов, Эрнст Неизвестный, Александр Галич, Владимир Войнович, Лев Копелев и Раиса Орлова, Наум Коржавин, Юз Алешковский, Владимир Максимов, Геннадий Шмаков, Людмила Штерн и многие другие, – так по-разному уходившие на «другие берега», но отъезд каждого из них оставлял зияющие провалы в отечественной культуре. Некоторые, кто уезжал в семидесятые годы, уже никогда не вернутся… Нет на свете В. Некрасова, А. Галича, А. Белинкова, а теперь вот, когда я заканчиваю эту книгу, и Р. Орловой, женщины редких человеческих качеств и познаний. С ними страна не успела проститься. Слыша голос Нэнси, обрываю поток мыслей.
– Да, все это удивительно, что у вас происходит, – задумчиво произносит она. – Посмотрим, как пойдет дальше. У нас ведь тоже по-разному к этому относятся.
– А вот лично вы, когда находитесь с президентом в окружении официальных людей, выскажете ли вы свое мнение, если оно расходится с его мнением? – по странной ассоциации спрашиваю Нэнси.
– Если я не согласна с президентом, я скажу ему об этом.
– В присутствии других?
– Нет, когда мы останемся одни. Тогда я скажу все, что думаю. – Она доверительно наклоняется ко мне. – Но представьте, хотя мы останемся с ним одни, непременно все, что я скажу ему, потом становится каким-то образом известно. Вот это мое несогласие. Как такое получается, не знаю, но всегда находится человек, который каким-то образом узнает об этом и расскажет другим. Меня всегда за это критикуют.
– Кто критикует?
– В прессе. За то, что я высказываю свое мнение. Я же не глупая, почему я не могу иметь своего мнения?
– А случается ли, что люди хотели бы обратиться к президенту, но не могут к нему достучаться и обращаются за помощью к вам? – вспоминаю я рассказ о подобной ситуации с Бетти Форд.
– Очень часто. Сейчас Ронни пишет книгу о своем президентстве, и я тоже пишу свою. Когда моя книга выйдет, подобные вопросы сами собой отпадут. Многое будет гораздо яснее.
– Значит, и ваша книга поведает нам о восьми годах в Белом доме? И о поездке в Россию?
– О! Я расскажу обо всем.
– Ну вот, скоро вы покинете Белый дом. Чем вы предполагаете заниматься, как используете свободное время?
– Нет-нет, – машет рукой Нэнси, – у меня никогда не хватало времени на все, я даже не могу вспомнить или придумать сейчас, что же я сделаю в свободное время. Я вечно занята. Сегодня, когда вы пришли, я проводила очередное совещание сотрудников Белого дома, работающих со мной.
– А в отпуске или на отдыхе?
– И там я не могу себя представить неработающей. Много времени отнимает будущая книга, каждый день много дел по программе борьбы с наркоманией, а теперь вот еще хлопоты по подготовке к Рождеству. Ведь я должна подумать обо всем, чтобы были и хорошие празднества, и подарки. – Лицо Нэнси становится озабоченным, она вздыхает. – И то, что мы уезжаем отсюда… Надо восстановить и привести в порядок наш будущий дом, оборудовать офис президенту… И потом, наши служащие здесь – это меня ужасно беспокоит, о каждом из них тоже надо подумать. В общем, все это требует много времени. – Тон ее меняется. – Это не как у вас, сообщили, что руководитель уехал отдыхать, и никто не видит его, никому не известно, где он, чем занят. У нас не скроешься, тебя найдут всюду. Нет-нет, я никогда не отдыхаю!
При этих словах словно застучал маятник – Нэнси замолкает, оглядывается. Я встаю. Еще несколько фраз, минута около двери на фоне странной картины, запечатлевшей кусок дикой пустыни, мои пожелания успеха во всем, что они с мужем намерены осуществить уже после отъезда из Белого дома, и мы спускаемся вниз.
– Спасибо за пожелания, – чуть склоняет голову Нэнси. – Несколько снимков?
Та же женщина, что была в Переделкине и неслышно появлялась за чаем, делает несколько кадров в нижнем вестибюле.
Эти фотографии, также присланные в Москву, напоминают о различных моментах встречи в Белом доме.
Над нашими головами горит трехсвечовый светильник, роняя лучи на пейзаж, привлекший мое внимание: редкий кустарник прорезает желтизну песка, контрастируя с ярко-синим небом и мелкими, как островки снега, облаками. Мы протягиваем руки, стоим обнявшись в ее апартаментах… Затем – за столом, уставленным чашками с чаем, с корзиной роз цвета спелой брусники, на золотистый диван, стоящий углом, брошены красные и белые подушки. В кадр попал инкрустированный Буль с чучелом птицы и горшком белоснежных лилий. Еще один момент – мы смотрим в объектив. Нэнси в фиолетовом с разводами платье из плотной ткани, с крупной золотой цепочкой, такими же браслетом и пояском; темный костюм Мики, мой – зеленый, а позади нас всех – громадный куст папоротника. В нижнем вестибюле – момент прощания. Полукружия черных дверей, в легком поклоне с полуулыбкой мы с Нэнси пожимаем друг другу руки, веселый прищур глаз Мики у нас за спиной. Кажется, все это подсмотрено скрытой камерой, так естественны люди на этих фотографиях. Несомненно, искусство «официального фотографа Белого дома», как помечено на фотографиях, оказалось на высоте.
