Горбачев. Его жизнь и время
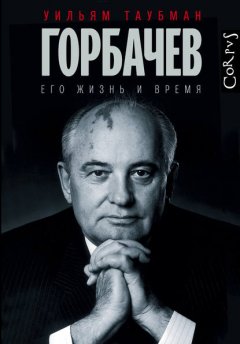
От автора
Особого внимания заслуживают три момента: они касаются политических ярлыков, протоколов заседаний Политбюро правящей Коммунистической партии и транслитерации русских имен и названий.
За годы правления Горбачева советские (а вслед за ними и западные) обозреватели привыкли называть его противников “левыми” и “правыми”. Сторонников жесткого курса в компартии, военных, представителей госбезопасности и в целом противников горбачевских реформ окрестили “правыми”. А демократы, особенно радикальные, торопившие Горбачева с переходом к рыночной экономике, получили прозвание “левых”. Однако за пределами СССР эти ярлыки традиционно использовались иначе: там “левыми” обычно называли коммунистов, а “правыми” – ярых сторонников рыночной экономики. Таким образом, использование этих определений в данной книге породило бы ненужную путаницу. Поэтому я решил, что буду называть всех противников реформ сторонниками жесткого курса или консерваторами (хотя последний термин тоже не вполне однозначен), а тех, кто критиковал Горбачева за медлительность, – радикалами или (если их позиция оставалась более умеренной) либералами.
Начиная с 1966 года на заседаниях Политбюро велись рабочие записи: сначала все выступления конспектировал глава общего отдела ЦК КПСС, а затем к делу подключили профессиональных стенографистов. Когда генеральным секретарем ЦК КПСС стал Горбачев, его помощники Анатолий Черняев, Георгий Шахназаров и Вадим Медведев (первые двое присутствовали на заседаниях Политбюро без права голоса) тоже начали вести подробные записи. Многие из их отчетов доступны в архиве Горбачев-Фонда (АГФ) в Москве. Также доступно теперь и немалое количество “официальных” рабочих записей: многие из этих протоколов хранятся так называемом Фонде № 89, который в 1992 году сделал публичным тогдашний президент Борис Ельцин. Впоследствии документы из Фонда № 89 Российского государственного архива новейшей истории (РГАНИ) в Москве приобрел Гуверовский институт при Стэнфордском университете. Коллекция Дмитрия Волкогонова, переданная в Библиотеку Конгресса (США), содержит собранные самим Волкогоновым протоколы заседаний Политбюро. Архиву национальной безопасности (АНБ) в Вашингтоне, где я нашел много материалов для своей работы, принадлежат рабочие записи из Фонда № 89 и коллекции Волкогонова, а также другие документы Политбюро, собранные сотрудниками этого архива. Насколько я заметил, официальные рабочие записи и конспекты помощников Горбачева, делавшиеся на заседаниях Политбюро, имеют крайне незначительные различия в передаче одних и тех же бесед, однако официальные протоколы длиннее, так как помощники Горбачева, конечно, уделяли больше внимания именно его словам и записывали их особенно подробно. В официальных же протоколах уделено больше внимания замечаниям других членов Политбюро, порой содержавшим критику в адрес Горбачева; возможно, здесь сказалось и влияние человека, отвечавшего за подготовку этих протоколов, – помощника Горбачева Валерия Болдина, который все больше разочаровывался в своем начальнике[1].
В данной книге записи заседаний Политбюро приводятся по обоим упомянутым источникам. Если не указано иное, то можно считать, что цитаты, взятые из собрания READD-RADD (Базы данных архивных документов из России и Восточной Европы) в Архиве национальной безопасности, относятся к официальным протоколам, а те, что находятся в архиве Горбачев-Фонда (АГФ), представляют собой выдержки из записей Черняева, Шахназарова или Медведева, чьи фамилии приводятся в примечаниях в конце книги вместе со ссылками на цитируемые документы. Среди остальных использованных источников, на которые я буду ссылаться, – 26-томное (на настоящий момент) “Собрание сочинений” Горбачева и другие сборники документов, опубликованные в России и на Западе.
Существует несколько систем транслитерации русских имен. В основном тексте своей книги я везде применял тот способ транслитерации, который представляется наиболее привычным или наиболее доступным читателю, не владеющему русским языком, и наиболее правдиво передает звучание русских слов. Однако там, где я ссылаюсь на специфические материалы на русском языке, – в примечаниях и библиографии, – я прибегаю к системе транслитерации, принятой в Библиотеке Конгресса и часто используемой в библиотечных каталогах. Так, например, хотя везде в тексте имя Анатолия Черняева, одного из многолетних и ближайших помощников Горбачева, транслитерируется как Anatoly Chernyaev, при ссылках на его публикации на русском языке я пишу его имя иначе: Anatolii Cherniaev.
В течение всего периода, охваченного в основной части этой книги, Украина оставалась частью Советского Союза. В те годы в официальной и часто в неофициальной речи использовались русские варианты украинских личных имен и топонимов. По этой причине (и для того, чтобы не запутывать читателя) я тоже использую русские варианты, за исключением тех случаев, когда я привожу материалы, опубликованные уже после того, как Украина стала независимым государством.
Действующие лица
Абалкин, Леонид – экономист, заместитель председателя Совета министров СССР (1990–1991)
Абуладзе, Тенгиз – грузинский кинорежиссер, создатель фильма “Покаяние”
Адамович, Алесь – белорусский писатель и критик, депутат Верховного Совета СССР после 1989 года
Айтматов, Чингиз – советский и киргизский писатель
Александров-Агентов, Андрей – дипломат, советник по вопросам внешней политики при генеральных секретарях ЦК КПСС от Брежнева до Горбачева в 1966–1986 годах
Алиев, Гейдар – первый секретарь Коммунистической партии Азербайджана (1969–1982); первый заместитель председателя Совета министров СССР (1982–1987); член Политбюро (1982–1987)
Андреева, Нина – преподаватель химии и рядовая коммунистка, в 1988 году написавшая статью в газету “Советская Россия” с обвинением Горбачева в том, что он зашел слишком далеко в своих реформах
Андреотти, Джулио – министр иностранных дел Италии (1983–1989); премьер-министр (1989–1992)
Андропов, Юрий – генеральный секретарь ЦК КПСС с ноября 1982 года по февраль 1984 года; председатель КГБ СССР с мая 1967 года по май 1982 года
Арбатов, Георгий – создатель и директор Института США и Канады Академии наук СССР (1967–1995); член ЦК; депутат Верховного Совета СССР (1985–1991); ближайший советник Андропова и Горбачева
Афанасьев, Виктор – главный редактор газеты “Правда” (1976–1989)
Афанасьев, Юрий – народный депутат СССР, сопредседатель Межрегиональной депутатской группы (1989–1991)
Ахматова, Анна – знаменитая русская поэтесса (1889–1966)
Ахромеев, Сергей – маршал Советского Союза; начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР (1984–1988); военный советник Горбачева в 1988–1991 годах
Бакатин, Вадим – министр внутренних дел (1988–1990); член Президентского совета (1990–1991); председатель КГБ с сентября по ноябрь 1991 года
Бакланов, Григорий – русский писатель
Бакланов, Олег – участник августовского путча 1991 года; секретарь ЦК КПСС по вопросам военной промышленности (1988–1991); министр общего машиностроения (1983–1988)
Бейкер, Джеймс, III – Государственный секретарь США при Джордже Г. У. Буше, (1989–1992); глава администрации Рейгана в Белом доме (1981–1985); министр финансов США (1985–1988)
Бекова, Зоя – однокурсница Горбачева по МГУ
Бжезинский, Збигнев – советник по национальной безопасности при президенте США Джимми Картере в 1977–1981 годах
Биккенин, Наиль – чиновник ЦК
Биллингтон, Джеймс – директор Библиотеки Конгресса, США (1987–2015)
Биляк, Василь – лидер Коммунистической партии Словакии
Блэкуилл, Роберт – особый советник президента Джорджа Г. У. Буша по национальной безопасности в 1989–1991 годах
Бовин, Александр – консультант по международным делам при генеральных секретарях ЦК КПСС
Боголюбов, Клавдий – заведующий общим отделом ЦК КПСС (1982–1985)
Богомолов, Олег – экономист, советник Андропова и Горбачева; директор Института экономики мировой системы социализма АН СССР
Болдин, Валерий – участник августовского путча 1991 года; советник Горбачева в 1982–1991 годах; заведующий общим отделом ЦК КПСС (1987–1991); член Президентского совета (1990–1991); руководитель аппарата Президента СССР (1990–1991)
Бондарев, Юрий – русский писатель
Боннэр, Елена – жена Андрея Сахарова
Бразаускас, Альгирдас – первый секретарь ЦК Коммунистической партии Литвы (1988–1989); председатель Президиума Верховного Совета Литвы в 1990 году
Брежнев, Леонид – генеральный секретарь ЦК КПСС с октября 1964 года по ноябрь 1982 года
Брейтуэйт, Родрик – посол Великобритании в СССР (1988–1991)
Бровиков, Владимир – председатель Совета министров Белорусской ССР (1983–1986); посол СССР в Польше (1986–1990)
Брутенц, Карен – первый заместитель заведующего международным отделом ЦК КПСС (1986–1991); заместитель заведующего международным отделом (1976–1986)
Будыка, Александр и Лидия – близкие друзья Горбачевых в Ставрополе и Москве
Бурлацкий, Федор – главный редактор “Литературной газеты”
Буш, Джордж Г. У. – президент США (1989–1993)
Вайцзеккер, Рихард фон – президент ФРГ/Германии (1984–1994)
Валенса, Лех – президент Польши (1990–1995); создатель профсоюза “Солидарность”
Варенников, Валентин – заместитель министра обороны СССР и главнокомандующий сухопутными войсками (1989–1991); участник августовского путча 1991 года
Варшавские, Михаил и Инна – близкие друзья Горбачевых в Ставрополе
Велихов, Евгений – директор Института атомной энергетики; народный депутат СССР (1989–1991); член Политического консультативного совета при Президенте СССР Горбачеве в 1991 году
Вирганская / Горбачева, Ирина – дочь Михаила и Раисы Горбачевых
Вирганские, Анастасия (Настя) и Ксения – внучки Михаила и Раисы Горбачевых, дочери Ирины
Вирганский, Анатолий – зять Горбачевых, муж их дочери Ирины
Власов, Александр – министр внутренних дел СССР (1986–1988); председатель Совета министров Рсфср (1988–1990)
Вольский, Аркадий – Заведующий машиностроительным отделом ЦК КПСС; специальный эмиссар в Нагорном Карабахе (1988–1990)
Воронцов, Юлий – посол СССР в США (1990–1991); посол СССР в Афганистане (1988–1990); первый заместитель министра иностранных дел (1986–1989); посол СССР во Франции (1983–1986)
Воротников, Виталий – председатель Совета министров Рсфср (1983–1988); председатель Президиума Верховного Совета Рсфср (1988–1990); член Политбюро (1983–1990)
Высоцкий, Владимир – советский актер и бард
Гавел, Вацлав – чешский писатель, дипломат; президент Чехословакии (1989–1992)
Ганди, Раджив – премьер-министр Индии (1984–1989)
Гейтс, Роберт – директор ЦРУ (1991–1993); заместитель советника по национальной безопасности (1989–1990); заместитель директора ЦРУ (1986–1989)
Генералов, Вячеслав – заместитель директора 9-го управления КГБ, отвечавшего за охрану Горбачева
Геншер, Ганс-Дитрих – министр иностранных дел и вице-канцлер ФРГ (1974–1992)
Герасимов, Геннадий – начальник Управления печати Министерства иностранных дел СССР
Голованов, Дмитрий – однокурсник Горбачева по МГУ
Гоноченко, Алексей – спичрайтер Горбачева в Ставрополе
Гонсалес, Фелипе – премьер-министр Испании (1982–1996)
Гопкало, Василиса – бабушка Горбачева со стороны матери
Гопкало, Пантелей – дед Горбачева со стороны матери
Горбачев, Александр – брат Михаила Горбачева
Горбачев, Андрей – дед Горбачева со стороны отца
Горбачев, Сергей – отец Горбачева
Горбачева, Мария – мать Горбачева
Горбачева, Раиса – жена Горбачева
Горбачева, Степанида – бабушка Горбачева со стороны отца
Гранин, Даниил – советский писатель и народный депутат СССР после 1989 года
Грачев, Андрей – пресс-секретарь Горбачева в 1991 году; заместитель заведующего международным отделом ЦК КПСС (1989–1991); глава отдела международной информации ЦК КПСС (1986–1989); биограф Горбачева
Гришин, Виктор – первый секретарь Московского городского комитета Коммунистической партии (1967–1985); член Политбюро (1971–1986)
Громыко, Андрей – министр иностранных дел СССР (1957–1985); председатель Президиума Верховного Совета СССР (1985–1988); член Политбюро (1973–1988)
Грос, Карой – генеральный секретарь Коммунистической партии Венгрии (1988–1989); премьер-министр Венгрии (1987–1988)
Гуренко, Станислав – первый секретарь Коммунистической партии Украины (1990–1991)
Гусак, Густав – президент Чехословакии (1975–1989); генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Чехословакии (1969–1987)
Гусенков, Виталий – главный помощник Раисы Горбачевой; советник посольства СССР в Париже в 1970-е годы
Данюшевская, Галина – однокурсница Горбачева по МГУ
Де Микелис, Джанни – министр иностранных дел Италии (1989–1992)
Демичев, Петр – кандидат в члены Политбюро (1965–1988); министр культуры СССР (1974–1986)
Добрынин, Анатолий – посол СССР в Вашингтоне (1962–1986); заведующий международным отделом ЦК КПСС (1986–1988)
Долгих, Владимир – секретарь ЦК КПСС (1972–1988); член Политбюро (1982–1988)
Долинская, Любовь – соседка Горбачевых в Ставрополе
Дубинин, Юрий – посол СССР в Вашингтоне (1986–1990)
Дубинина, Лиана – жена советского посла в Вашингтоне
Дубчек, Александр – первый секретарь Коммунистической партии Чехословакии во время и сразу после Пражской весны, с января 1968 года по апрель 1969 года
Дэн, Сяопин – фактический руководитель Китая с 1978 года до начала 1990-х
Ельцин, Борис – российский президент (1991–1999); председатель Верховного Совета Рсфср (1990–1991); кандидат в члены Политбюро (1986–1988); секретарь ЦК КПСС (1985–1986); первый секретарь Московского горкома КПСС (1985–1987)
Ефремов, Леонид – первый секретарь Ставропольского крайкома КПСС (1964–1970)
Живков, Тодор – лидер Коммунистической партии Болгарии (1954–1989)
Загладин, Вадим – советник Горбачева в 1988–1991 годах
Зайков, Лев – первый секретарь Московского горкома КПСС (1987–1989)
Заславская, Татьяна – советский экономист и социолог
Заславский, Илья – народный депутат СССР
Здравомыслова, Ольга – исполнительный директор Горбачев-Фонда
Зеллик, Роберт – советник Госдепартамента США в 1989–1992 годах
Зимянин, Михаил – секретарь ЦК КПСС (1976–1987)
Зубенко, Иван – спичрайтер Горбачева в Ставрополе
Зюганов, Геннадий – лидер КПРФ
Ивашко, Владимир – первый секретарь Коммунистической партии Украины в 1990 году; исполняющий обязанности генерального секретаря Горбачева в 1991 году
Игнатенко, Виталий – главный редактор журнала “Новое время” (1986–1990); помощник, а затем руководитель пресс-службы при президенте Горбачеве в 1990–1991 годах
Каганович, Лазарь – ближайший соратник Сталина; соперник Хрущева
Кадар, Янош – генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Венгрии (1956–1988)
Казначеев, Виктор – товарищ и заместитель Горбачева в Ставрополе
Калягин, Виктор – партийный начальник сельского округа под Ставрополем
Карагодина, Юлия – подруга детства и первое юношеское увлечение Горбачева в Привольном
Кармаль, Бабрак – коммунистический лидер Афганистана (1979–1986)
Картер, Джимми – президент США (1977–1981)
Квицинский, Юлий – посол СССР в ФРГ (1986–1990)
Кириленко, Андрей – член Политбюро (1962–1982)
Киссинджер, Генри – Государственный секретарь США (1973–1977); советник по национальной безопасности (1969–1975)
Клинтон, Билл – президент США (1993–2001)
Ковалев, Анатолий – заместитель министра иностранных дел СССР (1986–1991)
Колбин, Геннадий – первый секретарь ЦК Коммунистической партии Казахской ССР (1986–1989)
Колчанов, Рудольф – однокурсник Горбачева по МГУ
Коль, Гельмут – канцлер Германии (1990–1998); канцлер ФРГ (1982–1990)
Корниенко, Георгий – первый заместитель министра иностранных дел СССР (1977–1986); первый заместитель заведующего международным отделом ЦК КПСС (1986–1988)
Коробейников, Анатолий – спичрайтер Горбачева в Ставрополе
Косыгин, Алексей – председатель Совета министров СССР (1964–1980); член Политбюро (1948–1952, 1960–1980)
Кочемасов, Вячеслав – посол СССР в ГДР (1983–1990)
Кравченко, Леонид – председатель Гостелерадио СССР (1990–1991); глава ТАСС (1989–1990); первый заместитель председателя Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию (1985–1988)
Кравчук, Леонид – президент Украины (1991–1994); председатель Верховного Совета УССР (1990–1991)
Кренц, Эгон – генеральный секретарь Социалистической единой партии ГДР с октября по декабрь 1989 года
Крючков, Владимир – инициатор августовского путча 1991 года; председатель КГБ СССР (1988–1991); член Политбюро (1989–1991)
Кулаков, Федор – первый секретарь Ставропольского крайкома КПСС (1960–1964); секретарь ЦК КПСС (1965–1978); член Политбюро (1971–1978)
Кунаев, Динмухамед – первый секретарь Коммунистической партии Казахстана (1964–1986)
Ланина, Ольга и Александрова, Тамара – секретари Анатолия Черняева
Лаптев, Иван – главный редактор газеты “Известия” (1984–1990); председатель Совета Союза Верховного Совета СССР (1990–1991)
Лацис, Отто – научный сотрудник Института экономики мировой социалистический системы АН СССР (1975–1986); журналист в 1986–1991 годах
Лебедь, Александр – советский генерал; кандидат в президенты России в 1996 году
Левада, Юрий – однокурсник Раисы Горбачевой по МГУ; российский социолог
Ленин, Владимир – главный организатор большевистской революции в 1917 году; глава Рсфср в 1917–1922 годах и СССР с 1922 года до кончины в 1924 году
Либерман, Володя – однокурсник Горбачева по МГУ
Лигачев, Егор – член Политбюро (1985–1990); секретарь ЦК КПСС (1983–1990); первый секретарь Томского обкома КПСС (1965–1983)
Лихачев, Дмитрий – российский ученый, филолог; народный депутат СССР
Лукьянов, Анатолий – председатель Верховного Совета СССР (1990–1991); секретарь ЦК КПСС (1987–1988); обвинялся в участии в августовском путче 1991 года
Лякишева, Нина – однокурсница Раисы Горбачевой по МГУ
Мазовецкий, Тадеуш – премьер-министр Польши с августа 1989 года по декабрь 1990 года
Маленков, Георгий – соратник Сталина; соперник Хрущева
Мамардашвили, Мераб – однокурсник Раисы Горбачевой по МГУ; советский философ
Маслюков, Юрий – заместитель председателя Совета министров СССР (1985–1988); первый заместитель председателя Совета министров СССР и председатель Государственного планового комитета СССР (1990–1991); член Политбюро (1989–1990)
Медведев, Вадим – старший советник Горбачева в 1991 году; секретарь ЦК КПСС (1986–1990); член Политбюро (1988–1990)
Медведев, Владимир – телохранитель и начальник службы охраны Горбачева
Медведев, Рой – советский историк-диссидент; народный депутат СССР
Медунов, Сергей – первый секретарь Краснодарского крайкома КПСС (1973–1982)
Миттеран, Франсуа – президент Франции (1981–1995)
Михайленко, Виталий – товарищ Горбачева в Ставрополе
Михалева, Надежда – однокурсница Горбачева по МГУ
Млынарж, Зденек – близкий друг Горбачева по МГУ в 1950–1955 годах; секретарь ЦК Коммунистической партии Чехословакии (1968–1970); интеллектуал, сыгравший важную роль в Пражской весне
Модров, Ханс – премьер-министр ГДР (1989–1990)
Молотов, Вячеслав – соратник Сталина; соперник Хрущева
Муратов, Дмитрий – российский журналист, главный редактор “Новой газеты”; близкий друг Горбачева
Мураховский, Всеволод – первый заместитель председателя Совета министров СССР и председатель Государственного агропромышленного комитета СССР (1985–1989); первый секретарь Ставропольского крайкома КПСС (1978–1985)
Мусатов, Валерий – чиновник ЦК КПСС
Муталибов, Аяз – президент Азербайджана (1990–1992); первый секретарь ЦК Коммунистической партии Азербайджана (1990–1991); председатель Совета министров Азербайджана (1989–1990)
Мэтлок, Джек Ф., мл. – посол США в СССР (1987–1991); специальный помощник президента Рональда Рейгана по вопросам национальной безопасности в 1983–1986 годах
Мэтлок, Ребекка – жена посла США Джека Мэтлока
Наджибулла, Мохаммад – президент Демократической Республики Афганистан (1987–1992)
Назарбаев, Нурсултан – первый секретарь Коммунистической партии Казахстана (1989–1991); президент Казахстана с 1991 года по настоящее время
Немет, Миклош – премьер-министр Венгрии (1988–1990)
Николай II – последний русский царь (1894–1917)
Никонов, Виктор – секретарь ЦК КПСС, занимавшийся вопросами сельского хозяйства (1985–1989); член Политбюро (1987–1989)
Никсон, Ричард – президент США (1969–1974)
Оккетто, Акилле – генеральный секретарь Коммунистической партии Италии (1988–1994)
Павлов, Валентин – премьер-министр СССР с января по август 1991 года; участник августовского путча 1991 года
Палажченко, Павел – переводчик, работавший с Горбачевым и Шеварднадзе в 1985–1991 годах; руководитель отдела международных связей и контактов с прессой в Горбачев-Фонде
Патиашвили, Джумбер – первый секретарь ЦК Коммунистической партии Грузии (1985–1989)
Пауэлл, Колин – советник по национальной безопасности при президенте Рейгане в 1987–1989 годах; председатель Объединенного комитета начальников штабов в 1989–1993 годах
Пауэлл, Чарльз, лорд – личный секретарь и советник по международным делам при премьер-министрах Великобритании Маргарет Тэтчер и Джоне Мейджоре в 1983–1991 годах
Петраков, Николай – экономический советник Горбачева в 1990 году
Плеханов, Юрий – начальник 9-го управления КГБ СССР (службы охраны президента) в 1983–1991 годах; участник августовского путча 1991 года
Пожгай, Имре – венгерский политик
Полторанин, Михаил – министр печати и информации Рсфср (1990–1992)
Пономарев, Борис – заведующий международным отделом ЦК КПСС (1957–1986); секретарь ЦК КПСС (1961–1986)
Попов, Гавриил – мэр Москвы (1990–1992); политик-либерал
Поротов, Николай – заместитель начальника отделов Ставропольского крайкома комсомола и первый начальник Горбачева
Португалов, Николай – чиновник ЦК КПСС
Прокофьев, Юрий – первый секретарь Московского горкома КПСС (1989–1991); член Политбюро (1990–1991)
Пуго, Борис – министр внутренних дел СССР (1990–1991); первый секретарь Коммунистической партии Латвии (1984–1988); участник августовского путча 1991 года
Путин, Владимир – российский президент в 2000–2008 годах и с 2012 года по настоящее время; премьер-министр РФ при президенте Борисе Ельцине в 1999–2000 годах и при президенте Дмитрии Медведеве в 2008–2012 годах
Райс, Кондолиза – директор отдела по делам СССР и Восточной Европы Совета национальной безопасности США (1989–1991)
Раковский, Мечислав – премьер-министр Польши (1988–1990)
Рахманин, Олег – первый заместитель заведующего отделом ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран (1986–1987)
Ревенко, Григорий – руководитель аппарата президента СССР Горбачева в конце 1991 года
Рейган, Нэнси – первая леди США в 1981–1989 годах, жена Рональда Рейгана
Рейган, Рональд – президент США (1981–1989)
Ремник, Дэвид – московский корреспондент газеты “Вашингтон пост” в 1988–1991 годах
Риган, Дональд – глава администрации Белого дома при президенте Рейгане в 1985–1987 годах
Римашевская, Наталия – однокурсница Горбачева по МГУ
Романов, Григорий – секретарь ЦК КПСС (1983–1985); первый секретарь Ленинградского обкома КПСС (1970–1983); член Политбюро (1976–1985)
Русаков, Константин – секретарь ЦК КПСС и заведующий отделом ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран (1977–1986)
Руст, Матиас – пилот-любитель из Западной Германии, приземлившийся на своем самолете на Красной площади 28 мая 1987 года
Руцкой, Александр – вице-президент РФ (1991–1993)
Рыбаков, Анатолий – советский писатель
Рыжков, Николай – председатель Совета министров СССР (1985–1991); заведующий экономическим отделом ЦК КПСС (1982–1985); член Политбюро (1985–1990)
Рябов, Яков – первый секретарь Свердловского обкома КПСС (1971–1976)
Сагдеев, Роальд – советский физик, исследователь космоса
Сахаров, Андрей – советский физик-ядерщик, участвовавший в создании водородной бомбы; позднее стал диссидентом и правозащитником; освобожден из ссылки в 1986 году; депутат Съезда народных депутатов в 1989 году
Силаев, Иван – председатель Совета министров Рсфср с июня 1990 года до конца 1991 года
Скоукрофт, Брент – советник по национальной безопасности при президенте Джордже Г. У. Буше в 1989–1993 годах
Собчак, Анатолий – советский ученый-юрист; народный депутат СССР; член Президентского совета; мэр Санкт-Петербурга (1991–1996)
Соколов, Сергей – министр обороны СССР (1984–1987)
Соловьев, Юрий – первый секретарь Ленинградского обкома КПСС (1985–1989)
Соломенцев, Михаил – член Политбюро (1983–1988)
Сталин, Иосиф (Иосиф Джугашвили) – сменил Ленина в роли коммунистического вождя Советского Союза в 1922 году; умер, оставаясь на посту, в 1953 году
Станкевич, Сергей – советский ученый-историк; народный депутат СССР; участник Межрегиональной депутатской группы
Старков, Владислав – главный редактор газеты “Аргументы и факты”
Стародубцев, Василий – участник августовского путча 1991 года
Страусс, Роберт – посол США в СССР в 1991 году
Суслов, Михаил – секретарь ЦК КПСС (1947–1982)
Тарасенко, Сергей – главный советник министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе в 1985–1990 годах
Твардовский, Александр – советский писатель; главный редактор журнала “Новый мир”
Тельчик, Хорст – советник по национальной безопасности канцлера Гельмута Коля в 1982–1990 годах
Тизяков, Александр – участник августовского путча 1991 года
Титаренко, Александра – мать Раисы Горбачевой
Титаренко, Евгений – брат Раисы Горбачевой
Титаренко, Людмила – сестра Раисы Горбачевой
Титаренко, Максим – отец Раисы Горбачевой
Тихонов, Николай – председатель Совета министров СССР (1980–1985); член Политбюро (1979–1985)
Топилин, Юрий – однокурсник Горбачева по МГУ
Трюдо, Пьер Эллиот – премьер-министр Канады (1968–1979, 1980–1984)
Тэтчер, Маргарет – премьер-министр Великобритании (1979–1990)
Ульянов, Михаил – советский актер; народный депутат СССР
Устинов, Дмитрий – министр обороны СССР (1976–1984); член Политбюро (1976–1984)
Фалин, Валентин – заведующий международным отделом ЦК КПСС (1988–1991); секретарь ЦК КПСС (1990–1991); посол СССР в ФРГ (1970–1978)
Фролов, Иван – советник Горбачева в 1987–1989 году; главный редактор газеты “Правда” (1989–1991); секретарь ЦК КПСС (1989–1990); член Политбюро (1990–1991)
Хасбулатов, Руслан – председатель Верховного Совета Рсфср (1991–1993); первый заместитель председателя Верховного Совета Рсфср (1990–1991)
Хау, сэр Джеффри – министр иностранных дел Великобритании (1982–1989)
Хёрд, Дуглас – министр иностранных дел Великобритании (1989–1995)
Хонеккер, Эрих – генеральный секретарь ЦК Социалистической единой партии (Восточной) Германии (1971–1989)
Хрущев, Никита – первый секретарь ЦК КПСС (1953–1964); председатель Совета министров СССР (1954–1964)
Чазов, Евгений – министр здравоохранения СССР (1987–1990); главный кремлевский врач
Чаушеску, Николае – генеральный секретарь ЦК Румынской коммунистической партии (1965–1989); президент Румынии (1967–1989)
Чебриков, Виктор – председатель КГБ СССР (1982–1990); секретарь ЦК КПСС (1988–1989); член Политбюро (1985–1989)
Чейни, Дик – министр обороны США при Джордже Г. У. Буше (1989–1992)
Черненко, Константин – генеральный секретарь ЦК КПСС с февраля 1984 года по март 1985 года
Черняев, Анатолий – ближайший помощник Горбачева с 1986 года; главный советник по международным делам; заведующий международным отделом ЦК КПСС, руководитель группы консультантов в 1961–1986 годах; член ЦК КПСС (1986–1991)
Чикин, Валентин – главный редактор газеты “Советская Россия”
Чирек, Юзеф – главный помощник президента и генерального секретаря Коммунистической партии Польши Войцеха Ярузельского
Шапко, Валерий – однокурсник Горбачева по МГУ
Шапошников, Евгений – последний министр обороны СССР с августа по декабрь 1991 года
Шаталин, Станислав – член Государственной комиссии по экономической реформе в 1989 году; член Президентского совета (1990–1991)
Шатров, Михаил – советский драматург
Шахназаров, Георгий – ближайший помощник Горбачева по проблемам Восточной Европы и реформированию политической системы в СССР в 1988–1991 годах
Шеварднадзе, Эдуард – министр иностранных дел СССР (1985–1990); первый секретарь Коммунистической партии Грузии (1972–1985)
Шенин, Олег – секретарь ЦК КПСС и член Политбюро (1990–1991); участник августовского путча 1991 года
Ширак, Жак – премьер-министр Франции (1986–1989)
Шмелев, Николай – советский экономист; народный депутат СССР
Штроугал, Любомир – премьер-министр Чехословакии (1971–1988)
Шульц, Джордж – государственный секретарь США (1982–1989)
Шушкевич, Станислав – председатель Верховного Совета Белоруссии (1991–1994)
Щербицкий, Владимир – первый секретарь Коммунистической партии Украины (1972–1989); член Политбюро (1971–1989)
Эллисон, Грэм – профессор Высшей школы государственного управления имени Кеннеди при Гарвардском университете
Явлинский, Григорий – советский и российский экономист; заместитель председателя Совета министров Рсфср и Государственной комиссии по экономической реформе в 1990 году
Язов, Дмитрий – министр обороны СССР (1987–1991); участник августовского путча 1991 года
Якеш, Милош – генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Чехословакии (1987–1989)
Яковлев, Александр – член Политбюро (1987–1990); секретарь ЦК КПСС (1986–1990); посол СССР в Канаде (1973–1983)
Яковлев, Егор – главный редактор газеты “Московские новости” (1986–1991)
Янаев, Геннадий – вице-президент СССР с декабря 1990 года по август 1991 года; глава советских профсоюзов в 1986–1990 годах; участник августовского путча 1991 года
Ярузельский, Войцех – президент Республики Польша (1989–1990); первый секретарь ЦК ПОРП (1981–1989); премьер-министр Польши (1981–1985)
Введение
«Горбачева трудно понять»
«Горбачева трудно понять”, – сказал он мне, отзываясь о самом себе в третьем лице, как он это нередко делает. Я приступил к работе над его биографией в 2005 году, а спустя год он поинтересовался, как продвигается дело. “Медленно”, – извиняющимся тоном ответил я. “Ну ничего, – подбодрил меня он. – Горбачева трудно понять”.
У него есть чувство юмора. И он оказался прав. Мир раскалывается надвое, когда пытается понять Горбачева. Многие, особенно на Западе, видят в нем величайшего государственного деятеля второй половины XX века. А вот в России его часто презирают, считая виновным в распаде Советского Союза и сопутствовавшем этому распаду экономическом коллапсе. Поклонники Горбачева восхищаются его даром предвидения и смелостью. Недоброжелатели же, в числе которых оказался и кое-кто из бывших кремлевских соратников Горбачева, обвиняют его во всех грехах – от наивности до государственной измены. И все они сходятся лишь в одном: этому человеку удалось почти в одиночку изменить и свою страну, и весь мир.
К моменту прихода Горбачева к власти в марте 1985 года СССР был одной из двух мировых сверхдержав. Уже к 1989 году Горбачев в корне изменил советский строй. К 1990 году внес больший, чем любой из его предшественников, вклад в окончание холодной войны. А в конце 1991 года СССР распался, так что сам Горбачев оказался президентом без страны.
Конечно, он действовал не в одиночку. К 1985 году вся советская система находилась в таком плачевном состоянии, что коллеги Горбачева по Кремлю вполне одобряли взятый им курс на реформы, хотя в итоге он и зашел гораздо дальше, чем им бы хотелось. В России у Горбачева имелись союзники среди либералов; они приветствовали его нацеленные в будущее реформы и пытались поддерживать их, но затем предпочли Бориса Ельцина, увидев в нем человека, который поведет их к земле обетованной. Имелись у Горбачева и противники – приверженцы жесткого курса, которые оказывали ему вначале подспудное, а затем открытое и решительное сопротивление. Были у него и личные соперники – в частности, Ельцин, которого сначала мучил он и который потом мучил его – до тех пор, пока не нанес окончательный удар и Горбачеву, и самому СССР. Западные лидеры поначалу отнеслись к Горбачеву с недоверием, потом приняли его в свои объятия, а под конец бросили его, отказав в экономической помощи, в которой он отчаянно нуждался. А еще, что, пожалуй, важнее всего, Горбачеву пришлось иметь дело с самой Россией – с ее традиционным авторитарным строем и антизападными обычаями. Отвергнув Горбачева и Ельцина, страна в итоге выбрала Владимира Путина.
Будучи генеральным секретарем ЦК КПСС, Горбачев обладал властью изменить почти все. Кроме того, он был исключительным человеком среди равных ему по положению. Конечно, его ценности разделяли и другие советские граждане, даже высокопоставленные, однако на самом верху единомышленников у него почти не было. Почти до самого конца его поддерживали лишь трое членов Политбюро – Александр Яковлев, Эдуард Шеварднадзе и Вадим Медведев, – но все они были назначены и удерживались на своих должностях самим Горбачевым. Арчи Браун, опытный британский эксперт-советолог, писал: “Нет ни малейшего основания предполагать, что в середине 1980-х появилась бы хоть сколько-нибудь вероятная альтернатива Горбачеву и что этот другой лидер перевернул бы вверх тормашками марксизм-ленинизм и радикально изменил бы и свою страну, и всю международную систему, попытавшись предотвратить упадок, который не представлял непосредственной угрозы ни [советскому] строю, ни лично ему”[2].
Покойный российский философ и социолог Дмитрий Фурман осмыслял уникальную роль Горбачева в более широком контексте: по его словам, это был “единственный в русской истории политик, который, имея в своих руках полную власть, сознательно во имя идейных и моральных ценностей шел на ее ограничение и на риск ее потерять”. Для Горбачева прибегнуть к насилию, чтобы удержаться у власти, было бы равнозначно поражению. Согласно его собственным правилам, такая победа и была поражением. А потому, пишет далее Фурман, “по этим правилам его поражением было победой”, – хотя (следует добавить) самому Горбачеву в ту пору так вовсе не казалось[3].
Как же Горбачев сделался Горбачевым? Как крестьянский мальчишка, который на “отлично” написал сочинение, восхвалявшее Сталина, превратился в могильщика советского строя? “Одному Богу известно”, – со вздохом отвечал на этот вопрос многолетний премьер-министр Горбачева Николай Рыжков, под конец отвернувшийся от него[4]. Один из ближайших помощников Горбачева, Андрей Грачев, называл его “генетической ошибкой системы”[5]. Сам же Горбачев считал себя и “порождением” этой системы, и “антипорождением”[6]. Но как же получилось, что он оказался и тем и другим?
Как он сделался большим партийным начальником, несмотря на самые строгие, какие только можно себе представить, проверки и поручительства, призванные оградить систему от людей вроде него?[7] Как, спрашивает Грачев, “у власти в не вполне нормальной стране оказался человек с нормальными нравственными рефлексами и чувством здравого смысла”?[8] Американский психиатр, который составлял характеристики иностранных лидеров для Центрального разведывательного управления, так и не разгадал эту “загадку”: как столь “жесткая система” могла породить столь “склонного к новаторству и творчеству” руководителя?[9]
Каких перемен хотел Горбачев для своей страны, когда пришел к власти в 1985 году? Склонялся ли он лишь к умеренным экономическим реформам, как утверждал в ту пору, и, только видя отсутствие результатов, решил сделать их более радикальными? Или же он с самого начала стремился покончить с тоталитарной системой, но скрывал свои намерения, потому что иначе бы его растерзали те самые члены Политбюро, которые его выбирали? Что же все-таки вдохновило его на попытки преобразовать коммунистическую систему СССР? Что навело его на мысль, что он сможет преобразовать диктатуру в демократию, командную экономику – в рыночную, сверхцентрализованное унитарное государство – в настоящую советскую федерацию, а холодную войну – в новый мировой порядок, основанный на отказе от силы? Причем все это – одновременно и при помощи “эволюционных” (по его выражению) средств? С чего он взял, что всего за несколько скоротечных лет сумеет сломать российские политические, экономические и общественные шаблоны, которые просуществовали не один век: это и царское самодержавие, затем переросшее в советский тоталитаризм, и длительные периоды полурабской покорности властям, изредка прерывавшиеся вспышками кровавых бунтов, и минимальный опыт гражданской активности, подразумевавшей компромисс и консенсус и отсутствие традиции демократической самоорганизации и реальной власти закона? Вот что сказал позже сам Горбачев о российском складе ума, который сильно мешал ему: “Наш российский менталитет требовал, чтобы новую жизнь ему подали на блюдечке с голубой каемочкой, и немедленно, без реформирования общества”[10].
Был ли у Горбачева план? В чем состояла его стратегия изменения страны и мира? Критики утверждают, что у него не было ни плана, ни стратегии. А вот сторонники отвечают на это, что их не было ни у кого. Никто не мог бы придумать четкого плана для одновременного переустройства собственной страны и всего мира.
Но если оставить в стороне вопрос о том, был Горбачев искусным стратегом или нет, то разве нельзя его назвать блестящим тактиком? Ведь иначе он не убедил бы большинство людей в Политбюро, не согласных с его радикальными реформами, все-таки одобрить их. И был ли он при этом “недостаточно решительным и последовательным”, как сказал один из его ближайших помощников Георгий Шахназаров?[11] Можно ли согласиться с такой оценкой, учитывая, что на протяжении всех шести лет он постоянно рисковал, и в любой момент его могли сместить или даже посадить в тюрьму?
Как повел себя Горбачев, когда многие из его кремлевских товарищей обратились против него и в августе 1991 года очень многие из назначенных им самим людей попытались его свергнуть? А может быть, это он их предал, внушив им, будто собирается модернизировать советский строй, а на деле, сам того не желая, способствовал его развалу.
Был ли Горбачев человеком мстительным, не склонным прощать? Может быть, здесь кроется разгадка его роковой неуживчивости с Борисом Ельциным? Но ведь он простил или забыл ту резкую критику, с которой обрушились на него некоторые ближайшие помощники, и оставил их при себе, когда, лишившись власти в 1991 году, учредил фонд своего имени. “Я не могу мстить, не прощать”, – говорил он сам значительно позднее[12].
Учитывая все препятствия, стоявшие на пути к успеху, можно ли считать Горбачева идеалистом-утопистом? По его собственным словам – ничуть: “Уверяю вас, Горбачев не был наивным мечтателем”. Но сам же вспоминал: “Правильно мудрый Моисей сорок лет водил евреев по пустыне… чтобы избавиться от наследия египетского рабства”[13].
Для руководителя, и особенно советского руководителя, Горбачев был необычайно порядочным человеком – даже слишком порядочным, как говорили многие русские и некоторые западные люди. Ему категорически не хотелось применять силу, когда эта сила была необходима, чтобы спасти тот новый демократический Советский Союз, который он создавал. Почему же, в то время как враги Горбачева желали применить силу, чтобы сокрушить введенную им свободу, сам он не желал применять силу, чтобы спасти ее?[14] Может быть, он пришел к убеждению, что после тех рек крови, что пролились за долгую историю России, особенно в войнах и чистках XX века, нужно остановиться? Было ли это эмоциональным отвращением, основанным на лично выстраданном осознании чудовищной цены войны и насилия?
Порядочность Горбачева была заметна и в его семейной жизни. Его жена Раиса была умной женщиной, наделенной хорошим вкусом (пускай даже Нэнси Рейган считала иначе). В отличие от многих политиков Горбачев любил и очень ценил свою жену и, что было большой редкостью для большого советского начальника, оставался заботливым и преданным отцом дочери и дедом двух внучек. Почему же тогда после мучительной смерти жены, которая скончалась в 67 лет от лейкемии, он сказал: “Конечно, я виноват. Это я ее угробил”?[15]
Если Горбачев в самом деле был уникален, если его поступки радикально отличались от действий, какие предпринял бы на его месте любой другой лидер, тогда ключом к такому поведению является его характер. Но как раз его характер с трудом поддается определению. Был ли он гениальным слушателем, как утверждают некоторые, человеком, свободным от всякой идеологии и желавшим учиться у самой жизни? Или же он был оратором, который все говорил, говорил и никак не мог замолчать? По мнению видного советского психиатра Арона Белкина, Горбачев относился к исключительно самоуверенному и болезненно нарциссическому типу личности. Сам Белкин не знал Горбачева лично, но с его диагнозом в целом согласился один из ближайших помощников Горбачева, Анатолий Черняев[16]. Но если нарциссизм – это целый спектр, на “самом здоровом конце” которого находятся “эгоизм” и “крайняя самоуверенность”, то так ли уж это необычно для политического лидера?[17] К каким бы терминам мы ни прибегали, Горбачев, конечно, был чрезвычайно уверен в себе. Однако, когда его спросили, что может оттолкнуть его в человеке при первом знакомстве, Горбачев ответил: “Самоуверенность”. А что больше всего раздражает его в людях? “Высокомерие”[18]. Может быть, он чувствовал угрозу со стороны других самоуверенных людей? Или видел в других себя и ему не нравилось то, что он видел?
По мнению Александра Яковлева – ближайшего соратника Горбачева в советском руководящем аппарате, несколько отстранившегося от него в позднейшие годы, – Горбачев сам с трудом себя понимал. Порой Яковлеву казалось, что Горбачев “и сам побаивается заглянуть внутрь себя, опасаясь узнать о себе нечто такое, чего сам еще не знает или не хочет знать”. По словам Яковлева, Горбачев “постоянно нуждался в отклике, похвале, поддержке, сочувствии и понимании, что и служило топливом для его тщеславия, равно как и для созидательных поступков”[19].
Если это так, то как реагировал Горбачев, когда, уже завидев вершину горы, был вынужден наблюдать, как его великая мечта испаряется у него на глазах? Был ли он действительно великим лидером? Или, скорее, он был трагическим героем, которого погубили отчасти его собственные недостатки, но в куда более значительной мере – те неподатливые силы, с которыми он столкнулся?
Глава 1
Детство, отрочество, юность
1931–1949
Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольном, примерно в 140 километрах к северу от российского города Ставрополя, на Северном Кавказе. Родители назвали его Виктором, возможно, решив таким способом отметить предсказанную Сталиным будущую “победу” первого пятилетнего плана. Однако при крещении дед со стороны отца дал ему другое имя, уже библейское – Михаил. Багровое родимое пятно на голове (являвшееся, согласно русским народным суевериям, печатью дьявола), похоже, не слишком встревожило ни родителей, ни деда с бабкой.
Несмотря на название – Привольное, в пору горбачевского детства никакого приволья в его родном селе не было и в помине[20]. Как и в остальном СССР, в Привольном в 1931 году шла коллективизация – насильственный процесс обобществления частных хозяйств, в котором сгинули миллионы крестьян. В пору чудовищного голода 1932–1933 годов погибли два дяди и тетя Горбачева. Большой сталинский террор 1930-х коснулся обоих дедов: отца матери арестовали в 1934 году, а другого деда – в 1937-м. Потом, 22 июня 1941 года, в СССР вторглись фашисты, и в 1942-м село Горбачева на четыре с половиной месяца оказалось оккупировано. 1944 и 1946 годы выдались голодными. А после войны, когда советский народ надеялся наконец зажить лучше, Сталин снова принял крутые меры, и людям опять пришлось идти на жертвы ради того светлого будущего, которое коммунисты все время обещали, а оно никак не наступало.
Трудно представить более страшное время. Детство, пришедшееся на такие годы, несомненно, повлияло на дальнейшие взгляды Горбачева: на сталинизм – и на необходимость осудить его, на силу и насилие – и на требование отказаться от их применения. Но у этой истории есть и другая сторона. В разгар ужасов тогдашнего режима советские школьники должны были в обязательном порядке произносить ритуальную фразу: “Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!” И, удивительное дело, у Горбачева детство действительно было счастливым. Видимо, здесь сказались его от природы жизнерадостный характер и оптимистичный взгляд на жизнь. А еще все объяснялось теми солнечными лучиками надежды, которые всегда пробивались сквозь мрачные тучи, сгущавшиеся у него над головой. Насколько он действительно ощущал ужасы коллективизации, если один его дед (тот, что души в нем не чаял) возглавлял колхоз? Оба деда выжили в лагерях, и их довольно скоро освободили. Когда фашисты уже собирались схватить Горбачевых как родственников коммуниста, председателя колхоза, немцев как раз начали теснить, и они покинули Привольное. Горячо любимый отец Горбачева ушел воевать, и на него пришла похоронка, но дурная весть оказалась ложной: он выжил, проведя на фронте четыре года, и вернулся домой победителем. После войны Горбачев, с отличием окончив школу и сделавшись комсомольским активистом, вдобавок получил орден Трудового Красного Знамени за то, что помог отцу-комбайнеру собрать рекордный урожай.
Психологи уверяют, что когда личные неудачи и жизненные трагедии обретают счастливый финал – случайно или благодаря стараниям потенциальных жертв обстоятельств, – пережившие их люди обычно делаются более уверенными в себе, оптимистичными и менее подверженными депрессии[21]. А с Михаилом Горбачевым не просто не случилось худшего – многое в его жизни можно назвать почти идеальным. Его отец, Сергей Горбачев, был, по-видимому, прекрасным человеком: Михаил его обожал, а односельчане уважали. В детские годы, вспоминал Горбачев, он не только питал к отцу “сыновние чувства”, но и был “крепко к нему привязан”. Правда, о взаимной симпатии они за всю жизнь не обмолвились и словом – “это просто было”[22]. По воспоминаниям Михаила Горбачева, дед со стороны матери, Пантелей Гопкало, тоже любил его “беззаветно” – а русские мужчины нечасто открыто признаются в нежных чувствах. Но случались среди родни и ссоры. Дед со стороны отца, Андрей Горбачев, “характером был крут”. Андрей и его сын Сергей, отец Горбачева, с годами отдалились друг от друга, а однажды дело дошло даже до драки. Но и дед Андрей очень любил внука, любили его и обе бабушки. Мать Горбачева, Мария, бывала строгой и могла сурово наказать: она не по своей воле вышла замуж, и сына лет до тринадцати “воспитывала” ремнем. Материнская суровость сказалась на характере Горбачева: в пору взросления и даже много позже, будучи вполне взрослым человеком, он, похоже, испытывал особую потребность в знаках внимания и уважения, которых, по его мнению, заслуживал[23].
Его родители жили бедно, но работали не покладая рук и приучали сына к тому же. Чтобы выжить в годы войны, Горбачеву пришлось уже годам к тринадцати забыть о детстве. После войны он стал первым учеником в школе и образцовым гражданином. В придачу он получил почетный орден за сбор урожая. К 1950 году, когда Горбачев уезжал из Привольного на учебу в МГУ, он был крепким юношей, независимо мыслящим и самоуверенным до наглости. Сам Горбачев подытоживал свое тогдашнее мироощущение так: “Я ведь помню… наш быт! …[Мы] жили нищенски. Но я не ощущал себя нищим и вообще чувствовал себя прекрасно”[24].
История Ставрополья – края, где рос Горбачев, – прослеживается с первого тысячелетия до нашей эры, когда сюда пришли различные племена и расселились вблизи Северного Кавказа. Сам Ставрополь возник в 1777 году как военное поселение, а статус города получил в 1785 году. В центре находилась одна из крепостей, которые для защиты южных рубежей Российской империи по повелению императрицы Екатерины II выстроил по Азово-Моздокской укрепленной линии ее фаворит, князь Григорий Потемкин. Область заселили казаки, потом к ним присоединились беглые крепостные, не пожелавшие жить под барским игом, а позднее там появились уже другие крестьяне – насильно сосланные. Во второй половине XIX века предки Горбачева по линии отца переселились в эти места из Воронежской губернии, а предки по линии матери – с Черниговщины. Здесь, на южной окраине Российской империи, как отмечает Горбачев, “и характер-то формировался бунтарский”: неподалеку собирали войско и начинали походы предводители двух крестьянских восстаний – Степан Разин и Емельян Пугачев, из здешних краев происходил и Ермак – казачий атаман и покоритель Сибири в XVI веке. “Это, видимо, было у живущих здесь в крови и передавалось по наследству из поколения в поколение”, – с гордостью заключает Горбачев[25]. В этом же плодородном краю родился в 1918 году Александр Солженицын, будущий антисоветский диссидент-консерватор.
Само село Привольное, расположенное в дальнем северо-западном углу Ставрополья, вблизи административных границ Ростовской области и Краснодарского края, было основано в 1861 году. Сегодня, чтобы попасть туда, нужно ехать по шоссе от Ставрополя на северо-запад, мимо полей пшеницы и подсолнуха. При въезде в село у дороги красуется большой яркий щит с приветствием: “Добро пожаловать в Привольное!” От сельской площади дорога – вначале асфальтированная, потом грунтовая – уходит километра на полтора к обширной возвышенности, полого спускающейся к реке Егорлык. В 1930-е годы местное население почти в равном соотношении составляли русские и украинцы. Ближе к центру села, по одну сторону реки, жили русские, а выходцы с Украины обосновались на другом берегу. Круто спускающийся к реке участок земли, на котором раньше жили Горбачевы, сейчас необитаем. Пустует и заросшая кустарником и высокой травой местность, простирающаяся дальше и уходящая в степь. Лишь пара хозяйственных построек виднеется на горизонте. Не видно отсюда и остального Привольного с его деревянными домами и большой церковью (которую построили благодаря финансовой помощи бывшего президента СССР Михаила Горбачева).
Именно здесь, на окраине села, прадед Горбачева Моисей Горбачев выстроил хату для себя, своей жены и троих сыновей – Алексея, Григория и Андрея. Много лет спустя, когда Михаил уже подрос, семья Горбачевых покинула эту часто затопляемую равнину и перебралась повыше, поближе к самому селу. Ребенком Горбачев видел, как за дедовой хатой, стоявшей примерно в 180 метрах от реки, простиралась только “степь да степь кругом”[26] (чем-то похожая на американские прерии). При Моисее Горбачеве вся большая семья, восемнадцать человек, теснилась в одном большом доме в несколько комнат, а другие родственники жили неподалеку. Позднее все трое сыновей выстроили себе собственные хаты, и только поженившиеся тогда дед и бабка Горбачева, Андрей и Степанида, зажили отдельно от родни. В их доме в 1909 году родился отец Горбачева, Сергей.
По всеобщему признанию, дед Андрей, воевавший в Первую мировую войну на западном фронте, был человеком несговорчивым и упрямым. “Не жалел себя и других, – вспоминает его внук, – у него все всегда было в порядке”[27]. Он “характером был крут и в работе беспощаден”[28]. “Прижимист”, – сообщают одни. “Угрюмый, вспыльчивый, хотя волевой и сильный человек”, – добавляют другие[29]. Однако этот старик, на многих наводивший страх, при виде внука таял. “Но когда я с ним ходил, он приглашал, чтобы ходили, рассказывал и угощал, конечно, и набирал, чтобы ели…”[30]. Бабушка Степанида была “доброй и заботливой”. “Мы… были в дружбе. Мне повезло”, – вспоминает ее внук[31].
У Андрея и Степаниды родилось шестеро детей, но из них – лишь два мальчика, а землю сельская община выдавала только на мужчин, поэтому земли семья получила совсем мало. В итоге, рассказывает Горбачев, вся семья от мала до велика трудилась “денно и нощно”. Мало-помалу семье удалось подняться из нищеты, и постепенно они выбились в “середняки”. Но, чтобы обеспечить дочерей приданым, пришлось продавать зерно и выкормленную скотину. Выручал семью огромный садовый участок, где дед Андрей умудрялся выращивать почти все необходимое. “Сад спускался к реке, потрясающий, с прививками, – вспоминал его внук. – [Дед был] мичуринец, до Мичурина начал прививки; на одном дереве можно было увидеть яблоки разные, и красные, и зеленые. Прекрасный сад, потрясающий. И вот туда опасно было бегать, дед был жестокий, очень жестокий”[32].
А еще дед Андрей не принимал идей коммунизма. На вопрос о том, вступил ли Андрей в компартию, дядя Горбачева со стороны матери только смеялся и отвечал: “Нет, ни за что”[33]. Андрей ни за что не хотел вступать и в колхоз, и на некоторое время его оставили в покое. Он оставался крестьянином-единоличником, то есть ему полагалось выращивать предписанное количество зерна и часть урожая продавать государству, но не позволялось иметь собственность. Когда случился голод и семье пришлось питаться чем попало, даже не очень съедобным, Андрей кормил родных лягушками. Голод – самое раннее воспоминание Горбачева: лягушки плавают в большом котле и, сварившись, переворачиваются белыми брюшками кверху. Правда, он не может вспомнить, ел он их тогда или нет, зато очень хорошо помнит другой случай: “надо сеять, а все семена съели”[34] – съели он и его младший дядя (он был старше Михаила всего на пять лет).
В 1934 году Андрея арестовали, по словам внука, за “невыполнение плана [посева], когда его нечем было выполнять”. Отправили на принудительные работы в лагерь под Иркутском, в Сибирь, где заключенные валили лес, и там Андрей за ударный труд получил четыре почетные грамоты. В итоге его освободили досрочно, и он вернулся в Привольное (где повесил лагерные грамоты на стену рядом с иконостасом) угрюмее прежнего. Теперь у него не осталось другого выхода, кроме как вступить в колхоз. В течение следующих семнадцати лет он заведовал колхозной свинофермой – и превратил ее в лучшую свиноферму области. “Вот я вам говорю, что куда ни поставят, сам работает и всех заставит работать”, – вспоминал Горбачев[35]. Такой урок не прошел даром для его внука.
Другой дед Горбачева, Пантелей Гопкало, был политическим и психологическим антиподом Андрея Горбачева. Дед Пантелей приветствовал большевистскую революцию. “Советская власть спасла нас, дала землю”, – говорил Гопкало, который родился в бедняцкой семье и воевал в Первую мировую на турецком фронте. Эти слова, часто повторявшиеся в семье Гопкало, глубоко запали в душу внука. Как и то обстоятельство, что дед Пантелей, поднявшись из “бедноты” и выбившись в “середняки”, в 1920-е годы помогал строить новую крестьянскую общину, где трудились и он сам, и его жена Василиса (ее предки тоже были родом с Украины), и их дочь Мария – будущая мать Михаила Горбачева. В 1928 году Пантелей Гопкало вступил в партию. А вскоре, в 1929 году, он помогал организовывать первый колхоз в Привольном. Когда юный Михаил расспрашивал бабушку, как это было, “она с юмором отвечала: ‘Всю ночь дед твой их организует, организует – а утром все разбежались’”[36]. А в другой раз она рассказывала внуку о коллективизации уже в более мрачных тонах, и ее слова Горбачев приводил на одном из заседаний Политбюро в октябре 1987 года: “Какая вражда пошла, брат на брата, сын на отца, через семьи она пошла. Давали сверху разнарядку – столько-то кулаков выселить. Вот и подгоняли под цифру, и неважно, кулак ты или нет”[37].
Так называемые кулаки считались зажиточными крестьянами, но в действительности большинство из них были мелкими собственниками, которые своим тяжким трудом и предприимчивостью сумели лишь чуть-чуть подняться над середняками. Сын Гопкало, тоже Сергей, помогал “душить кровопийц”. “Я в комсомольской ячейке состоял, – рассказывал дядя Горбачева по линии матери. – Ну и гонял со всеми по дворам, на которые указывали. Потрошили их. Мне жалко было. Начальник из комсода, так это, по-моему, называлось, всегда пьяный, говорит мне в одной хате: ‘Полезай на чердак, все тащи сюда!’ Я просто так заглянул туда и кричу: ‘Ничего нету!’ А он мне: ‘А ну слезай, сам догляжу’. Полез на чердак. Хотя и были залиты у него глаза, а разглядел несколько овчинных шуб. Ох и досталось мне тогда!” [38]
Раскулачивание, как и почти все процессы в СССР, должно было происходить по определенному плану, и устанавливались ежемесячные нормы. Целые семьи лишали имущества и гуртом отправляли в ссылку: одних высаживали посреди голой степи на северо-востоке Ставрополья, других набивали в вагоны-“скотовозки” (где многие погибали еще в пути) и увозили еще дальше на восток. Какую именно роль во всем этом играл Пантелей Гопкало – неизвестно, но начальство явно осталось им довольно и со временем назначило его председателем колхоза под названием “Красный Октябрь”.
Но какие бы действия ни совершал Пантелей Гопкало в процессе насильственной коллективизации, председателем учрежденного колхоза он, судя по всему, стал очень порядочным. Один ставропольский журналист, который много лет спустя расспрашивал о нем местных колхозников, почти ото всех услышал одни только положительные отзывы[39]. К 1937 году Пантелей заведовал районным земельным отделом. “Но по-прежнему жил как все мы, – добавляет Горбачев. – Очень человек интересный, пользовался большим авторитетом. Говорил тихо и медленно”[40]. Деды Горбачева послужили для него двумя разными образцами авторитета: Андрей был грубым, независимым и властным человеком, а Пантелей (во всяком случае, каким его вспоминал внук) – более мягким, вдумчивым и одобрял коллективизацию сельского хозяйства.
Несколько лет, начиная с трехлетнего возраста, Горбачев жил не у родителей, а в основном у деда с бабушкой, родителей матери, в колхозе километрах в двадцати от Привольного. Горбачев вспоминал, как частенько бегал за дедовой телегой – длинной и глубокой. “Там для меня вольница была полная, любили они меня беззаветно. Чувствовал я себя у них главным. И сколько ни пытались оставить меня хоть на время у родителей, это не удалось ни разу. Доволен был не только я один, не меньше отец и мать…”[41] “Отец и мать еще молодые, им это на руку, что я у деда, они свободны”[42].
В голодную пору родителям Горбачева, которым не было и двадцати лет, когда он родился, казалось вполне разумным оставлять мальчика у любящих и относительно обеспеченных дедушки с бабушкой, тоже довольно молодых. (Василиса стала бабушкой в тридцать восемь лет.) Но был ли сам Миша доволен таким положением, и если да, то почему? Однажды, когда дед отвез его к родителям, мальчик “бежал и километр, и полтора за тачанкой деда”, пока тот не взял его с собой[43]. По его словам, в жизни деда с бабкой он чувствовал себя главным, да и Василиса часто повторяла, что он ее любимый внук. А как относились к нему родители?
У отца Горбачева было только четыре класса образования, хотя позднее он воспользовался введенной большевиками программой ликвидации безграмотности и выучился на тракториста-комбайнера. По словам сына, “в отце, простом человеке из деревни, было заложено самой природой столько интеллигентности, пытливости, ума, человечности, много других добрых качеств. И это заметно выделяло его среди односельчан, люди к нему относились с уважением и доверием: ‘надежный человек’”[44].
Свидетельство самого Горбачева подтверждают и другие люди. Сергея Горбачева вспоминали как “умного человека, скромного трудягу… Люди любили его. Это был спокойный и добрый человек. К нему приходили советоваться. Он говорил мало, но взвешивал каждое свое слово. Он не любил речей”[45]. По словам бывшего комсомольского товарища Михаила, старший Горбачев никогда “не повышал голоса, был уравновешенным, дисциплинированным и порядочным”[46]. А вот что вспоминала Раиса Горбачева: “Внутренне Михаил Сергеевич и отец были близки. Дружили. Сергей Андреевич не получил систематического образования – ликбез, училище механизации. Но у него была какая-то врожденная интеллигентность, благородство. Определенная широта интересов, что ли”[47].
Неудивительно, что Сергей, обладая такими качествами, не очень-то уживался с дедом Андреем, человеком совсем другого склада. Тем более что Сергей предпочел пойти по стопам тестя, а не родного отца, вступив в колхоз. Когда Сергей и Мария еще жили в доме Андрея Горбачева, кукуруза хранилась во дворе, и там ее делили поровну между членами семьи. Однажды, пока Сергей работал в поле, его отец взял часть общей кукурузы и спрятал на чердаке. В поисках пропавшей кукурузы Сергей забрался наверх по приставной лестнице, где отец и застал его. Сергею было тогда 23 года, и у него хватило сил справиться с отцом, заломив тому руки за спину. Сергей постарался сохранить этот эпизод в тайне от посторонних. Кукурузу они поделили “по справедливости”, но “это только еще больше подтолкнуло отца на сторону своего тестя”, вспоминал Горбачев[48]. На вопрос о том, какими были отношения двух дедов, не возникало ли между ними трений, Горбачев сначала ответил: “Нормальные”, а потом добавил: “Но он, конечно, ревнивый, дед [Андрей] к деду [Пантелею] относился ревниво”[49].
Дочь Пантелея, Мария Гопкало, родилась в 1911 году. А в 1928-м, в семнадцать лет, она вышла замуж за девятнадцатилетнего Сергея Горбачева. “Она была очень красивая, – вспоминал Горбачев, – очень боевая, с характером”[50]. Другие подтверждают, что Мария, в школе не учившаяся и всю жизнь остававшаяся неграмотной, была “женщиной прямой, с острым языком, сильным, твердым характером”[51]. Односельчане считали ее неотесанной по сравнению с мужем. Горбачев не опровергает такого суждения: “Они очень чем-то были похожи по интеллигентности, по, так сказать, манере обращения с другими, и отец, и дед [Пантелей]. Мать совсем другая”[52].
В одном из интервью Горбачев рассказывал, что его мать совсем не хотела идти замуж за его отца. В семнадцать лет у нее наверняка имелись и другие ухажеры, ведь она была красавицей. Но Сергей не отступился: “…очень ее любил. Уже потом, в годы, когда он приезжал в гости к нам в Ставрополь, он обязательно, перед тем как уехать, шел в магазин, чтобы купить подарок Марии. Всегда он возвращался, куда бы ни поехал, с подарком для Марии”[53]. На вопрос о том, полюбила ли она со временем мужа, Горбачев, немного подумав, ответил: “Я думаю, что уже потом, когда семья, когда дети”. Но, в отличие от большинства русских крестьянок, которые в ту пору рожали много детей, Мария родила своего второго (и последнего) ребенка, Александра Горбачева, лишь в 1947 году, когда Михаилу было шестнадцать. “А после войны, – добавил Горбачев, – все полюбили своих мужей, оставшихся в живых особенно”[54].
Следуя крестьянскому обычаю, после свадьбы Мария и Сергей Горбачевы поселились в доме свекра. Это была длинная хата с саманными стенами, вытянутая с востока на запад, с соломенной кровлей. Описывая этот дом в интервью 2007 года, Горбачев набросал на листке из блокнота план: “Вот первая часть – это была горница… представительская”, там было чисто и нарядно, глиняный пол был частично прикрыт домоткаными половиками. “Для гостей горница?” – “Нет-нет, какие гости? Вот здесь была, я помню это, кровать деда и бабушки, здесь в этом углу был иконостас, колоссальный иконостас из десяти-двенадцати икон таких позолоченных. Здесь висела лампада, вот”[55]. (В доме деда Пантелея, председателя колхоза, место иконостаса занимали портреты Ленина и Сталина.) Дальше, за дверью, была еще одна комната – с огромной печью, в которой женщины пекли хлеб, и печкой поменьше, для приготовления другой пищи. Дети спали на лежанке, устроенной на большой печке. В углу, у стены, стояли обеденный стол и скамья. Другой угол был отгорожен занавеской для родителей Горбачева, чтобы у молодоженов было хоть немного личного пространства. Бани не было, добавил Горбачев. “В кадушке грели воду и мылись”[56].
В следующей комнате, по другую сторону от маленькой прихожей, хранили зерно и всякий крестьянский инвентарь вроде упряжи и кнутов. А выше был чердак, и Горбачеву, когда он немного подрос, нравилось “находить там укромные места, где нередко засыпал”. Там он нашел однажды целый мешок “с какими-то цветными бумагами” – это были пачки керенок. “Они там долго еще хранились. Наверное, дед рассчитывал, что, может, еще пригодятся”[57]. А однажды случилось и такое, что Михаил “спал рядом с теленком, только что родившимся, и тут же гусыня сидела на яйцах”[58].
Еще одна дверь вела в помещение, где держали скотину. Обогревался весь дом только печью да теплым дыханием всех животных и людей, живших там. “Я хату хорошо знаю, – вспоминал Горбачев. – Облазил ее, пацаном был. Облазил всю”[59].
Из-за такой скученности и непростых отношений между поколениями родители Горбачева решили отделиться и зажить своим хозяйством. Пантелей выстроил для дочери и зятя хату неподалеку от дома деда Андрея и устроил Сергея Горбачева на курсы трактористов и комбайнеров.
Между тем разразился голод, и люди стали умирать. По словам Михаила Горбачева, тогда “вымерла по меньшей мере треть, если не половина села. Умирали целыми семьями, и долго еще, до самой войны, сиротливо стояли в селе полуразрушенные, оставшиеся без хозяев хаты”[60]. А потом, в 1934-м, арестовали деда Андрея. Бабушка Степанида осталась одна с двумя младшими детьми, и отец Горбачева “взял на себя все заботы”. После ареста Андрея его семья “оказалась никому не нужной”, к тому же они жили на окраине села, и это усиливало ощущение изоляции. Но вскоре дед Андрей вернулся, а дед Пантелей помог зятю устроиться на работу на местную МТС – машинно-тракторную станцию. В отличие от колхозов, МТС принадлежали государству и считались “более высокой” формой собственности, а ее работников относили уже не к крестьянству, а к пролетариату. Теперь Сергей, поднявшись на новую общественную ступень, начал зарабатывать больше своих родственников-крестьян, а в скором времени уже побивал рекорды по сбору урожая, и о нем даже писали хвалебные очерки в районной газете[61].
В 1937 году дед Пантелей заведовал районным земельным отделом, отвечавшим за заготовку зерна и сбор урожая. В том же году его арестовали – шла “большая чистка”. Из Москвы присылали “разнарядку” – сколько человек нужно взять. Позже, когда начальника райотдела НКВД отчитывали за превышение “квоты”, он отвечал: “Другие столько народу арестовали! Что, я хуже других, что ли?”[62] Пантелей оказался привлекательной мишенью для завистников и для тех, кто успел пострадать от его притеснений. Один из ужасных парадоксов сталинских чисток заключался в том, что их массово поддерживали крестьяне, ненавидевшие местных чиновников – тех самых, которые проводили коллективизацию[63]. Как это обычно и делалось в сталинские времена, за Пантелеем пришли среди ночи. Его жена Василиса переехала в Привольное к отцу и матери Горбачева. “Помню, – писал он, – как после ареста деда дом наш – как чумной – стали обходить стороной соседи, и только ночью, тайком, забегал кто-нибудь из близких. Даже соседские мальчишки избегали общения со мной… Меня все это потрясло и сохранилось в памяти на всю жизнь”[64].
Пантелей находился под следствием четырнадцать месяцев. Ему грозил верный расстрел, но, по счастью, помощник прокурора края переквалифицировал обвинение с уголовной статьи (то есть причастности к “контрреволюционной правотроцкистской организации”) на менее серьезную статью о “должностных преступлениях”. А в декабре 1938 года деда освободили, и он вернулся в Привольное. Тем зимним вечером, вспоминал Горбачев, в доме его родителей “сели за струганый крестьянский стол самые близкие родственники”, и дед со слезами “рассказал все, что с ним делали”. “Добиваясь признания, следователь слепил его яркой лампой, жестоко избивал, ломал руки, зажимая их дверью. Когда эти ‘стандартные’ пытки не дали результатов, придумали новую: напяливали на деда сырой тулуп и сажали на горячую плиту. Пантелей Ефимович выдержал и это, и многое другое”[65].
Пантелей вернулся из тюрьмы совершенно “другим” человеком[66]. Он больше никогда не говорил о пережитых мучениях, и в семье никто этой темы не касался. Но удивительно, что он вообще о таком рассказал (это было редкостью), и этот рассказ глубоко ранил внука. Многие люди, пострадавшие от репрессий, никогда даже словом не упоминали о пережитом, а потому их родные сохраняли более благостные представления о режиме, и лишь потом, в 1956 году, когда Никита Хрущев в своем “секретном докладе” раскрыл правду о преступлениях Сталина, им пришлось резко менять взгляды[67]. В этом смысле у Горбачева всегда имелась более уравновешенная позиция, хотя, похоже, даже его дед, несмотря на собственный страшный опыт, не утратил былой веры: “Сталин не знает, что творят органы НКВД”, – говорил он. Но если все в семье Горбачевых предпочитали молчать об услышанном, это вовсе не значит, что они пытались забыть – они просто боялись вспоминать. И сам Горбачев тоже помалкивал. Даже когда он сначала сделался высоким партийным начальником в Ставрополе, потом членом ЦК КПСС, затем генсеком партии, а после и вовсе президентом СССР и выступил с горячим осуждением Сталина и сталинизма, Горбачев не делал попыток затребовать следственное дело деда Пантелея. Он решился на это только после августовского путча 1991 года, практически лишившего его власти. В 1960-е и 1970-е годы, при Брежневе, когда вслед за разоблачениями Хрущева началась ползучая реабилитация Сталина, Горбачев понимал, что это просто рискованно. Но потом-то, когда он сам сделался главой страны и главным ниспровергателем Сталина? “Я не мог перешагнуть какой-то душевный барьер”, – признавался Горбачев[68].
К 1941 году жизнь в Привольном стала налаживаться. В магазинах снова появились обувь, ситец, соль, селедка, спички, мыло и керосин. Колхоз наконец-то начал выплачивать своим работникам давно обещанную плату – зерном. “Дед Пантелей сменил соломенную крышу хаты на черепичную. Появились в широкой продаже патефоны. Стали приезжать, правда, редко, кинопередвижки с показом ‘немого’ кино. И главная радость для нас, ребятишек, – откуда-то, хотя и не часто, привозили мороженое. В свободное от работы время, по воскресеньям, семьями выезжали отдыхать в лесополосы. Мужчины пели протяжные русские и украинские песни, пили водку, иногда дрались. Мальчишки гоняли мяч, а женщины делились новостями да присматривали за мужьями и детьми”[69].
22 июня 1941 года на рассвете на СССР напали немцы. В полдень жители Привольного собрались на главной площади перед радиоприемником-громкоговорителем (единственным на все село) и, затаив дыхание, слушали обращение правительства. “Войну я помню всю, хотя кому-то это покажется преувеличением, – продолжал Горбачев. – Многое, что пришлось пережить потом, после войны, забылось, но вот картины и события военных лет врезались в память навсегда. Когда война началась, мне уже исполнилось 10 лет”[70].
Прежде всего он помнил, как уходил на фронт отец. Первые повестки привозили из райвоенкомата посыльные на лошадях. Вначале Сергей Горбачев получил временную отсрочку – до тех пор, пока не соберут урожай. А потом, в августе, пришла повестка и ему. “Утром сложили вещи на повозки и отправились” за двадцать километров в райцентр Молотовское (позже – Красногвардейское). Горбачев помнил, как на площади толпились другие семьи: “бились в слезах женщины и дети, старики, рыдания слились в общий, рвущий сердце стон. Последний раз купил мне отец мороженое и балалайку на память”. Мороженое юный Михаил проглотил за один присест (такой жаркий был день), а на балалайке потом вырезал дату: “3 августа 1941 года”[71].
Все трудоспособные мужчины ушли на фронт, и в Привольном остались только женщины и дети, да больные и старики. Первая же зима военной поры наступила рано, морозы ударили необычайно суровые. Уже 8 октября на село обрушился снегопад, всю округу замело и занесло сугробами. Еды еще хватало, хотя за скотиной ходить стало трудно, а хаты топить было почти нечем. Всем женщинам села пришлось сообща пробивать дороги в снегу и возить несобранное сено. Однажды Мария Горбачева и еще несколько женщин пропали на три дня после расчистки дорог. Как выяснилось, их арестовали и держали в районной тюрьме, потому что они случайно нагрузили на свои сани сено со стогов, принадлежавших государству. Но, так как все “расхитительницы” оказались женами фронтовиков и у всех были дети, их не стали судить и отпустили домой[72].
Мальчишкам вроде Горбачева пришлось трудиться вместо отцов. По его воспоминаниям, они, “перешагнув через детство, сразу вошли во взрослую жизнь”[73]. Весной он начал заниматься огородом, кормившим семью. Мать вставала засветло, копала и полола, потом передавала начатое сыну, а сама уходила на работу – на колхозное поле. Главной обязанностью Михаила стала заготовка сена для принадлежавшей семье коровы и топлива для домашней печки. Лесов вокруг не было, всюду тянулась степь, и крестьяне из прессованного коровьего навоза делали кизяк для выпечки хлеба и приготовления пищи, а на обогрев хаты шел колючий кустарник. Горбачев целыми днями трудился один, иногда впадая в задумчивость: “Вдруг, забыв обо всем на свете, завороженный зимней метелью или шелестом листьев сада в летнюю пору, мысленно я переселялся в какой-то далекий, нереальный, но такой желанный мир. Царство мечты, детской фантазии”[74]. Мечтал ли Горбачев о том, что впереди его ждет столь блистательное будущее? “Я ни о чем особенно не мечтал, – отвечал он на этот вопрос в одном интервью, – мне просто хотелось оказаться где-нибудь далеко”[75]. Возможно, он просто скромничал. Позднее он признавался одной приятельнице: “Я был ужасным фантазером, я почему-то верил, что вот у меня будет совершенно другое будущее”[76].
Когда от отца Горбачева начали приходить письма, его неграмотная мать диктовала ответные письма сыну, а иногда он писал и от себя. Отец Горбачева выписывал коммунистическую газету “Правда”, и теперь ее читал Михаил: сначала в одиночку, а потом, забравшись на большую печь, вслух – женщинам, обычно собиравшимся по вечерам в чьей-то хате, чтобы побыть вместе и обсудить новости. Однажды вместе с новым номером “Правды” пришла маленькая книжица, где рассказывалась получившая широкую известность история подвига Зои Космодемьянской – девушки-партизанки, которую повесили фашисты. Он читал эту брошюру вслух всем собравшимся. “Все были потрясены жестокостью немцев и мужеством комсомолки”[77].
Долгое время все новости, которые Горбачев читал соседкам, оставались горькими. До 1941 года и он, и другие мальчишки часто играли “в войну” в садах за хатами, маршировали, “брали штурмом” пустые, полуразвалившиеся дома, заброшенные еще в голодном 1932 году, и распевали лихие патриотические песни. Они не сомневались, что немцы “получат по зубам”, если посмеют напасть. Но скоро враг оказался под Москвой и под Ростовом-на-Дону, находившимся в трехстах километрах от Ставрополя. Летом 1942 года через Привольное побрели беженцы. Они тащили на себе рюкзаки и мешки, толкали детские коляски и ручные тачки, выменивали вещи на еду, гнали перед собой коров, табуны лошадей, овечьи отары. Пантелей и Василиса, боясь, что немцы не пощадят председателя колхоза, собрали пожитки и ушли неизвестно куда. Местные власти открыли цистерны с горючим и спустили его в реку Егорлык, а неубранные хлебные поля сожгли. 27 июля по Привольному прошли советские войска, отступавшие от Ростова. Они двигались на восток – “хмурые, усталые солдаты. На лицах – печать горечи и вины”. “Бомбовые взрывы, орудийный грохот, стрельба слышались все ближе”, а потом вдруг – два дня тишины. На третий день в село ворвались немцы на мотоциклах, за ними двигалась пехота. Когда показались мотоциклисты, Миша Горбачев и двое его двоюродных братьев стояли и смотрели на них во все глаза. “Бежим!” – крикнул один из мальчишек, но Горбачев остановил его словами: “Стоять! Мы их не боимся”[78].
Один немецкий солдат, впрочем, повел себя дружелюбно – показал ребятам фотокарточки своих детей. Зато другие принялись хватать все, что им приглянулось: коров, свиней, кур, зерно. Однажды, найдя Горбачева и его друзей, спрятавшихся в колодце, немцы заставили их таскать им воду. “Мы поили немцев, – говорит Горбачев. – Деваться было некуда”[79]. Вскоре почти все немцы перебрались в Молотовское, а полицаями в Привольном оставили дезертиров из Красной армии, которые якобы следили за порядком, а на деле пьянствовали, воровали и насиловали[80]. Мать и бабушка Горбачева старались не показывать страха. Василиса вернулась в село, когда немцы вошли в Ставрополь. (Деду Пантелею удалось уйти кукурузными полями и оврагами.) Скоро ее арестовали полицаи, явившиеся с обыском к Горбачевым. “Мать… вела себя мужественно, – вспоминает Горбачев. – Смелость ее была не только от характера – женщина она решительная, – но и от отчаяния, от незнания, чем все это кончится”. Кое-кто из односельчан угрожал ей, приговаривая: “Ну, погоди… Это тебе не при красных”. До Горбачевых дошли слухи о массовых расстрелах в соседних городах и о расправе над коммунистами, будто бы назначенной на 26 января 1943 года. Поэтому Мария и дед Андрей спрятали Михаила на ферме у Андрея, в нескольких километрах от Привольного. Однажды поздним вечером Горбачев с матерью вышли оттуда, но заблудились в темноте и снова выбрели к ферме только благодаря сильной грозе: путь им осветили яркие молнии. Но уже 21 января Привольное освободили советские войска[81].
Пока длилась оккупация, немцы назначили старостой старика, которого на селе звали “дедом Савкой”. По словам Горбачева, Савка упорно отказывался от такой должности, но односельчане сами уговорили его: мол, лучше уж кто-то из своих будет заступаться за них перед оккупационными властями. “В селе знали, что [он] делал все, чтобы уберечь людей от беды”, и некоторые даже осмелились заявить об этом позже, когда после изгнания немцев Савку арестовали и приговорили к десяти годам за “измену Родине”. Это (в придачу к тому, что произошло с обоими дедами Миши) явилось для Горбачева еще одним ранним свидетельством несправедливости, какая возможна при советской власти. Конечно, двенадцатилетний паренек всего еще не понимал, но он слышал, что деда Савку забрали, а после узнал о том, что старик умер в тюрьме как “враг народа”.
Немцы отступили из Привольного, оставив село в разрухе – без техники, без колхозной скотины, без семян. Когда пришла весна, пахать землю пришлось на коровах из личных крестьянских подворий. “До сих пор помню эту картину: женщины в слезах и тоскливые коровьи глаза”, – продолжает Горбачев. Но коров жалели – ведь корова порой кормила всю семью, – и часто женщины впрягались в плуг сами. Урожай той осенью оказался скудный, но и его забрало государство, так что крестьянам на прокорм почти ничего не осталось. Зимой и весной снова разразился голод. Семье Горбачева удалось выжить только потому, что его мать и еще несколько женщин впрягли в повозку пару уцелевших быков и отправились на Кубань. Мать взяла две пары отцовских сапог из телячьей кожи и костюм, так ни разу и не надетый, чтобы обменять на кукурузу. Дом оставила на сына, хотя ночевать туда приходила еще тетя Саня. “Уезжая, мать отмерила мне на каждый день по горстке кукурузы, из последних в доме остатков, – вспоминал Горбачев. – Я делал крупу и варил кашу. Проходит неделя, идет вторая, а матери нет. Лишь на пятнадцатый день вернулась она с мешком кукурузы. Это и было наше спасение!” [82]
Пятнадцать дней – немалый срок для двенадцатилетнего мальчика, предоставленного самому себе, да еще в разгар войны, когда неизвестно было, вернутся ли домой мать и отец. Но еще дольше длилась тяжелая пора, когда в Привольное не привозили вообще никаких товаров. Все это время, пишет Горбачев, у них не было “ни одежды, ни обуви, ни соли, ни мыла, ни керосиновых ламп, ни спичек”. Крестьяне сами чинили себе обувь и одежду, а когда и это старье окончательно распадалось, выращивали коноплю, делали из нее нитки, ткали и потом шили из конопляного полотна рубахи (“а она колом стоит”, такая рубаха), верхнюю одежду делали из вручную спряденной и сотканной овечьей шерсти, обувь – из шкур, заквашенных и пропитанных мазутом, “огонь добывали, высекая искры из кремня, разжигая пропитанную золой вату, ‘спички’ делали из тола противотанковых гранат”. “Всему пришлось научиться, и делал я это в совершенстве, – с гордостью вспоминает Горбачев. – Я приспособил, нашел рушку, сделал колесо от сеялки, вернее ось от сеялки, на нее такое одевалось приспособление, куда засыпалась кукуруза… Вот с тринадцати лет это была моя обязанность скирдовать сено для коровы, заготавливать курай – грубые такие растения, жесткие, которые на топку идут. Вот я косил это, я получил ширину своих плеч. Физически… страшно”[83].
Справляясь с испытаниями военной поры, Горбачев сделался более уверенным в себе, у него повысилась самооценка. Поворотный момент в его отношениях с матерью наступил в 1944 году, когда Горбачеву было тринадцать лет: “она опять замахнулась мне по шее дать, я взял этот ремень, вырвал у нее и сказал: все! Она плакала страшно, что последнего объекта, которым она могла управлять, лишилась”[84]. Обычно в крестьянских семьях сыновей пороли отцы. А сносить порку от матери, да еще в тринадцать лет, да еще когда выполняешь всю работу за отсутствующего отца, – это было уже слишком. Всегда ли мать отвечала за дисциплину в семье? “Да ни за что она не отвечала”, – хмуро отвечал Горбачев на этот вопрос. Скорее, когда Миша вел себя плохо, она грозилась рассказать все отцу, когда тот вернется. “Но отец… вот мы с ним были расположены друг к другу очень”. И это матери Горбачева тоже не нравилось. “Но она иногда мне говорила: ‘Вот ты все, любимый твой отец’, или что-то там. Я говорю, ты тоже моя любимая, ты что, говорю. Но ты, я говорю, ты не заметила, как я вырос”[85].
С матерью, по словам Горбачева, они – “выяснили отношения, рано начали выяснять”[86]. Спустя почти семьдесят лет, вспоминая мать, которая в годы войны всегда была рядом с ним, Горбачев утверждал: “Мать я любил. Любил ее и отец – до конца жизни. Она была прекрасной женщиной, очень крепкой, деловой. Отец гордился ею, прощал ее лихость, помогал во всем. Это был пример для меня и брата”[87]. Однако подражать такому примеру было нелегко.
В 1978 году, получив повышение в Москву, Горбачев попросил Раису Гударенко, молодую начальницу районного отдела партии недалеко от Привольного, присмотреть за его стареющей матерью. По словам Гударенко, Мария Горбачева оставалась физически сильной (как-то раз, будучи уже далеко не молодой, она сама перестелила соломенную кровлю на хате), всегда с “крайней прямотой” говорила о том, что ей нравится, а что нет, и сохраняла “внешнюю суровость”. Мать Горбачева была ярой сторонницей порядка: все в ее доме должно быть как следует. Когда приходили гости, она сама “накрывала на стол”, ставила еду и питье, даже если это мог сделать за нее кто-нибудь другой. Она отказывалась от любой помощи по дому и сама себя обстирывала. Хотя в доме у нее уже была современная ванная, она все равно мылась в пристройке на дворе, говоря, что воды мало, ее нужно беречь для односельчан[88].
Что бы ни думал о матери Горбачев, в жены он выбрал женщину, которая своим перфекционизмом очень напоминала его мать.
Летом 1944 года Горбачев и его мать получили письмо с фронта. В конверте оказались документы Сергея Горбачева, его семейные фото и короткое сообщение о том, что он “погиб смертью храбрых” в Карпатских горах. “Три дня плач стоял в семье, – вспоминал Горбачев. – А потом… приходит письмо от отца, мол, жив и здоров”. Причем оба письма были датированы 27 августа. Может быть, сначала написал письмо, а потом ушел в бой и погиб? Но через четыре дня от него пришло еще одно письмо, подтверждавшее, что он жив. Горбачев написал отцу, пожаловался на тех, кто понапрасну расстроил семью ложным сообщением о его гибели. “Нет, сын, ты напрасно ругаешь солдат – на фронте все бывает”[89]. Горбачева упрек отца огорчил, но такая беспристрастность послужила ему уроком на всю жизнь.
Война для Сергея Горбачева окончилась в конце 1944 года, когда его серьезно ранило при взрыве бомбы: огромный осколок рассек ему ногу. “Его могли убить десятки раз”, – дивился Горбачев. Отец получил медаль “За отвагу” (за форсирование Днепра под непрерывными бомбежками) и два ордена Красной Звезды. Однажды, уже в 1945 году, кто-то подбежал к Мише со словами: “Мишка, твой отец идет”. “Я как-то… во-первых, не поверил, откуда он, но я встал и пошел навстречу… Идем мы друг на друга, и он смотрит на меня, и я, что переживали мы, трудно даже сказать. Ну, здравствуй. Взял, обнял, идем, поглядел на меня, когда подошли, остановились, и он увидел, я был одет в рубаху, которая была из конопли сделана. Выращивали сами коноплю… Брюк не было. Поэтому шили сами, но шили из чего? Шерсть овечья, опять крутили, ткали ткань эту, из нее брюки… Они тоже так торчали. Вот я и явился, босиком, уже здоровый, и стою. Он глянул на меня и сказал эти слова, на всю жизнь мне запомнились: да, говорит, довоевались. Вот вам как жить”[90].
Сергей Горбачев так никогда и не смог забыть все то, что видел и пережил на войне, – как и его сын. И тогда, и особенно позже, когда отец с сыном вместе часами работали в полях, Сергей рассказывал ему о страшных первых месяцах войны, когда красноармейцам не хватало оружия, была одна винтовка на двоих, а иногда они выхватывали винтовки у погибших товарищей и продолжали биться. Он описывал, как на его глазах однополчан косил пулеметный огонь. Вспоминал, как участвовал в рукопашном бою – таком жестоком и кровавом, что лишь через несколько часов солдатам удалось прийти в себя: “В голове одно: немец тебя или ты его. И никаких других мыслей. Бьешь, колешь, стреляешь, как зверь”. Отец Горбачева сражался под Курском (в крупнейшем во всей истории танковом бою), участвовал в освобождении Киева и Харькова. Однажды, когда группе саперов, куда входил Сергей Горбачев, не удалось подорвать стратегически важный мост, им угрожали расстрелом их собственные офицеры. Михаилу Горбачеву и самому довелось столкнуться с ужасами войны. Как-то раз, поздней зимой 1943 года, он с другими мальчишками в поисках брошенного немецкого оружия забрел на дальнюю лесополосу, и там они наткнулись на останки красноармейцев. “Описать это невозможно: истлевшие и изглоданные тела, черепа в стальных проржавевших касках, из прогнивших гимнастерок – выбеленные кости рук, сжимающие винтовки… Так лежали они, непогребенные, в грязной жиже окопов и воронок, взирая на нас черными зияющими дырами глазниц”[91].
Быть может, именно этот тяжелый опыт мог бы объяснить исключительное нежелание Горбачева (когда он уже стал высшим руководителем СССР) применять силу и насилие для сохранения советской империи? Но, возможно, из-за того что в России его за это нежелание, вызывающее огромное восхищение на Западе, сильно осуждали, он отказался отвечать на этот вопрос в интервью.
Когда война закончилась, Горбачеву было четырнадцать лет. Во время войны сельская школа в Привольном закрылась на два года и снова открылась осенью 1944 года. Тогда Горбачев не испытывал особого желания учиться. “После всего пережитого это казалось слишком ‘несерьезным’ делом. Да к тому же, честно говоря, и идти-то в школу было не в чем”. Когда родители и дед со стороны матери узнали об этом, вспоминал Горбачев, они испугались: “обложили меня, как волка”[92]. Сергей Горбачев с фронта написал жене: “Продай все, одень, обуй, книжки купи, и пусть Михаил обязательно учится”[93]. Дед Пантелей тоже допытывался, почему Миша не ходит в школу.
– Не в чем, деда, обувки нет, – оправдывался Михаил.
– Бери мои сапоги. – И дед стащил с себя “кирзу”.
– Одеться не во что, – плакался внук.
– На мое, – и дед сбросил с плеч что-то вроде полушубка. – Учись, Мишка. Иначе настоящего человека из тебя не получится. Хорошо учись! – наставлял дед[94].
И Горбачев пошел в школу, находившуюся в двух километрах от дома, в дедовой одежде и обуви, которая была ему велика. Но он сильно отстал. “Пришел, сижу, слушаю, ничего не понимаю – все забыл. Не досидев до конца занятий, ушел домой, бросил единственную книжку, которая у меня была, и твердо сказал матери, что больше в школу не пойду”. Его непоколебимая мать в ответ на такое заявление сына расплакалась, но потом собрала кое-какие вещи и куда-то ушла. Вечером вернулась со стопкой книг: выменяла на них вещи. “Я ей опять: все равно не пойду. Однако книжки стал смотреть, потом читать, и увлекся… Мать уже спать легла, а я все читал и читал. Видимо, этой ночью что-то в моей голове произошло, во всяком случае, утром я встал и пошел в школу. Год закончил с похвальной грамотой, да и все последующие годы – с отличием”[95].
В тот вечер внутри него совершился важный перелом. Растущую самоуверенность Горбачева на мгновение омрачила резко набежавшая тень страха – страха перед неудачей и унижением. Но тут его мать, часто такая суровая, вновь доказала свою любовь к сыну. С тех пор для Горбачева жизненный успех всегда был связан с чтением, с размышлениями. А еще ему важно было первенствовать среди сверстников. “С самого раннего возраста, – вспоминал он позднее, – мне нравилось быть первым среди ровесников, такая уж у меня натура”[96]. Но прежде ему, его одноклассникам и учителям пришлось потрудиться, чтобы в школе можно было хоть как-то учиться. Учебников было совсем мало, всего несколько географических карт и наглядных пособий да мел. “Остальное было делом рук учителей и учащихся”[97]. Тетрадей не было, Миша писал на полях отцовских руководств по механизации. Чернила школьники делали сами. А еще им приходилось таскать корм для истощенных и обессиленных лошадей, которые возили топливо для школы. Горбачев занимался в школьном драмкружке, и однажды, давая платные спектакли, актерам-любителям удалось собрать 1385 рублей. На эти деньги купили тридцать пять пар обуви для самых бедных учеников[98].
В 1946 году, продолжая учиться в маленькой школе-восьмилетке в Привольном, Горбачев вступил в комсомол. Позже, уже перейдя в последних классах в десятилетку (школа находилась в райцентре, в ней училось около тысячи учеников), он сделался комсомольским вожаком и организовывал среди школьных товарищей разнообразную “политическую” деятельность: то устраивал вечер дискуссий на тему “Семья Ульяновых”, “политинформацию”, посвященную событиям за рубежом, и споры о романе Виктора Некрасова “В окопах Сталинграда” (очень понравившемся Сталину), то затевал выпускать журнал “Зорька”, то готовил статью “Поговорим об учебном режиме школьника” для стенгазеты “Юный сталинец”[99]. Горбачев стал звездой школы, но не все его любили. С детства он мечтал “что-то сделать. Удивить отца и мать, и своих сверстников”, признавался он позднее. Когда пришло время выбирать комсомольского секретаря, семь групп учащихся из семи окрестных сел выдвинули по кандидату. Горбачев выступил с речью, а потом собирался сесть, но из-под него выдернули стул, и он рухнул на пол. Может быть, кто-то из его ровесников вовсе не мечтал, чтобы Горбачев стал вожаком, как мечтал об этом он сам? “Вот поэтому меня и избрали”, – сказал он в шутку 65 лет спустя, выступая перед американскими студентами[100]. Вскоре его назначили секретарем комитета комсомола всего района.
Горбачев читал все, что ему попадалось в руки. Мальчишкой он почти три дня просидел в стогу сена, запоем читая “Всадника без головы” Томаса Майна Рида (1818–1883), американского писателя ирландского происхождения. Приключенческие романы Рида об американском Диком Западе были необычайно популярны у советских подростков. Вдохновляясь этими историями, ребята играли в ковбоев и индейцев – только в СССР “хорошими парнями” выступали индейцы. Через несколько лет Горбачев перешел на более интеллектуальное чтение: в скудной школьной библиотеке он нашел однотомник Виссариона Белинского – радикального философа и литературного критика первой половины XIX века. Белинский, заклятый враг царизма, властитель дум русских интеллигентов-западников, уже в 1841 году объявил себя социалистом. Пламенный Белинский стал для Горбачева и откровением, и источником вдохновения. “Он стал моей библией, я был восхищен им. Перечитывал много раз и носил с собой повсюду”. В начале 1990-х годов, приступив к написанию мемуаров, Горбачев все еще держал при себе сборник Белинского, который ему подарили в 1950 году как первому из сельчан, поступившему в МГУ. “Вот и теперь эта книга передо мной… Что интересовало? …Особым вниманием пользовались философские высказывания критика”[101].
От Белинского Горбачев перешел к Пушкину, Гоголю, но особенно увлек его Лермонтов. Этот поэт первой половины XIX века, воспевавший Кавказ, погиб совсем молодым на дуэли в Пятигорске – приблизительно в 190 километрах от Привольного. Горбачева пленял романтизм Лермонтова: “[Я] не только стихи его, но и поэмы знал наизусть”. А потом он проникся Маяковским – его ранними стихами, полными романтической любви, эротического томления и бунтарства. “Меня поражало, поражает и ныне, как эти молодые люди в своих произведениях поднялись до философских обобщений. Такое – от Бога!”[102] С юности Горбачева притягивали философские размышления писателей, и позднее, уже став советским лидером, он сам стремился приблизиться к тому же интеллектуальному уровню.
Но сначала был девятый класс. Ближайшая десятилетка находилась в Молотовском – райцентре километрах в двадцати от Привольного. Теперь это расстояние быстро преодолевается на автомобиле по хорошему шоссе, и летом по обе стороны от дороги почти до горизонта простираются широкие зеленые поля, где высокие подсолнухи тянут вверх свои желтые головы. А в 1948 году Горбачеву и его одноклассникам из Привольного приходилось шагать пешком по грунтовке, возвращаясь домой в субботу после недельных занятий, а в воскресенье вечером точно так же идти обратно. Изредка их подбирала попутка – запряженная волами телега, отвозившая молоко на сыроварню в Молотовское, но чаще всего, даже в самую лютую зиму, они шли напролом, через поля и овраги. Дома ребят снабжали продуктами на следующую неделю (салом, свининой, хлебом и сладостями), матери стирали их одежду. А в течение учебной недели Михаил и два других ученика из Привольного жили в городе в съемной комнате[103]. По словам Горбачева, теперь он был “уже вполне самостоятельным человеком. Никто не контролировал мою учебу”. Да и какой тут контроль, если “вокруг одни малограмотные люди, весь день в работе”? “Считалось, что я достаточно взрослый, чтобы свое дело делать самому, без понуканий. Лишь один раз за все годы с трудом удалось уговорить отца пойти в школу на родительское собрание. И еще помню, когда пришла юность и я стал ходить на вечеринки и ночные молодежные гулянья, отец попросил мать: ‘Что-то Михаил стал поздно приходить, скажи ему…’”[104]
У входа в школу, разместившуюся в здании бывшей дореволюционной гимназии, которое используется и поныне, сегодня, спустя много десятилетий, висит табличка с надписью: “Здесь учился первый Президент СССР”. Это двухэтажное здание с классными комнатами по обе стороны длинного коридора, который ведет к чугунной лестнице, украшенной замысловатым литьем. В 2005 году учителя показывали гостям класс с рядами деревянных парт перед доской – показали и ту, за которой сидел Миша Горбачев. (Своих инициалов, по-видимому, он на ней не вырезал.) Вот что рассказывал бывший одноклассник Михаила: “Огромное желание получить знания… Кончились уроки, мы идем домой и садимся за книги… тогда только мы идем прогуляться. В школу идем. Школа была наш родной дом второй. Или идем в кино. Нам казалось, что надоедать учителю неприлично. Но вот такой случай: садится учительница математики кино смотреть. До сеанса десять-пятнадцать минут, он подсаживается рядом. И говорит, вот расскажите мне, я это не понимаю. Таких было мало”[105].
Другие ученики обращались к Горбачеву для разрешения споров и драк, как к третейскому судье. Одноклассники вспоминали, что сам он драться не любил – не потому, что боялся, просто это было ему не по душе. Но постоять за себя, конечно, умел. Один его родственник и сверстник вспоминал, что как-то раз стукнул Горбачева и еще одного мальчишку, “так просто – из озорства”. “Я постарше Михаила был, а он – одногодок с моим родным братом. Вот я их обоих давай мутузить – кулаки чесались. А чуть подросли они, поймали меня, повалили и ну бока мять”[106].
Горбачев казался прирожденным лидером. “Он был большим организатором, – вспоминал его одноклассник. – Он нравился ребятам, ему доверяли”. Честный, справедливый, работящий, он умел дружить. Пятьдесят лет спустя Горбачев говорил: “Я привык еще с юношеских лет верховодить, желание реализовать себя было всегда”[107]. Он устраивал спортивные состязания и проводил общественные собрания. Вел утреннюю гимнастику в школе, командуя в большой мегафон: “Класс, приготовиться! Раз-два-три-четыре! Раз-два-три-четыре!” “Михаил любил поднимать тяжелые веса, – также вспоминал его одноклассник. – Мы могли поднять вес в 32 килограмма 60 или 70 раз – сначала отрывали от земли, затем поднимали и наконец выталкивали”. Но больше всего Михаил любил играть на сцене.
Школьники так увлекались любительским драмкружком, что попасть туда могли не все желающие, приходилось отбирать лучших. Занятиями руководила любимая учительница литературы, Юлия Сумцова. Кружковцы часто собирались у нее дома (где квартировали и несколько учеников, приехавших издалека), репетировали и готовили уроки. Костюмы ребята шили сами – из материи, которую давали им мамы (чаще всего это была обычная марля, вспоминает кто-то из одноклассников, “больше-то ничего не было”). Декорации тоже собирали по мелочам из родительских домов – например, пригодился ковер, который чей-то отец привез из Германии как трофей. Горбачеву доставались главные роли. К театру его тянуло (по его словам) “прежде всего желание общения со сверстниками. Но и стремление реализовать себя, узнать то, с чем незнаком”[108]. К тому же его партнершей по сцене была Юля Карагодина – девушка, к которой он был далеко не равнодушен. Они вместе выступали в главных ролях в “Снегурочке” Островского и “Маскараде” Лермонтова.
Сценой для школьных постановок (среди которых были и “Русалка” Пушкина, и пьесы Чехова) служил конец школьного коридора – тот, что соседствовал с чугунной лестницей. На спектакли приходили и взрослые зрители, а иногда труппа даже совершала турне по селам района, и вырученные за билеты деньги шли на покупку обуви для ребят, которым не в чем было ходить в школу. Горбачев рассказывает, что они с товарищами по кружку, замахиваясь на очередную пьесу, никогда даже не задавались вопросом: а посильно ли? “Играли драматургов всех времен… Можете представить, как это получалось, но нас не смущало”. Однажды поглядеть на их игру приехали гастролировавшие актеры из Ставропольского драмтеатра. Школьники сыграли им “Маскарад”. Как вспоминал Горбачев: “нас похвалили, сделали замечания, одно из которых я помню и сейчас… профессионалы при объяснении между… Арбениным и Звездичем все-таки посоветовали не хватать друг друга за рукава – в высшем свете даже острые объяснения проходят несколько иначе”[109].
В этом воспоминании Горбачева заметны озорство и юмор. Впрочем, он говорит, что играли тогда с гордостью и удовольствием. “Он действительно очень хорошо играл, – вспоминала позже Карагодина. – Как-то раз он даже сказал мне, что хочет поступить в театральный институт”[110].
С 1946 года Горбачев каждое лето, пять лет подряд, помогал отцу убирать урожай на гигантском комбайне. С конца июня до конца августа они трудились в поле, вдали от дома. Даже когда припускал дождь, они оставались в поле и приводили в порядок технику. “Много было с отцом разговоров в такие дни ‘простоя’. Обо всем – о делах, о жизни. Отношения у нас сложились не просто отца и сына, но и людей, занятых общим делом, одной работой. Отец с уважением относился ко мне, мы стали настоящими друзьями”[111].
Вот так, вдвоем, они работали по двадцать часов в сутки – до двух или трех часов ночи. Как только устанавливалась сухая погода, они торопились убирать хлеб и работали без перерыва, “на ходу подменяя друг друга у штурвала” огромной машины. “Жарища – настоящий ад, пыль, несмолкаемый грохот железа… Со стороны посмотришь на нас – одни глаза и зубы. Все остальное – сплошная корка запекшейся пыли, смешанной с мазутом. Были случаи, когда после 15–20 часов работы я не выдерживал и просто засыпал у штурвала. Первые годы частенько носом шла кровь…”[112]
Платили за такую работу неплохо – и деньгами, и натурой, и все равно, чтобы прокормиться, семья комбайнера вкалывала еще и на личном приусадебном участке. “Но каждый крестьянский двор облагался всяческими налогами и поставками государству. Не имело значения, держишь ты скот или нет, все равно сдай 120 литров молока, сдай масло, сдай мясо, – вспоминал Горбачев. – Налогами облагались фруктовые деревья, и, хотя урожай они давали не каждый год, налоги ты должен был платить ежегодно. И крестьяне… вырубали сады. Бежать – не убежишь, не давали крестьянам паспорта. Чем же это отличалось от крепостничества?”
Подобные размышления пришли, наверное, уже позже. Тогда же Горбачев оказался перед дилеммой – говорить ли напрямик о такой явной несправедливости? “Даже спустя годы, выступая с докладами об аграрной политике, я с трудом удерживался от самых резких оценок и формулировок, потому что знал, что это такое – крестьянская жизнь”[113]. Однако в те юные годы его больше захлестывали другие чувства – ощущение собственной силы и уверенность в себе. Каждое лето за сезон уборки он сбрасывал не меньше пяти килограммов веса – но и “силу… набирал”. Юлия Карагодина вспоминала, каким было его лицо в те дни, – “совершенно обожженное солнцем. А руки – все в пузырях кровавых мозолей”[114]. “Я даже гордился этими мозолями”, – добавлял сам Горбачев. Отец хорошо обучил его комбайнерскому делу: “…я мог спустя год-два отрегулировать любой механизм. Предмет особой гордости – на слух мог сразу определить неладное в работе комбайна. Не меньше гордился тем, что на ходу мог взобраться на комбайн с любой стороны, даже там, где скрежетали режущие аппараты и вращалось мотовило”[115].
Переход к взрослой жизни ознаменовался и еще одним ритуалом. В 1946 году, когда собрали первый послевоенный урожай, комбайнеры из бригады Сергея Горбачева, в основном бывшие фронтовики, решили “обмыть” успех и уговорили пятнадцатилетнего Михаила последовать их примеру. “Пей давай! – подначивали они. – Пора уж настоящим мужиком быть”. Горбачев поглядел на отца – тот только посмеивался. И Горбачеву поднесли кружку. “Думал – водка, оказалось – спирт. А для его питья существовала особая ‘технология’: надо было на выдохе выпить, а потом сразу же, не переводя дыхания, запить холодной водой. А я так. Что со мной было! Механизаторы покатываются от смеха, и больше всех смеялся отец!”[116]
1946 год выдался неурожайным, во многих областях разразился голод. Во всем Советском Союзе зерновых собрали лишь 39,6 миллиона тонн (для сравнения: в 1940-м было собрано 95,7 миллиона тонн). На Ставрополье уродилось хотя бы немного хлеба, и туда хлынули беженцы из других, более голодных областей, надеясь обменять какие-то вещи на зерно. В 1947 году опять наступила засуха, зерновых собрали уже 65,9 миллиона тонн, хотя этого тоже было мало. Весной 1948 года снова загуляли пыльные бури, но вскоре прошли дожди, обещавшие хороший урожай. Местные власти поняли, что наконец-то можно собрать рекордное количество зерна, заслужив и славу, и премии ударникам труда. Подготовили к “битве за урожай” достойную команду: два мощных комбайна “Сталинец-6” для двух лучших комбайнеров в районе – Сергея Горбачева с сыном и Якова Яковенко, тоже с сыном. Два других мощных трактора, С-80, предоставили еще одному ветерану войны и надежному партийцу. Выделили грузовик, который будет возить топливо на поля, отрядили еще двух коммунистов для отгрузки зерна с комбайнов, дали еще одну машину – увозить хлеб. Все комбайны и трактора оснастили лампами, чтобы можно было работать по ночам.
“Товарищ Горбачев к уборке урожая готов!” – отрапортовала 20 июня 1948 года статья в районной газете “Путь Ильича”[117]. К 25 июля 1948 года лидировал комбайн Сергея Горбачева – им был собран урожай с 870 гектаров. Прошло еще несколько дней – Горбачевы по-прежнему оставались первыми, за ними числилось уже 1239 хлебных гектаров[118]. А Президиум Верховного Совета СССР издал указ: комбайнер, который намолотит 8 тысяч центнеров зерна, получит орден Ленина. Сергей Горбачев с сыном намолотили 8 тысяч 888 центнеров. Одноклассник Михаила рассказывал, что власти решили наградить одного только отца, но тот сказал, что хотел бы разделить награду с сыном. Вначале ему отказали, возразив, что орден Ленина нельзя разделить пополам. Тогда, по подсказке отца, 17-летнему Михаилу вручили одну из высших наград в СССР – заветный орден Трудового Красного Знамени (удостоверение к нему подписывал лично Иосиф Сталин), а Сергей получил орден Ленина.
Сообщение о награде пришло осенью, и все ученики школы, в которой учился Горбачев, собрались поздравить его. “Такое было впервые в моей жизни – я был очень смущен, но, конечно, рад”[119]. Юлия Карагодина сохранила вырезку из районной газеты, где приводилась его ответная речь: “Все наше счастье, наше будущее заключается в труде – в этом важнейшем факторе, движущем социалистическое общество вперед. Я от души благодарю большевистскую партию, ленинско-сталинский комсомол, учителей за то, что они воспитали во мне любовь к социалистическому труду, к стойкости и выносливости…” “Вполне возможно, – добавляла Карагодина в 1991 году, – что он именно так же говорил на том митинге, где его награждали. Мы не знали другого стиля общественной жизни, и это казалось нам естественным”[120].
Юля тогда училась в десятом классе, а Горбачев – в девятом. По ее словам, был он “такой крепкий, коренастый, решительный. Он обладал удивительной способностью всех подчинить своей воле”. Она вспоминала, что он один из класса позволял себе спорить с учителями. “Он мог встать и сказать учительнице истории: вы не правы, факты говорят о другом”.
Однажды он зашел в дом Сумцовой, где квартировала Карагодина, и попросил Юлю помочь ему с какой-то теоремой. “Математика у меня шла хорошо, а он больше склонялся к литературе, истории… Ну вот, я ему стала объяснять теорему, а он тем временем увидел пустую рамку от нашей школьной стенгазеты, я ее редактором была. ‘Ты, – говорит, – почему до сих пор газету не сделала, ведь завтра она должна висеть. До завтра сделай’. А я думаю: ‘Тоже мне – командир нашелся. Ничего делать не буду’”. Спустя два дня Горбачев собрал комитет комсомола и отчитал Юлю перед всем коллективом. “И начинает: об отношении к общественным делам, о безответственности… Я сижу красная как рак”[121]. “Обиделась я страшно. Иду из школы… чуть не плачу. Михаил меня догоняет: ‘Ну что, пойдем сегодня в кино?’” А участники драмкружка часто ходили в кино все вместе, иногда смотрели одни и те же фильмы по нескольку раз, и Сумцова объясняла им тонкости актерской игры. Но тут Юля обиделась еще больше: “‘Да как ты можешь вообще ко мне подходить, ты же меня так обидел!’ А он: ‘Это совершенно разные вещи. Одно другому не мешает’”[122].
Директор школы была от Горбачева в восторге. По словам одноклассника, она говорила Михаилу: “Тебя ждет большое будущее. Ты уедешь отсюда и найдешь свое место в мире. С такой медалью тебя любой университет примет”. Может быть, поэтому она и критиковала Михаила и Юлю за то, что они слишком много времени проводят вместе: “Все старшеклассники на вас смотрят, берут с вас пример, это плохо отражается на успеваемости…” При этом директор отчитывала Юлю, а не Михаила. Карагодина послушно отвечала, что они будут реже встречаться. Когда он об этом услышал, то прошел прямо в директорский кабинет. Потом директриса выходит – “красная, взволнованная”, а за ней – улыбающийся Михаил. “‘Что ты ей сказал?’ – ‘Да ничего особенного. Сказал: я – отличник и Юля отличница, я – общественник и Юля общественница, и то, что мы дружим, этому не мешает. Так пусть с нас берут пример сколько угодно!’” Естественно, по словам Юлии, директрисе нечего было на это возразить[123].
Горбачев ко всем предъявлял самые высокие требования. “Я чувствовала, что недостаточно хороша для него, – вспоминала Юлия, – или просто мы не подходили друг другу. Он был слишком энергичный, слишком серьезный, слишком организованный. И он был бойчее меня, всегда в центре внимания”. “Между нами была любовь, да” – но они ни разу не признавались друг другу в любви, и иногда он подшучивал на эту тему. Однажды, когда в драмкружке репетировали “Снегурочку” и Юля произнесла слова своей героини: “Дорогой царь, спрашивайте меня хоть сто раз, люблю ли я его, и я сто раз отвечу вам, что я его люблю”, – Горбачев вдруг наклонился (прямо на глазах школьной директрисы, та сидела совсем неподалеку) и шепнул на ухо: “Это правда?” “Боже мой, – вспоминала Юлия, – я просто не знала, куда деваться. Еле-еле дочитала монолог. Все потом спрашивали, что случилось, а Горбачев отошел в сторонку и улыбался”[124].
Окончив школу на год раньше Горбачева, Карагодина уехала в Москву и поступила в педагогический институт. Но общежитие оказалось переполнено, жить было негде, и вскоре Юля вернулась домой. “Как же ты не могла постоять за себя, за свою цель! Надо было на пороге у ректора лечь и не уходить, пока не даст общежитие…” “Вот он бы так наверняка смог, – заметила Карагодина много лет спустя. – А я нет…” Юля устроилась учительницей в селе неподалеку от Молотовского. Горбачев приезжал к ней, но, добавляет она: “…как-то у нас не заладилось – и не вместе, и не врозь. Мы вообще-то никогда не говорили о любви и не строили планов на будущее, но… Все-таки, я думаю, мы не очень подходили друг другу. Он уважал людей волевых и настойчивых… Вот ведь не случайно – читала где-то – он Раису Максимовну в шутку называет ‘мой генерал’… А я тогда не принимала его максимализм”.
Если под “максимализмом” она понимала стремление Горбачева добиться, казалось бы, невозможного, то в этом она была права. Когда она училась на третьем курсе в Краснодаре, ей пришла открытка от Михаила. В конце письма он приписал латинскую фразу: Dum spiro, spero. Подружка Юли, девушка родом из Прибалтики, помогла перевести: “Пока дышу, надеюсь”. Таким девизом, пожалуй, Горбачев мог руководствоваться, когда рушилась его мечта перестроить СССР. Карагодина в ответ послала Горбачеву – человеку, который рвался изменить мир, – открытку со словами: “Дыши, но не надейся!” [125]
Глава 2
Московский государственный университет
1950–1955
“После школы – смотри сам. Хочешь – будем работать вместе. Хочешь – учись дальше, чем смогу – помогу. Но дело это серьезное, и решать – только тебе”. Сергей Горбачев ничего не пытался навязать сыну, что было совсем не типично для деревенского отца семейства. Но Михаил понимал истинные чувства отца и деда. Ни один из них не получил основательного образования, и оба понимали, что многого лишились. Горбачев нисколько не колебался: “У меня настроение было вполне определенное – продолжать учебу”[126].
Многие его ровесники были настроены точно так же[127]. В те годы Советский Союз отстраивался заново. Страна нуждалась в инженерах, агрономах, врачах, учителях и многих других специалистах: требовалась замена для тех, кто погиб на войне или сгинул в довоенных чистках. “Даже самые слабенькие” выпускники школ “выискивали институты, где был меньший конкурс при приеме, и поступали”, вспоминает Горбачев. Сам же он нацелился на МГУ: “…потому что такой характер. Все-таки амбициозный парень был… Вот откуда оно берется? Природа. Почему пять-семь процентов людей, рождающихся в мире, только могут вести самостоятельно бизнес, дело? Остальные, они нанимаются, работают. Потому что это природа, такой характер”[128]. В русском языке слово “амбициозный” имеет отчасти негативный оттенок, на английский его обычно переводят как arrogant (“заносчивый, высокомерный”), а не как ambitious. В 1950 году Горбачев четко понимал, как именно следует действовать амбициозному деревенскому парню: он “решил, что должен поступать не иначе как в самый главный университет – МГУ”[129].
МГУ для СССР был тем же, чем является Гарвард для США, с той только разницей, что в СССР почти ничего больше не было – ни Йеля, ни Принстона, ни Стэнфорда, ни Лиги Плюща, ни каких-либо других столь же престижных университетов или гуманитарных колледжей. Москва сама по себе была городом уникальным – и Вашингтон, и Нью-Йорк, и Чикаго, и Лос-Анджелес одновременно. Это и официальная столица, где размещается правительство, и центр промышленности, культуры и даже киноиндустрии. Словом, самое место для людей, мечтающих о карьере. Разумеется, в Советском Союзе существовала своя разновидность “позитивной дискриминации”: студенты вроде Горбачева, из рабочего класса, получали особое преимущество при поступлении в университет. Хотя он происходил из крестьянской семьи, профессия отца – комбайнер – существенно повышала его общественный статус до “привилегированного” класса пролетариев. К тому же у него имелся орден Трудового Красного Знамени, а это что-то да значило. В итоге его зачислили в МГУ вообще без вступительных экзаменов.
За полгода до окончания школы на Ставрополье Горбачев написал письмо в МГУ с вопросом об университетских учебных программах. Через некоторое время ему прислали брошюру, где вкратце рассказывалось обо всех факультетах МГУ и перечислялись требования к абитуриентам. В старших классах Михаилу нравились самые разные предметы – и физика с математикой, и история с литературой. Поэтому, помимо МГУ, он рассматривал и другие варианты – вузы, где можно было бы изучать механику, энергетику и экономику. В местном военкомате Горбачеву сообщили, что его призовут в армию, если только он не поступит в какую-нибудь военную академию, например в Каспийское военно-морское училище в Баку, и даже рекомендовали туда поступать. “Мне нравилось это: моряк, форма, – вспоминал Горбачев. – Но все-таки что-то когда-то остановило. Откуда это – вот бы узнать. Но в военкомате они сами подсказали, если вы пойдете на юридический или транспортный, там освобождение от этого [от армии]”[130].
Некоторое время Горбачев рассматривал возможность поступить в Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта, а потом ненадолго задумался о дипломатическом поприще. Наконец, он направил документы в приемную комиссию юридического факультета МГУ[131]. Изучение права в стране, где право как таковое отсутствовало, не считалось особенно престижным интеллектуальным занятием, но Горбачев не мог об этом знать. Как он признавался потом: “Положение судьи или прокурора мне импонировало”, но – “что такое юриспруденция и право, я представлял себе тогда довольно туманно”.
Может быть, именно поэтому МГУ поначалу никак не откликнулся на его заявку. Некоторое время Михаил, как всегда бывало летом, работал на комбайне. Но потом оставил отца одного в степи (с его разрешения, конечно), доехал на попутке до ближайшего города и отправил в МГУ телеграмму с оплаченным ответом, напомнив университету о своем существовании. А через три дня, когда Горбачев снова работал в полях, почтальон принес ему телеграмму с волшебными словами: “Зачислен с предоставлением места в общежитии”. Случившееся чудо сам Михаил приписывал не столько школьной медали (она была не золотой, а лишь серебряной – подвела “четверка” по немецкому), сколько своему ордену Трудового Красного Знамени и рабоче-крестьянскому происхождению. Но самое главное – его зачислили: “Я ни экзамена, ни собеседования, ничего не проходил, никто меня не допрашивал. Ну, я считаю, что я заслужил это. На меня можно было положиться. Вот так вот и оказался в университете”[132]. Остаток лета он проработал вместе с отцом на комбайне. Но этот труд больше не казался тяжким. “Меня переполняла радость. У меня в голове так и звенели слова: ‘Я – студент Московского университета!’”[133]
Горбачев преуменьшает свои старания, направленные на зачисление. В июне 1950 года – как раз тогда, когда принималось решение о его приеме, – он успел стать кандидатом в члены КПСС, а это, конечно, повышало его шансы на успех. В заявлении Горбачева о вступлении в ряды партии, написанном от руки 5 июня 1950 года, говорится: “Считаю высокой честью для себя быть членом самой передовой, подлинно революционной коммунистической партии большевиков. Буду верным продолжателем великого дела Ленина и Сталина, всю свою жизнь отдам делу партии, борьбе за коммунизм”. Рекомендацию Горбачеву давала директор школы. Она охарактеризовала его так: “один из лучших учащихся школы”, “по отношению к товарищам чуток, отзывчив”, “морально устойчив, идеологически выдержан”. Еще одна рекомендация, предоставленная Горбачеву, свидетельствует о том, что даже в российской глубинке в 1950 году для поступления в университет была очень важна физическая подготовка: школьный учитель физкультуры сообщал, что в течение двух последних лет Михаил помогал ему на уроках. Местный комитет комсомола, в котором состоял сам Горбачев, подтверждал, что кандидат в партию “политический грамотный”, “политику партии Ленина – Сталина понимает правильно”. Кроме того, комитет давал заверение, имевшее в последние годы сталинского правления гораздо большее значение, а именно, что, хотя Горбачев в двенадцатилетнем возрасте и жил в Привольном в период фашистской оккупации, “компрометирующих материалов нет”[134].
До тринадцати лет Горбачев ни разу не видел поезда. В Ставрополь он впервые поехал в семнадцать лет, и за пределами своего края тогда еще не бывал. Теперь, когда Михаилу было девятнадцать, он в сопровождении отца отправился к станции Тихорецкой (в 50 километрах от Привольного). В старый потрепанный чемодан мать уложила немногочисленную одежду сына и еду, которой должно было хватить на дорогу. Когда Горбачев с отцом уже забирались в грузовик, чтобы доехать до станции, проститься с внуком пришел дед Пантелей: “Я видел, как слезы просто… я сейчас понимаю. Грустно, грустно… Переживал очень, от радости, много радости, но жаль, что я уезжаю”[135]. Отец тоже так расчувствовался, что стоял в тамбуре до последнего – пока поезд не тронулся. Только тогда он спрыгнул – и забыл отдать сыну проездной билет. Потом явился контролер и уже хотел высадить Горбачева из поезда, но тут за него вступился весь общий вагон. “Его же отец-фронтовик провожал, весь в орденах, а ты что делаешь?!” Контролер отстал, но потребовал, чтобы Горбачев на следующей станции купил себе билет до Москвы (денег на это едва хватило)[136].
Впоследствии проездом в Москву и обратно Горбачев побывал в городах, о которых раньше знал только понаслышке: в Ростове, Харькове, Воронеже, Орле, Курске. Несколько раз он специально ездил через Сталинград. Все эти города еще частично лежали в руинах после войны.
Привыкать к жизни в столице поначалу было нелегко: первое время Горбачев “чувствовал себя не очень уютно”. Его новые знакомые говорили: “Москва – большая деревня”. Но Горбачеву этот громадный город совсем не казался деревней. В его родном Привольном не было ни электричества, ни радио (если не считать громкоговорителя на главной площади села), ни телефона, зато “южные ночи сразу сменяют день, [а] крупные звезды, как будто подвешенные фонари. А воздух насыщен… запахами цветов, деревьев, садов”. В Москве же грохотали трамваи и поезда метро – “все для меня было впервые: Красная площадь, Кремль, Большой театр – первая опера, первый балет, Третьяковка, Музей изобразительных искусств имени Пушкина, первая прогулка на катере по Москве-реке, экскурсия по Подмосковью, первая октябрьская демонстрация… И каждый раз ни с чем не сравнимое чувство узнавания нового”[137].
В последние годы правления Сталина к крестьянам в Москве относились особенно пренебрежительно. Крестьянство всегда казалось отсталым классом Марксу (писавшему об “идиотизме деревенской жизни”), Ленину (который заявлял, что совершил “пролетарскую революцию”) и Сталину (который нещадно эксплуатировал колхозников и лишил их практически всех прав), а теперь рафинированные москвичи по привычке посматривали свысока на “дремучий народ”[138]. И Горбачев вначале показался однокурсникам-москвичам безнадежно отсталым парнем. Они жили дома, в родительских квартирах, а он и другие приезжие студенты – в общежитии. “Мы были московской элитой, – рассказывал Дмитрий Голованов, тогдашний студент. – И Горбачев нас не очень интересовал”[139]. “Конечно, он от всех отличался глубокой, яркой провинциальностью, скажем так, таким каким-то крестьянским образом по внешним данным”, – вспоминала Зоя Бекова[140]. Его выдавало произношение, добавлял Голованов[141]. Горбачев говорил на южнорусском наречии: вместо твердого “г” он выговаривал мягкий фрикативный звук /ɣ
