Темная сторона души
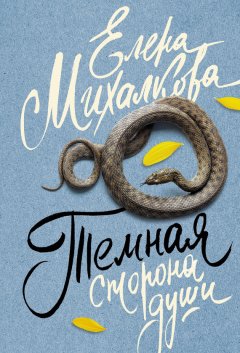
Темная сторона души
Она сама виновата. Зачем она подталкивает меня к тому, чего мне не хочется делать? Зачем она говорит эти слова, после которых у меня нет другого выхода, кроме как убить ее? Зачем она остается одна в своем доме – доме с открытыми настежь дверями и окнами, через которые внутрь может попасть любой? И зачем так спокойно лежит на кровати, будто только и ждет, когда я приду и сделаю то, к чему она меня вынуждает?
Если была бы хоть маленькая преграда, чтобы остановиться, сказать себе «нельзя», сказать: «Оставь, она сама умрет через пару-тройку лет!» Но такой преграды нет, и даже калитка возле ее дома закрывается на маленький перекидной крючок сверху, а мне ли не знать, как он откидывается.
Может быть, сегодня кто-нибудь из детей запрет калитку на засов? Но она открывается легко, как обычно. Может быть, эта женщина закроет изнутри входную дверь? Нет, не закроет. Ей не до того – она лежит на кровати, ухмыляясь, и ждет только новой жертвы, в которую сможет всадить очередную порцию своего яда.
Для меня ее яд смертелен. Да и для многих других тоже. Я же вижу это, как бы они ни прятались, ни маскировались, ни закрывались картонными лицами с ухмыляющимися рожицами. «У нас все хорошо!», «У нас все здоровы!»
Неправда. Вы не здоровы, вы уже заражены – заражены ее ядом, так быстро действующим на вас – веселых, хороших, добрых… и совершенно беззащитных. Я прекрасно знаю: вы ничего не сможете с ней сделать именно потому, что вы такие хорошие и правильные.
Но я смогу. Я смогу, потому что мне нужно защитить от ее яда себя – себя в первую очередь, иначе моя жизнь прекратится. Поэтому сейчас я зайду за колышущуюся занавеску, подойду к кровати, на которой лежит ухмыляющееся существо, и сделаю то, что нужно сделать, – закончу ее жизнь, ее собственную дрянную, гадкую, неправильную жизнь, и мне даже не будет страшно или противно.
Она сама виновата.
Глава 1
Традиции постепенно терялись.
Дедушка с бабушкой еще пили чай за круглым столом, покрытым кружевной скатертью, на которой желтела тень от тонкого фарфорового чайника с треснувшей крышкой. Крышка была заботливо склеена дедушкой, скатерть, между прочим, связана собственноручно прабабушкой, а зеленые цветы по краям вывязаны ее сестрой, которая одна во всей семье умела вязать такие тонкие, нежные кружевные цветы, почему-то всегда зеленого цвета. Над столом висела старая люстра с тысячей маленьких звонких стекляшек, на комоде стояла узорчатая коробочка со старым, пожелтевшим лото, которую обязательно доставали после чая и ставили на стол. Это была традиция – лото после чая с пирогами, и еще непременные разговоры обо всем на свете, которые Маша слушала, затаив дыхание.
Обсуждали политику Кубы, историю побега Наполеона, рецепты приготовления моченых яблок, путешествие на «Кон-Тики», растительность Средней Азии и тысячу других невозможно интересных вещей. Бабушка вязала крючком свои бесконечные шали, дедушка потягивал остывший чай с ароматом яблок, а Маша, папа и мама раскладывали деревянные бочонки на плотных, треснутых карточках с цифрами, пахнувших, как паутина в углу за печкой.
Чайник разбился, люстру поменяли на современную, скатерть убрали в комод, бочонки из лото растерялись один за другим. И бабушка с дедушкой умерли. Теперь за чаем собирались втроем: родители и Маша. Конечно, беседовали по-прежнему, но чаевничали не каждый день, а только по выходным, и беседы стали не такими интересными. Маша пару раз пыталась расстелить на столе старую скатерть с зелеными цветами, но родители недоуменно пожимали плечами: зачем, если есть такая красивая клеенка с геометрическим рисунком? И Маша отступала, сворачивала скатерть, аккуратно складывала в большой пакет и возвращала на место, в верхний ящик комода.
Правда, совместный чай по выходным еще оставался, и оставалось яблочное варенье – то, как его варили. Маша привозила на дачу своих друзей, и все садились под самой старой яблоней ранеткой, раскинувшейся около дома, чистили яблоки, складывая кусочки в огромные тазы, а потом мама заливала все это богатство сахарным сиропом и варила, варила, варила, так что по всей деревне расплывался запах яблочного варенья. Папа аккуратно раскладывал варенье по банкам, и банки прятали в погреб.
Но традиции постепенно терялись, разбазаривались со временем так бездумно, что Маше иногда становилось до слез обидно. Родители приезжали на дачу все реже. Друзья предпочитали отдыхать на курортах за границей, где было «все включено». Когда Маша слышала это «все включено», ей сразу вспоминалась бабушка, всю жизнь экономившая электричество и любившая покрикивать, войдя в дом: «Почему у вас все включено, а? Тут лампа, там лампа, здесь два светильника горят. Ишь, устроили иллюминацию средь бела дня!» И Маше казалось, что друзья приезжают на такие курорты, где все залито безжалостным светом тысяч ламп, от которого некуда деться.
Она вышла замуж. Родился Костя, которого чуть ли не с самого рождения стали привозить на их старенькую дачу. Маше было там хорошо, несмотря на туалет на улице и стирку руками в холодной воде, а вот Игорь быстро начинал ныть: «Хочу домой, хочу в город…» В лесу ему было скучно, на реке ему было мокро, в саду скучно и мокро. Он был до мозга костей городским, и даже деревенская тишина с пением птиц по утрам и стрекотанием ночных кузнечиков нервировала его. Он любил просыпаться под шум машин, а откуда же возьмется шум машин в маленькой деревеньке, до которой даже асфальтовую дорогу не проложили и пять километров от леса шла кривая ухабистая колея?
Когда они развелись, Игорь сообщил:
– Машка, ты меня знаешь: помогу всем, чем смогу. Но в твое Простоквашино я больше ни ногой!
– Сдалась мне там твоя нога, – парировала Маша. – Только грядки топчешь. И не Простоквашино, а Засорино!
– Засорино… – закатил глаза супруг, теперь уже бывший. – О, прекрасное Засорино, которое я больше не увижу, надеюсь, никогда! Милые, добрые засоринцы, живите в мире и спокойствии. Не лицезреть мне отныне ваши рожи, не обремененные интеллектом. И слава богу!
– Иди на фиг, – сказала Маша. – Сам ты рожа, не обремененная интеллектом.
В глубине души она признавала некоторую правоту за Игорем, что не мешало ей любить деревню нежной любовью. И Костя обожал Засорино – там был лес, была река, там были его приятели – мальчишки, которых родители привозили на все лето к бабушкам-дедушкам – в общем, полное раздолье. Они приезжали вчетвером, с Костиными бабушкой и дедушкой, сразу затапливали печку-голландку, и, пока она трещала поленьями, Маша доставала сваренную еще в городе картошку и резала колбаску, обжаривая кружочки на сливочном масле. Колбаска сердилась, шипела и плевалась маслом в разные стороны, и Маша проворно отскакивала от плиты. Потом довольный Костя лопал колбасу, закусывая ее картошкой, и, казалось, даже волосы у него вставали заборчиком от удовольствия.
– Классно, что приехали, – мычал он с набитым ртом. – Только бы завтра дождя не было.
День, когда они потеряли их маленький дом, стал для Маши черным. Ей было очень стыдно за то, что даже известие о болезни матери она восприняла не так остро, как решение родителей продать дачу, чтобы хватило денег на больницу. Когда она позвонила отцу и заикнулась о том, чтобы пожертвовать машиной, а не домом, он отрезал:
– Машина нужна для дела, а дача – блажь, баловство. И без дачи можно прекрасно обойтись.
«А как же Костя?» – хотела спросить Маша, но промолчала. Отец весь был на нервах, и убеждать его в том, что внуку необходимо уезжать на лето из города, было бесполезно.
– А если ты хочешь для Кости хорошего отдыха, то начинай нормально зарабатывать и вывози его на море, – безжалостно прибавил отец, словно прочитав ее мысли. – А то все горазды пользоваться родительским, на свое, видишь ли, заработать не могут.
Маша так опешила от его злых и несправедливых слов, что даже не нашлась, что сказать. Отец положил трубку, а через два месяца домик в Засорине продали семейной паре, которая собиралась поселить там своих старых родителей.
Вопросом, куда же поехать на лето с двенадцатилетним Костей, Маша озадачилась с начала зимы, как только мама пошла на поправку. Сценарии для детской передачи, которые она писала, давали ей неплохой заработок, но его хватало только на жизнь. Откладывать не получалось, как Маша ни пыталась, – обязательно в самый неподходящий момент возникали экстренные ситуации, которые требовали денег и съедали все скромные Машины сбережения. Она пыталась найти подработку, но тогда оставалось меньше времени на придумывание сценариев. Чем ближе к концу подходила зима, тем в большее отчаяние впадала Маша – перспектива сидеть с Костей все лето в душном городе приводила ее в ужас. Тем более что сама она ни одного лета так не проводила – ее работа позволяла уезжать куда угодно, был бы с собой компьютер, и Маша давным-давно купила гудящий тяжелый ноутбук, который и перевозила каждый год в Засорино в конце мая.
Она позвонила в несколько туристических агентств, облазила форумы и выяснила, что на те деньги, которые ей все-таки удалось отложить к весне, можно поехать только в Крым или на юг России: снимать там частное жилье с туалетом на улице, готовить самим, но зато жить у моря. Правда, максимум месяц.
На море Маше не хотелось. Нет, в Грецию, Испанию или в Болгарию она поехала бы с удовольствием. С тем большим, что никогда не была в этих странах. Но, отдохнув один раз в небольшом городке под Сочи и другой – в Крыму, она на всю жизнь запомнила грязные, замусоренные пляжи, песок, в котором легко можно было напороться на битое стекло, хамоватых официантов в кафе и фрукты по московским ценам.
– Скажите, а почему у вас персики стоят дороже, чем в Москве? – как-то раз удивленно спросила она толстую бабу около их пансионата, небрежно взвешивающую свой товар.
– Ой, вот и ехай в свою Москву, раз тебе там дешевле, – лениво протянула баба, даже не взглянув на Машу. – То-то я посмотрю, как там твой заморыш будет жить.
Неожиданное хамство и слово «заморыш» применительно к худенькому высокому Косте, жадными глазами смотрящему на фрукты в коробках, привело Машу в бешенство. Она никогда не умела скандалить с продавщицами в магазинах, но сейчас ей захотелось вцепиться торговке в обесцвеченные перекисью волосы и макнуть ее наглой мордой в ящик с подпорченными персиками, стоящий у той под ногами. Но тут над ухом раздался голос Игоря:
– Персики покупаешь? А я там хорошие груши нашел, и недорого.
– Не покупаю, – сквозь зубы ответила Маша. – Пойдем отсюда.
В общем, вспоминать те поездки было неприятно, и на юг Маше не хотелось. Не говоря уже о том, что оставлять ноутбук в комнатке, ключи от которой будут у хозяев, попросту опасно. Рисковать ноутбуком Маша не могла.
Обдумав все варианты, она позвонила Игорю. Они поддерживали хорошие отношения, хотя с Костей, по ее мнению, Игорь мог бы видеться и почаще. Но в целом бывший муж из него получился почти идеальный. «Куда лучше, чем просто муж», – иногда думалось Маше. Их отношения за шесть лет брака исчерпали себя и закончились, как заканчивается борщ в кастрюле: с одной стороны, жаль, что не осталось, с другой – было вкусно, да и можно сварить еще. Правда, последние два года, когда оба они уже не любили друг друга и мучились из-за этого, были тяжелыми для Маши. Но у нее был Костя – любимый Костя, кареглазый Костя, похожий на веселого олененка, весело выкидывающего тонкие прямые ножки в разные стороны. А у Игоря – та девушка, появление которой и помогло им расставить все по своим местам. Девушка потом исчезла, ее место заняла другая, но Игорь так и не женился, проводя жизнь в свое удовольствие.
– Игорь, помоги нам, пожалуйста, – попросила Маша, позвонив ему. – Не могу я Костю летом в городе оставить. Ну не могу! Подкинь денег, а? Или – хочешь, давай вместе куда-нибудь поедем. Ты же знаешь, тебе со мной нормально будет… Или у тебя сейчас подруга? – спросила она, почувствовав по молчанию на том конце провода, что ее предложение Игорю не понравилось.
– Да нет… не подруга… – пробормотал бывший муж. – Не в бабе дело. Понимаешь, нет у меня сейчас денег, правда.
– Может, в банке… – начала Маша, зная, что под Игореву стабильную зарплату можно было бы взять кредит.
– Ты понимаешь, какая проблема: я с работы уволился, – неохотно сказал Игорь. – Пытаемся с Володькой Красновым кое-что свое раскрутить. Не хочу говорить ничего пока, но – сама понимаешь: сижу с голой задницей, все, что было, в дело вложил. Ты меня знаешь, я для Кости и кредит бы взял, и с вами бы поехал. Нету, Маш. Честное слово.
Маша поверила ему и без всяких честных слов. Игорь и раньше иногда говорил, как ему надоело работать на других, его мечтой был свой бизнес, хотя бы маленький. Но узнать, что бывший муж собрался раскручивать бизнес именно сейчас, стало для Маши неприятной неожиданностью. Последний путь к тому, чтобы вывезти сына из Москвы хотя бы на месяц, оказался тупиковым.
Маша совсем приуныла. Наступил май, деревья окутались зеленым дымом, в котором, если подойти поближе, можно было различить маленькие листики. Она срывала листик, вертела в руках, растирала между пальцами и жадно принюхивалась, с тоской вспоминая деревню и проданный дом. Помыкавшись неделю в раздумьях, Маша решила, что делать нечего, придется ехать в нелюбимый Крым. «Ничего, ноутбук буду прятать куда-нибудь, – успокаивала себя Маша, хотя услужливое воображение подсовывало картинку: она роет ямку под деревом, закапывает туда ноутбук и, оглядываясь по сторонам, крадется к дому, в котором спят хозяева. – Зато море, фрукты, песок… в общем, Косте будет хорошо».
– Мам, я на море не хочу, – решительно заявил сын, узнав о ее планах.
– С ума сошел? – изумилась Маша. – Знаешь, как на море здорово!
– Знаю. Я там уже два раза был, – напомнил Костя. – Мне не понравилось. Да чего там хорошего – просто большая лужа, только соленая.
– Тогда ты был маленький, глупый! А сейчас ты плавать будешь, на экскурсии съездим, пещеры посмотрим. Хочешь в пещеру?
– Я в деревню хочу, – тихо сказал Костя, отвернувшись в сторону и копаясь в шкафу с посудой.
Маша вздохнула и села на табуретку.
– Хорошо, – устало согласилась она. – Я попробую еще раз поискать – может быть, нам сдадут какой-нибудь домик на лето. Не на все три месяца, конечно, – на все денег не хватит, – но хотя бы на два. И не разоряй ты шкаф, твоя немытая чашка в раковине стоит!
На следующее утро Маша накупила газет и села звонить по объявлениям. Она успела сделать три звонка и выяснить, что ни один из вариантов ей не подходит, когда телефон в ее руке дернулся и заверещал так, что она вздрогнула.
«Костя, поганец, опять звонок поменял!» – мелькнуло у нее в голове, пока она нажимала кнопку соединения. И вместо того чтобы сказать «алло», она грозно выдохнула в телефон:
– Придешь домой – убью!
В телефоне повисло молчание, а затем мягкий женский голос осторожно спросил:
– Маша, ты? Это Вероника. Извини, я, наверное, не вовремя…
Вечером Костя валялся на диване, а радостная Маша разбирала вещи в шкафу, откладывая в сторону то, что нужно взять с собой, и пересказывая сыну утренний телефонный разговор.
– В общем, тетя Вероника с мужем приглашают нас к себе на все лето. Представляешь? Бесплатно! Костя, ты знаешь, как там у них здорово?
– Мама, да помню я, мы же вместе ездили! Ты забыла все, что ли?
– Точно, забыла, – рассмеялась Маша, покачав головой. – Они же в прошлом году на выходные нас приглашали. Надо же, совсем из головы вылетело…. Ну что, ты рад?
– Рад, конечно. Жалко только, что у них Димка маленький, а то было бы совсем здорово.
– Во-первых, не такой уж и маленький – ему уже восемь лет. Во-вторых, зато Ирка большая.
– Ирка – девчонка, – возразил сын. – Девчонка – это не то. В деревне принципиальна мужская компания.
– Где ты таких выражений набрался? – изумилась Маша. – От отца, что ли? Будет тебе мужская компания, все будет! И друзей новых найдешь, и с Димкой найдете чем заняться. Все будет.
Она замерла около полки со свитером в руках, глядя поверх Костиной головы. Господи, как неожиданно и как хорошо! Они поедут на дачу к Веронике, и можно будет провести там целое лето! Подумать только, целое лето… Долгое, теплое, счастливое лето.
Глава 2
Дмитрий, муж Вероники Егоровой, никогда не называл мать жены иначе, чем Юлия Михайловна. Иногда – «она», но все понимали, о ком идет речь.
– А ты рассказала про нее? – спросил он, подтаскивая сумки с продуктами к багажнику старенькой «девятки».
– Сказала, – вздохнула Вероника и положила пакет на заднее сиденье.
– И что Маша?
– Митенька, она так обрадовалась приглашению, что, кажется, даже не слушала меня особенно. Нет, слушала, конечно, только всерьез не восприняла. Подумаешь, ну живет еще в доме больная старуха… Дом-то большой, места хватит на всех.
Вероника услышала от Маши, что ей с Костей негде отдыхать, две недели назад и теперь предложила поехать к ним на дачу в Игошино. Во-первых, ей искренне хотелось помочь приятельнице, к тому же она знала, что Машка – человек необременительный, легкий в общении и жить с ней – одно удовольствие. Во-вторых, имелась у Вероники и другая веская причина. «Может быть, Юля хотя бы при Маше будет вести себя прилично? – с отчаянием думала она. – Все-таки посторонний человек, с ребенком… А Димка станет с Костей играть, и, даст бог, мальчику будет не до бабушки».
Митя погрузил сумки в багажник, сверху положил связку зеленых бананов и поднял голову. Из окна третьего этажа на него смотрели две приплюснутые мордочки – Димкина и Иришкина. «Тварь, – мелькнуло у него в голове при взгляде на детей. – Мерзкая, уродливая тварь. Уже сидит в доме, как паук, ждет, когда я привезу Веронику и детей». А вслух сказал:
– Когда Маша с сыном приедут?
– Завтра, ближе к вечеру, – отозвалась Вероника, запихивая пакеты между сиденьями. – И очень хорошо, что не раньше: успеем все разобрать, в доме прибраться…
«Подготовиться», – хотела добавить она, но не добавила. Подготовиться к тому, что ожидало их в игошинском доме, было нельзя. И уж тем более нельзя было подготовить к этому Машу с ее сыном-подростком. Впрочем, за мальчика Вероника волновалась меньше всего. Костю она хорошо помнила по его предыдущему визиту – веселый, жизнерадостный мальчишка, которому и дела-то не будет до того, кто там еще живет в одном с ним доме. Вот Димка…
И она вслед за мужем озабоченно подняла глаза к окну, откуда таращилась теперь только мальчишеская физиономия.
– Иришка уже спускается, наверное, – раздался голос мужа. – Пойду за Димкой.
– Свет не забудь выключить, – напомнила Вероника, хотя знала, что на мужа можно положиться больше, чем на себя саму: все проверит и закроет на десять замков.
Оставшись одна около машины, она в пятый раз пересчитала пакеты, хотя еще в прошлый раз забыла, сколько их должно быть. Мытые яблоки лежали на виду – ехать до Игошина предстояло три часа, дети, как всегда, проголодаются.
Вероника Егорова вспомнила яблоневый сад около их деревенского дома – небольшой, но со старыми, раскидистыми деревьями, представила мать, ковыляющую по саду, и ее пробрал озноб, как от холода.
Веронику с детства воспитывала бабушка. Мать появлялась редко – забегала на полчаса, съедала поставленную хмурой бабушкой на стол тарелку супа и исчезала, бросив перед уходом что-нибудь обидное. Например: «Что-то Верка на блоху стала похожа…» Вероника никогда не видела блох, но знала, что они маленькие и противные. Маленькой и противной быть не хотелось.
– Ты ее не слушай, – успокаивала бабушка, видя, как насупилась девочка после ухода матери. – Болтает, что на язык попадет. Всегда такая была. Не бери на сердце.
Бабушка часто повторяла: «Не бери на сердце», и почти всегда это относилось к матери Вероники. Юлия Михайловна вела свободную жизнь, считала, что главное – собственное счастье, а хрупкая болезненная девочка мешала обретению этого счастья. Ее нужно было водить в садик, одевать, умывать… Нет, Юля Ледянина не хотела ничем таким этим заниматься. Конечно, деньги она подкидывала, но воспитывать – увольте!
Вот потому-то Вероника с бабушкой жили в своей квартире, а мать – неизвестно где. Иногда она даже оказывалась в другом городе, и тогда Вероника не видела ее по нескольку месяцев.
Когда она училась в шестом классе, мать исчезла на целый год – искать счастья в Сочи. Потом однажды приехала поздно вечером – голодная, тощая, как бродячая кошка, с лихорадочным блеском в глазах. Вероника должна была спать, но проснулась от голосов, подкралась к двери и смотрела на женщину, которая сидела к ней спиной. Темные ее волосы вились, спускаясь до лопаток. Вероника очень радовалась, что у нее самой волосы светлые, заплетенные в косички, совсем непохожие на Юлины.
– Что ж ты делаешь-то, а? Бесстыжая твоя душа! – сурово проговорила бабушка из угла. – Родную дочь год не видела.
– И еще столько бы не видеть, – хрипловато хохотнув, ответила Юля. – Да ладно, мать, я шучу. Я же знаю, что с тобой ей лучше, чем со мной. Я – перекати-поле, трын-трава: сегодня здесь, завтра там. В общем, свободная птица.
Бабушка помолчала, а потом произнесла такое слово, что Вероника за дверью сжалась в комочек от ужаса и изумления: как ее добрая, вежливая бабушка могла подобное сказать?! Это слово иногда выкрикивал дворник Семен, напившись и гоняя по двору свою жену, иногда так ругались взрослые дворовые мальчишки, и Вероника знала, что повторять его нельзя, потому что – матерное.
– Как ты меня назвала? – изумилась Юлия, поднимаясь с места. – Как?!
– Блядь ты самая настоящая, а не свободная птица, – повторила бабушка. – Уходи отсюда, пока ребенка не разбудила. Уходи! Иди ищи нового мужика. Без тебя обойдемся.
После того случая Юля долго не появлялась. Вероника радовалась: никаких теплых чувств к женщине, требовавшей называть себя только Юля и ни в коем случае не мама, она не испытывала. Мать была слеплена из другого теста: высокая, крепкая в кости, темноволосая и темноглазая, с широким, точно негритянским носом и нагловатыми широко расставленными глазами. Губы у нее были пухлые, сочные, и Вероника знала: мать гордится, что никогда не пользовалась помадой, – «нужды не было».
А Вероника с бабушкой были маленькие, беленькие, с тонкими ручками-ножками. «Ну чисто одуванчик!» – умилялись на Веронику соседки. А она смотрела доверчиво голубыми глазами, не понимая, хорошо это или плохо – быть похожей на одуванчик. Наверное, плохо: дунул – и остался одуванчик голышом, а голышом стыдно.
Такой же маленькой и тоненькой она оставалась и в семнадцать лет, когда остальные девчонки из их класса неожиданно вытянулись, повзрослели, приобрели положенные выпуклости, которыми очень гордились. Веронике гордиться было нечем, поэтому она тайком от бабушки подкладывала в бюстгальтер две собственноручно сшитые подкладочки, увеличивавшие ее грудь до приличных размеров. Как-то раз – уже в институте – подкладка выпала, и Вероника осталась с одной грудью. Бабушка, узнав об этом, хохотала до колик, и самой Веронике тоже стало смешно: надо же, какими глупостями занимается! Подкладки она выкинула в тот же вечер, решив, что будет гордиться своим сходством с бабушкой – у той тоже грудь небольшая.
Так они и жили – в мелких женских заботах, в небольших житейских радостях. В институте у Вероники появились первые мальчики-ухажеры, и по вечерам она до поздней ночи пересказывала бабушке, кто что сказал, какими словами она ответила, и советовалась, что ей делать дальше. Обеим эта полуночная болтовня доставляла огромное удовольствие, и Веронике казалось, что так будет долго-долго: запах герани на окне, накрытый платком ночничок на полу и приглушенный бабушкин голос – нежный, любящий.
Бабушка умерла в одну секунду. Взмахнула рукой, стоя около плиты, застонала, повалилась на бок и нелепо задергалась на полу, так что задралась толстая шерстяная юбка. И замерла. Вероника закричала, заметалась по квартире, выворачивая ящики с лекарствами, пыталась вложить какие-то таблетки в бабушкины синие губы, а потом звонила, звонила соседкам, отчаянно крича: «Вызовите „Скорую“! Ну вызовите же „Скорую“!!!»
Но «Скорая» ничем помочь уже не могла. «Сердечный приступ, – сказали врачи, разводя руками. – А что вы хотите, лет-то ей уже немало». На кладбище Вероника стояла вдалеке от матери, рассматривала оградку, покрашенную яркой желтой краской, и думала, что цвет ее бабушке бы не понравился.
Второй удар ждал Веронику после похорон. Мать, закутанная по самые брови в черный платок, подошла к ней и сказала:
– Я через два часа приеду домой. Приготовь там пожрать чего-нибудь.
Вероника не сразу поняла, о чем говорит мать, и переспросила:
– Куда приедешь?
– Куда-куда… В квартиру нашу, вот куда.
– Зачем? – по-прежнему не понимала Вероника.
– То есть как это зачем? – усмехнулась Юля, вскидывая широкие брови. – Жить. Хватит мне по чужим квартирам мыкаться – чай, не побирушка. Теперь, доченька, мы с тобой будем вместе горе наше горевать.
Вероника взглянула на мать с ужасом и отвращением, потому что «горе горевать» было бабушкиным выражением и еще потому, что из уст этой чужой женщины оно было лживым, как и она сама. Но час спустя, послушно варя суп, убедила себя, что несправедлива к матери, что так нельзя думать о единственном оставшемся у нее родном человеке. «Бабушка бы не одобрила», – сказала себе Вероника, твердо решив налаживать отношения с Юлей.
И, к удивлению Вероники, отношения и впрямь стали потихоньку налаживаться. Утром она убегала в институт, приготовив на скорую руку завтрак на двоих, пока Юлия Михайловна спала. Когда Вероника возвращалась во второй половине дня, матери дома не было – устраивала свои неизвестные дочери дела. Вечером она приходила и за ужином начинала расспрашивать Веронику о преподавателях, подругах и мальчиках. «Как бабушка», – думала Вероника. И рассказывала, рассказывала с удовольствием – тем более что мать иногда едко и точно комментировала ее рассказы так, что Вероника словно смотрела другим взглядом на участников событий. Взгляд был взрослый и циничный, но часто справедливый.
Юлия Михайловна очень одобряла, что Вероника учится хорошо, и пару раз даже подбрасывала дочери денег, когда та заканчивала сессию с отличными оценками.
– Учись, учись, – приговаривала она, выкладывая на комод купюры. – Образование в жизни во как нужно! Знаешь, как я жалею, что институт бросила? Могла бы многого в жизни добиться… Ну ничего, добьюсь еще, а ты учись хорошо, у тебя головка светлая.
И Вероника радовалась ее похвале куда больше, чем деньгам. Она сама не заметила, что начала постепенно привязываться к матери. Иногда ей даже хотелось назвать ее не Юлей, как всегда, а мамой, но сдерживалась, зная, что той не понравится. И обращалась к ней по-старому.
С Митей Егоровым она познакомилась в гостях у подруги и сразу в него влюбилась. Он был невысокий, спокойный и такой взрослый, словно между ними была разница не в пять лет, а в пятнадцать. Митя работал на заводе инженером, жил в общежитии, что тоже было в глазах Вероники необычным и романтичным. А ему Вероника казалась хрупким цветком, который в любую секунду может сломаться под грубым порывом ветра. Ее хотелось защищать, оберегать, нежно прижимать к груди и не позволять таскать тяжести. Они начали встречаться через три дня после знакомства, и скоро вся группа знала, что у Вероники Ледяниной есть взрослый парень, с которым «все очень серьезно».
Известие о беременности привело Веронику в состояние шока. Конечно, она любила Митю, но ребенок… на пятом курсе… Что же делать? Едва задав себе этот вопрос, Вероника осознала ответ: она хочет ребенка. Учеба… ну что ж, придется напрячься. А дома, в конце концов, есть мама. То есть Юля. Она поможет.
– Ребенок?!
Юлия Михайловна с презрением смотрела на съежившуюся в кресле Веронику.
– Ты, безмозглая корова, ухитрилась забеременеть? Сейчас? Когда тебе еще целый год учиться? О чем ты думала, дура белобрысая?!
Вероника не могла даже открыть рот под потоком ругательств матери.
– Ты сама еще полуребенок, ты не можешь толком нести ответственность даже за себя, а не то что за другого человека, – отчеканивала мать, словно вбивая каждое слово гвоздями Веронике в голову. – Со мной пришла посоветоваться? Нет, дорогуша, ты пришла сказать: вот тебе, Юленька, подарок в подоле – помогай мне и расти его! Так вот, милая моя, что я тебе скажу…
Мать остановилась на секунду и подумала.
– Я тебе взвалить на меня такую ношу не дам. У меня сейчас жизнь в самом расцвете, и не так-то долго моему расцвету продолжаться. Поэтому или ты отправляешься к врачу, и мы с тобой живем потом по-хорошему, или… или иди на все четыре стороны. Если ты такая взрослая, что смогла ребеночка заделать, значит, сможешь и прокормить его. Решай сама.
Она вышла из комнаты, оставив оглушенную Веронику одну. Вероника поморгала, встала из кресла и подумала, что должна позвонить Мите. Но сначала нужно собрать вещи.
Ненавижу ее. Господи, как я ее ненавижу! Никогда не думал, что способен на такое.
Самое плохое не ненависть, а то, как я воспринимаю это чувство. Оно мне нравится. Что скрывать, я никогда не считал себя героем, способным защитить свою семью от любых катаклизмов. Я боялся хулиганов в подворотне – стыдно признаваться, но боялся. Я и сейчас их боюсь. Боюсь, что с детьми что-нибудь случится, а я не смогу помочь им. Я очень многого боюсь.
Но ненависть во мне делает меня сильнее. Я ощущаю ее своим другом, и меня пугает это, ведь так недалеко и до шизофрении: разве можно думать о каком-то чувстве, которое тебе подвластно, как о друге? Но в том-то и дело, что моя ненависть неподвластна мне. Она поднимается из таких глубин, которые я никогда не предполагал в себе, и хочет выплеснуться наружу. Не в крике – крик беспомощен, не в махании кулаками – драка ничего не решает… Нет, моей ненависти нужно большее: уничтожить угрозу моей семье, стереть ее с лица земли, чтобы ничто не напоминало о ее существовании.
Я и опасаюсь своей ненависти, и горжусь ею, и еще горжусь собой – тем, что я, оказывается, не такой уж и трус, каким считал себя много-много лет. Но за гордостью прячется паника: что, если настанет момент, когда моя ненависть выплеснется целиком? Что тогда будет с нами?
Глава 3
Сидя на стареньком диванчике, Макар Илюшин с усмешкой смотрел, как его друг и напарник по работе Серега Бабкин разбирает сумку. Сначала оттуда мощной рукой Бабкина были выужены две небольшие гирьки и заботливо припрятаны под кровать, откуда кокетливо выглядывал фарфоровый горшок с васильком на боку. Бабкин хмыкнул и горшок задвинул подальше, а гири поставил поближе.
– Думаешь, не пригодится? – невинно спросил Макар, кивая на горшок.
Но Бабкин на провокации поддаваться не желал и в ответ только засопел. Следом за гирями последовал эспандер, зацепившийся за «молнию» сумки и жалобно заскрипевший, когда Бабкин попытался освободить его. В конце концов эспандер был освобожден, а следом Сергей вытащил из сумки маленький пакет с вещами, зарядное устройство для телефона, зубную щетку – и сумка Бабкина опустела.
– Это все, что ты привез?
По-мальчишески взъерошив руками светлые волосы, Макар воззрился на свой чемодан, ждущий очереди в углу. Чемодан был не очень большой, но такой плотный и солидный, что при взгляде на него сразу становилось ясно: вещей в нем много.
– Зачем тащить с собой всю квартиру? – вопросил Бабкин, подходя к окну и изучая пасторальный пейзаж – четырех коров, лениво бредущих по пыльной дороге. – Я тебе сразу сказал: у тетушки все, что надо, имеется. От дяди куча шмоток осталась. Да здесь ничего и не нужно: майка, шорты, вот и весь гардероб.
– А перед девушками ты в чем будешь форсить, мой неприхотливый друг? – поинтересовался Макар.
– Перед какими девушками?! Макар, это деревня. Деревня с большой буквы. Тихое, спокойное место. Глушь, глухомань, дыра без цивилизации. Ты местный магазин видел?
Макар вспомнил сарай под огромной вывеской, на которой было написано: «Универсальный магазин». Да, «Универсальный магазин» впечатлял.
– Ну вот, – констатировал Бабкин, не дожидаясь ответа. – Короче, забудь про город. Озеро – есть, лес – есть, еда у тетушки – ум отъесть можно. Что еще для счастья нужно? Все, московскую жару можешь выкинуть из головы. Месяц отдыха с полным отключением мозгов. Да здравствует Игошино и любимая тетушка Дарья!
Он плюхнулся на широченную кровать и раскинул руки в разные стороны, чуть не свернув светильник со столика. Макар повздыхал, поднялся с диванчика и направился к чемодану.
Со стороны они смотрелись если не комично, то, по меньшей мере, странно – большой, грузный, коротко стриженный темноволосый Сергей и худой светловолосый Макар, которого все и всегда при первом знакомстве принимали за студента-очкарика. Кроме тех, кто, встречаясь с ним, уже знал, что видит перед собой состоявшегося профессионала – человека, занимающегося частными расследованиями. Макару было тридцать три года, из которых последние шесть лет он работал на себя. Вполне успешно. Его правилом было полагаться на интуицию больше, чем на ум, и вместе с Бабкиным, который от природы был рационален и логичен, они составили отличную пару. Илюшин в их союзе был главным, что было понятно обоим и никогда не обсуждалось. Но в последний год спокойный, флегматичный Сергей становился для Макара все незаменимее.
Илюшин раскладывал вещи на полке в шкафу, когда дверь открылась и в комнату вошла Дарья Олеговна, а по-простому – тетя Даша. Невысокая, улыбчивая, загорелая, она выглядела моложе своих шестидесяти пяти лет. Короткие, рыжие от хны волосы были заколоты гребенкой, на которой сейчас красовалась зеленая гусеница.
– Сереж, Егоровы-то приехали, – сообщила она, доставая из кармана фартука пучок укропа и водружая его поверх горки вареных овощей в пластмассовом тазике. Пучок тут же запах на всю комнату. – Ирка у них за год выросла – не узнать! Еще год-другой – и будет тебе невеста.
– Была у меня уже одна невеста, – пробурчал Бабкин. Он поднялся с кровати, подошел к тетушке и осторожно снял гусеницу с гребенки. – Все помнят, чем дело кончилось?
– Да ладно тебе, подумаешь, нашел одну стервозину, – махнула рукой Дарья Олеговна, предпочитавшая не вспоминать про очень неудачный брак племянника, закончившийся разводом. – Что же теперь, все холостым ходить до старости?
Бабкин открыл окно, отогнул краешек москитной сетки и бросил извивающуюся гусеницу на траву.
– Ирка у Егоровых на мать будет похожа, – заметил он, усаживаясь за стол. – Худая и белобрысая.
– Не белобрысая, а блондинка, – поправил его Макар. – Белобрысый – это я.
– А тебе какие нужны? – удивилась тетя Даша, вытаскивая из шкафа разделочную доску, ножи и тарелки. – Давайте-ка овощи режьте, окрошку на обед устроим. Жена должна быть…
Она задумалась, вынула из тазика редиску и придирчиво оглядела со всех сторон. Редиска была – загляденье.
– Как редиска, – подсказал Макар. – Розовая и пузатая.
– Жена должна быть – как та… – Бабкин нахмурился, пытаясь вспомнить имя. – Ну, как же ее… красивая…О, Кэтрин Зета-Джонс!
– Не знаю такой, – покачала головой Дарья Олеговна, откладывая редиску в тарелку. – Я из заграничных только Мэрилин Монро помню. Уж больно сисяста была, если сбоку посмотреть, – добавила она с осуждением.
Макар с Бабкиным переглянулись и захохотали.
Липа Сергеевна услышала гогот из Дарьиного дома и вздрогнула. Ну надо же. Везде приезжие! Сколько их в Игошино понаехало нынешним летом – прямо на удивление.
Она, кряхтя, распрямилась над кустиками картошки, отбросила в сторону сорняк и огляделась. Вот к Даше племянник приехал. С товарищем, молоденьким совсем. Товарищ вроде ничего, приличный, дебоширить не должен. В дачников дом, что на другой стороне улицы, городские заселились, женщина молодая с ребенком и мать ее. Ну, их-то не видно и не слышно, они все с больной деткой возятся. Марья Ковригина свой дом сдала, уехала к детям, а у нее теперь парень молодой ходит по огороду, сказал – Родионом зовут. Тоже, получается, на целое лето приехал. Ну, Балуковых можно не считать – у них всегда сын гостит с семейством, их тоже многовато получилось: сами Балуковы-старшие, Алексей Георгиевич с Галиной, сын Васька с женой Катериной, а с ними и трое детей. Хотя Кирилл ихний совсем уж взрослый, лет девятнадцать, поди, стукнуло. Да и Балуковы-старшие, Алексей Георгиевич с Галиной. Много, много их там… Вроде больше нету приезжих. Или кого забыла?
Липа Сергеевна подумала и окликнула мужа, возившегося в бане.
– Вань! Иван Петрович!
– Чего тебе? – высунулся старик из двери.
– А вот скажи-ка, кроме дачникова дома и Марьи Ковригиной развалюхи, еще куда приехали, а?
Иван Петрович задумался, провел морщинистой рукой по лысине.
– К Дарье приехали, – кивнул он наконец на соседский дом. – Говорят, на месяц.
– Про Дарью сама знаю, – отмахнулась Липа Сергеевна. – А больше нет? Кажись, еще есть приезжие рядом, а вспомнить не могу.
– Да как же! – хлопнул себя по лысине Иван Петрович. – Ты, мать, совсем стала стара. У Егоровых-то приезжих – полон дом! Бабенка какая-то с сыном, да и старуха.
Вот! Вот что не могла вспомнить Липа Сергеевна! Бабенка с сыном – это ладно, это ерунда. А вот старуха – это куда интереснее. Родную мать, значит, Вероника в деревню привезла. Вот как оно получилось…
Липа Сергеевна усмехнулась, покачала головой и вытащила еще один сорняк из земли. Ох и интересно будет у соседей нынче летом!
Маша сидела на качелях, с которых только что с трудом согнала Костю, и пыталась разглядеть застекленную веранду сквозь ветки деревьев. Там, на веранде, собиралась хлопотать Вероника, но Маше казалось, что веранда пуста. И сколько она ни приглядывалась, так и не могла разглядеть – есть там кто-нибудь или нет. Конечно, чего же проще было, чем спрыгнуть с качелей и подойти к дому, но делать этого Маше не хотелось. Как не хотелось сейчас и заходить в прохладные уютные комнаты, хотя на улице стояла жара.
– Ма, я пойду с Димкой побегаю на улице! – крикнул Костя, перепрыгивая через клумбу.
– Побегай, только осторожно, – рассеянно ответила Маша. – Через полчасика приходи, купаться пойдем.
Она знала, что дом достался Мите Егорову в наследство от родителей. Он был большой, с верандой и мансардой, со скрипящими половицами, на которых аккуратно разложены полосатые коврики, нежно именуемые половичками. И очень уютный. Много лет подряд сюда свозились из городских квартир вещи, которые в городе смотрелись старьем, хламом, но хламом, который жалко выкинуть на помойку. Здесь они оживали, и их новая жизнь была куда необычнее, чем прежняя.
Старые столики с изогнутыми ножками, древний комод, прабабушкин трельяж с потемневшим зеркалом, фарфоровые безделушки на полках – все было несовременное, но очень родное, свое. Наверное, новый коттедж на окраине деревни – двухэтажный, каменный, с подогреваемыми полами и сауной в подвале – был удобнее для жизни, комфортнее, как стало принято говорить последние годы. Но в коттедже Маше не хотелось бы жить летом, несмотря на все блага цивилизации, присутствовавшие в нем. А в доме Егоровых – хотелось.
С Вероникой они познакомились на работе, когда Маша только начинала писать сценарии для детской передачи, сама не веря, получится ли у нее что-нибудь. Но получилось. Диалоги веселых зверят, написанные ею, смешили весь отдел, от режиссера до оператора. Передача шла всего семь минут, но в эти семь минут Маша успевала уложить маленькую историю или трогательную сказку, которые всегда нравились детям.
А Вероника Егорова придумывала сценарии, которые на рабочем языке обозвали «культпросвет». В ее сценариях герои объясняли, отчего дует ветер, почему вода в море соленая, а в реке – нет, откуда взялись динозавры и так далее. Разыскивая такие сюжеты, заодно и Вероника узнавала много нового для себя, потому что понятия не имела ни про ветер, ни про воду, ни тем более про динозавров. Откуда взялись, откуда… Из яиц вылупились!
Они познакомились с Машей и, несмотря на то что Вероника была на восемь лет старше, стали созваниваться по поводу и без, что у женщин всегда означает начало хорошего приятельства. Обменивались идеями для сценариев, бранили редакторов, обсуждали собственных и чужих детей. Как ни парадоксально, именно Маша относилась к Веронике чуть покровительственно, считая ту слишком впечатлительной, податливой, незащищенной. Да и муж у Вероники был ей под стать – невысокий, полноватый. Он напоминал Маше актера из любимого фильма «Ирония судьбы» с очень подходящей его внешности фамилией – Мягков. Дмитрию Егорову, которого жена называла Митей, она бы тоже подошла.
И дети у Вероники и Мити получились им обоим под стать: что Иришка, что Димка. Димка еще был поживее, хотя тоже чересчур самоуглубленный, по мнению Маши, а вот Ира выросла и вовсе несовременной девочкой. Слушала старые советские песни, фальшиво подпевая «Наде-ежда, мой компас земной…», вышивала крестиком котят, бессмысленно таращившихся из рамочек со стен ее комнаты, готовилась поступать в педагогический, чтобы потом сеять разумное, доброе, вечное. «Зануда», – говорил про Ирину Костя, и Маша про себя признавала за сыном некоторую правоту. Сейчас девочка сидела в своей комнате и читала учебник перед экзаменом, на который папа должен отвезти ее в город через две недели.
«Где же все остальные? – встрепенулась Маша, выбираясь из качелей. – Ирина у себя, Дима с Костиком бегают на улице. А Вероника с Митей? Неужели тоже дома в такую погоду? Надо их на речку позвать…»
Но прежде чем она успела сделать шаг по направлению к дому, за ее спиной раздался язвительный женский голос:
– Что, делом собралась заняться? Давай-давай, давно пора. А то понавезли гостей – ничего не делают, только жрут да на качельках сидят. Тунеядцы.
Маша обернулась и встретила насмешливый взгляд темных глаз. Она подумала секунду, но сдержалась и не стала отвечать. Толкнула качели и быстро пошла к дому.
«Возлюби ближнего своего, как самого себя». Два дня я мысленно повторяю эти слова, но сегодня поймала себя на том, что говорю их бездумно, как заученный текст. И ужаснулась. Враг рода человеческого искушает меня: я представляю картины, которые должны вызывать омерзение, но они наполняют мою душу радостью и облегчением. Я много молюсь эти дни, я стала меньше есть, чувствуя, что от голода голова становится легкой и светлой. Но лишь до тех пор, пока я не вижу ту женщину за оградой.
И тогда страшное чувство охватывает меня – мне кажется, будто все мои молитвы напрасны. Я слышу ее голос, и ее слова проникают в мою душу, как корни сорняка в землю, и вытягивают из нее все соки. Я слабею, но мне нельзя быть слабой, ни в коем случае нельзя. Дай мне силы, Господи. Дай мне силы….
Но демон напротив меня смеется, и я не слышу ответа на свою молитву. Лишь отвратительный хрипловатый смех, разрушающий все, что я так долго и с таким трудом строила. Господи, прости меня, я так хочу убить его, чтобы спасти всех нас! Господи, прости меня… Господи, дай мне силы остановиться.
Глава 4
Рожала Вероника мучительно. Она старалась никогда не вспоминать, как заходилась в крике от невыносимой боли и как орала на нее стоявшая рядом санитарка. Долгое время одна мысль о втором ребенке приводила Веронику в ужас – слишком сильны были воспоминания о первых родах.
Когда Митя увидел ее на пороге роддома со свертком в руках – бледную, с запавшими глазами, с убогим хвостиком на затылке, – то чуть не расплакался от жалости к жене. И только потом вспомнил, что в кулечке с розовыми бантиками лежит его собственный ребенок. Девочка спала, и крошечное личико размером не больше его собственного кулака показалось Мите Егорову красивым, как и лицо его жены. «Слава богу, теперь все наладится», – подумал он, сам толком не зная, что именно наладится, но твердо веря, что теперь все будет хорошо.
Все и правда было хорошо первые три дня. Ребенок спал, ел, громко причмокивая, и опять спал. Митя гладил бесконечные пеленки, соседи по общаге заглядывали раз в полчаса, чтобы поздравить молодых родителей и сообщить Мите, что его дочка – вылитая мать. Как будто он сам не знал!
А на четвертый день Вероника заболела. Температурила, смотрела воспаленными глазами, тряслась в ознобе и стонала во сне, дотрагиваясь до груди. Вызванный врач покачал головой и сообщил:
– Мастит у вас, мамочка, и очень запущенный. Будем в больницу отправлять. Куда ж вы раньше-то смотрели? Собирайтесь, спускайтесь к машине.
После отъезда жены в больницу для Мити Егорова началась сумасшедшая круговерть. Он договорился на работе и нянчил ребенка, но перед глазами вставало лицо Вероники – исхудавшее, со впалыми скулами. Пару раз он договаривался с женами друзей и оставлял Иришку на них, а сам мчался в больницу, вылавливал врачей, жадно выслушивал прогнозы и потом сидел у кровати жены, чуть не плача оттого, что нужно ехать обратно. Если бы Митя мог разорваться, он бы разорвался, потому что оставлять Веронику на казенный больничный присмотр было не в его силах. Он занял денег, таскал нянечкам и медсестрам конфетные коробки, но деньги быстро закончились, а на свою зарплату инженера он не мог купить жене достойный уход. И тогда Митя в отчаянии вспомнил про Юлию Михайловну…
Выгнав нахала зятя из квартиры, Юлия Ледянина затянулась сигаретой и выпустила дым в свое отражение в зеркале на шифоньере. Значит, хвост Веронике прижало… Ничего, ничего, девочке только полезно повзрослеть, да и ее супругу тоже. Ничего смертельного в их ситуации нет – подумаешь, в больнице за ней не ухаживают как следует, а мужику с ребенком тяжело. Значит, не нужно было рожать. Каждый человек должен сам отвечать за свои поступки – Юлия Михайловна знала об этом с юности. А то как замуж выскакивать на пятом курсе, Вероника сама справится, а как сложности начались – так Юленька помогай.
Нет уж, дудки! Вот припрет их по-настоящему – тогда поможет, а сейчас пусть сами выкручиваются. Заодно проверят, такой уж ли крепкий у них брак. Уж если оставаться одной, так не в сорок и не в тридцать, а в двадцать пять – тогда еще есть шанс приличного мужика найти, даже если сама с дитем. А Вероника наверняка останется одна – не выдержит этот хлюпик испытаний, нет, не выдержит. Нормальный парень деньги бы зарабатывал, вагоны разгружал, а этот к матери жены пришлепал. Ну надо же, выбрала Вероника слизняка!
Юлия Михайловна потушила сигарету в пепельнице и открыла шкаф. Предстояло выбрать одежду для свидания, а к такому делу в ее возрасте нужно подходить ответственно.
Тяжелое время Вероникиной болезни закалило обоих – и Митю, и Веронику. Когда жена вернулась домой из больницы, Митя на радостях устроил торжественный ужин – с макаронами, посыпанными сыром, и банкой кильки в томатном соусе. Хорошо еще, что на кильку денег хватило: после того, как он раздал долги, они с Вероникой остались почти ни с чем. Кильки Митя художественно разложил на плоском блюде, взятом у соседей, и когда Вероника увидела цветок из рыбешек, то начала смеяться так заразительно, что за ней засмеялся и он, хотя за занавеской только что заснула Иришка, а будить ее не стоило – раскапризничается, захнычет. Но они смеялись, смеялись от души, будучи в полной уверенности, что тяжелое время закончилось.
Про мать Вероника старалась не вспоминать. Митя рассказал ей о том, как теща высмеяла его и выставила вон, только спустя полгода. Жена выслушала его рассказ, покивала, помолчала. Потом сказала:
– Знаешь, Митенька, это даже хорошо. Не будет у нас с тобой лишних иллюзий.
В общаге они жили долго – до тех пор, пока Мите не дали крохотную квартирку, в прихожей которой было не раздеться, а в кухне – не приготовить толком еды, настолько они были малы. Но Вероника и Митя были счастливы. На радостях Вероника позвонила матери, с которой не созванивалась уже несколько лет. Но Юлия Михайловна разделить радость дочери не пожелала: сообщила, что куда-то опаздывает, и потребовала больше из-за всякой ерунды ее не беспокоить.
– Квартиру получили, три на два метра… – фыркнула она в трубку. – Десять лет ждали и дождались наконец. Неудачник твой муж, так и передай ему.
Вероника зареклась разговаривать с матерью, но ничего поделать с собой не могла: на каждый Новый год и день рождения Юлии Михайловны стала звонить и поздравлять. Когда мать была в хорошем настроении, она могла мило поболтать с Вероникой, и тогда дочь узнавала от матери о новых событиях в ее жизни. Юлия Михайловна успела выйти замуж и развестись, устроиться на новую работу, бросить ее и вернуться к старой. Если была в плохом, она отрезала: «И тебе всего хорошего» – и бросала трубку. Однажды Юлия Михайловна ни с того ни с сего набросилась на Веронику и наговорила такого, что Вероника после разговора чуть не расплакалась и долго сидела на табуретке, прижимая ладони к горящим щекам. «Курицей меня назвала… Кургузой идиоткой… За что? Что я ей плохого сделала?»
– Веруня, зачем ты ей звонишь? – спросил тогда Митя. Сам он никогда первым не вспоминал про Юлию Ледянину. – Она ведь даже не мать тебе, а биологический производитель. Так зачем? Не понимаю.
Вероника задумалась.
– Знаешь, Митя, наверное, из-за чувства долга, – призналась она в конце концов. – Меня бабушка так приучила. Постороннему человеку стыдно рассказать: живем с матерью в одном городе и созваниваемся два раза в год!
– Ты бы, Вероника, поменьше о посторонних думала и побольше о себе, – посоветовал Митя.
Она не совсем поняла, что имел в виду муж, но переспрашивать не стала, поскольку знала: после случая с больницей Митя возненавидел тещу. Они никогда не говорили об этом, но она все чувствовала, и такая ненависть в спокойном, мягком муже ее немного пугала.
Годы шли. Вероника родила Димочку, Митя сменил работу, уйдя наконец с опостылевшего завода, и принялся «крутиться». Несмотря на все его усилия, больших денег в семье не появлялось, но на жизнь хватало, и Вероника гордилась мужем. Да, не Рокфеллер – но Рокфеллер ей и не нужен был. А уж когда Митя сообщил о своих планах купить в кредит трехкомнатную квартиру, в которой наконец-то хватило бы места для всех, и показал Веронике расчеты, она окончательно убедилась в том, что ее муж не неудачник, как злобствовала Юля, а Мужчина с большой буквы. Только настоящий Мужчина может столько сделать для своей семьи, сколько ее Митенька. Конечно, пугал кредит, взятый на такое огромное количество лет, что даже заглядывать в это будущее становилось страшно, а не то что думать о собственном материальном достатке. Но в конце концов аргументы мужа перевесили, и семья Егоровых переехала в новую квартиру.
С того времени об отпусках и вожделенных поездках на море пришлось забыть. Денег еле-еле хватало на выплату ежемесячных взносов. Зато у них имелась прекрасная дача в Игошине, и уж кому-кому, а Веронике было грех жаловаться: живут в своей квартире, при машине, да и дети все лето в деревне, на свежем воздухе. Что еще надо? Иногда подкрадывалось предательское желание: «Поехать бы в Италию! Хоть одним глазком на Венецию взглянуть!», но Вероника такие мысли отгоняла. Может быть, потом, когда ребятишки подрастут, когда они с мужем кредит выплатят… А сейчас нужно работать, а не пустыми несбыточными мечтами голову забивать.
Ей стукнуло сорок, Мите – сорок пять. Оба были вполне довольны жизнью, и если б не постоянная напряженная работа, считали бы себя счастливыми людьми.
Пока в их жизни не появилась Юлия Михайловна Ледянина.
К шестидесяти четырем годам у Юлии Михайловны болело все, как будто сама она превратилась в болезнь. Юлия с трудом ходила и старалась реже вставать с кровати. Давление бешено прыгало вверх-вниз, спина при любом неловком движении отзывалась болью, голова по утрам была тяжелая и какая-то мутная, словно в нее залили застоявшейся аквариумной воды.
В один пасмурный день Юлия Михайловна позвонила дочери и велела приехать…
Вечером Вероника ждала Митю, а в ушах стоял тихий звон, будто, внутри у нее оказался колокол. Она время от времени встряхивала головой, затыкала уши, но звон прекращался на пару минут, а потом возвращался обратно. Из-за него она даже пропустила момент прихода мужа, не услышав, как поворачивается ключ в замке.
– Вероника, ты что? – спросил Митя, увидев лицо жены. – Что с тобой?
– Митя, – одними губами произнесла она. – Митя, она хочет к нам переехать.
Дмитрий Егоров отказывался верить своим ушам. Переехать к ним?! С какой стати?! Только потому, что она больна настолько, что больше не может сама за собой ухаживать?
– Веруня, конечно, мы будем ей помогать, – как можно убедительнее сказал он. – Какой бы она ни была, но она тебя родила, я все понимаю. Будем приезжать, лекарства привозить, продукты…
Он осекся, увидев, с какой тоской смотрит на него Вероника.
– Митенька, ты не понимаешь, – покачала она головой. – Ты ее не видел. Она развалина, понимаешь? Ходит с трудом, еду готовит с трудом… Зашла при мне в туалет, а потом… – Вероника закрыла глаза рукой. – Митя, ее хватит еще на пару месяцев в лучшем случае, а потом она превратится в лежачую больную. Мы же не можем с тобой бросить лежачую старуху умирать одну! А она будет именно умирать, потому что ее пенсии хватает только на еду. Она же в жизни не работала!
Вероника с трудом сдержала всхлип. Дмитрий отодвинул тарелку с нетронутой едой и встал.
– Ну вот что, – тоном, не терпящим никаких возражений, заговорил он. – Независимо от того, что ты думаешь об этой женщине, в нашем доме она жить не будет. Она тебе не мать и никогда ею не была. Бросить ее, как ты говоришь, мы тоже не можем. Поэтому сделаем так: найдем сиделку, которая будет ухаживать за ней за квартиру. Я помню, какая огромная у нее трешка. Уверяю тебя, желающих найдется – вагон и маленькая тележка. Вот и все решение проблемы.
Он выдохся и сел, с тревогой глядя на жену, все еще закрывавшую глаза ладонью. Наконец она убрала руку, и Митя Егоров увидел в ее глазах отчаяние.
– Митенька, ничего не получится, – из глаз Вероники текли слезы. – Митенька, милый, она квартиру продала. Нет у нее квартиры. Нечем нам платить сиделке.
Юлия Ледянина надумала уехать в Данию в двухтысячном году. Продала квартиру, получив за нее такие огромные деньги, каких в руках не держала. И решила тряхнуть стариной напоследок, утереть нос молодым стервам. Гуляла-кутила, пока хватало сил, а через четыре месяца спохватилась, но к тому времени сожитель уже укатил в Данию без нее. А одну Юлию Михайловну, как выяснилось, никто за границей не ждал и объятий для нее не распахивал.
Расстраиваться из-за этого она сочла большой глупостью. Ну что ж, значит, не покинет родимый СССР, то есть теперь уже Россию. Ничего, жить и здесь прекрасно можно, были бы деньги. А деньги были. Правда, купить на них трехкомнатную квартиру уже не получалось, и даже на двухкомнатную не хватало, поэтому Юлия Ледянина, недолго думая, сняла квартиру в аренду – хорошую квартиру, с большими окнами и высокими потолками.
Спустя шесть лет она ютилась в комнатке, куда ее пустили родственники старой приятельницы. Комнатушка была тесная, пыльная, вся забитая хламом, и Юлия Михайловна брезгливо морщила нос, открывая дверь в этот приют, как она называла свое жилье. В остальной квартире гадко пахло кошками, ходила туда-сюда нечесаная опухшая хозяйка, баба неопределенного возраста, и смотрела на Юлию Михайловну, как на пустое место.
Когда старая приятельница заявила, что больше родственники держать у себя «за бесплатно» Юлю не будут, она позвонила дочери. В конце концов, пусть позаботится о родной матери, раз за всю жизнь ни разу не позаботилась.
Маша, Костя и семейство Егоровых сидели за столом на веранде, доедая завтрак, а старуха устроилась около углового окна, оглядывая окрестности. Не зря она заставила зятя принести сюда кресло. Веранда в доме Егоровых высокая, и можно видеть, чем занимаются все соседи. «Капитанский мостик», – хмыкнула про себя Юлия Михайловна, а вслух сказала:
– Опять Царевы своего дебила гулять повели. Надо же, урод какой.
– Юля, он не урод, – не сдержалась Вероника, хотя Митя предостерегающе посмотрел на жену. – Он больной пятилетний мальчик. Как ты можешь такое говорить, да еще при детях? Его мама, Светлана, к нам заходила и угощала Ирину с Димой крыжовенным пирогом.
Мать расхохоталась.
– Какая ты у меня правильная, Верка! Заходила, угощала… Больной, никто не спорит. Но ведь все равно урод, правда? На него смотреть противно. Спроси хоть у собственного сына. Слышишь, Димка, тебе на этого кривобокого смотреть нравится?
Мальчик молчал, перемешивая манную кашу с вареньем.
– Вот, – удовлетворенно констатировала Ледянина. – Ребенок врать не будет. Урод – он и есть урод. Для них лучше было бы его в детдом отдать. Надо им посоветовать, а то сами, поди, не догадаются. А вот и главная выползла…
Маша невольно посмотрела в окно.
Елена Игоревна Царева, бабушка маленького Егора, всегда держала спину так прямо, что Маше казалось, будто той приколотили к позвоночнику доску. Лицо суховатое, неулыбчивое. Да и с чего ему быть улыбчивым, если у единственного внука – болезнь с обрубленным названием ДЦП, и он целыми днями сидит, скривившись на правую сторону и время от времени двигая нижней челюстью? От Светланы, его матери, Маша знала, что мальчик не говорит и даже не мычит, как ни бьется с ним бабушка. Только пускает слюни и скашивает глаза на что-то, видимое ему одному.
Елена Игоревна присела перед внуком на корточки, задрала штанину на его правой ноге и начала разминать стопу. Нога была костлявая, белая, и Маша смущенно отвела взгляд.
– Надо же, какой сегодня день на уродов богатый! – в полной тишине прозвучал резкий насмешливый голос Юлии Михайловны. – Все сегодня на огородах!
Вероника проследила за ее взглядом.
– Балуковы всегда с раннего утра работают, – ровно сказала она. – У них хозяйство большое, деревенское.
– Это старшие работают, дед с бабкой, – возразила мать, всматриваясь в соседей. – Да и сын с невесткой им помогают. А сегодня все отродья их повылазили – и внук, и внучки. Лучше бы дома сидели, рожи свои не показывали. У старшего вообще харю от задницы не отличить – какой стороной ни поверни, внутри кал найдешь.
Ирина поморщилась, а Костик усмехнулся под осуждающим взглядом Маши. Дмитрий Егоров хотел что-то сказать, но сдержался.
– Надо же столько нарожать, – продолжала Юлия Михайловна с искренним удивлением. – Трое детей, один другого гаже. Тьфу!
– Неправда, – вмешалась Маша, хотя давала себе обещание молчать в тряпочку. – Младшая девочка, Вася, у них хорошая.
– Так ей три года всего. А подрастет – и будет копия сестры. Как ее там, Ольга, что ли? Четырнадцать лет девке, а ей все коровы завидуют. Им-то такое вымя не светит, хоть обдергай их за соски! Да и дырка у нее, верно, как дупло совиное…
– Замолчите! – рявкнул неожиданно Митя, так что его дочь вздрогнула и уронила ложку. – Не сметь такие мерзости при моих детях говорить! У вас что ни слово – так…
– Дерьмо, – подсказала Юлия Михайловна, с удовольствием наблюдая за покрасневшим Митей. – Ну скажи, скажи… – подзадорила она зятя. – Что, боишься ротик свой испачкать? Суслик!
Димка, все время сидевший, уткнув глаза в тарелку, вскочил и бросился с веранды. Простучали по деревянным ступенькам его ботинки, и наступила тишина.
– Я… это… – встал Костя. – Короче, я наелся. Спасибо, теть Вероник, очень вкусно было.
Он вышел с веранды, а за ним тихой тенью скользнула Ирина. Вероника хотела крикнуть дочери вслед, что нужно готовиться к экзаменам, но вместо этого счистила кашу с тарелок в ведро и встала к раковине. Прекрасный семейный завтрак, пожалуй, был закончен.
Опять она там – сидит у окна и высматривает, вынюхивает… Что вынюхивает? Не знаю. Но ее интерес к нашей семье мне не нравится, очень не нравится.
Что случится, если она узнает то, что мне нужно скрыть? Конечно, тогда придется убить ее. Она старая, не сможет сопротивляться. А меня никогда не заподозрят. Может, до того, как я убью тех двоих, убить ее? Заранее, чтобы потом ничего не мешало. Нет, наверное, не стоит. Поднимется шум, и мой план может не осуществиться, моя мечта не сбудется. Ужасно. Как я тогда буду жить?
За свою мечту я могу убить кого угодно, потому что мне пришлось так долго идти к ней! Но теперь она близко. Если только мне не испортит всю обедню глупая любопытная старуха, которой нравится везде совать свой нос.
Не нужно бы ей ничего знать о нас – дольше проживет.
Сергей Бабкин с утра наколол дров, а Макар, несмотря на горячие возражения Дарьи Олеговны, натаскал воды из колодца. К прополке огорода тетушка их не допустила, категорично заявив, что молодежи в деревне нужно отдыхать. Вот пусть и отдыхают – на озеро сходят, вместо того чтобы топорами махать. Дров-то, чай, она и сама могла бы наколоть…
– Боевая у тебя тетушка, – заметил Макар, пыля босыми ногами по дороге на озеро. – Я бы тут помер от тоски, если б все лето жил один.
– Да ладно, она же не одна, – отмахнулся Бабкин. – Соседи есть, она с ними беседует. Думаешь, в городе лучше? Все то же самое. Разве что с телевизором поговорить можно, – философски закончил он.
Проселочная дорога закончилась, и теперь они шли по полю, заросшему высокой травой и васильками. Солнце палило, но на горизонте собирались тучи. Высоко над головой Макара плыло кучевое облако – пышное, как сахарная вата. В траве звенели кузнечики, деловито гудели басовитые шмели.
– Красота, – довольно пробурчал Бабкин, оглядывая поле с таким видом, как будто это было его поместье. – Главное – народу нет. Щас как спою во все горло….
Он открыл рот, но в ту же секунду Макар, внимательно присматривавшийся к раскидистой липе, растущей посреди поля в ста метрах от них, дернул его вниз.
– Макар, ты чего? – интуитивно понизил голос Сергей, приседая на корточки. Трава стеной стояла вокруг них, и они теперь ничего не видели, кроме ватного облака.
– Не знаю, – нахмурился Макар. – Показалось, что человек крадется около липы. Спрашивается, с чего это ему ползать в траве, если тропинка есть?
– Наверное, ребятишки местные играют, – объяснил Бабкин, осторожно приподнимаясь и пытаясь разглядеть липу. Там никого не было. – Ты тоже в войнушку поиграть захотел?
Макар попытался опять воспроизвести перед глазами картину, которая заставила его нырнуть в траву. Сергей сел рядом, выжидающе глядя на него.
– Не знаю, Серег, – признался наконец Илюшин. – Может, мне про браконьеров что-нибудь вспомнилось?
– Да ну тебя, какие браконьеры? Или ты полагаешь, у нас тут игошинские слоны бегают, бивнями трясут?
Сергей встал во весь рост, за ним нехотя поднялся Илюшин. По полю катились волны от ветра, и около липы ничего подозрительного не было.
– Давай подойдем посмотрим, чтоб не думалось, – предложил Бабкин, глядя на нахмуренное лицо Макара. – Чего тут, две минуты…
И, не дожидаясь реакции друга, двинулся по полю, оставляя за собой след из примятой травы. Илюшин пошел за ним.
«Почудилось Макару, – думал Бабкин. – Тихо, нет никого. Даже ребятишек. Да и зачем кому-то…»
Додумать он не успел. До липы оставалось десять шагов, когда из травы им навстречу поднялся человек, отряхивая сор с коленок. Он выпрямился во весь рост, посмотрел, прищурившись, на Макара с Сергеем, вставших, как вкопанные, и саркастически спросил:
– Ну что, господа сыщики, выследили серийного маньяка?
Родион Копушин не любил людей, превосходивших его в чем-либо. Он старался выискать в каждом из них недостатки, которые бы сводили на нет все их достоинства, а найдя, радовался, как может радоваться золотоискатель, обнаружив жилу. Недостатки означали, что эти люди не лучше его самого, а даже хуже, хотя со стороны и кажется, что ему, Родиону, до них далеко.
Крепкого мужика за забором напротив снятого им дома он заметил еще вчера и сразу решил, что такой здоровяк должен быть туп, как колода. «Пиво, бокс, дешевые шлюхи… И мочится мимо писсуара в общественных уборных. Может, ходит в спортзал по выходным – руки-то вроде накачаны», – быстро нарисовал для себя портрет детины Родион.
Таких крупных людей Копушин не переносил, потому что их превосходство над ним сразу бросалось в глаза: сам он был тощий и сутулый. Мысль, что внешность здоровяков компенсируется убогим интеллектом, поднимала самооценку Родиона.
Приятель здоровяка был ненамного старше самого Копушина – лет двадцати пяти от силы, и на выискивание его недостатков Родя не стал тратить времени: и так видно, что парнишка ничего особенного собой не представляет. Худой, белобрысый, на голову ниже своего быковатого дружка.
– Ящериц ловите? – неожиданно открыл рот «парнишка», хотя Родион был уверен, что разговор начнет здоровяк. – Кстати, у вас земля на штанах.
Взгляд его Копушину не понравился – очень уж внимательный и… изучающий. Это он их должен изучать, а не они его!
– Ничего страшного, отряхну, – широко улыбнулся Родион. – Я вас не очень задерживаю? Вы, кажется, на озеро шли. Сегодня вода очень теплая.
– Что ж вы здесь, на жаре, загораете, а не там? – удивился здоровяк. – Мы думали, может, вам помощь нужна.
– Да просто прилег отдохнуть на обратной дороге, – признался Роман. – Устал по жаре идти – со здоровьем у меня не очень. Задремал, а как голоса услышал, так проснулся. Даже испугался немного, честно говоря.
Он опять улыбнулся, всем своим видом показывая, «видите, какой я… нелепый, в общем-то, и совершенно безобидный».
– А вы ведь тоже из Игошина, правда? – спросил он.
– Угу, – подтвердил здоровый. – Меня Сергеем зовут.
Он протянул для рукопожатия широкую ладонь, и Копушин постарался сжать ее как можно сильнее.
– Макар, – представился «парнишка».
– А я – Родион, – сказал Копушин. – Родион Раскольников.
Искупавшись в чистой озерной воде, которая в действительности оказалась холодной, Макар принялся скакать на солнце, чтобы согреться. Бабкин снисходительно наблюдал за ним из тени, стоя под ветвями ивы.
– Странный тип этот Родион, – заметил он. – Слышишь, Макар?
– Ага, – отозвался тот. – Мерзкий. Тоже мне, студентик, будущий известный журналист. Фамилия громкая ему нравится!
– Ты думаешь, она не его собственная?
– Уверен, что нет.
Макар остановился и повернулся к солнцу спиной, чтобы позагорать.
– Если бы у его родителей была такая фамилия, они бы ни за что в жизни не назвали сына Родионом, – пожал он плечами. – Достоевского в школе все проходили. Нет, он сам себе ее придумал. Очень самовлюбленный парень, по всему видно.
Бабкин подумал и мысленно согласился с Илюшиным. Раскольников ему тоже не понравился – какой-то и впрямь болезненный, а улыбка неприятная: губы растягивает, а глаза не улыбаются.
– Но это все чепуха, – продолжил Макар, уходя от солнца в тень бабкинской ивы. – Вопрос не в том, почему сей милый вьюноша корчит из себя бог знает что.
– А в чем?
– Вопрос в том, Серега, что под деревом было два человека, а не один. Понимаешь? Два. И пока мы подходили, второй успел убежать.
Глава 5
Светлана разминала Егору ноги так, как показывала ей мать. При этом нужно было читать молитву, но в молитву она не верила, а читать через силу не получалось. «Господи, спаси и сохрани», – формально произнесла она про себя самое простое, что знала, и посильнее нажала на кость. Мальчик дернулся, толкнул ее, и Светлана, потеряв равновесие, упала на спину, больно ударилась о какой-то пенек, незаметный в траве.
– Смотреть на твои мучения жалко, – раздался хрипловатый голос за оградой.
Светлана подняла голову и опять увидела ее – соседку, которая разговаривала вчера с матерью. После разговора мать ходила чернее тучи, а вечером встала на колени перед иконой и долго молилась, отбивая поклоны. Так долго, что Светлана уснула, а когда проснулась в полночь от стонов Егора, увидела темную фигуру матери, застывшую на полу. Она испугалась, что мать потеряла сознание, бросилась поднимать ее, но та только шикнула на дочь, и Светлана стыдливо отошла в сторону.
Женщина сидела в плетеном кресле и обрывала малину с куста. Спортивные штаны и бледно-желтая майка навыпуск казались старыми, затасканными. «Но, наверное, в молодости красавица была», – подумала Света, разглядывая соседку. Впрочем, лицо у той и сейчас было запоминающимся, ярким, несмотря на возраст. Грубоватые черты, резкий, временами хриплый голос и какая-то постоянная издевка то ли в глазах, то ли в интонации.
– Что, мать грехи замаливает? – насмешливо спросила женщина.
– Зачем вы так? – тихо спросила Светлана. – Другая бы на вашем месте пожалела…
– Нечего вас жалеть, – отрезала Юлия Михайловна. – Каждая из вас знает, что нужно сделать, а все равно лицемерит. Вдобавок и сочувствия просите… Тоже мне, фальшивые страдалицы! Ты баба молодая, а хоронишь себя заживо с инвалидом. Знаешь ведь, что не вылечить его, так зачем мучаешься? И не любишь его ни капельки.
– Неправда! – выкрикнула Светлана, делая шаг назад, к коляске Егора.
– Да ладно тебе, – усмехнулась соседка. – Вижу, что мать тебя заставляет его любить. А самой-то тебе жизни хочется, счастья. Отдала бы ты его в детский дом, – буднично посоветовала она, вставая из кресла, – и всем стало бы хорошо. Тебе – потому что жить бы начала. Ему, – она кивнула на молчаливого, криво сидящего в коляске ребенка, – потому что все равно, где мучиться. А матери твоей – потому что вроде как не она грех на душу взяла, а ты.
Светлана ожесточенно замотала головой. Юлия Михайловна глянула на нее, усмехнулась и пошла на другую сторону сада, подумав, что обход стоило сделать традицией хотя бы потому, что он веселил ее.
Кирилл Балуков, старший сын Катерины и Василия, заметил бабку с соседнего участка, когда она подошла к сетке забора вплотную. «Опять приперлась», – подумал он и про себя выматерился – не потому, что ему что-то не нравилось, а просто потому, что он привык мысленно прибавлять пару крепких слов по любому поводу. С ними было как-то легче.
– Эй, ты что не здороваешься? – сурово спросила старуха. – Язык отсох?
– Здрасьте, – хмуро пробурчал Кирилл. – Я вообще-то не «эй». У меня имя есть.
– И как же тебя зовут?
– А вам зачем? – нагловато поинтересовался он.
Старуха откинула голову и захохотала. Вообще-то она была не такая уж старуха – выглядела моложе бабушки, да и смеялась не по-старчески. Она его злила – своими вопросами, хохотом без причины, а самое главное – тем, что уже третий день торчала за сеткой и смотрела за ними, смотрела во все глаза. А они у соседки темные, с хитринкой, как у Бабы-яги на картинках в детской книжке.
– Я не понял, чего смешного-то… – протянул Кирилл, стараясь подбавить в голосе угрозы.
– Не понял, потому что дебил, – хладнокровно ответила старая сволочь. – Как тебя по батюшке? Васильевич? Значит, Дебил Васильевич.
Кирилл сначала растерялся, а потом обозлился. Украдкой оглянувшись, чтобы проверить, нет ли рядом деда, он подошел поближе к забору и вполголоса, с наслаждением выплюнул изо рта самый грязный мат, который пришел ему на язык. Но проклятая бабка даже не покраснела – стояла, скалясь по-прежнему, и вроде бы даже получала удовольствие от того, что слышит.
– Поговори, поговори еще, – предложила она. – Вот расскажу деду про твои игры, тогда по-другому запоешь. Вот то-то же… – добавила она, заметив смятение на лице парня.
– Да пошла ты! – пробормотал Кирилл, потому что больше ему ничего не пришло на ум. Но голос его прозвучал испуганно. Блин, как же он сам не сообразил, что противная старуха целыми днями на участке сидит да по сторонам глядит? Но вроде темно вчера было…
У калитки показался дед, и Кирилл торопливо пошел прочь от забора. Получается, она его видела вчера? И теперь может деду рассказать? Черт, что же делать?
Вслед ему донесся негромкий хрипловатый смех.
– Опять она соседей дразнит, – озабоченно сказал Митя, чистя картошку около раковины. – Скоро будет ходить к тем, кто на другой стороне улицы живет. Перессоримся мы со всеми, чует моя душа. Ты слышала, что она вчера Елене Игоревне советовала?
Вероника молча кивнула. Она слышала и пришла в ужас. Сказать бабушке больного ребенка, что лучше всего придушить его, – такое не помещалось у нее в голове. «Боже мой, откуда в ней столько злобы?!»
На ступеньках раздались тяжелые шаги, и Вероника вздрогнула – Юлия Михайловна шла в дом.
Маша сидела в мансарде и писала сценарий. Егоровы выделили для нее одну из двух верхних комнат – чистую, светлую, выходящую окошком на улицу. Маша была рада этому, потому что по саду постоянно расхаживала Юлия Ледянина, а любоваться матерью Вероники из окна Маше совершенно не хотелось.
«Ежик берет в руки метлу», – написала она и задумалась на секунду. Ну да, берет метлу и как следует стучит метлой по голове зайчику, который не убрал за собой комнату. Маша хмыкнула и стерла предложение. «Простой, понятный, добрый сценарий», – как заклинание, повторила она в четвертый раз и поглядела на монитор. «Как Ежик и Заяц делали уборку» – было написано вверху страницы крупным шрифтом. Тема была несложная, сюжет стандартный, повторяющийся в разных вариациях из года в год, и Маше нужно было только придумать игровую ситуацию, в которой один зверек учил бы другого убирать за собой комнату… и не разбрасывать огрызки по кровати. Последние были ее собственной «больной мозолью», потому что периодически, плюхаясь с размаху на диван, она обнаруживала под попой пару-тройку огрызков от яблок, оставленных, конечно же, поганцем Костей.
«Заяц входит в комнату и видит там Ежика, – быстро забарабанила Маша по клавишам, решив писать, что в голову придет. – Ежик сидит в неубранной комнате. Вокруг разбросаны окурки, объедки и пустые пивные бутылки. Реплика Зайца: „Ах ты колючая скотина! Мало того что топаешь по ночам, так вдобавок и свинячишь!“ Реплика Ежика: „Отвали, ушастый пень. Морковку тебе в грызло…“
Маша остановилась и в ужасе перечитала написанное. Потом представила, как пятилетние дети с родителями смотрят ее передачу по телевизору, и хихикнула. Морковку в грызло, значит… Замечательно!
Она закрыла ноутбук и уставилась в окно. Сценарий – простейший, стандартный сценарий – не получался уже второй день. Вместо положенных куклам реплик в голову лезла всякая муть. Да не просто муть, а муть с ругательствами, ссорами, драками всех персонажей, включая добрейшего ведущего Дядю Колю, который в Машиных фантазиях раскручивал Ежика и Зайца над головой, бешено вращая глазами, а затем швырял прямо в камеру. «Так будет с каждым, кто не уберет за собой комнату!» – зловеще обещал Дядя Коля вместо ежевечернего ласкового «Добрых вам снов, мои дорогие друзья». «Ночные кошма-ары! – завывал Дядя Коля. – Вот что ждет вас, маленькие прохвосты, если я найду еще хоть один огрызок на диване!»
– Тьфу, – сказала Маша, вспомнив о Дяде Коле и вставая из-за стола. – Надо же, пакость какая.
После двух бесплодных дней вымучивания сценария приходилось признать: ее фантазии навеяны Юлией Михайловной. Сначала Маша гнала от себя эту мысль, но после того, как скромная Мышка из передачи, раз в неделю по вечерам обучающая детишек мастерить поделки, в ее сценарии слепила из пластилина кукиш, Маша задумалась. Кукиш любила показывать именно Вероникина мать: артистично складывала, начиная с мизинца, узловатые пальцы, будто веер сворачивала, и в самый последний момент просовывала большой палец между указательным и средним. Ноготь на пальце был крепкий, желтоватый, и именно его Юлия Михайловна подсовывала под нос тому, кому адресовался кукиш. Последний раз это был Димка, предложивший пойти на озеро с самого утра. Тут-то и получил он под нос фигу от бабушки.
– Сначала навес сделайте у забора, – потребовала Юлия Михайловна. – Старая я уже стала – под солнцем целый день сидеть. Слышь, зятек?
– Не хотите под солнцем сидеть, оставайтесь в доме, – ледяным голосом ответил Митя, поднимая на нее ненавидящий взгляд. – И не смейте меня зятьком называть.
– Ах ты толстячок! – умилилась Юлия Михайловна. – Ладно, не гундось. Будешь сусликом.
«Бедная Вероника, – покачала головой, вспомнив ту сцену, Маша. – Какое ангельское терпение нужно иметь, чтобы ни разу не сорваться. А уж про Митю и говорить нечего…» Нехорошая мысль о том, что муж Вероники и впрямь слегка напоминает упитанного суслика, притаилась где-то в уголке сознания, но Маша постаралась прогнать ее.
В задумчивости она бесцельно скользила взглядом по деревенским домам, пока ее внимание не привлек двор напротив. Из высокой мансарды Маше было видно, что на траве за забором лежит человек, закинув руки за голову, и крутит «велосипед» ногами в воздухе.
«Спортсмен, – догадалась Маша. – Может быть, он и отжиматься будет?»
Словно подслушав ее мысли, человек резко вскочил, прошелся туда-сюда по двору, потягиваясь, и упал на руки. «Десять… двадцать…. сорок, – со все возрастающим уважением считала Маша. – Надо же… Интересно, что теперь?»
Объект ее любопытства исчез в доме, но появился спустя несколько секунд, держа в руках эспандер. Он растянул его плавным движением, выдохнув, свел руки вместе и снова развел. Во двор вышел молодой парень, что-то сказал спортсмену, а тот, к удивлению Маши, обернулся и уставился на ее окно. Маше стало и неловко, и смешно. Торопливо кивнув, она собиралась отойти в глубь комнаты, когда с первого этажа раздался крик. Кричала Ирина.
Сбежав вниз по лестнице, Маша обнаружила все семейство Егоровых, кроме Димки. Вероника с Митей застыли в дверях, за столом сидела, развалившись на стуле, Юлия Михайловна, а перед ней стояла Ирина, тряся крепко сжатыми кулачками.
– Вы… вы… – всхлипывала Ирина. – Не смейте так говорить, никогда!
– Ручонки убери, истеричка, – брезгливо бросила Юлия Михайловна.
– Ира, почему ты кричала? – бросилась к дочери Вероника. – Мы подумали, что-то случилось…
Митя в дверях не сводил глаз с ее матери. Юлия Михайловна со скучающим видом отвернулась и стала смотреть в окно, за которым по траве бродили упитанные белые курицы.
– А вот и случилось! – с надрывом выкрикнула Ирина. – Она мне сказала, что я никогда в институт не поступлю!
Юлия Михайловна покачала головой и откинулась на спинку стула.
– И все? Ты из-за этого раскричалась? – недоуменно спросила Вероника. – Ира, да что с тобой?
Она погладила дочь по спине, но Ирина дернулась и отошла в сторону.
– Ты у нее спроси, – кивнула она в сторону женщины на стуле. – Да, спроси, что она мне наговорила! Я… я даже слушать такое не могу….
Голос ее задрожал, она опустилась на стул и уткнулась лицом в ладони.
– Юля, что здесь произошло? – повернулась Вероника к матери. – Что здесь случилось? – повторила она, повышая голос.
Юлия Михайловна помолчала, потом пожала плечами и усмехнулась.
– Дочь ты вырастила истеричкой, вот что случилось, – объяснила она, разглаживая широкими ладонями сбившуюся скатерть. – Подумаешь, ну сказала я ей, что на нее мужики западать не будут… Другая бы ум свой навострила, совета попросила, а твоя – орать принялась.
– Вы не только это сказали, – всхлипнула Ирина. – Вы еще про папу гадость сказали!
– А ты, Иринка, меньше слушай гадости, – вступил в разговор Митя, и все повернулись к нему, кроме матери Вероники. Маша аккуратно отступила за дверь, чтобы не быть непрошеным свидетелем семейной сцены. – И, пожалуйста, больше нас с мамой так не пугай. Пойдем.
– Кстати, оба ваших дурачка сейчас торчат под окном, – хрипловато хохотнув, сказала им вслед Юлия Михайловна. – И подслушивают. Выпороть бы обоих, да все равно ума не прибавится.
Маша вышла из-за двери, обогнула Митю и подошла к окну, около которого сидела Ледянина. Перегнулась – и увидела в густом палисаднике две мордочки, Димкину и Костину, смотревшие на нее со смешанным выражением раскаяния и восторга.
– Мам, почему они ее терпят? – спросил Костя, когда они отправились гулять в лес.
Неподалеку от Игошина по небу бродила фиолетовая туча, дожидаясь своего дождливого часа, поэтому Маша решила слишком от дома не отдаляться. Они вышли за околицу и начали петлять по тропинкам, извивающимся в зарослях папоротника.
– Потому что она – мать тети Вероники, – ответила Маша. – Скажи мне, Костя, а что бы ты делал на их месте? Выгнать ее нельзя, потому что квартиры у Юлии Михайловны нет. Отселить пожилую женщину не получается: денег не хватит. Поэтому они поступили, как порядочные люди. И теперь очень страдают от этого, – добавила она скорее себе, чем сыну, и тут же спохватилась: ребенку говорить лишнего не стоит.
Сын подумал, поднял с земли шишку и швырнул в дерево.
– Знаешь, что я бы сделал? – Он высоко подпрыгнул и ударил по еловой ветке. – Я бы сделал так, чтобы всем было хорошо.
– И как же? – недоверчиво спросила Маша.
– Я бы ее убил, – ответил Костя, оборачиваясь и глядя на нее ясными карими глазами.
Глава 6
Алексей Георгиевич Балуков, пятидесяти восьми лет от роду, вошел в дом, и все разговоры сразу стихли. Даже четырехлетняя Васька перестала канючить игрушку у сестры, потому что знала – при дедушке шуметь нельзя, не то он рассердится. Дедушка любит в доме тишину и покой.
Сидя за столом и хлебая борщ, густо политый сметаной, как он любил, Алексей Георгиевич искоса оглядывал молчащее семейство.
Это тоже было его правило – за столом молчать, есть быстро, как в армии. Кто не успел поесть за десять минут, тот сам виноват: нужно было челюстями быстрее шевелить. Городской его снохе Катерине поначалу такое правило пришлось не по нраву. Возмущаться пыталась: да как же – у ребенка еду отнимать, если он не наелся?! Свекор ей быстро объяснил – как, а когда Катерина побежала жаловаться Василию, тот ее на место поставил. Хочешь детей в деревню бабушке с дедушкой привозить на все лето? Хочешь молочком свежим их отпаивать, помидорками-огурчиками-котлетками откармливать? Тогда живи не по своим правилам, а по их собственным. И Катерина согласилась, хоть и скрипела порой зубами. А куда ей было деваться? К родителям возвращаться, в городскую квартирку? Нет, уж лучше со свекром жить в мире и согласии…
Алексей Георгиевич усмехнулся и добавил еще ложку сметаны в борщ.
Катька-то, сноха его, по правде сказать, хороша. Сдобная бабенка. Когда за Ваську замуж вышла, тоща была, да еще и с гонором, а хуже тощей бабы с гонором ничего быть не может. А потом родила Кирилла с Ольгой, раздалась в плечах да попу наела, а самое главное – нрав у нее стал другой: спокойный. По огороду не бегала, а ходила, голос не повышала, зная, что Алексей Георгиевич крика не любит. Ишь, курочка…
То ли дело его собственная Галина. Она и молодухой-то была глуповата и некрасива, а с возрастом вовсе обабилась: расползлась, и говорить ни о чем, кроме детей, не может. Привезли ей Ваську – она и счастлива: бегает за девчонкой, на руках таскает, мошек от нее отгоняет. Одно слово – клуша.
Жена была старше Алексея Балукова на два года, и женился он на ней сорок лет назад по залету. Честно говоря, и по залету не женился бы: ну зачем ему, парню видному и работящему, сдалась не первой молодости девка, которую и брать-то никто не хотел? Но сделал глупость – пришлось расплачиваться. Галина от одной пьяной случки ухитрилась забеременеть, и в дом Балуковых пришел ее отец – защищать честь дочери. Если б решал Алексей, не видать бы отцу Галины своей дуры замужем. Но решали отец с матерью, а они были люди старой закалки, упертые. Переговорили, обсудили – и быстро женили сына.
Кроме Василия, жена Алексею больше никого не родила, о чем он, бывало, и жалел. К играм и куролесам в постели она оказалась и вовсе неспособна – ни пыла не было у бабы, ни хотения. Но хозяйство вела исправно, работала с утра до ночи, а самое главное – почти не болела: так, простужалась за всю жизнь пару раз. А что еще от жены нужно? Чтоб здоровая была да молчаливая.
– Спасибо!
Внук Кирилл встал, отодвинул от себя тарелку, собрался уходить. Алексей Георгиевич бросил на него испытующий взгляд. Ой, дурень растет! Ничего, он его в ежовых-то рукавицах подержит, выправится парень.
– Кирилл, – окликнул он внука, когда тот уже стоял у двери.
– Что, дед? – обернулся парень, как показалось Балукову, с испугом.
– Ты в теплице окна открыл?
– Открыл, – обрадованно закивал парень.
– Молодец, иди, – махнул рукой Балуков. – Ольга, почему ты сегодня копаешься?
– Не хочу, деда, – заныла та, – наелась.
Алексей Георгиевич промолчал. А что говорить, если девчонке четырнадцать, а отъелась так, будто два десятка лет лопает, не переставая. Ольга поняла, что дед сердиться не будет, выскочила из-за стола, унесла свою и брата посуду на кухню, сказала, что на речку идет, – и только ее и видели.
– А я второго дня с соседкой разговаривала, с приезжей, – ни с того ни с сего заявила Галина после того, как все доели и разбрелись по диванам и кроватям – отдохнуть.
Она суетилась вокруг стола, собирая ложки с вилками в таз.
– С матерью Егоровой? – подал голос Василий. – Она ко всем лезет, все около забора нашего трется. Как кошка драная.
– Хорошая она женщина, – с укором заметила ему мать. – До того по-доброму со мной поговорила, аж на душе легче стало.
Алексей Георгиевич хотел съязвить, но промолчал.
– Трудно ей приходится, – продолжала жена, ловко проводя по клеенчатой скатерти мокрой рукой. – Дочь родная житья не дает, зять – и вовсе со свету сжить хочет. И все нам завидовала: до чего, говорит, у вас семья хорошая, дружная! А я ей говорю: ваша правда, говорю, Юлия Михайловна, – хорошая, дружная.
Балуков-старший пристально посмотрел на жену. Показалось ему, или в голосе у нее и впрямь прозвучала насмешка? Но пухлое лицо супруги было безмятежным, и Алексей Георгиевич успокоился. Показалось, конечно. Курица безмозглая, что с нее взять?
– Чем языком с соседками чесать, лучше бы малину проредила, – строго сказал он. – Заросло все, запаршивело. И хватит с Васькой нянчиться, у нее своя мать есть.
Галина без выражения взглянула на мужа голубыми глазами, помолчала и кивнула.
– Вечером прорежу. Жара спадет – и прорежу.
Она собрала грязную посуду в таз. Василий вскочил с кровати, взял у нее таз и вышел на кухню, а вслед за ним выскользнула и Катерина – помочь посуду мыть. Галина пошла за ними, но на полпути остановилась и обернулась.
– А про мать, Алексей, ты мне можешь не напоминать, – сказала она ровно. – Я о том, может, получше тебя знаю.
И закрыла за собой дверь, оставив мужа размышлять в одиночестве над ее странной фразой.
Ох, как же мне хотелось убить ее много лет назад! Временами на меня нападала страшная слабость, словно мое желание уже сбылось, и этой женщины больше нет на свете. Можно посидеть на скамейке, прийти в себя, успокоиться, зная, что теперь все будет, как раньше – до того, как она появилась в нашей жизни. Я находила скамейку и падала на нее, потому что ноги не держали. Помню, что вокруг важно расхаживали голуби, а вдалеке кричали детишки, и сидеть под солнышком было так славно и спокойно. Казалось – все уже случилось. Она мертва. Можно жить, как прежде, только нужно поначалу восстановить то, что она раздавила. Собрать по кусочкам. У меня бы получилось…
Но спустя короткое время морок рассеивался, и я понимала: моя фантазия сыграла злую шутку. Эта женщина жива и будет жить долго-долго. Дольше нас, потому что она неплохо потрудилась, чтобы сократить наши дни. Она проехала по нас, словно танк, и даже не обернулась. Может, только немного посмеялась. Как мне хотелось отплатить ей! Как же мне хотелось убить ее…
Тогда ничего не получилось. И хорошо, что не получилось. Мы сами справились с нашей бедой. Я знаю, что любовь сильнее ненависти, но мне потребовалось очень много времени и очень много боли, чтобы понять это.
Человека, из-за которого мне хотелось убить ее, давно нет. Я ухаживаю за его могилой и каждый раз, глядя на его фотографию, чувствую, что моя любовь жива. Так странно – человек умер, а любовь жива…
Но я пока не знаю, осталась ли во мне ненависть. Много лет назад мне так хотелось убить эту женщину, что от ярости и беспомощности сводило скулы, как от горького лимона. Сейчас я смотрю на нее и не могу разобраться в себе. Я хочу убить ее?
Маша с Костей собирались в баню. Большая помывка, как говорили Вероника с Митей, была назначена на пятницу, потому что в субботу липинская баня использовалась самими хозяевами.
– Ма, а почему баня липинская? – спросил Костя, услышав название бани.
– Потому что своей бани у тети Вероники нет, сгорела три года назад, – объяснила Маша, складывая в стопочку чистые трусики и маечку сына. – Новую они построить не могут, вот и ходят помыться на ту сторону улицы к соседям. А соседку зовут Липа Сергеевна. Понял теперь, почему липинская?
– Понял, – кивнул Костя. – Только я не хочу вместе с этой мыться, – он ткнул рукой куда-то в пол, что было вовсе не обязательно: Маша и так прекрасно поняла, кого он имеет в виду.
– Юлия Михайловна с нами и не пойдет, – сказала она. – Мы с тобой вдвоем помоемся, последними. Знаешь какая славная банька будет: теплая, ласковая. Ты же горячую не любишь…
– Я вообще никакую не люблю, – сморщил Костя физиономию. – Мне из ведра нравится. И вообще – зачем в баню идти, если мы утром на озере купались?!
Разговор повторялся примерно в сотый раз, поэтому Маша не стала обращать внимания на нытье сына. В отдельный пакет она сложила грязную одежду и сейчас озабоченно прикидывала, сколько времени уйдет на стирку: вещей оказалось неожиданно много.
– Вероника… – позвала она, спускаясь по лестнице.
Никто не ответил. Но Маша пять минут назад слышала голос подруги из нижних комнат и была уверена, что та все еще в доме.
– Верони-ика! – повторила она, заглядывая в большую комнату. Там никого не оказалось, и Маша уже собиралась выйти, как хрипловатый голос будто совсем рядом с ней произнес:
– Столько лет прошло, а все пережевываешь в голове, забыть не можешь?
Вздрогнув, Маша резко обернулась и увидела в палисаднике за открытым окном две фигуры. Ветер дул в окно, принося голоса с собой, и казалось, что разговаривают в комнате.
– И хотела бы забыть, да не получается, – отозвалась Вероника сдержанно. – Очень хочется поддержку семьи получить в темный час, понимаешь?
В ответ раздался негромкий смех. Юлия Михайловна смеялась искренне, от души.
– Значит, ты, Верка, полежала в больнице пару недель и решила, что вот оно, несчастье? – спросила она наконец. – Темный час? Да ты просто ничего в жизни не видела, ничего о ней не знаешь, вот тебе и кажется всякая ерунда несчастьем.
Вероника начала что-то говорить, но Юлия Михайловна перебила ее. Голосом, из которого исчезло все веселье, проговорила, наклонившись к дочери:
– Запомни, милая: твой самый темный час еще впереди. Ждет он тебя, слышишь? Вот дождется – и вспомнишь ты ту больницу как легкую жизнь. Помяни мое слово – дождется!
– Юля, прекрати, пожалуйста, – негромко сказала Вероника, но мать уже вышла из палисадника и прикрыла за собой калитку. Вероника осталась сидеть с тяпкой в руке над маленькими бархатцами, трепетавшими на ветру растопыренными листочками.
После полдника Вероника показала Маше дорогу в баню.
– Вот по той тропинке надо идти, а потом направо завернуть, – объясняла она, стоя около дома Липы Сергеевны. – В общем, просто рядом с их участком пройти.
– Знаешь, Вероника, давай-ка мы с тобой вместе сходим, – покачала головой Маша. – А то мне неловко разгуливать по чужому огороду. Вдруг не туда поверну?
Вероника открыла калитку и по вытоптанной тропинке пошла впереди Маши. Маленькая черная покосившаяся банька виднелась далеко впереди, в самом конце заросшего поля.
– Зачем же было так далеко баню строить? – проворчала Маша, старательно обходя кусачую крапиву. – Пока идешь обратно, опять перепачкаешься.
Она остановилась и огляделась. Они прошли половину пути, оставив за собой участок с длинными ровными грядками. Впереди росла трава, из которой выглядывали ромашки, а за банькой сразу начинался шумящий лес. Дорога к нему проходила метрах в ста от бани, и по ней сейчас брели, покачивая белыми головами, две козы.
– Ты коз не боишься? – оборачиваясь к ней, улыбнулась Вероника.
– Побаиваюсь, – призналась Маша. – Думаешь, они тоже мыться в баню пойдут?
Вероника рассмеялась.
– Поздороваться точно подойдут, потому что это наши знакомые козы, – ответила она. – И хозяин их – наш знакомый.
Они как раз подошли к дверям бани, и козы, тряся головами, подбежали к Веронике. За ними по тропинке от дороги шел хозяин – коренастый широкоплечий мужик в штанах-шароварах и куртке на голое тело.
– Здрасьте, Вероника Сергевна, – за двадцать шагов громко поздоровался он, тряся перед собой маленькой корзинкой. – Вот, деткам подарочек несу!
Маша удивленно взглянула на Веронику. Та улыбнулась и пожала плечами.
– Это Лесник, – негромко сказала она. – Я сейчас вас познакомлю, он тебе понравится…
Голубоглазый Лесник, а, точнее, Степан Андреевич Лесников, и в самом деле понравился Маше. В том, как он заглядывал Веронике в глаза, как ласково почесывал своих коз, как протягивал корзинку, доверху наполненную ароматной лесной земляникой, было что-то очень трогательное.
– Он и в самом деле раньше лесником работал, – рассказывала Вероника, потом, когда они с Машей сидели на крылечке бани и поедали пахучие сладкие ягоды, – пока не уволили его. Хороший человек, но в такие запои уходит, что даже деревенским пьянчужкам не снилось. А лесу постоянный пригляд нужен. В общем, наш Степан Андреевич давно уже не лесник… А мы с ним дружим, – продолжала она, – молоко у него заказываем, да и он сам просто так заходит. Митя даже подшучивает, что Лесник в меня влюблен.
Она неожиданно покраснела и протянула Маше корзинку с ягодами.
– Это хорошо, – сказала Маша, поднимаясь с крыльца. – Если Митя тебя бросит, без мужика не останешься.
Вероника подняла на нее возмущенный взгляд и собиралась что-то сказать, но рассмеялась вслед за Машей.
– Ну тебя! Я ведь всерьез приняла. Совсем шутки перестала понимать в последнее время, потому что…
Она не договорила, но это и не требовалось: Маша знала, что имеет в виду Вероника.
– Пойдем, баню топить пора, – позвала она и пошла по тропинке к дому Липы Сергеевны, осторожно поднимая корзинку над травой.
Баня к их приходу получилась такой, какой и обещала Маша, – теплой и мягкой. Они с Костей с удовольствием поплескались холодной водой из тазиков, выпустили несчастную бабочку, бившуюся о крохотное запотевшее окошко, и долго потешались над веником из нескольких жалких веточек, стоявшим в углу. Как Маша ни пыталась объяснить Косте, что им не подметают пол, а парятся, он отказывался ей верить. Придумал, что на нем летает старушка Липа Сергеевна, потому что метла – это для молодых ведьм, а веник – как раз для старых, и был страшно доволен своей выдумкой.
– Ты бы спасибо сказал Липе Сергеевне, – шутя пристыдила его Маша. – Она по доброте душевной нас помыться пустила, а ты говоришь – Баба-яга. Иди одевайся… Сам Кощей Бессмертный!
Улыбающийся Костя выскочил в предбанник, быстренько растерся полотенцем и натянул на себя чистую майку и штаны.
– Мам, я пошел! – крикнул он под дверью. – Что тете Веронике сказать? Ты когда придешь?
– Скажи – примерно через час, – откликнулась Маша. – Голову вымою, белье постираю – и приду. Ключ у меня, дверь я закрою – пусть не беспокоится.
Послышалось угуканье, показывающее, что Костя воспринял информацию, проскрипела дверь, и Маша осталась в бане одна.
Она набросила на дверь крючок и принялась стирать белье, тихонько напевая себе под нос. Где-то в углу жужжала муха, по крыше пару раз пробежала птичка. Маша глянула в окошко и удивилась: оказывается, уже стемнело, а она и не заметила со своей стиркой. Конечно, возиться ей пришлось долго, потому что за многие годы беспорочной службы стиральной машинки Маша совершенно отвыкла стирать руками. Вдобавок маленький обмылок хозяйственного мыла постоянно выскальзывал из рук, и она отругала себя за то, что не догадалась попросить у Вероники стиральный порошок.
За дверью послышались шаги.
– Костя, это ты? – обрадовалась Маша, решив поэксплуатировать сына и сгонять его за порошком, чтобы достирать остатки белья как белый человек. – Костя?
За дверью молчали.
– Вероника? – спросила Маша, перестав полоскать майку.
Человек за дверью не отвечал.
«Хозяйка, наверное, пришла меня выгонять, – сокрушенно решила Маша. – Ну конечно, деревенские рано спать ложатся, а сейчас уже стемнело. Эх, не достираю…»
Наклонившись, она зашла из предбанника внутрь бани, шагнула к окошку, чтобы посмотреть, кто пришел, и замерла на месте, чуть не вскрикнув. Снаружи к окну были прижаты две ладони.
– Костя, что… – осторожно начала она, но оборвала себя на полуслове. Пальцы были не Костины. Руки, плотно прижатые к стеклу, не могли быть руками двенадцатилетнего мальчишки. Нужно было бы попытаться через щели рассмотреть, кто там балуется возле бани, но Маше почему-то совершенно не хотелось этого делать. Ей стало не по себе.
Пересилив себя, она быстро подошла к окну и стукнула по нему ладонью.
– Эй, ну-ка прекратите! – скомандовала она громко, стараясь говорить уверенно.
Руки неожиданно исчезли, но не успела Маша наклониться, чтобы посмотреть на безобразника, как прямо перед ее лицом что-то закрыло окно, и она отшатнулась. Приглядевшись, Маша поняла, что загородила его старая доска, которую она видела за баней. Доска была прижата к окошечку так, что не оставалось даже щели.
Маша вернулась в предбанник, подошла к двери и положила руку на крючок. «Сейчас открою и наору на урода, – решила она. – Матом». Она, правда, совершенно не умела материться, но сама мысль о том, как страшно она облает того, кто стоит снаружи, придала ей храбрости. Маша уже собиралась распахнуть дверь, когда снаружи раздался странный звук.
– Ш-ш-ш-ш, – сказал тот, кто был за дверью. – Ш-ш-ш-ш-ш-ш…
Он стоял вплотную к двери, прижав губы к узенькой щели, и говорил только «ш-ш-ш-ш…». Это было так дико и абсурдно, что Маша перепугалась. Она не была трусихой, не боялась темноты и страшных маньяков в городских парках, но, стоя в предбаннике в одной майке и вслушиваясь в негромкое шипение, испугалась.
– Долго шипеть будешь? – спросила она, сглотнув и постаравшись взять себя в руки. – Отойди от двери, сейчас кипятком обварю!
Снаружи послышался смешок. Человек, который шипел, откуда-то знал, что никакого кипятка у нее нет и что она не откроет дверь.
«Господи, да кто там может быть? – уговаривала себя Маша, не сводя глаз с крючка, казавшегося очень маленьким и ненадежным. – Ну, подросток шалит. Или, может, пьяный подошел…» Маленькая тусклая лампочка над головой неожиданно мигнула, и Маша дернулась: остаться в темном предбаннике было бы совсем жутко.
Шипение прекратилось. Теперь за дверью стояла тишина – но тишина неправильная, ненастоящая. Настоящая была с жужжанием мухи, с топотком трясогузки по крыше, а наступившая была тишиной ожидания. Тот, кто стоял снаружи, ждал, что сделает Маша. Он наверняка не боялся, что она закричит, потому что баня стояла вдалеке от дома, а хозяева глуховаты. Нет, кричать бессмысленно… Маша прислушалась к звукам за дверью, и ей показалось, что теперь тишина изменилась.
«Ушел?»
Сунула ноги в стоптанные кроссовки, подошла к двери и затаила дыхание. Тихо. Она сжала руки в кулаки, разжала и быстро откинула крючок. Дверь со скрипом открылась, впуская в предбанник свежий вечерний воздух.
Маша шагнула наружу и быстро огляделась. Тропинка терялась в сумерках, но на ней никого не было. Светились окошки домов. Где-то грустно промычала корова. Маше нужно пройти по тропинке всего каких-то пятьдесят шагов, чтобы оказаться рядом с домом старушки Липы Сергеевны… Но она остановилась на месте, настороженно вглядываясь в высокую траву по сторонам тропинки.
Тот человек находился теперь там. Маша сглотнула слюну и обругала себя за трусость, но ничего не помогало: что-то внутри подсказывало, что он просто играет с ней, как кошка с мышкой, прячется в траве, присматривается к ней и хихикает. Она ясно представила, как он прыгнет на нее сзади, когда она пойдет по тропинке. «Ну конечно, как Рэмбо!» – попыталась она сыронизировать сама над собой, но самоирония не помогла. Страх засел внутри – противный, как наевшийся таракан.
«Нельзя стоять здесь всю ночь», – сказала она себе. Сзади раздался шорох. Маша вскрикнула, резко обернулась, но оказалось – всего лишь ветер качнул дверь.
– Все, хватит, – решительно сказала Маша и пошла по тропинке. Первый шаг, второй, третий… Она уже почти поверила в то, что напридумывала себе всяких ужасов, когда в десяти шагах от нее из травы стала подниматься темная фигура.
У Маши перехватило горло, так что она не смогла даже вскрикнуть. Она бросилась сначала к бане, но внезапно заметила на дорожке вдоль леса человека, идущего к околице, – он был еле виден в сгустившихся сумерках. Не раздумывая ни секунды, Маша помчалась к нему.
Ей казалось, что она никогда так не бегала. Трава хлестала по голым ногам, а около дороги она споткнулась, и старенькая кроссовка чуть не слетела. Маша вылетела прямо на человека, остолбеневшего при виде ее, и выдохнула:
– Там кто-то в траве прячется, мне страшно! Пожалуйста, проводите меня до дома!
И только тогда, подняв глаза, узнала спортсмена из дома напротив.
Когда запыхавшаяся дамочка выскочила на Сергея, как чертик из коробки, он чуть не отскочил в сторону. Это была соседка, про которую на днях сказал ему Макар. Тогда он не рассмотрел ее издалека, заметил только, что волосы у нее рыжие. Они и впрямь были светло-рыжие, как у собаки колли, собранные сейчас в хвостик сзади. Лицо у нее было бледное, с двумя красными пятнами на щеках, а глаза такие испуганные, словно она увидела привидение. Сергей сначала даже не понял, что она сказала.
– Человек в траве, – повторила Маша, которая очень хотела вцепиться в его рукав, но понимала, что будет тогда выглядеть полной идиоткой. Мужик с хмурой физиономией, кажется, и так счел ее ненормальной.
– Где? – быстро спросил Бабкин, уже направляясь к бане. – Покажите, где вы его видели.
Немного удивленная столь активными действиями, Маша пошла за ним, оглядываясь по сторонам. Страх ее почти исчез, и осталось только воспоминание о страхе – гадкое, липкое. Они дошли до бани, и мужик обошел ее кругом, зашел внутрь и даже поднял голову, оглядывая крышу. Маша держалась рядом с ним, не отставая ни на шаг.
– Расскажите-ка подробнее… – попросил он и сел на крыльцо.
Маша послушно рассказала, не забыв про шипение. Бабкин взглянул на окно. Доска лежала на траве.
– Вы… проводите меня, пожалуйста, – попросила Маша неуверенно.
– Провожу, конечно, – удивленно посмотрел на нее сосед. – Вы, главное, не бойтесь.
«Решил, что у меня тараканы в голове живут, – поняла она. – Человек шипел… в траве прятался…» Ей захотелось убедить мужчину в том, что она ничего не придумала, но Маша сдержалась. В конце концов, какая разница, что подумает о ней сосед из дома напротив?
Бабкин незаметно бросил взгляд на женщину. Она уже пришла в себя – пятна исчезли, лицо приобрело нормальный цвет. Ей года тридцать два – тридцать три, но из-за хвостика на затылке выглядит моложе… Серые глаза вопросительно взглянули на него, и Сергей поднялся с крыльца.
– Пойдемте, а то совсем стемнеет, – сказал он. – Вещи свои не забудьте.
Когда они дошли до дома Егоровых, и в самом деле стало темно. Вдалеке горел одинокий фонарь. Маша поставила тазик на крыльцо и обернулась к соседу.
– Спасибо вам большое, – благодарно улыбнулась она. – Я и правда очень испугалась.
– Было отчего, – лаконично ответил Бабкин. – Кстати, меня Сергеем зовут.
– А меня – Машей.
Она ждала, что он скажет что-нибудь вроде стандартного «приятно познакомиться», но Сергей молчал, глядя на нее, покачиваясь вперед-назад и заложив руки за спину.
– Изучили? – спросила Маша серьезно.
– Угу, – кивнул тот. – Пойдете завтра с утра с нами на озеро?
– А я… я с Костей, – растерялась Маша.
– А я…. я с Макаром, – с такой же интонацией ответил Сергей, и она искренне рассмеялась – получилось забавно и похоже.
– В десять зайду, – пообещал Бабкин. – Спокойной ночи.
– Спокойной ночи, – сказала она ему в спину.
Бабкин перешел дорогу и скрылся в своем дворе. Ему хотелось дойти до бани соседей, но он понимал, что ни малейшего смысла в том нет: тот, кто прятался в траве, уже двести раз успел удрать далеко-далеко.
«Что ж за сволочь? – подумал Сергей, заходя в дом. – Шипел он, значит…»
– Ты в лесу заблудился? – сонно пробормотал со своего дивана Макар.
– В траве, – хмыкнул в ответ Сергей. – Грибы искал.
– Нашел?
– Почти. Тощий такой гриб, гнилой. Если не ошибаюсь, Раскольников его фамилия.
Глава 7
К утру Маша окончательно уверилась, что вчерашнее вечернее происшествие было совершенно незначительным: подумаешь, кто-то из деревенских шутников захотел посмеяться над глупой городской теткой. А потому Веронике с Митей она решила ничего не рассказывать, чтобы, во-первых, лишний раз не выставлять себя трусихой, а во-вторых, не пугать и без того запуганную Веронику.
Но отмолчаться не получилось.
Когда утром Маша с Костей спустились к завтраку, то обнаружили Юлию Михайловну, восседающую не на своем обычном месте у окна, а за столом, напротив Машиного стула. На сей раз на ней были не заношенные майка и штаны, а цветастое кимоно с длинным шелковым поясом.
Дождавшись, пока все поздороваются и рассядутся за столом – поедать испеченную Вероникой с утра творожную запеканку, – Юлия Михайловна выждала паузу и невинно сообщила:
– А наша гостья-то вчера отличилась! Мужика с собой из бани привела…
Пять пар глаз уставились на Машу. Костя только открыл рот, как Маша невозмутимо спросила:
– Завидуете, Юлия Михайловна?
И пока Ледянина искала, что бы достойно ответить, Маша перехватила инициативу и рассказала озадаченным Егоровым о том, что случилось накануне.
– Руки к стеклу прижимал? – недоверчиво переспросил Митя Егоров и переглянулся с женой.
– Угу, – кивнула Маша, мельком поглядев на Костю. Тот сидел нахмурившись и переводил взгляд с одного взрослого на другого.
– Хм, что-то новенькое, – покачал головой Митя. – Никогда такого не было.
– Алкашей в Игошине хватает, но все они тихие, безобидные, – вступила Вероника. – А около бани прятаться и потом в траве сидеть… я даже не знаю, на что это похоже…
Она еще раз посмотрела на мужа, и в глазах обоих Маша явственно прочитала недоверие. Очевидно, что неизвестного, поджидавшего ее ночью в траве, они сочли плодом Машиного встревоженного воображения.
– Я теперь с тобой везде буду ходить! – громко заявил Костя.
– Защитничек… – хмыкнула Юлия Михайловна. – Правда, все лучше нашего суслика.
Она выразительно поглядела на зятя. Маша внутренне сжалась, ожидая очередного скандала, но Митя, к ее удивлению, отреагировал довольно спокойно.
– Юлия Михайловна, вы можете называть меня как хотите, – пожал он плечами и встал, чтобы помочь Веронике собрать посуду. – Вы уже старый, больной человек и не можете контролировать себя. А на больных обижаться….
Он не закончил фразу, повернулся лицом к раковине и принялся мыть посуду. Дети за столом замерли, и Маша поняла: они ждут продолжения, ждут, что же ответит старуха! Им, конечно, страшно, противно, но одновременно интересно. Она встретилась глазами с Юлией Михайловной и прочитала в них удовлетворение. Мать Вероники была довольна, она улыбалась. «Бедный Митя», – успела подумать Маша до того, как Юлия Ледянина заговорила.
– Уже лучше, – одобрительно заметила она, поигрывая концом своего шелкового пояса. Ткань извивалась между ее пальцев, как тропическая змейка. – Значит, ты придумал домашние заготовки и теперь будешь их использовать. Неплохо, неплохо… – Она хрипло хохотнула, как всегда, когда была чем-то довольна. – Только вот, суслик, у тебя соображалки не хватит на большее. Ну-ка скажи мне, – ее голос стал резким, речь ускорилась, – ведь именно ты вчера ходил за ней подглядывать, правда? – Она кивнула в сторону Маши. – Знаю, что ты. Из окна тебя видела, как ты крался через дорогу. Сказал-то ведь, что пошел калитку заднюю прикрыть, а сам…
– Неправда! – выкрикнул Митя, обернувшись, и все увидели, какое красное у него лицо. – Зачем же вы так нагло и гадко врете?!
– Митенька, Митенька, успокойся, – дрожащим голосом попросила Вероника. – Юля, ну как тебе не стыдно…
– Мне?! – изумилась старуха. – Не мне, а ему должно быть стыдно!
Ее указательный палец, обмотанный красно-зеленой тканью, вытянулся в сторону зятя.
Маша одним глотком влила в себя чай и собралась поскорее встать из-за стола, но тут раздался голос Ирины.
– Папа, это правда? – спросила она, глядя на отца. – То, что она говорит, – правда?
– Ирина, да ты что! – строго сказала Вероника. – У Юли шутки такие, разве не знаешь?
– Нет, папа, ты сам скажи! – настаивала Ирина, поджимая тонкие губки.
– Фу-ты, пропасть! – Митя в сердцах так приложил тарелку об стол, что по ее краю пошла трещина. – Неужели у тебя, Ирка, совести хватает такие вопросы мне задавать? Да ты за кого меня принимаешь?!
– А ты не кричи на меня! – выкрикнула Ирина, вскочила с места и выбежала из комнаты.
Митя секунду смотрел вслед дочери, а затем ушел в дом, крепко прикрыв за собой дверь. Вероника вздохнула и села на место, сжимая в руках надтреснутую тарелку.
Снаружи раздался стук в калитку.
– Эй, хозяева! – послышался мужской голос. – Дома кто есть?
– Есть! – откликнулась Маша. – Одну минуту!
Она быстро вымыла посуду за собой и Костей и сочувственно посмотрела на Веронику. Та так и сидела, проводя пальцем по маленькой трещинке на тарелке. Маша хотела что-то сказать, но поняла, что любые слова сейчас бесполезны, и вышла из кухни. Новый знакомый уже ждал, и задерживать его ей не хотелось.
Три часа, проведенные на озере, пролетели незаметно… Друг Сергея с редким и забавным именем Макар остался дома, и Сергей пообещал познакомить их в другой раз.
– Вы ему понравитесь, – успокаивающе сказал он Маше по дороге таким тоном, каким обычно люди говорят: «Не беспокойтесь, он вам понравится».
Маша хмыкнула и хотела спросить, с какой стати она должна нравиться неизвестно кому, но передумала. Стоило признаться самой себе, что ей и в самом деле хотелось бы понравиться другу Сергея, кем бы он ни был.
Ее беспокоило, как Костя отнесется к новому знакомцу, но, к Машиному облегчению, в первые же десять минут все разрешилось наилучшим образом, стоило только Сергею упомянуть о том, кем он работает.
– Не, вы реально сыщик? – изумленно протянул Костя.
– Чисто конкретно и в натуре, – серьезно кивнул Бабкин. – Только не государственный, а частный.
– Вау!
Костя остановился и уронил в песок пакет, который ему было поручено нести особенно бережно.
– Костик, помидоры! – страдальчески воскликнула Маша. – Все передавишь!
Бабкин забрал у мальчишки пакет и подмигнул ему.
Следующие полчаса он подробно отвечал Косте на все его вопросы. Поначалу Маша пыталась осаживать сына, но потом махнула рукой. Ей и самой было ужасно любопытно, чем же занимаются частные сыщики, и она с открытым ртом слушала, как Сергей и его друг искали девушку, попавшую в религиозную секту[Эта история описана в книге Е. Михалковой «Знак Истинного Пути», издательство «Эксмо».].
– Слушайте, классная у вас работа, – с уважением заметила она, дослушав до конца.
– А вы чем занимаетесь?
Сергей повернулся к ней и первый раз за все время посмотрел на нее в упор. Сейчас, на свету, стало видно, что глаза у него не черные, как ей показалось вчера, а темно-карие, с золотистой оболочкой вокруг зрачка. Взгляд был пристальным, но не наглым.
– Я сценарии пишу, – сказала Маша, слегка смутившись. – Для детишек. По ним делают детскую передачу, называется «Домик Шуши и ее друзей».
Они подошли к самому берегу озера, поросшему мягкой травой. Костя с радостным воплем сорвал с себя майку и бросился в воду, подняв тучу брызг.
– Только у меня вся работа встала, – неожиданно призналась она, стоя рядом с Бабкиным и наблюдая за сыном.
– Почему?
– Потому что… потому что мать Вероники живет с нами, и она меня сбивает, – путано объяснила Маша. – То есть не сбивает, а… мешает… в общем, даже не знаю, как объяснить.
– Пожилая тетка, которая ходит по саду? – нахмурился Сергей, припоминая. – С хриплым голосом?
– Угу. Она своеобразный человек, и мне при ней трудно работается. У меня такое в первый раз, честно говоря, и я даже не знаю, что мне делать. Сценарии-то надо писать.
Она вздохнула и потрогала воду босой ногой. Вода была холодная и чистая. На дне мелькали мальки, и Маша подумала, что нужно написать сценарий про мальков: как они вылупляются из икринок. В конце концов, ей это и самой интересно.
Елена Игоревна Царева выкатила коляску с внуком во двор и поставила в тень липы. Мальчик запрокинул голову назад и уставился на листья, колышущиеся над ним. Елена Игоревна с надеждой наклонилась к Егору, но взгляд ребенка был бессмысленным, как и раньше. Как и всегда. «С нами Бог», – проговорила про себя Елена Игоревна, запретив себе предаваться отчаянию. Отчаяние – для слабых духом, для тех, кто сомневается в Господе. Она не из таких.
С тихим неудержимым вздохом она присела на корточки и начала массаж, который нужно было делать каждый день. Так сказал знахарь, к которому они возили Егора, – не настоящий знахарь, конечно, а просто бывший врач, занявшийся альтернативными методами излечения детей с ДЦП. «Альтернативные методы» – это звучало хорошо, веско, а главное – вселяло надежду, что раз уж не помогли традиционные методы, то есть еще и другие, альтернативные, и вот с ними-то все непременно получится.
Елена Игоревна нажимала на точки: под коленками, в которых, казалось, прощупывается каждая косточка, потом на щиколотке, постепенно спускаясь к стопе. Она повторяла процедуру четыре раза в день, строго по часам, читая молитвы, как и велел доктор. Елена Игоревна знала, что Светлана никаких молитв не читает и вообще не верит в то, что Егору что-нибудь поможет. Поэтому она должна была стараться за двоих и верить тоже за двоих.
– Тяжело, – вслух призналась она мальчику, прервав молитву. – Но мы должны тебя вылечить, правда, дружок?
Егор пускал слюну изо рта, и глаза его были по-прежнему бессмысленны.
– Мальчик, ты меня слышишь? – умоляюще спросила бабушка. – Егорушка!
Ветер подул сильнее, и шорох листьев усилился. Егор по-прежнему не отводил от них взгляда, но что именно он видит, Елена Игоревна не знала.
«Ничего, – сказала она самой себе. – Ничего. Справимся. Только бы Светлана выдержала, не сдалась, как в тот раз».
Вспомнив события двухлетней давности, Царева помрачнела. Тогда она смогла изменить ситуацию, подчинить дочь своей воле, спасти ее душу от страшного греха. Но в глубине души Елена Игоревна всегда чувствовала: дай она хоть малейшую слабину, и Светлана повторит то, что сделала тогда, два года назад. И на сей раз ее не остановишь, дочь пойдет до конца.
Елена Игоревна перекрестилась сама, перекрестила внука и повезла коляску к калитке.
Макар заметил старуху, когда она пыталась перевезти коляску через дорогу. Глубокая песчаная колея мешала ей, колеса вязли в песке, и в конце концов женщина поняла, что у нее ничего не получится. Она наклонилась над мальчиком и обхватила его двумя руками.
– Подождите! – крикнул Макар, закрывая за собой калитку. – Я вам помогу!
Он подошел поближе и поздоровался. Соседка смотрела на него, сжав губы, и секунду подумала, прежде чем ответить на приветствие. Лицо у нее было бледное, с острым подбородком, выдающимся вперед, с глубоко посаженными темными глазами, смотревшими недружелюбно из-под седых бровей.
– Я перенесу мальчика, а потом коляску, – сказал Макар. – Вы сами не справитесь.
Он поднял ребенка, оказавшегося неожиданно тяжелым. Судя по его худобе, Макар полагал, что парнишка почти ничего не весит. С трудом перетащив мальчика через дорогу, Илюшин посадил его на траву и вернулся за коляской.
– Спасибо, – сдержанно поблагодарила соседка, когда он поставил коляску рядом с мальчиком. – Дочь спит, а самой бы мне не справиться. Как вас зовут?
– Макар, – ответил Илюшин, слегка удивленный вопросом. Он был уверен, что женщина, нехотя принимающая его помощь, не захочет общаться и постарается уйти поскорее.
– А меня – Елена Игоревна. Скажите, Макар, как пройти на поле с васильками коротким путем?
Макар объяснил дорогу, и соседка собралась уходить, коротко кивнув на прощание.
– Елена Игоревна, вы так любите васильки? – не сдержал он любопытства.
Старуха взглянула на него и хотела осадить, но увидела простака-студента, глядящего на нее открыто и простодушно.
– Нет, не люблю, – покачала она головой. – Но лекарь, который пользует Егора, с чего-то решил, что мальчику нравится синий цвет и что ему нужно видеть больше синего вокруг себя. Вот я и показываю Егору… синий.
Она пожала плечами, отвернулась и покатила коляску по улице. Макар покивал чему-то, понятному только ему, и вернулся в дом.
А спустя полчаса громко хлопнула входная дверь, и ввалился Бабкин, потряхивая пакетом с полотенцем.
– Зря не пошел с нами, – сообщил он Макару с порога. – Вода классная, карасиков видно.
– Вот и принес бы… карасиков! – послышался голос Дарьи Олеговны, выпалывавшей сорняки под окном в палисаднике. – Кстати, что за девица с тобой ходила?
Бабкин высунулся в окно и посмотрел на тетушку. Дарья Олеговна подняла голову, утерла пот со лба и испытующе посмотрела на него.
– Долго таращиться-то будешь? – поинтересовалась она. – А, можешь и не рассказывать. Без тебя знаю. Егоровых девица, живет у них с сыном. Так-то с виду вроде приличная, одно плохо – рыжая!
– Дарья Олеговна, а почему рыжая – это плохо? – спросил Макар, высовываясь в окно рядом с Бабкиным.
– Так ведь веснушки, – удивленно ответила тетушка Бабкина, наклоняясь и машинально закапывая мокрицу обратно в землю. – Что ж хорошего, если у бабы вся физиономия в веснушках? То она простоквашей их выводит, то одуванчиками, то чистотелом, а они выводиться и не думают. У нее тогда что будет? Душевные метания и расстройство кишечника.
Бабкин хрюкнул и исчез. Макар пару секунд задумчиво наблюдал за действиями Дарьи Олеговны, а затем заметил:
– Дарья Олеговна, вы ее полить не забудьте. Мокрица – она водичку любит.
– Какая мокрица? – спохватилась тетушка. – Мокрица?! Ах ты ж, господи! Ну, Сережа, совсем заговорил меня, поганец, со своими бабами! Вот только приди еще ко мне с разговорами! – грозно закричала она. – А где ж мои бархатцы-то, а?
Она вышла из палисадника, и некоторое время Макар с Бабкиным вслушивались в затихающие причитания по поводу бархатцев и сорняков.
– Как искупался? – спросил Макар.
– Хорошо, – кивнул в ответ Бабкин, явно думая о чем-то своем. – Очень даже неплохо. Вода отличная, в ней мальки плавают. А, я тебе уже говорил… – вспомнил он.
Макар внимательно посмотрел на него, усмехнулся и плюхнулся обратно на диван.
Елена Игоревна всегда знала, что добром отношения ее дочери с этим кудрявым молодым человеком не кончатся. Правда, она о любых отношениях считала, что добром они не кончатся, а счастливая любовь до гроба встречается лишь в бессмысленных слюнявых женских романах, которые Елена Игоревна презирала до глубины души. Но в данном случае она оказалась права.
Кудрявый был начальником отдела маркетинга в одной из фирм, которые проверяла Светлана. Чуть полноватый, высокий, с гладким лицом херувима и обаятельной улыбкой, делавшей его похожим на какого-то голливудского актера, он пользовался успехом у женщин, о чем хорошо знал. Нет, не у женщин – у девушек, причем преимущественно молоденьких. Дамы постарше почему-то не торопились падать к ногам очаровательного Виталика, но он предпочитал списывать их холодность на наличие у него жены и двух очаровательных ребятишек, как две капли воды похожих на папочку. Дамы не хотели понимать, что жена – это одно, а легкие, ни к чему не обязывающие отношения – совсем другое. А вот девушки понимали, и соглашались, и принимали обаятельного Виталика таким, какой он есть, – со всеми его достоинствами и недостатками. Он сразу предупреждал их о том, что ему нужен лишь секс, но так очаровательно и легко, что девушки не оскорблялись и соглашались на его условия.
Светлана Царева являлась исключением хотя бы потому, что девушкой назвать ее ну никак нельзя было. Она стала выглядеть по-женски лет с семнадцати, как цветок, который вечером был крепко сжатым бутоном, а наутро – раз! – и уже полностью распустившийся пион. Впрочем, на пион Светлана не была похожа – скорее на бледную комнатную фиалку, не претендующую ни на особенную изысканность, ни на редкостную красоту. Так, стоит что-то незамысловатое в горшке, цветет – и хорошо.
Но вот ее женское начало, добавлявшее Светлане если не прелести, то миловидности и сдержанного достоинства, Виталик почувствовал сразу. Ему не хватало этого начала в жизни, заполненной юными девушками и по вечерам – уставшей женой, нянькающейся с бойкими погодками. Потому он твердо решил покорить крепость, заранее настроившись на то, что она окажется неприступной.
Крепость пала после второго свидания – не потому, что Светлана была легкодоступной, а потому, что она сразу поверила всему, что он говорил ей, и искренне решила: вот оно, счастье – в лице прекрасного, кудрявого, влюбленного начальника маркетингового отдела. О его семье она, конечно же, знала, но вычеркнула информацию из головы, не напрягаясь, будто годы материнской опеки и нравоучений, вбивания в ее голову понятия «грех» растворились за одну секунду от обаятельной улыбки посредственного прохвоста.
От матери она не скрывалась, да это было и невозможно – Светлана пела по утрам, ходила с блаженной улыбкой, беспрестанно писала сообщения, выстукивая их на клавишах своего сотового телефона и смеясь, когда тот вместо нежнейшего обращения «милюся» удивленно выводил на экран «Нильс?», не понимая, чего от него хотят. Елена Игоревна, узнав о семейном положении избранника дочери, почернела лицом и устроила Светлане такое, что та пряталась по углам, зажимая уши, лишь бы не слышать обвиняющего голоса матери, бросающего страшные слова. Никогда еще старшая Царева не была в такой ярости: все, чему она учила дочь, все нормы нравственности и морали были повергнуты, растоптаны, отданы на поругание похоти! Она собралась посоветоваться с батюшкой о том, как отвратить Светлану от выбранного ею омерзительного пути, но это оказалось лишним: два дня спустя после ее обличения Виталик, смущенно улыбаясь, признался Светлане, что больше не будет продолжать с ней отношения – жена начала что-то подозревать. Светлана была неосторожна и звонила Виталику на все известные ей телефоны совершенно бездумно, а маркетолог за две недели совместной постели был сыт Светланиной влюбленностью по горло.
Светлана не верила ни в религию матери, ни в Бога вообще, но в тот момент была очень близка к тому, чтобы поверить. Кара, как и предсказывала ее мать всего двумя днями ранее, наступила быстро и оказалась жестокой. «Вот так же и я собиралась его у жены отобрать, – в каком-то тупом ошеломлении от случившегося думала она. – И тогда она бы страдала, а с ней и дети. Это меня мое чувство наказало. Так нельзя, нельзя…»
