Сад
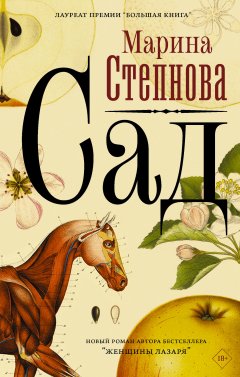
Глава первая
Мать
Что за прелесть эта Наташа!
Надежда Александровна погладила книгу маленькой крепкой рукой и даже зажмурилась от удовольствия. Переплет был кожаный, теплый – все книги в доме Боря́тинских, включая только что вышедшие, переплетались заново, причем кожу заказывали специально во Флоренции – тонкую, коричневатую, с нежным живым подпалом.
И не жалко тебе, матушка, итальянских коров на ерунду переводить? – посмеивался Владимир Анатольевич, все причуды супруги, впрочем, втайне одобрявший. Хозяйка она была прекрасная, дом, несмотря на сухую свою высокую иноземную родовитость (Надежда Александровна была урожденная фон Стенбок), вела на широкую русскую ногу и – главное – на двадцать пятом году супружества всё еще смеялась над шутками мужа.
Разве что книжки! Ох уж эти книжки!
Надежда Александровна не пропускала ни одной новинки ни на одном из трех известных ей языков (французский, немецкий, даже русский) – хотя, помилуй, голубушка, уж по-русски-то, кажется, вовсе нет никакого смысла читать! Под библиотеку в петербургском доме была отведена просторная двухсветная зала – добрые люди в таких балы дают, а мы пыль по углам собираем.
Да что там Петербург, если в трех имениях от книг повернуться было негде, а теперь вот и четвертое стремительно захламлялось, и Надежда Александровна, весной только подписавшая купчую на земли и дом в Анне, начала обустройство новой усадьбы именно с библиотеки, и уже подумывала, не выписать ли сюда на время скучного немецкого юношу с созвездием крошечных ярких прыщей на лбу, фамилию которого никто так и не удосужился запомнить. Юноша ведал петербургской библиотекой Борятинских и два раза в месяц появлялся в доме, тихо поскрипывая подошвами и далеко, на отлете, держа красноватые, лютеранские, до глупости честные руки. Он вел каталог, выписывал по указанию хозяйки и своему разумению книжные диковины и новинки и был тихо, никому не приметно, но почти до помешательства влюблен в Надежду Александровну, с которой едва ли сказал десяток слов.
Однажды, ошибившись дверью, он застал врасплох в тесной, душной, простеганной шелком и жаром комнатке ее бальные туфли, маленькие, совсем розовые внутри, и едва не потерял сознание от страсти и счастья, так что и три года спустя, умирая от чахотки, всё видел перед собой станцованные почти до дыр нежные подошвы и бормотал – туфельки, туфельки, – пока всё не перепуталось наконец, пока не закончилось, пока не отпустила эта жизнь, эта мука…
Россия, Лета, Лорелея.
Он так и не узнал, что туфельки были даже не Надежды Александровны, а одной из ее многочисленных кружевных племянниц – семья была громадно большая, громадно богатая, пронизавшая полнокровной кровеносной сетью родни всё тогдашнее российское мироустройство.
Надежде Александровне хотели доложить, что бедолага-библиотекарь скончался, – и позабыли.
…А? Что про коров-то скажешь, матушка? Неужто не жалко?
Оставь, – отмахнулась Надежда Александровна беззлобно. – Дались тебе эти коровы. Все равно на бистеки пойдут. Лучше почитай – ну такая прелесть, что даже и рассказать нельзя!
Владимир Анатольевич с сомнением покосился на последнюю книжку “Войны и мира”, вышедшую вот только что – в 1869 году. Граф Лев Николаевич Толстой был, безусловно, хорошего рода и отлично показал себя на военной службе, что с точки зрения Борятинского, князя и генерал-фельдмаршала, являлось бесспорным достоинством, но зачем же, будучи порядочным человеком, строчить романчики, да еще их потом публиковать! Нет, негоже лилиям прясть, Наденька, так что избавь меня, будь любезна, от своих излияний.
Загребая ногами, подошла девка, впопыхах, до приезда Танюшки, определенная Надеждой Александровной в горничные девушки, спросила, не поднимая глаз, куда прикажут подавать чай – как будто неясно было, что вечером в июле чай пить следовало только в саду. И, пожалуйста, велите подать свежей малины. Девка, задастая, рябая, некрасивая, услышав непривычное “вы”, дернулась, словно ее хлестанули по крепким ногам крапивой, и, все так же не поднимая глаз, ушла. Надежда Александровна, привыкшая к тому, что в Петербурге императрицу, с которой она была очень дружна, можно и нужно было звать “Машенька” и “ты”, а швейцара – также можно и нужно – “вы, Афанасий Григорьевич”, вздохнула. Завиток девичьего винограда прелестно рифмовался с завитком на столбике беседки, тоже совершенно прелестной, но не крашенной слишком давно, чтобы этого нельзя было не заметить. Народ в свежекупленной Анне поражал своим невежеством и ленью. Ленью и невежеством. Как везде.
Школу бы тут надо открыть, – сказала Надежда Александровна.
Пороть куда надежнее, – здраво возразил Владимир Анатольевич и немедленно был назначен крепостником и троглодитом. Томик Толстого, повинуясь Надежде Александровне, подвинулся к Борятинскому еще на пару сантиметров, и вслед за ним покорно переползло по скатерти уплывающее к лесу воронежское солнце. Пахло скошенной травой, недавно политыми клумбами, и, перебивая всё, властно наплывал тягучий, бледный аромат табака и влажной маттиолы.
Вернулась девка и доложила, что малины нету. Надежда Александровна возмутилась. Имение в Анне было куплено не в последнюю очередь из-за роскошных садов. Прежняя хозяйка, предпочитавшая во всем научный подход и даже имевшая обширную переписку со знаменитыми сестрицами-ботаничками Сарой Мэри и Элизабет Фиттон, развела на жирных воронежских землях такие невиданные кущи, что Надежда Александровна, падкая до всего необычного и красивого, заплатила наследникам отлетевшей в подлинные райские сады старушки, сколько просили, не торгуясь. Правда, огромная садовая земляника, вызревавшая в оранжереях к Рождеству, и розовые, пахнущие корицей груши сразу после покупки оказались уклончивым преданием, но уж малина! Ее-то каким ветром унесло?
Совсем нет? – уточнила Надежда Александровна, и в голосе ее, на самом дне, зазвенела, отливая в синеву, тонкая немецкая сталь. Девка угрюмо кивнула. Совсем. А куда же делась? Девка молчала, опустив голову. Пороть, пороть и только пороть! – весело подсказал Борятинский, к малине и прочей бессмысленной флоре совершенно равнодушный. То ли дело хороший ростбиф.
Надежда Александровна встала, зацепив юбкой стул, дернула, еще дернула, затрещала дорогим кружевом, собранным в прихотливые фестоны. Девка зыркнула испуганно и опустила голову еще ниже. Платок на ней сбился так, что видна была круглая, смазанная лампадным маслом макушка. Очень детская. Маковка, – вдруг вспомнила Надежда Александровна чудесное и тоже очень детское слово. Няня так говорила.
Дай-ка я тебя, ласточка, в маковку поцелую.
Пусть, ступайте, – распорядилась Надежда Александровна, коря себя за гневливость. Вольтера читать, “Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта” осенними листьями закладывать! И выходить из себя из-за какой-то малины!
Девка, ровным счетом ничего не понявшая, ушла – порка, как, впрочем, и ласка не могли произвести на нее никакого впечатления. Ей вообще было все равно – в самом страшном, самом русском смысле этого нехитрого выражения. То есть действительно: все – равно. Лишь бы войны не было да лето уродилось. И на каменное это, безнадежное “все равно” невозможно было повлиять никакими революциями, реформами или нравственными усилиями хороших и честных людей, которые век за веком чувствовали себя виноватыми только потому, что умели мыслить и страдать сразу на нескольких языках да ежедневно дочиста мыли шею и руки.
Надежда Александровна поняла, что сейчас додумается до чего-нибудь по-настоящему крамольного – вроде того, что русский народ, этот страдалец и горемыка, вовсе не нуждается в какой-то особой, дополнительной любви и уж тем более в любви ее собственной, потому махнула рукой и пошла по дорожке к ягоднику. Гравий крупно похрустывал под ногами, из недалекой кухни пахло отдыхающим под полотенцем пирогом, и Надежда Александровна вдруг почувствовала, что проголодалась – как в детстве – и что, как в детстве же, совершенно счастлива – остро, сиюминутно, до веселой щекотки под коленками.
Что-то слишком много на сегодня детства, подивилась она, и уже в огромном, пронизанном медным закатным солнцем саду поняла – почему.
Вокруг был праздник – нескончаемый, щедрый, торжествующий. Сочная, почти первобытная зелень перла отовсюду, кудрявилась, завивалась в петли, топорщила неистовые махры. Надежда Александровна физически чувствовала вокруг тихое неостановимое движение: сонное пчелиное гудение, комариный стон, ход соков в невидимых прочных жилах, лопотание листьев и даже тонкий, натужный писк, с которым раздвигали землю бледные молодые стрелки будущих растений. Гёльдерлин, которого она так любила, бедный, бедный, сорок из отпущенных ему семидесяти трех лет проведший под многокилометровой толщей прозрачнейшего германского безумия, назвал бы этот сад гимном божественным силам природы. Но, конечно, никакой это был не гимн – просто гул нормально функционирующего организма, полного тайных и явных звуков, которые неприличными осмелился бы назвать только самый безнадежный ханжа.
Малина просительно потянула Борятинскую за подол, и Надежда Александровна мягко, как руку, отвела длинную ветку – тугую, покрытую микроскопическими, но цепкими белесоватыми колючками. Ягод и правда не было, девка не наврала – осиротевшие без прежнего пригляда кусты просто забыли обрезать в зиму, так что малина вся ушла в сочную бесплодную зелень. Зато вишен уродилась целая пропасть, да каких! Надежда Александровна задрала голову – мир над ней крутанулся, зеленый и алый, темно-гладкий, насквозь пронизанный светом, наливной, – и засмеялась от радости. Выросшая среди выморочных чухонских болот, она и представить себе не могла столь убедительного торжества божественной плоти. Надежда Александровна подпрыгнула и сорвала тяжелую горячую ягоду. Стайка переполошенных дроздов тотчас вспорхнула с дерева и изругала незваную новую хозяйку последними площадными словами.
Ладно вам, пробормотала Борятинская. Не гомоните. Тут на всех хватит.
На вкус вишня оказалась такая же точно, как на вид, – горячая, тяжелая и темная. Живая. И следующая. И еще. И еще. Надежда Александровна быстро извела батистовый платок и, бросив его в траву, маленький, скомканный, весь в ярких, словно чахоточных пятнах, принялась облизывать липкие пальцы, торопясь, жадничая и то и дело глотая впопыхах маленькие твердые косточки. В соседнем ряду вишни оказались совсем другие – светлые, почти белые внутри, кисловатые и прохладные. Надежда Александровна шагнула дальше, поражаясь вдруг открывшемуся замыслу прежней хозяйки, – да, точно, родителева вишня еще не доспела, висела зеленая, едва тронутая румянцем, ждала своего будущего часа. Сад был устроен разумно и просто, как револьвер, – он выстреливал порядно, так что не было недели, в которую владельцы остались бы без урожая, будь то вишня, слива, яблоки или груши, сменявшие друг друга в свою пору наступившей спелости.
Надежда Александровна, дошедшая до яблонь, сорвала и закусила крепкое шишковатое яблочко, невзрачную уродушку, вскипевшую на губах теплым, душистым соком. Груши оказались еще твердокаменные, древесные и на вкус, и на вид, зато в терновнике Борятинская попаслась вволю, совсем забыв о приличествующих роду и фамилии условностях и только крякая, когда на голову ей шлепались мягкие переспелые сливины. Самые лакомые, сизоватые, насквозь прозрачные, наливные – висели выше всего, и от прыжков и веселых усилий под мышками у Надежды Александровны быстро стало горячо. И предательские прозаические пятна на ее полотняном платье спустя восемьдесят с лишним лет превратились в прекраснейшую из цитат в автобиографическом романе никогда Борятинскую не знавшего писателя и поэта. Но нет, слишком рано – в 1869 году на свет родился только его отец…
Так это ты, милая, тут валежником трещишь! А я думал – медведь забрался, велел даже ружье подать. Дай, думаю, прямо в саду завалю да притащу к ужину, коли уж ты меня в троглодиты записала.
Надежда Александровна обернулась – захваченная врасплох, счастливая, на сбившемся кружевном воротничке и даже на подоле – предательские ягодные пятна, в волосах – запутавшиеся веточки, сухие соцветия, невесомый, радостный древесный сор. Муж смотрел ласково и весело, как когда-то – двадцать пять лет назад, когда в первый раз пригласил ее на ни к чему еще не обязывающую мазурку. Спустя несколько месяцев, так же ласково и весело, он повел ее, тоненькую, едва заметную в облаке шелка и органзы, совсем-совсем молодую, под венец. Ласково и весело – это вообще было про них, прекрасная партия, даже блестящая: бравый гвардейский офицер с громыхающим на всю Россию славным именем и миловидная маленькая графиня с баснословным приданым, любимица царской фамилии, обласканная при дворе. Родители, осторожно посовещавшись, свели их, словно тысячных рысаков, словно породистых собак, просчитав предварительно все родовые коленца, предусмотрев все огрехи и варианты, – и не прогадали. Брак оказался удачным, ласковым и веселым, словно осененным ангельским крылом. Всё, всё сложилось идеально: состояния, карты, привычки, уклады, даже биохимия, о которой никто и не подозревал, была к Борятинским благосклонна – всё сошлось: запахи, вкус слюны, тихое телесное тепло, никогда они не были друг другу неприятны, и Владимир Анатольевич, вечерами (не слишком часто, но и не слишком редко) подходя к спальной комнате супруги, всегда был уверен, что найдет дверь отпертой. Прохладный петербургский воздух, прохладное голландское полотно, прохладная кожа гладких предплечий, тонкие вены, слабый вздох, бесшумное и прохладное действо, не действо даже – таинство.
Благодарю, милая. Доброй ночи. Ангел тебя храни.
Они и не ссорились никогда – и Надежда Александровна вдруг поняла, что это ужасно. Она больше не хотела ласково и весело, она хотела по-другому.
Теперь, в этом сочном, через край выпирающем, почти непристойном саду она внезапно осознала, что двадцать пять лет прожила с мужем просто бок о бок, словно они и вправду не люди были, а выхоленные домашние собачонки, так давно привыкшие к общей миске и лежанке, что между ними стерлись все жизненно важные, звериные различия. Одному бежать, другому догонять, визжать, сражаясь, кусаться, настаивать на своем, уступать, наконец, но только после долгого жаркого бега, только после боя. Прочитанные книги, тихо лопоча, обступили Надежду Александровну – переполненные выдумками, бесплотными тенями, каждая из которых, в отличие от нее самой, прожила чудесную, полнокровную жизнь. А она даже двух детей принесла в мир без обещанных страданий, и неторопливую эту, тянущую, долгую боль живорождения нельзя было сравнить и с минутной мукой ненастоящей Наташи Ростовой, оплакивающей своего возлюбленного.
Слово-то какое драгоценное – возлюбленный! Как корона. Всё в острых сияющих зубцах.
Надежда Александровна подпрыгнула еще раз, сорвала синюю, едва помещавшуюся в пригоршне сливу, и подошла к мужу. Он все еще улыбался глазами, все еще смотрел ласково и весело, как всегда, а виски уже седые, боже мой, и подусники, роскошные, пышные, пахнущие так привычно – грасской вербеной и лондонским табаком, тоже насквозь прохватило морозцем, и у нее самой под фальшивыми буклями – подлинная белизна, подступающий со всех сторон холод, одиночество, одиночество, двадцать пять лет вместе, а смотрит все так же – и все время не так, не так, оказывается, совсем не так. Надежда Александровна надкусила горячую сливу, протянула мужу – лопнувшую, почти библейскую, почти смокву, текущую голодом и медом, из сада маленькой, смуглоногой и тоже выдуманной Суламифи.
На́, возьми, милый. Попробуй.
Он все еще не понимал, прилежно и вежливо жуя, задние зубы еще свои, а передние, она знала, уже чужие, холодные керамические коронки. Они совсем старые, господи, совсем уже старые, как она могла это проглядеть, как он смог позволить!
Чай уже накрыли, как ты велела…
Надежда Александровна не дала ему закончить, приподнялась на цыпочки и рывком притянула мужа к себе – все еще жующего, все еще не понимающего. Мякоть сливы, слюна, сок ускользающего солнца, оглушительный аромат свежего пота…
Нет, не весело и ласково. Не весело и не ласково. А вот так, вот так, вот так! И еще вот так. Да, я хочу. Я действительно так хочу.
Накрытый чай никто так и не распорядился убрать – на радость дроздам, устроившим в беседке быстрое вороватое пиршество. Молоко, жирное, желтоватое, свернулось к утру, приказало долго жить. Сахарницу разорили муравьи. Они же разнесли по всему саду сладкие крошки. Пирог и правда вышел отменный. Горячие яблоки, корица, меренги. Одну из серебряных ложечек уволокла обомлевшая от счастья мелко стрекочущая сорока, другая ложечка спаслась – соскользнула на пол, в щель, в спасительную темноту, дожидаясь своего часа, – через много лет ее выудит ловкая и глазастая Туся, протянет Нюте – смотри, что я нашла!
Две девочки – одинаковые плечики, одинаковые платьица, одинаковые ниточки чистых проборов – склонятся над заманчивой вещицей, разбирая потемневший вензель. А, это мамина! Я знаю! Мамина! Пойдем покажем? И обе побегут, сшибая на ходу желтые бестолковые головы рослых одуванчиков. Нюта, как всегда, на полшага позади.
Les enfants, les enfants, on ne court pas si vite! Ce n’est pas convenable![1]
Насчет ужина тоже никто так и не распорядился, и кухарка, и без того томящаяся по случаю скорого прибытия столичного повара, пошла спать зареванная, но сперва долго жаловалась на жизнь Божьей Матери Троеручице, хлюпая носом и то и дело прикладываясь лбом к прохладным, добела выскобленным доскам. И крепостное право отменили, вольная лежит в сундучке, а толку! А уж я ли, Матушка, кажется, не старалась! Богородица молчала, чуть отвратив от темной кухни длинный лик и придерживая рукой маленького грустного Спасителя. Еще одна рука – узкое запястье, персты к перстам – покоится на груди. Кухарка приложилась к третьей, странной, вотивной ручке Богородицы, словно в воздухе парящей у закутанных ножек младенца Христа – чья-та страшная жертва? Злая шутка? Обломок древнего культа? Забывчивость замотанного работой иконописца, а когда вынесли людям – ахнули, да поздно, будем молиться тому, что есть? Грех-то какой! Или так и надо, чтобы сразу три материнские руки оберегали Того, кто Сам вызвался всех оберегать? Кухарка сходила на ледник, убедилась, что слоеное, сотни раз раскатанное тесто к завтрашним пирожкам крепко спит, набираясь сил, и со стоном полезла на лежанку.
Через несколько минут вся усадьба Анна спала, тяжело всхрапывая, ворочаясь, почесываясь и вздыхая, только иногда стукали в деннике копытом дремлющие лошади, напуганные бесшумными клоками летучих мышей, которые вдруг, из ниоткуда, возникали в ночном воздухе и рывком исчезали снова, будто не живые существа, а темные дыры, прорехи в пространстве, ведущие неизвестно в какой сопредельный, а может, и запредельный мир. Да еще даже далеко за полночь в спальне новой хозяйки слышалось какое-то легкое, лепестковое почти движение, шепот, тихий смех, совсем молодой, вот-вот прорвется в полную силу – тс-с, тихо, услышат! И пусть слышат.
Потом дверь отворилась, и выплыл круглый огонек свечи – английской, ночной, белого, самого лучшего воска. Во дворце из-за таких фрейлины только что не дрались. Войны свечных огарков. Пусть нам дадут, в конце концов, хороших свечей! Пусть дадут! Борятинские на цыпочках, как дети, подталкивая друг друга и спотыкаясь, побрели по огромному дому, который так и не успели пока обжить. Направо? Да нет же, нет, не туда! Придушенно смеясь и чуть не падая, они нашли наконец-то кладовую – разумеется, запертую. А что же это, матушка моя, у тебя даже ключей от фуража нету? Хороша хозяйка, нечего сказать! Я не успела, Танюшка не приехала еще, – возмутилась Надежда Александровна, растрепанная, босая, маленькие ноги то и дело наступают на просторный батистовый подол ночной сорочки. Туп-туп. Оплывающая свеча, горячие руки мужа, прикушенное соленое плечо, смех, детская возня, взрослая схватка. Вот что такое быть живой! Вот оно, значит, как! Так, получается, это Танюшка у нас всему голова? Ну, на ней мне и жениться надо было, – весело и ласково прошептал Владимир Анатольевич – и это было другое весело и ласково, совсем другое. С того самого поцелуя в саду они и слова друг другу не сказали не по-русски – привычный французский не выдерживал живого, жаркого напора, жал непривычно в шагу – и это тоже было новое, счастливое, и Надежда Александровна верила, что теперь это с ними – на всю жизнь. Она шлепнула мужа по затылку и разрешила – вот и женись! А я за конюха пойду. За этого, с кудрями. Молодого. Здоровенного! Владимир Анатольевич засмеялся. Выпорю! – пригрозил он разом Надежде Александровне и безымянному конюху, который блаженно дрых где-то в душной темноте, не ведая, в какой переплет попал его сказочный призрак. Выпори, – позволила Надежда Александровна. Выпори, батюшка барин. Только, ради Христа, накорми. А то будут большие землетрясения по местам, и голод, и мор, и ужасы, и великия знамения на небеси. Оба снова прыснули и повалились друг на друга – и сам евангелист Лука, веселый антиохийский грек, судовой врач и святой, стоял с ними – и тоже смеялся.
Ключи от кладовой Борятинский, рискуя быть застигнутым в одних подштанниках, выкрал у спящей кухарки с отнюдь не княжеской ловкостью. Ах вот, значит, ты какой! – жарко ужаснулась Надежда Александровна, прижимая к груди горшок с простоквашей, и Владимир Анатольевич, торопливо перетаскивая в спальню наскоком, по-солдатски, захваченный провиант, вдруг почувствовал, что гордится этим смешным подвигом и смешным восхищением жены больше, чем своим генерал-фельдмаршальским чином, пулей в боку и золотой саблей с надписью “За храбрость”. Что там Шамиль и покорение Кавказа по сравнению с этой женщиной, что сидит на смятой постели, и смеется, и ест ржаной хлеб и холодное мясо, которые он сам украл для нее, сам добыл – своими руками…
Они проспали почти до двух часов дня, впервые в одной постели, замусоренной крошками, разоренной, – клубком, по-звериному, впервые обнимая друг друга изо всех сил. Борятинский проснулся первым – от хлопнувшей оконной створки. Из кислого серенького неба трусил дождь, тоже серенький, кислый, мелкий. От вчерашнего румяного райского великолепия не осталось и следа. Владимир Анатольевич встал, крепко потер затекшую шею и отправился к себе, перешагивая через тарелки, объедки, опрокинутый горшок с дочиста выеденной простоквашей, через сливовые косточки и милые женские вещицы, назначения которых он даже не рисковал предположить, – какие-то шелковые тесемки, продернутые сквозь беззащитно прорезанный батист, мережки, волны смятого шелка и полотна, нежная невиданная сбруя, которую он вчера срывал с жены впопыхах, не то беря в плен, не то сдаваясь…
Глупости, глупости, глупости!
Часом позже вышедшая к столу Надежда Александровна встретилась глазами с мужем – выбритым, свежим, надушенным, равнодушным. Он отложил газету, встал, приветствуя супругу приличествующим образом, и – весело и ласково, как раньше, словно ничего между ними и не случилось, – сказал по-французски что-то про дурную погоду, отмененную прогулку. Спешила уже поцеловать ручку прибывшая наконец незаменимая Танюшка, горничная девушка, служившая Надежде Александровне с их общего детства, единственная, в сущности, ее настоящая подруга. Надежда Александровна, чувствуя, как медленно, точно в ноябре, застывает вокруг воздух, села к столу, расправила ставшие деревянными складки открытого, не по возрасту и не по времени легкомысленного платья. Она так старалась! Банты у груди. Уже не кринолин, но еще не турнюр. Тесно, непривычно, неудобно. Владимир Анатольевич все продолжал говорить, пересказывал что-то из “Правительственного вестника”, но Надежда Александровна не слушала. Она попробовала кофе, покачала головой и добавила каплю молока. Вышло только хуже. Уж лучше бы не попробовать. Не знать вообще. Ничего не знать.
Дождь шел весь день, и следующий тоже, а когда наконец распогодилось и Борятинский ночью постучал легонько в спальную жены, никто не ответил. Он повернул дверную ручку, дернул – напрасно, напрасное, никому не нужное, очень живое унижение. Впервые за двадцать пять лет. Могла хотя бы объясниться, сослаться на головную боль, придумать что-нибудь. Не сослалась, не придумала, не объяснилась. Несправедливо.
Холодок нарастал, сквозил со всех сторон, поддувал, прихватывал – безжалостный, безнадежный, Надежда Александровна куталась в шали, зябла, потом перестала выходить совсем, окуклилась в своей комнате и целыми днями лежала, бледная, бескровная, подурневшая, уронив на ковер очередной утративший волшебную силу том. Даже книги больше не помогали. Даже книги! Владимир Анатольевич присылал справиться о здоровье, ходил взволнованно за запретной дверью – притворялся, разумеется, притворялся. Скажи, пусть оставит меня в покое, наконец! – И Танюшка выходила, некрасивая, сухая, быстрой своей смешной утиной перевалкой, совещалась с Борятинским, голова к голове, на равных – не на равных даже, у Танюшки куда больше было власти и влияния, – и Борятинский смотрел просительно, снизу вверх, точно мальчишка, наказанный за все шалости разом – и потому не знающий, что сказать, как искупить вину. Ничего не ест? Нет, ничего, барин. Читать даже бросила. Так и лежит днями – в стенку глядит и плачет.
Когда Надежда Александровна отказалась даже от слабенького чая, вызвали доктора, местного, – а хорош ли? Говорят, Владимир Анатольевич, что хорош, да ведь выбирать не из кого. Из Петербурга пока доедет! Борятинский, мысленно поклявшийся протянуть к Анне отдельную железнодорожную ветку (будет исполнено, но не им – и в 1897 году по линии Графская – Анна пройдет первый поезд), самолично вышел встречать доктора на крыльцо и, пожимая сухую, красную, йодом перепачканную руку, вдруг поймал себя на мгновенном ярком желании руку эту поцеловать. Был бы картуз, сдернул бы с головы, честное слово. В ноги бы повалился. Только спаси!
Мейзель, Григорий Иванович, – отрекомендовался врач, немолодой, крепкий, круглая крупная голова стрижена под седой, густо перченый ежик. Поискал что-то в глазах Борятинского и спокойно прибавил – лютеранского вероисповедания. Борятинский, вспыхнув, развел руками – да разве это имеет значение, помилуйте, проходите, может, чаю с дороги изволите?
Мейзель не ответил, тяжело преодолел жалобно заохавшие ступеньки, обвел взглядом всеми окнами распахнутую в сад гостиную.
Словно оценил – но как именно, не сказал.
Прикажите проводить к больной, – распорядился он и пошел, пошел, помахивая потертым саквояжем, невысокий, коренастый, спокойный неведомым Борятинскому спокойствием не аристократа, а профессионала, честного ремесленника, каждый жест которого, каждое слово стоит чистого золота. И пятидесятилетний князь, забыв обо всем, как голенастый перепуганный стригунок, забегая то справа, то слева, отталкивая вездесущую Танюшку, – пшла, дура, воды прикажи доктору подать, или глухая?! – поспешил следом, показывая дорогу и даже – впервые в жизни! – изгибаясь угодливо спиной на зависть любому приказчику. Только бы не чахотка, господи! Только бы не чахотка! – заклинал он мысленно, не отдавая себе отчета, что не к Богу обращается вовсе, не к Господу нашему Иисусу Христу, а к этому неведомому Мейзелю, сельскому лекарю лютеранского вероисповедания в пыльном скверном сюртуке…
Хлопнула дверь спальни. И тишина.
Только бы не чахотка.
Мейзель вышел через три четверти часа – под короткий, переливистый курантовый бой. Точно подгадал. Такой же невозмутимый, Борятинскому даже показалось – равнодушный, словно не Наденька там лежала, погибая, за злосчастной дверью, словно не Надюша моя. Господи Боже ты мой! Борятинского шатнуло так, что пришлось вцепиться в край неизвестно откуда приблудившегося столика, – все сорок пять минут ожидания он постыдно накидывался некстати случившимся коньяком, стаканом глотал, куда там грядущим декадентам, и вот на́ тебе! Его снова повело, словно зеленого юнкерка, – а ведь, кажется, где только ни пивал, а гвардию не позорил, с великим князем Константином Николаевичем честь имел надираться, и младший братец самодержца российского, как все Романовы, на выпивку исключительно крепкий, самолично изволил…
Борятинский запутался окончательно и, не выпуская из рук столик, испуганно спросил – как она, э-э-э… Чертово имя начисто вымыло из головы коньяком. Плохо, обидится, погубит Надюшу… Э-э-э… Как она, доктор? Не спросил даже – пискнул, словно мышь из-под веника.
Мейзель бесстрастно сказал: вы можете к ней войти. Не ответил – разрешил, будто сам был тут хозяин, и Борятинский впервые услышал в голосе доктора, не в голосе даже – в интонации – что-то раздражающе нерусское. Словно Мейзель ставил привычные слова в чуть-чуть непривычном порядке, и выходило слишком спокойно, слишком непогрешимо. Слишком уверенно. Русские так не говорят. Они или молчат, или орут. Борятинский выбрал первое. Он просто мотнул головой и, из последних сил чеканя шаг и сам понимая, что это первейший и позорнейший признак пьяного, пошел к двери, которая за эти бесконечные недели стала личным его, лютым даже врагом.
Открылась. Закрылась.
Очень тихо. Очень душно. Почти темно.
На… Надюша?
Ослепший после солнечного полудня, Борятинский споткнулся об очередной вертлявый столик – мебель сегодня решительно ополчилась против него, – закрутил головой растерянно, ища жену, но ее не было – и только зашторенный воздух нежно, сильно и сложно пах Наденькой – словно кто-то разлил склянку с самым лучшим, что в ней было. С самым дорогим.
Володя…
Слабенько, негромко. Как колокольчик, подбитый войлоком, полугласный.
Да где ж, мать твою…
Вот она, господи.
Почти невидимая, почти бесплотная, на кровати. Взбитые подушки темнее лица, которое истончилось так, что, кажется, всё превратилось в профиль, в силуэт, вырезанный заезжим ангелом из плотной веленевой бумаги. Глаза только светятся – огромные, зеркальные, словно у сплюшки под стрехой.
Плачет?
Княгиня хотела сказать что-то, но не смогла – закашлялась.
Чахотка! Значит, все-таки чахотка!
Наденька!
Борятинский вдруг рухнул на колени и пополз, как в церкви, отроду не ползал, пока не уткнулся носом в руку жены – по-щенячьи, по-детски. Нет, нет, нет, бормотал он, всхлипывая, – комната рухнула вместе с ним, прыгал в глаза то край ковра, то глухие постельные отроги, то домашние туфельки Нади, жалко прижавшиеся одна к другой. Как всегда, на первом хмелю всё было резким, ужасным, громким – особенно боль, такая огромная, что Борятинскому казалось, что она не помещается у него внутри, как не помещается во рту воспаленный дергающийся зуб, весь круглый, огненный, красный. Но страшнее всего было, что какая-то подлая, самая маленькая часть князя радовалась и ковру (отлично вычищенному, кстати), и спасительной полутьме, и тому, что он стоит на коленях, – потому что так можно было дышать, не боясь, что Наденька услышит гнусный коньячный дух. Бессмысленного безразборного пития она не выносила. Всего вообще – беспорядочного, нутряного. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму – делать непотребства. В гвардии тебя, матушка, с такими идеями и часа бы не продержали. В голове у хорошего солдата Богу делать нечего. Там пусто должно быть – шаром покати. Чтоб команды помещались. А похмелиться – разве ж это непотребство? Непотребство – наоборот как раз, с утра не поправиться. Непотребство и ересь злокозненная.
Так он всегда говорил. А она смеялась.
Умрет – застрелюсь сей же час.
Володя.
Откашлялась наконец.
Володя. Я… J’ai…[2]
И зашептала, зашелестела, путаясь, сбиваясь на французский и точно приседая на каждой фразе – легко, торопливо, по-полонезному.
Quoi?![3]
Борятинский вскинул голову – забыв про коньяк, про мокрое от слез лицо с расползшимся, почти бабским, опухшим ртом.
C’est vrai?! Mais… mais enfin, ce n’est pas possible. Ce n’est vraiment pas possible![4]
Лучше бы язык себе откусил, честное слово.
Лиза и Николай приехали через месяц, к концу августа, – неслыханно скоро, если учесть, что Лизе пришлось добираться из Рима, а Николаю – срочно испрашивать в полку отпуск (и, значит, следующего ждать придется целых два года, эх!). Оба, сговорившись, решили встретиться в Воронеже, чтобы по пути в новую родительскую усадьбу всё хорошенько обсудить, но обсуждать, как оказалось, было нечего. Телеграммы от отца с требованием приехать незамедлительно, без проволочек, совпадали до буквы – и, похоже, отправлены были в один и тот же час. На ответные письма (гомон взволнованных вопросов, скрытое негодование, почтительный гнев) пришли еще две телеграммы, на этот раз с одним-единственным словом – незамедлительно. Чтобы выяснить это и понять, что понять тут ничего невозможно, хватило нескольких минут, так что два оставшихся (бесконечных, бесконечных!) дня ехали молча, все больше раздражаясь друг на друга.
Впрочем, они и в детстве не были дружны – каждый рос сам по себе.
Сам по себе и вырос.
Как назло, погоды стояли скверные, мозглые – совсем не августовские и уж точно не воронежские. Кругом лило, чавкало, моросило, опять лило, каждую перемену лошадей добывать приходилось с боем, и Николай то хватался за шашку, то сгребал очередного станционного смотрителя за грудки. Да еще несносное это, чертово перекладывание бесконечных Лизиных шляпных коробок, кофров и дорожных сундуков, отнимавшее уйму времени. На почтовых к вечеру были бы на месте! Лиза только картинно заводила огромные глаза такого черносмородинового отлива, что белки казались голубыми, и, страдая от путевых неудобств, все прижимала крошечный батистовый платок к хрустальному горлышку Houbigant, так что деваться некуда было от гнусных назойливых тубероз.
Убери уже эту чертову склянку!
Очередное ресничное трепетание, тонкие пальчики трясут тяжелый флакон. Ни капли! Пустой! Mademoiselle, donnez-moi le parfum. Non, pas celui-ci, pas celui-ci, je vous dis![5] Это решительно невозможно! Apportez-moi le néessaire! Je le ferai moi-même[6]. Иноземная горничная, пугливая, востроносая, серенькая, подавала требуемое, ныряя из одного мелкого книксена в другой – точно прихрамывая. Удивительная дура. Несносное существо. Au nom de quoi, au nom de quoi dois-je supporter tout cela?![7] Лиза ожесточенно рылась в изящном сундучке, отбрасывая пуховки, баночки в золотой оплетке, щетки, эгреты, гребешки. Николай, не дожидаясь нового туберозового залпа, выходил из очередной станционной избы, саданув дверью. Сама дура удивительная! За посланника вышла, по Европам таскается, а горничную по щекам лупит.
Дура и есть! Выдрать бы за косы – как в детстве.
На нужную станцию прибыли только к полуночи. Их встретил незнакомый кучер, не то сонный, не то глухонемой, – впрочем, расспрашивать прислугу о домашних делах Николаю все равно не позволяла гордость, а Лиза устала наконец до полной немоты и всю черную сырую колыхающуюся дорогу до имения, тоже незнакомого, проспала, по-детски привалившись головой к плечу брата. На парадном крыльце, высоко подняв празднично сияющую лампу, стояла Танюшка, сразу ловко спрятавшаяся за ахами и охами, за целованием плечиков и рук, так что и у нее не удалось выведать ничего, кроме расположения комнат. Я тебе, Николушка, четыре подушечки положила, ты завсегда на мякеньком лучше засыпал, а тебе, Лизонька, протопить в комнате велела хорошенько…
На “ты” была с ними – как своя. И то сказать – с самого рождения их пестовала, получше любой няньки. Да и в доме ничего без ее ведома не делалось. Куда уж своее. Николай не удержался все-таки – улучил момент, спросил, что и как, но Танюшка только руками замахала – спать, спать ложись, голубчик, уж вторые петухи пропели, поздно, а завтра маменька и папенька сами всё скажут.
Оба живы, значит. Как говорится, и на том спасибо.
Мать и отец встретить так и не вышли.
И к завтраку тоже.
Николай и Лиза, успевшие осмотреть дом (обоим он показался старым и безобразным), одуревали уже от скуки и беспокойства в скверно обставленной провинциальной гостиной. Прогулка могла бы скрасить им ожидание, но заоконный сад било крупной дождевой дрожью. Так и не распогодилось с вечера. И с третьего дня тоже. Николай провел пальцем по затуманенному стеклу – послушал, как замечательно взвизгнуло. Cesse immédiatement![8]– Лиза взвизгнула в той же тональности, что и стекло, взяла со столика онемелый том – очевидно, материн – и без сил уронила.
Bonjour, les enfants! Je vous remercie d’être venus. Entrez. Votre mère et moi, nous avons quelque chose à vous dire[9].
Николай и Лиза вскочили оба – отец, стоявший в дверях, был все тот же, прежний, не изменившийся ни на йоту, так же бегло прикоснулся ко лбу каждого усами, будто щекотнул, и пахло от него привычным, памятным с младенчества, тоже щекотным. Свежим. Только в глазах была странная растерянность, так что Лиза и Николай, спеша за отцовским мундиром к материнской спальне, оба разом решили для себя, что с папенькой все, слава богу, благополучно и, значит, это мать тяжело больна и, может быть, даже умирает.
И оба не почувствовали ничего. Совсем ничего. Даже докуки.
Мать приняла их в креслах – полулежа, бледная больше обычного, подурневшая. На плечах – Лиза сразу приметила – знаменитая прабабушкина шаль, черно-алая, тончайшая, сделанная из пуха, собранного с горла кашмирских коз и сплошь затканная слезами Аллаха. В 1800 году прадед отдал за шаль целое село ценой в двенадцать тысяч рублей – и гордился удачной сделкой, потому что за подлинные кашмирские шали просили и двадцать тысяч, и двадцать пять. Мать лишь единожды позволила Лизе ее примерить – в пятнадцать лет, и с того дня Лиза только и мечтала, чтобы получить шаль в приданое.
Не получила, хотя вступила в удачнейший брак с блестящим дипломатом, просчитанный не только родителями, но и ею самой. Дипломат был не очень молод, очень некрасив, очень богат и очень умен – все необходимые составляющие будущего женского счастья в едином сосуде. Так что Лиза дала согласие, несмотря на тихий, но едва выносимый мышиный запах, который распространял жених, – и не прогадала. Брак вышел легкий, бездетный, беззаботный. Супруг обожал Лизу, баловал сверх всякой меры, и единственное, о чем она сожалела, была так и не полученная шаль, которую Лиза, нарушив все мыслимые приличия, попросила сама. Мать отказала. Просто сказала – нет.
Теперь время наконец пришло.
Лиза представила, какой фурор произведет в Риме в этом черном и алом золоте, – это ее цвета были, не материны, ее черные глаза, ее темные выпуклые губы, надо будет только сшить подходящий туалет в восточном стиле и чтобы плечи и лопатки непременно открыты.
Да. Непременно чтобы лопатки открыты.
Николай дернул ее за руку, а потом выкрутил кожу на запястье, как в детстве – пребольно. Лиза ахнула – и мать повторила чуть громче.
Votre père et moi, nous voulons vous faire partager une joie immense. Il se trouve que très bientôt votre nouveau petit frère ou votre nouvelle petite sœur verra le jour[10].
Мать хотела добавить что-то еще, но сморщилась, словно сама понимала весь ужас и неприличие сказанного, – в ее-то возрасте, немыслимо, просто немыслимо, в свете никогда этого не поймут! – и ее вдруг вырвало какой-то омерзительной пеной и слизью.
Прямо на драгоценную кашмирскую шаль. Прямо на шаль.
Лиза ахнула еще раз, схватившись за виски.
Из ниоткуда, будто за креслами прятался, появился крепкий круглоголовый человек и, деловито поддергивая рукава сюртука, распорядился – потрудитесь нас оставить. Княгине необходим отдых.
И когда Лиза и Николай, ошеломленные такой дерзостью, переглянулись, прибавил отчетливо – вон!
Я сказал – всем немедленно вон!
Князь покорно опустил голову и как-то странно, боком, поспешил из комнат.
И тут с Лизой наконец сделалась истерика.
Через четыре дня они уехали – слава богу. Сперва Лиза, потом Николя. Надежда Александровна видела их за это время еще дважды – один раз мельком, из окна, другой раз в гостиной, куда зашла случайно, не зашла даже – забрела, еле передвигая неловкие мозглые ноги. Не дозвалась Тани. Очень хотелось пить. Все время. Но Мейзель запрещал, давил оранжевым йодистым пальцем на восковые бледные голени, показывал ямку – это отек, княгиня, видите? Вам нельзя много пить, это плохо для ребенка. Зато нужно много ходить. Много, очень много! Чтобы мышцы живота были крепкими.
Она старалась, ходила. Неприбранная, измученная бесконечной рвотой. Хваталась то за стенку, то за Танюшкино плечо. Проще всего было опираться на руку Мейзеля. Твердая. Теплая. Немного легче было идти.
Тогда, в гостиной, Лиза сидела в кресле, склонив над вышивкой прелестно убранную темную головку, и негромко втолковывала что-то Николя, который стоял у окна, дважды обвитый голубым папиросным дымом, и согласно кивал, дергая и накручивая на палец русый молодой ус. За какую-то секунду, чудовищно замедленную и увеличенную, Надежда Александровна успела разглядеть и покрой Лизиного платья, и ее вздернутую – как в “Войне и мире” – румяную верхнюю губу, и даже светлые волоски на докрасна загорелой шее сына. И, тихо пятясь, чтобы не услышать ненужного, и прикрывая за собой дверь, поразилась тому, что в ее гостиной делают эти красивые, взрослые и совершенно незнакомые ей люди.
Вот сад был ее – несомненно. А эти люди – чужие.
Quelle honte[11]. Гневное. Лизино. И еще – quelle abomination[12].
Все-таки услышала.
Стыд и мерзость. Стыд и мерзость. Стыд и мерзость.
Вот что все они чувствовали, когда смотрели на нее. И даже сама она – тоже. Прятала глаза, сутулилась, будто принесла в дом дурную болезнь. Будто она одна была во всем виновата.
С самых первых дней все пошло не так, как было со старшими детьми. И вообще – не так. Две первые беременности – ранние, молодые – Надежда Александровна едва заметила. Носила она легко и почти до родов появлялась в свете, продумывая туалеты так, что даже самые просторные платья поражали изяществом и простотой. Вкус у Борятинской всегда был отменный – частое, едва ли не неизбежное следствие жизни, с первых дней проведенной даже не в богатстве – в роскоши. Родившаяся в Петербурге, красивейшем городе Европы, выросшая во дворце родителей, проведшая раннюю юность в императорском дворце, Надежда Александровна умела и любила видеть прекрасное и старалась окружать себя лишь тем, что радует глаз. Не только мебель, серьги или платья, даже прислугу она выбирала, руководствуясь не здравым смыслом, а принципом художественной гармонии. Борятинская могла отказать от места опытному и превосходно рекомендованному лакею (нет, нет и нет, вы не видите разве? он же кривоносый!) и нанять в горничные свежую глазастую дуреху, которая не умела приседать и колотила драгоценный фарфор, но сама при этом была как фарфоровая статуэтка – круглая, ладная, вся светящаяся изнутри гладким белым светом. Ты посмотри лучше, какая красавица! А ресницы! Спичку, спичку можно положить! Борятинский смеялся – да лучше б рябая была, ей-богу! Я третьего дня от кофейника еле спасся – ведь в самые панталоны метила. Мои б орлы так стреляли. Чистый артиллерист!
Надежда Александровна тоже смеялась, но упрямо поступала по-своему. Она знала: через год-другой дуреха обтешется, научится под руководством Танюшки всем тонкостям профессионального услужения и станет незаметной, но очень важной деталью общей мозаики, которую Борятинская собирала с упорством Ломоносова. Бланж ложился рядом с киноварью, кресла цвета гри-бискр перемигивались с офитовыми колоннами – всё, всё шло в дело: орнаменты, оттенки, даже переплетение теней – так что гости, расположившись в гостиной Борятинских, чувствовали, что оказались в каком-то ином, лучшем месте, среди иных, лучших людей. И только Надежда Александровна знала, что дело не только в изумительных пропорциях залы, не только в жиразолевом шелке, которым были обтянуты стены (три, три месяца она искала цвет, передающий подлинные опаловые переливы), но и в ресницах горничной девушки, входившей в нужный момент с подносом, на котором сиял крошечный кофейник на спиртовке, украшенной синим живым огоньком. Ресницы у горничной тоже были синие, загнутые на концах, тяжелые от невидимой спички.
Мето́да, при всей абсурдности, прекрасно работала – дом Борятинских считался одним из лучших в Петербурге, хотя не был ни самым богатым, ни самым большим. И сама Борятинская – хрупкая, бледная, миловидная – слыла одной из первых красавиц и модниц большого света, не имея на то ни малейших телесных оснований. Это было не так уж просто в мире, где у женщин не было иной заботы, кроме умения вести себя в обществе и быть одетой к лицу.
И никто – да, пожалуй, и сама Борятинская – не догадывался, что в основе этой любви к гармонии лежала обыкновенная брезгливость. Надежда Александровна брезговала всем некрасивым, как брезговала грязью, – и это был не прелестный снобизм потомственной белоручки, которой ни разу в жизни не пришлось вычистить подол собственного платья или вынести еще теплую, курящуюся тихим смрадом ночную вазу. Нет, это было тяжелое, пугающее чувство, почти идиосинкразия, которая заставляет взрослых людей цепенеть и жмуриться при виде обыкновеннейших вещей – черных маслянистых тараканов или, скажем, фарфоровых кукол, голых, холодных, твердых и совершенно, совершенно неживых.
Грязь и уродство наводили на Надежду Александровну ужас.
Теперь, в сорок четыре года, грязью – желтой, омерзительной, липкой – стала она сама.
На исходе девятнадцатого века в большом свете не принято было рожать без конца.
Это считалось неприличным, мешало выполнять свой долг – долг светской женщины. Многочадие было уделом бедноты. Бесконечно плодиться и размножаться могли позволить себе только священники, простолюдины да императрица, у которой имелся свой собственный персональный долг – обеспечивать престол должным количеством наследников. У всех остальных находились дела поважнее. Иметь двоих, много троих детей, рожденных в молодости, считалось идеалом, и Борятинская прежде вполне ему соответствовала. Она прекрасно помнила, с какой свистящей язвительной насмешкой жалели в свете бедняжечку Мордвинову, имевшую тринадцать детей. Будто в бабушкины времена!
Замужние дамы шепотком передавали друг другу верные будуарные средства, способные легко переменить волю Господа на нужный лад. Князь сам прекрасно управлялся с этими таинствами – и Борятинская была ему за это искренне благодарна. Они были счастливы вместе и вместе, рука об руку, готовились вступить в покойную, достойную, долгую, как золотая осень, старость. Поздняя беременность перечеркивала всё – и разом. Она была непростительна, словно публичная оплошность. Светской женщине после сорока лет надлежало заниматься благотворительностью, а не любовью. При этом порядочный мужчина в любых годах мог позволить себе иметь любое количество детей – как законных, так и нет.
Sic.
Борятинская разрушила этот стройный и понятный мир. Сама разрушила.
Если бы не Мейзель, она бы определенно наложила на себя руки. Или рехнулась. Но он был рядом – приезжал ежедневно, утром и вечером, точный, круглый, крепкий. Иногда оставался обедать – нехотя, словно это он оказывал милость, а не ему. Вообще, неучтив был невероятно: перебивал, распоряжался, мог за столом завести бурный разговор о детских поносах – князь терпел, сколько мог, потом, швырнув салфетку, выходил, прыгающими руками искал по карманам папиросы. Но Надежда Александровна ничего не замечала – кроме того, что Мейзель, один-единственный, с веселым любопытством ждал ее невидимого пока ребенка, которому никто в целом свете не радовался.
Даже поначалу она сама.
Но прошли первые три месяца и еще один. И стало легче. В Петербург – по понятным причинам – решено было не возвращаться, и княгиня впервые в жизни, день за днем, прожила в деревне великолепную русскую осень – воронежскую, яркую, расписную. Тошнота незаметными усилиями Мейзеля совсем прошла, и Надежда Александровна, словно следуя властным правилам своего сада, начала наливаться сытой сонной спелостью. Она теперь отменно кушала и ежедневно целыми часами гуляла, запахивая на круглеющем животе красную, всю в золотых цветах, душегрею, подбитую зайчиками. Душегрею привез Мейзель, он же расхвалил портниху – мещаночку Арбузову (по-здешнему – Арбузиху), большую рукодельницу, так что Надежда Александровна, к которой вместе с аппетитом вернулась и любовь к прекрасному, уже продумывала себе новые наряды – сплошь в народном духе. Местные бабы одевались под стать осени – радостно, ярко. Планировалась и детская – непременно в первом этаже, огромная, вся в тафте и шелку, и дальнейшая перестройка дома да и всей усадьбы. Мейзель посмеивался, кивал, подбирал из спутанной травы то тяжелое яблоко, то облепленную муравьями лопнувшую грушу. Надкусывал громко, вкусно. Протягивал Борятинской – так же просто, как мать младенцу, и она так же просто брала, впивалась зубами, смешивая сок, мякоть, свою и чужую слюну. Это было больше, чем поцелуй, это была настоящая близость, та, что непоправимей любой измены, но они не думали об этом.
Они просто ждали ребенка. Оба.
А можно мне тёрну?
Будущей матери, княгиня, можно всё. У меня пациентки на сносях, бывало, мелу наедятся или, страшно сказать, тухлой селедки. Одной купчихе, не поверите, осетра целикового в тепле подвешивали, пока хвост не отвалится. Собаки – и те от вони сбегали, не могли. А она уминала, только нахваливала. Такого богатыря родила – я думал, в руках не удержу. Фунтов одиннадцать, не меньше. Так что если только пожелаете…
Надежда Александровна отмахивалась в веселом ужасе и губами собирала с ладони чуть подвяленный близкой зимой терпкий терн. По утрам и вечерам уже подмораживало, но днем все сияло, плавилось, пекло, ослепительно-горький воздух был весь заштрихован летящими паутинками, и небо было громадное, густо-синее, радостное. Никогда она не видела в Петербурге такого неба. Надежда Александровна запрокидывала голову, смеялась, жмурилась, пыталась по голосам пересчитать невидимых осенних журавлей, но сбивалась и смеялась снова.
Борятинский смотрел на это из окон кабинета волчьими от обиды глазами. Заподозрить неверность и то было бы легче, но неверности не было. Было страшнее. Хуже. С ним Наденька не смеялась больше, да и вообще едва замечала, хотя причин для обиды – вот ей-богу! – просто не было, как не было вообще ничего, что могло бы их разлучить. Он всегда так считал. И вот – просчитался. Из другого окна так же тяжело смотрела Танюшка, тоже бессердечно забытая, впервые низведенная до положения обычной горничной, – принеси, подай, пойди вон, не нужна.
Не нужна…
Князь и Танюшка, не сговариваясь, переводили взгляд на Мейзеля. Вот кто был во всем виноват! Ясно же. Он один. За несколько месяцев взявший в свои руки не только душу и тело княгини, но и весь дом. И самое страшное в этой невиданной власти было то, что Мейзель ею не пользовался. Не выгадывал ничего, не выкраивал, не просил. Не носился с прожектами. Не передвинул на доске ни единой фигуры, не считая, конечно, небрежно сброшенных под стол короля и ферзя. Даже деньги, обычный свой скромный довольно гонорар, брал не каждый визит, а только когда осматривал княгиню – не чаще раза в месяц, по понедельникам. Без молитвы. Без супруга. Без приличествующих свидетелей женского полу. За закрытой дверью. Один.
И во время осмотров этих – Борятинский сам слышал – княгиня тоже часто смеялась. Он не ревновал даже. Хотя – какого дьявола?! – ревновал. Да еще как! Но еще сильнее ненавидел. Этого провинциального лекаря. Эту усадьбу. Младенца, воровато укрывшегося в утробе. Все они украли у него жену. И если прибрать разом усадьбу и младенца не представлялось возможным, то уж с Мейзелем они должны были справиться. Он и Танюшка.
И Господь услышал. Не оставил своими молитвами. Избавил их всех от лукавого. В аккурат на Покров Пресвятой Богородицы сподобил. Очи Господни на праведныя, и уши Его в молитву их. Лице же Господне на творящыя злая, еже потребити от земли память их.
Она упала. Упала, господи. Со всего маху. Засмеялась, махнула на него рукой – запнулась о корень и упала. Страшно, всем животом. Они прошли сад и парк, в самой дальней части почти становившийся лесом. Рукодельные барские дорожки стали тропинками, а потом, обессилев, и вовсе исчезли. Борятинская обновила валенки, специально для нее свалянные, белые – как раз под первый снег. Ноги в ее положении надобно было держать в тепле. Он знал. Знал. Собирал ее на каждую прогулку словно малого ребенка – закутывал слой за слоем, капустно. Берег того ребенка, настоящего. И не уберег. Шел позади, смотрел на округлые валеночные следки, наливавшиеся сырой чернотой, ни о чем не думал, болван. Радовался, что ветер еще не морозит, а только веселит щеки.
Высчитывал, когда придет срок. Когда будет пора. Весной. В марте. Не раньше. Готова ли она? Сможет ли? Справится? И сам себе говорил – непременно справится, родит. Старая, слабая, нескладная. Ни у кого бы не родила. А у него – родит.
Не пора ли искать кормилицу? Хороши ли здешние, Григорий Иванович? Как думаете?
Думаю, что вы сами прекрасно выкормите свое дитя, Надежда Александровна.
Вот и граф Толстой так же пишет. Что это священный долг каждой женщины.
Не имею чести быть представленным, Надежда Александровна. Но полагаю, что Толстой ваш, хотя и граф, не такой уж дурак.
Вот тут она и засмеялась. Повернулась к нему. Махнула рукой. Оскользнулась. И упала. Он сам почувствовал, как она ударилась – глухо, страшно. И снова услышал, как в тот раз. Как тогда. Этот звук.
Ом-м-м. Ом-м-м.
Нет, нет, в сознании, слава богу. Он задрал ей юбки, прямо там, в темнеющем ноябрьском лесу, на первом сыром снегу, нескончаемые – первая, вторая, третья. Серое пушистое сукно, фланель, наконец-то нижняя – мятая, горячая, полотняная. Пахнуло сырым теплом, женщиной, болотистым вязким страхом. Мейзель сразу увидел – кровь, зажмурился, зашарил по карманам, нашел онемевшими пальцами спасительный пузырек с йодом, стиснул. Отпустило.
Он подхватил Борятинскую на руки – неудобную, обмякшую. Понес, прибавляя шаг, отдуваясь. Свисала неловко рука – обронит рукавичку, замерзнет. Обронила. Нет, не подниму. Пусть. Подол цеплялся за ноги – неудобно, – волочился, впитывал стылую снежную воду, а может, кровь, тяжелел. Но он так и не остановился ни разу – за две с лишним версты до дому – и ни слова ей не сказал, не посмел. И она тоже молчала, и ему все время казалось, что не дышала даже. Но она дышала. Дышала. Очень старалась. Как будто понимала, что делает это за двоих. Нет, даже за троих. И за него тоже.
Он трижды чуть не упал – в последний раз уже на парадном крыльце. Но не упал, удержался. В доме было нестерпимо, до звона, натоплено, все метались, кричали, путались у него под ногами, но он все равно донес ее до постели. Сам. Опустил. Хотел осмотреть еще раз, но князь толкнул его в грудь, и толкал до самой двери, и до самой двери она смотрела на него – и ничего не было в ее глазах, ни жизни, ни надежды, ни веры. Только страх. И еще жалость.
Точно такая же жалость. В точности. Как в тот раз, когда…
Но теперь он не убежал, нет. Его просто выгнали. Вытолкали взашей.
Чтобы убедиться в том, что действительно сделал всё, что мог, Мейзель прошел по своему следу до места падения – уже совсем в темноте, совсем один, и ему подсвечивал только снег, и черная полоса среди этого снега, будто кого-то волочили. Под деревом было натоптано так, словно не княгиня тут упала, не маленькая женщина с ребенком внутри, а устраивался на зимовку, уминаясь и утаптываясь, огромный жаркий зверь. Кровь была еще жива – и ее было много, она была чернее земли, нет, не чернее – просто другая, и тут Мейзель понял, ахнул и побежал по следу назад, пригибаясь, будто старый пес, припадающий на передние лапы. Кровь была версту, не больше, а потом – да, вот! вот же! – пару раз еще капнула и исчезла. Дальше были только его шаги. Черная земля. Белый снег. И ничего больше. Никакой крови. И на крыльце тоже.
Он хотел стучать, чтобы рассказать, чтобы успокоить, но не решился. Ей ничего не грозило, слава богу. Пусть отдохнет. Выспится.
Завтра. Всё завтра.
Назавтра его не пустили. Послезавтра – тоже.
Потом он перестал приходить. Сам.
Через неделю приехал выписанный из Петербурга доктор – и первым делом запретил княгине вставать. С ноября до конца марта Надежда Александровна пролежала в кровати, скрестив на животе все выше поднимающиеся руки и глядя за окно.
За окном был сад.
Это всё, что у нее теперь оставалось.
Чудом уцелевший ребенок.
И сад.
Утром 31 марта 1870 года стало ясно, что до вечера Надежда Александровна Борятинская не доживет.
Это понимали все – и князь, и Танюшка, и терпеливо дремлющий в гостиной батюшка, уже дважды соборовавший не заметившую этого страдалицу, и петербургский доктор, пять месяцев проживший в доме, но так и оставшийся безымянным, чужим. Попрятались по им одним известным закоулкам и углам сбитые с толку, напуганные слуги, и сам дом застыл, сжался, будто готовился к удару извне. Только сад шумел как ни в чем не бывало – мокрый, черный, словно лаком, залитый гладким солнечным светом. Сад чавкал жидкой грязью, шуршал недавно вернувшимися грачами – и то и дело встряхивался, роняя огромные радостные капли.
Набирался сил.
И Надежда Александровна, слушая этот влажный заоконный шелест и переплеск, единственная не знала, что умирает.
Она рожала вторые сутки и последние несколько часов уже не чувствовала боли, потому что наконец вся находилась внутри нее, как будто в сердцевине тонкого, докрасна раскаленного, жидкого шара, который всё выдувал и выдувал из трубки громадный меднорукий ремесленник из Мурано. И всякий раз, когда шар, медленно поворачиваясь, вспыхивал огненным и золотым, Надежда Александровна изумленно всплескивала руками и, забыв приличия, все тянула за рукав молодого мужа, который вдруг, в незамеченный ею момент, превратился в отца и взял восхищенную маленькую Наденьку на руки, а стеклодув все округлял херувимно щеки, усердствуя, и густой стеклянный пузырь становился больше и больше, так что Наденька и боялась, что он лопнет, и хотела этого. Сквозь тягучее и алое изредка мелькали чьи-то лица, неузнаваемые, далекие, чужие, а потом отец тоже исчез, и Надежда Александровна, жмурясь от жара, осталась внутри огненного шара одна.
Нет, не одна, это она теперь держала на руках ребенка – девочку лет пяти, горячую, необыкновенно тяжелую, и девочка эта непостижимым образом была и ее дочь, и она сама. Девочка подпрыгивала, тянулась к чему-то, чего Надежда Александровна не видела и не могла, но всякий раз, когда мягкие детские кудряшки, подхваченные рдеющими шелковыми лентами, касались ее щеки, испытывала острую долгую судорогу счастья.
В том, что Борятинская умирала и не знала об этом, было великое милосердие, громадный и ясный промысел, который она ощущала так же верно, как тяжесть ребенка, сидящего на ее правой руке; и тот же промысел переполнял живительными соками мокрый сад за окном, и только шум этого пробуждающегося весеннего сада и держал еще Надежду Александровну в этом мире, точнее – она держалась за этот шум, будто за прохладную, немного влажную ладонь кого-то самого важного в жизни, родного.
Вся эта громадная, напряженная жизнь умирания никак не была видна снаружи, и для всех вокруг Надежда Александровна, измученная, с плоским серым лицом, просто лежала у себя в спальне, придавленная тяжелым, изредка шевелящимся животом, и каждые четверть часа кричала так ужасно, что в сотне шагов от дома лошади в конюшне шарахались, будто от выстрела, и копытами выбивали из стен сочную щепу. Постель под Надеждой Александровной, холодную, тяжелую, промокшую от пота насквозь, переменяли тоже каждую четверть часа – и весь страх был в том, что эта четверть часа, отмерявшая промежутки от одной муки до другой, не менялась, не уменьшалась, хотя должна была. Это все понимали, даже нерожалая Танюшка, самолично перестилавшая гладкие простыни, ладонью проверявшая каждую складочку на очередной сорочке – чтобы не заломилась не дай бог, не принесла лишней боли.
Зареванная так, что едва видела свет сквозь слипшиеся напухшие веки, Танюшка все эти страшные дни не пила, не ела, выходила из спальни княгини только для того, чтобы шикнуть на ошалелую от усталости прислугу, но сквозь непритворную, все жилки заливающую жалость все-таки тихо гордилась тем, что всего-то ее стараниями у господ напасено вдоволь – и простыней, и полотенец, и салфеток. Уж, кажется, десятками, сотнями изводили, а в лавандой надушенных шкафах все не убывало, и на кухне вторые сутки дрожала в медных котлах тихая густая вода: одно полешко добавишь – в минуту закипит; и даже сыты в доме эти дни все были ее, Танюшкиными, умелыми незаметными распоряжениями. Ненавидела себя за гордыню эту греховную. Чего только не перепробовала – и молитву преподобному Алексию, человеку Божьему, по молитвослову вычитывала, и под коленкой себя до синевы щипала, – а все равно гордилась. А еще нет-нет да и выгадывала – быстро, будто кусок со стола воровала, – что и как будет, когда… Князь ведь – и года не пройдет – как наново женится. И конец всему тогда – власти, покою, уважению. Как бы и вовсе из дому не попросили. А то и самой наперед уйти, не унижаться. Да куда только? Ведь с тринадцати своих годков при барышне. Всю жизнь ей под ножки белые положила. Танюшка взвывала внутри себя, низко, жутко, густо, – ы-ы-ы-ы-ы! Тыкалась в край только что перестеленной постели, искала губами хозяйкину руку, но пальцы, прежде бесчувственно стиснутые, в полдень 31 марта вдруг ускользнули – побежали суетливо по одеялу, по простыням, пригладили волосы, затеребили на рукавах сорочки кружева и мережки, будто готовясь к близкой уже, немыслимо важной встрече.
Надежда Александровна обиралась.
Танюшка присмотрелась – и завыла уже в голос, открыто, забыв про подлые свои мысли, – от животной, невозможной жалости, и, словно в ответ, закричала, корчась от новой бесполезной схватки, Надежда Александровна – и на двойной этот крик сорвался с кушетки в своем кабинете Борятинский, от отчаяния за эти дни совершенно оцепеневший, прибежал, колыхая чревом, батюшка, грохнула хрупкую стопу фарфора одурелая кухарка, загомонили, сталкиваясь, слуги – кончается, ой, помилуй господи, кончается-а-а-а-а!!! И даже на гладком голубоватом лице доктора мелькнуло что-то вроде человеческого чувства.
Потрудитесь посторониться, господа! Да господа же, вы мешаете мне осмотреть княгиню!
За всеобщей бессмысленной суматохой никто не заметил, как хлопнула парадная входная дверь. Хлопнула – и снова распахнулась, да так и осталась полуоткрытой. А когда хватились – кто входил? кто выходил? – ничего так и не добились, и на полу не было ни следочка – ни человечьего, ни звериного, только пара прошлогодних листьев лежала на мраморной плитке – ссохшихся, будто обугленных, завернувшихся по краям.
Это смерть вошла наконец в дом.
Тронула занавеси. Подышала на зеркала. Поднялась, не касаясь перил, наверх. Заглянула во все комнаты – тихая, милосердная. Шум очень мешал ей, и свет, и человечий ужас, и суета. Смерть нуждалась в темноте и в укромности, но не хотела мучить Надежду Александровну до самой ночи. Она вообще не хотела мучить. Да, пожалуй, и не могла. Мучила жизнь. Смерть даровала только покой. Потому в два часа пополудни, когда смерть окончательно заполнила дом, заснули все – и челядь, и господа, и кухаркин любимец кенарь, и даже собаки. Свалились, кто где стоял и сидел – намучившиеся, измаявшиеся от чужого страдания без всякой меры. И даже сад застыл у окна Надежды Александровны, приподнявшись на цыпочки и боясь шелохнуться.
Борятинская внутри своего шара прикрыла уставшие от потустороннего жара глаза. Она больше не видела ничего снаружи – стеклянные стенки стремительно густели, делаясь непроницаемыми, а девочка, которую она держала, становилась всё тяжелее и тяжелее, брыкала толстыми ножками, вырывалась. Но Надежда Александровна почему-то знала, что отпустить ребенка нельзя, невозможно, и потому прижимала девочку к себе всё крепче и крепче, пытаясь укачать – ш-ш-ш, а-а-а, ш-ш-ш, а-а-а.
Петербургский доктор, единственный человек в доме, который не заснул, не подчинился смерти и даже, кажется, не заметил ее появления, наклонился к Борятинской, прислушался к короткому, стонущему дыханию.
Ш-ш-ш, а-а-а, ш-ш-ш, а-а-а.
Схватки не прекратились, но Надежда Александровна больше не кричала – и это ему не нравилось. Честно говоря, в усадьбе с нелепым именем Анна ему не нравилось всё: и старый неловкий дом, и такая же старая неловкая роженица, осмелившаяся взяться за труд, не всегда посильный и для молодых здоровых женщин, и князь, месяцами изводивший его своими ипохондриями. Даже воистину непристойный гонорар, который доктор заломил за свой приезд, теперь не радовал, а раздражал безмерно. Он бы давно отказался и уехал, перепоручив княгиню любому согласившемуся коллеге, но не учел того, что весна в Петербурге и в провинции отличалась столь же сильно, как нравы и моды. Март, в столице звонкий и гладкий от последних морозов, в Воронежской губернии обернулся сущим бедствием. В считаные дни мягко, почти беззвучно открылись реки, туман аккуратно, споро, будто кот простоквашу, подожрал осевший снег – и всё разбухло, полезло через край, могучее, бесстыжее, живое. Жирная, сытная воронежская грязь попросту заперла доктора в усадьбе – и до обитаемого мира было не добраться ни вплавь, ни на лошадях, ни пешком.
Доктор достал акушерскую трубку – гладкую, длинную, – еще раз сложился циркульно, выслушивая огромный сизый живот. Маленькое сердце внутри билось сильно и ровно, но уже немного чаще, чем нужно. Ребенок был жив и хотел родиться. Он был готов. И мог. Но мать не пускала его. Здравый смысл, долг и руководство к изучению женских болезней Китера наперебой требовали немедленно произвести кесарево сечение и извлечь ребенка из утробы, но – доктор еще раз приложил трубку к животу Борятинской, пробежал чуткими пальцами по туго натянутой коже – было поздно. Слишком поздно. Головка уже вошла в лонное сочленение. Ребенок оказался в ловушке. Еще пара часов, и он начнет задыхаться. А потом умрет. Сначала мать. А после он.
И это будет долгая смерть. Очень долгая. И страшная.
Доктор представил себе ребенка, заживо погребенного внутри мертвой матери, и передернул горлом. Сын своего века, он вырос под мрачные россказни о воскресших в гробу покойниках и больше загробных мук, больше порки в детстве боялся летаргии.
Оставались, конечно, щипцы. Старые добрые щипцы Симпсона. Но он их забыл. Забыл. Оставил в Петербурге. В кабинете. В правом верхнем ящике стола. Идиот! Нет, дважды идиот – потому что обнаружил это только сегодня утром, беспощадно выпотрошив весь багаж. Книги. Подтяжки. Исподнее. Носовые платки. Хрустнувшая под подошвой любимая лупа. Даже если бы послать за щипцами (куда? в Воронеж? за девяносто с гаком верст?) было возможно теоретически, все равно – поздно. А уж по грязи этой несусветной…
Сад за плотно занавешенным окном шумно встряхнулся – словно злорадно хохотнул – и швырнул в стекло пригоршню громких капель.
Доктор посмотрел на Борятинскую с ненавистью. Если бы эта благородная немочь согласилась ему помочь! Если бы потрудилась хоть немного потужиться!
Ваше сиятельство!
Ш-ш-ш, а-а-а, ш-ш-ш, а-а-а.
Девочка наконец перестала вырываться, положила на плечо Борятинской горячую тяжелую голову и затихла. Сейчас заснет наконец, слава богу. Борятинская попыталась пересадить ребенка поудобнее, но не смогла – правая рука была совсем мертвая, деревянная. И такой же мертвый, деревянный был теперь воздух вокруг. Радостные жаркие переливы ушли, стало заметно темнее и прохладнее.
Шар стремительно остывал. Мир Борятинской тоже.
Вот и хорошо. Видишь, солнышко село. Танюшка наша гардины задернула. Спи, ангел мой. Спи. И мама тоже немного поспит.
Ш-ш-ш, а-а-а, ш-ш-ш, а-а-а.
Вы меня слышите, ваше сиятельство?
Борятинская молчала. От носа к губам неторопливо ползла синюшная тень. Схватка, недолгая, как рябь по воде, еще раз смяла распластанное на постели тело. Доктор машинально сверился с часами – вместо четверти часа прошло двадцать минут. Не хочет больше рожать. Не может. Устала. Провалялась всю жизнь в мягких креслах – и устала!
Доктор открыл саквояж, достал тяжелую темную склянку. Потянул было из кармана платок, но передумал. Поискал глазами – да вот же! – и подобрал с пола тонкое смятое полотенце. Зубами выдернул тугую пробку – стекло неприятно скрипнуло на зубах, холодком обожгло пересохший рот. В комнате запахло – резко, сладко, сильно. Доктор, стараясь не дышать носом, прижал горлышко флакона к сложенному вчетверо полотенцу.
Он не был первым и не собирался. Первыми были, к сожалению, другие. Первого новорожденного, явившегося миру под эфирным наркозом, принял еще двадцать с лишним лет назад Джеймс Симпсон, шотландский гинеколог, выдающейся смелости нахал, великий выскочка, которого акушеры всего мира почитали как бога, а попы едва не сожрали живьем. Ибо умножая умножу печали твоя и зачатие твое, и в болезнех родиши чада. В тех первых эфирных родах младенец умер. Девочка. Девочек почему-то не так жалко. Тогда Симпсон поставил на хлороформ – и преуспел. В 1853 году под хлороформным наркозом родила своего седьмого ребенка, принца Леопольда, сама королева Виктория – и муки первородного греха в Европе отменились практически официально. Но до России все доходило медленно, слишком медленно. Даже самые знатные пациентки доктора предпочитали рожать чада в предначертанных страданиях. Потому наркоза – ни эфирного, ни хлороформного – доктор не давал ни разу в жизни. Только читал в “Ланцете”, как это делали другие.
Хлороформа у него, впрочем, все равно не было. Как и щипцов. И хоть малейшей уверенности в том, что он поступает правильно.
Полотенце наконец пропиталось эфиром полностью. Доктор медленно закупорил почти опустевший флакон. Конечно, ему следовало заручиться согласием. Мужа. Самой пациентки. Перечислить риски. Выслушать сомнения. Хотя бы спросить. Но спрашивать было некого. Доктор представил себе, как долго он будит камердинера их сиятельства, который только и смеет тревожить священный хозяйский сон, и как их сиятельство так же долго отказывается просыпаться, а потом еще дольше занимается туалетом и кушает свой кофий, потому что светские приличия не позволяют князю быть на людях неприбранным и несвежим, зато прекрасно позволяют его жене умереть в глуши только потому, что этот старый дурак не соизволил отвезти ее рожать в Петербург.
Надежда Александровна!
Доктор вдруг понял, что едва ли не впервые называет свою пациентку по имени, – это тоже запрещали светские приличия, условности, липкие, как паутина, и такие же невидимые. Он был человеком второго сорта. Здесь, в этом доме. И вообще. Место в самом дальнем углу стола – если к столу вообще приглашали. Да, его помощи искали, его советами не осмеливались пренебрегать. В конце концов, его боялись и даже ненавидели – как полномочного представителя смерти, обладающего правом отсрочки приговора. Но и всё это вместе не давало ему права считаться порядочным человеком.
Доктор взвесил полотенце на ладони.
Что ж, пусть. По крайней мере, он хотя бы попытается.
Надежда Александровна. Старайтесь дышать глубже и ничего не бойтесь. Я дам вам наркоз.
Борятинская чуть приподняла брови, будто изумляясь такой дерзости. Синяя тень залила ее лицо почти полностью – тень смерти, которая давно вошла в комнату и стояла у кровати, сострадательно наклонясь.
Доктор вдохнул всей грудью, словно наркоз предназначался ему самому, и прижал к лицу Надежды Александровны тяжелое от эфира ледяное полотенце.
Десять. Девять. Восемь.
Шар лопнул разом, весь – пошел хрустящими трещинами, как утренний ледок под неосторожной стопой, но вместо грязной густой воды сквозь осколки хлынул свет, такой нестерпимый, что Надежда Александровна вскрикнула, зажмурясь, и почти сразу же поняла, что потеряла ребенка.
Семь. Шесть. Пять.
Девочка исчезла, хотя Надежда Александровна была уверена, что не разжимала рук, скрюченных от многочасовой усталости. Она бы и не могла их разжать, пожалуй, не сумела бы физически, но девочки не было. Не было! Дочки! Ее дочки. Борятинская завертелась внутри безжалостного света – ослепленная, обескураженная, моргая голыми мокрыми веками.
Господи! Не вижу. Не вижу ничего. Отчего так светло?!
Она хотела позвать – но не знала как. Имя ребенка, которое она давно выбрала сама и твердо помнила еще несколько минут назад, ускользало, вместо него зудело в голове имя давно выросшей Лизы, и Борятинская отмахнулась от него, как от назойливой осы.
Не Лиза, нет.
Как?!
Перед глазами плыли, сливаясь, алые и черные пятна.
Мама! Мама-а-а-а-а!
Надежда Александровна, совсем уже слепая, вскинулась, побежала на этот крик, натыкаясь руками на какие-то голые ветки, – вокруг все хрустело, рушилось, рвалось, лопались невидимые плотные пленки, а девочка все звала откуда-то из глубины холодного сладкого света – мама! мама!
И вдруг Борятинская вспомнила.
Наташа! – закричала она в ответ. И свет разом погас.
И только в темноте, такой же непроницаемой, как свет, детский голос сказал отчетливо и сердито.
Не Наташа. А Туся.
Где-то далеко хлопнула дверь – и весенний сквознячок тотчас нежно и торопливо ткнулся в Надежду Александровну упругими холодными губами. Приложился ко лбу, к векам – будто приласкался.
Это смерть – поняла Надежда Александровна без всякого страха.
Дверь хлопнула еще раз.
Закрылась.
После этого осталась только темнота.
Когда князь наконец проснулся – последним в доме вынырнув из короткого дневного морока – всё было кончено. В спальне жены гомонили, и он поспешил на этот шум, боясь вслушаться (неужто плачут? Исусе! помилуй и обнеси!). Рванул дверь на себя, запрыгал испуганными глазами: опрокинутый таз, мокрые простыни, доктор, ожесточенно копающийся в саквояже, руки так и ходят от крупной дрожи, – князь машинально отметил – будто после боя – и тут же забыл, потому что увидел Наденьку, слава богу, живую. Она сидела в постели, остро подняв обтянутые измятой сорочкой колени, и, странно наклонив голову, смотрела куда-то вниз. Волосы, светлые, прекрасные, сбились за эти дни в большой, слипшийся от пота колтун, который пыталась разобрать зареванная пуще прежнего Танюшка, причитая про косыньки мои, косыньки, да неужто отрезать придется?
Вот кто выл, значит. Старая дура!
Ma chère âme![13]
Надежда Александровна отвела Танюшкины руки, будто лезущую в глаза назойливую ветку, и подняла на Борятинского глаза – почти черные от огромных, плавающих зрачков.
Тс-с! – сказала она строго. – Тс-с! Поди вон! Ты не смеешь… Нет-нет, иди ближе! Я… Мне надо тебе сказать.
Она так странно, с особым усердием складывала неловкие, словно онемелые губы, так старалась смотреть Борятинскому прямо в глаза, что князю на мгновение показалось, что жена его мертвецки пьяна – мысль настолько дикая, что он и додумать ее не посмел.
Я умерла! – сказала Борятинская звонко. – Умерла. Совсем.
Борятинский беспомощно посмотрел на доктора. Точно – пьяна. Надралась вдрызг – почище гвардейского ротмистра. Или свихнулась?
Доктор, не поднимая головы, продолжал копаться в саквояже.
И мне было видение. Я всё знаю теперь. Всё! Да что ты стоишь? Подойди же!
Борятинский подошел – осторожно, будто жена могла кинуться на него, повел даже носом, но нет – в комнате пахло только по́том, запекающейся, умирающей кровью, будто правда после боя, и чем-то еще – свежим и сладким.
Смысл жизни теперь открыт мне. Вот, смотри!
Надежда Александровна опустила колени – на животе у нее лежал, кривя беззвучный ротик, крепким поленцем спеленутый ребенок, краснолицый, сморщенный и жуткий, как все новорожденные.
Je le trouve adorable, cet enfant![14]
Это не мальчик. Это Туся. Моя дочь. Она и есть смысл всего.
Лицо Борятинской исковеркала, почти изуродовала судорога счастья.
Борятинский снова посмотрел на доктора. Тот щелкнул застежкой саквояжа. Распрямился. Руки у него больше не дрожали. Наконец.
Mon Dieu, qu’est-ce qu’il lui arrive? Je[15]… Я… Я не понимаю. Это горячка?
Опомнившись, что совершил бестактность, князь перешел на русский, приличествующий в разговоре с людьми другого круга, и доктор, сильно покраснев, ответил по-французски, с правильным, хотя и немного деревянным выговором.
La princesse et le bе́bе́ se portent bien. C’est le rе́sultat de… – доктор замялся на мгновение, – d’une extrême tension et d’un accouchement très long. Dans quelques heures tout ira pour le mieux[16]. – Доктор вдруг вздернул голову и потребовал почти оскорбительно-резко. – Извольте распорядиться, чтобы мне дали лошадей. Мои услуги в этом доме больше не требуются. Я возвращаюсь в Петербург.
Князь невнимательно кивнул, он смотрел на Надежду Александровну. Надежда Александровна не отрывала глаз от ребенка – это был новый узор их жизни, отныне и на долгие годы, навсегда, просто Борятинский еще не догадывался об этом.
Главное, Наденька была жива и здорова, здорова и жива.
Доктор сумел вырваться из раскисшей в грязи Анны только через сутки, но до Петербурга так и не добрался, хотя истратил бо́льшую часть своего баснословного гонорара на то, чтобы подхлестнуть смелость самых беспутных и отчаянных местных ямщиков. По-нильски щедро разлившийся Икорец все равно пришлось преодолевать то волоком, то по пояс в густой черной жиже, вполне уже русской – безжалостной, цепкой, ледяной.
Боже милостивый, как же холодно! Холодно! Как болит голова!
Он потерял сознание в пяти верстах от Воронежа, успев распорядиться, чтобы его непременно отвезли в больницу. Боялся тифа, заразы, э-эп-пидемии только н-не хватало. Оказалось – пневмония, от которой доктор и умер спустя три дня в просторной воронежской земской губернской больнице, в полном и ясном рассудке – человеческом и медицинском, на руках у старшего врача Константина Васильевича Федяевского.
Последними его земными словами были: “Не хочу в эту грязь. Отдайте всё науке”.
Федяевский, человек сердобольный и деятельный (что и позволило ему в итоге сделать блестящую общественную карьеру), волю коллеги выполнил – и самолично разъял тело петербургского доктора на препараты, на которых, как мыслил Федяевский, молодые воронежские лекари должны были восполнять недостаток практического образования. Однако то ли Федяевский, вообще-то офтальмолог, оказался скверным гистологом, то ли бездушные местные сторожа не вынесли долгого соседства с сосудами, полными спирта, но спустя несколько лет образцы были признаны безвозвратно испорченными и отправились на свалку (Господь милостив – на жаркую, летнюю, сухую). И только череп доктора, желтоватый, ладный, с безупречным зубным рядом, жил еще долго-долго, потому что Константин Васильевич из уважения к коллеге (впрочем, понятого довольно превратно) оставил череп у себя и хранил на столе в кабинете. Федяевский даже советовался с черепом в сложных случаях – не из суеверия, а всё из того же уважения, которое со временем переродилось просто в странноватую привычку.
В 1895 году к Федяевскому в Воронеж заехала Туся, двадцатипятилетняя, энергичная, ненадолго увлекшаяся общественной жизнью (Федяевский только что открыл в Малышеве школу для крестьянских детей, Туся хотела такую же в Анне), и весь десятиминутный визит, во время которого Федяевский, пуша ухоженную бороду, сыпал восторженными трюизмами, машинально поглаживала лежащий на столе череп своего физического восприемника маленькой крепкой рукой, затянутой в смуглую горячую лайку.
Совпадение, невозможное в романе, но такое обыкновенное в человеческой жизни.
К слову сказать, о пользе просвещения, любезнейшая Наталья Владимировна. Череп сей принадлежал счастливейшему из смертных, эскулапу, который даже смерть свою сумел обратить на пользу науки. Звали его…
Федяевский запнулся, припоминая, и Туся, воспользовавшись паузой, прервала наскучивший разговор. В экипаже она понюхала перчатку и, сморщившись, бросила ее на мостовую.
Эфир! Не выношу этот запах.
А Федяевский, маясь, как от зубной боли, расхаживал по кабинету еще несколько часов, пока не выудил-таки из немолодой уже памяти имя петербургского доктора.
Михаил Павлович Литуновский.
Вот как его звали.
Действительно – счастливейший из смертных.
Через три месяца после рождения Туси, в июле, ночью, Надежда Александровна чувствовала себя несчастнейшей женщиной на земле. Хотя почему чувствовала? Она и была – несчастнейшая женщина. Отчаяние космами свисало с нее, волоклось следом, заполняло комнаты – пегое, пыльное, полуседое. Не давало дышать. Жить.
Всё, всё оказалось ложью – от первого до последнего слова.
Надежда Александровна переставила заплаканный подсвечник повыше – ничуть не лучше, боже мой, как же здесь нестерпимо, отвратительно темно! – и раздраженно сбросила очередную стопку книг на пол. Уклончивые французы. Велеречивые немцы. Джейн Остин и сестрицы Бронте, ради которых она, взрослая уже, стала брать уроки английского. А ведь, кажется, сами женщины – должны были понимать! Но нет, отделались салонной болтовней, ничего не значащей, никому не нужной. Борятинская мысленно перебрала сотни прочитанных романов, будто пальцами по четкам пробежала, следуя за суровой, неизвестно за какие грехи наложенной епитимьей. Сорок раз – Отче наш, сто пятьдесят – Богородице, еще сорок раз – Верую.
Нет, ни слова правды! Ни единого слова!
Романные маменьки, матушки, maman и даже совсем уже невыносимые благородные матери, над которыми Борятинская столько обливалась сладчайшими книжными слезами, оказались даже не пустой выдумкой, а недоброй шуткой, блекотанием злобного идиота, которого все принимали за равного, за своего. Которого, господи, просто принимали!
Молоко пришло разом, неприятно расперло изнутри – живое, теплое, никому не нужное. Борятинская дернула тесные крючки, еще раз дернула, чувствуя, как намокает на груди тонкая ткань, – об этом тоже не было в книгах, об этих унизительных, стремительно подсыхающих сладких пятнах, о том, как ноет поясница, когда наклоняешься над колыбелью, и как страшно – коротко и хрипло – дышит ребенок в темноте.
И как еще страшнее, когда дыхание это вдруг затихает.
Почему никто не написал об этом? Почему никто не предупредил?
Надежда Александровна попыталась вспомнить, как дышали ее старшие дети, – и не смогла. Детская была на антресолях – две крошечные жаркие комнаты, розовые лампадки в углу, батистовые балдахины над маленькими кроватями. Кормилицы, няньки, мамки. В кукольном этом молочном мирке царил образцовый порядок, хотя Борятинская сюда, кажется, и вовсе не заходила. Но могла зайти – в любую минуту. Это знали все. Го́лоса Надежда Александровна не повышала никогда, но и дважды замечаний не делала. Это тоже все знали. Даже шорох княгининых юбок, прохладный, тихий, наводил на прислугу почтительную оторопь – высокое искусство, овладеть которым мечтала любая хозяйка.
Николеньку и Лизу приносили утром и вечером – в одинаковых пышных платьицах из муслина, розовощеких, вымытых до скрипа, смущенных. Они были погодки, и князь – в те минуты, когда снисходил до этих детских свиданий, – часто путал сына и дочь и сам смеялся добродушно. Впрочем, отец он был нежный. Лизу и Николеньку почти не секли до трех лет, да и после – редко. Они и без этого росли тихими, почтительными – где-то там, во втором этаже, на своей половине. Борятинская иногда – в бальный сезон или если визитов было особенно много – даже забывала, что у нее двое детей. Что они вообще есть. Они и не болели, кажется, вовсе. Во всяком случае, она не помнила, чтобы ей об этом докладывали.
Нянек сменили гувернантки, потом к Николеньке приставили дядьку, были, помнится, бесконечные хлопоты с учителями, очень утомительные, но плоды воспитание давало безупречные. Когда семи лет Николя и Лизу допустили к общему столу, – сперва удостоился сын, следом в дальней части стола появилась Лизина чернокудрая головка, – все умилялись тому, как ловко они управляются с приборами и глазами спрашивают мать, можно ли ответить на заданный вопрос. Говорить, если к тебе не обратились, детям запрещалось настрого. Просить добавки, вообще подавать за столом голос – тоже. Надежда Александровна очень следила за тем, чтобы правильный тон в доме держался даже в таких мелочах.
Колики, зубки, ночные кошмары, дневные шалости – всё, всё прошло мимо.
Она их не любила никогда. Своих старших детей. Теперь это было совершенно ясно. И они ее не любили – да и за что ее было любить? Родители нужны для почитания. Ее собственная мать, вспыльчивая рослая красавица, всего однажды взяла ее на руки, уже восьмилетнюю, сонную, чтобы перенести из дурно устроенной на новом месте детской, и Наденька на всю жизнь запомнила тяжелое и нежное тепло, и высокую материну шею, и сережку с румяной розовой жемчужиной, которая качалась, колыхалась сквозь плывущий сон перед ее слипающимися мокрыми ресницами. Борятинская годы потом вспоминала этот миг – острого, невозможного счастья, не счастья даже, а живой животной близости с существом, частью которого она когда-то была.
Впрочем, ей, должно быть, приснилось все это.
Они с матерью в детстве, как полагается, почти и не видались. Няня тогда ее на руки взяла. Нянечка моя любимая. Няня. Когда ее отослали из дома, как отсылали рано или поздно почти всю прислугу, – мать была гневлива, не угодить, – Наденька рыдала так, что мать избила ее тростью, с которой совершала утренний моцион. А няня только причитала – Христа ради, барыня. И еще – ласточка, ласточка моя. И все тянула руки, подсовывала, чтобы попадало по ней, только по ней. Ноготь большого пальца уродливо перекошен. Отчего у тебя, няня, этот пальчик злой? А это я, ласточка моя, дудочку себе в детстве выреза́ла, а ножик возьми и соскочи. Так что не злой этот пальчик, а горемычный.
И что же? Жизнь прошла. Теперь она сама мать. И не скверная мать. Она любит свое дитя – пусть всего одно, последнее, но Господь милосерден и не сводит такие мелкие счеты. И что с того? Что́ исправила ее любовь? Чему помогла? Исцелила хоть один пальчик горемычный?
Борятинская смахнула со стола еще одну книжную башню. Она не заходила сюда с того дня, когда они с мужем… Не важно. С того самого дня. И кабинет одичал, отвык от нее и теперь прятал искомое, не то обиженно, не то в насмешку. Да где же ты, проклятая? Борятинская вдруг поняла, что не помнит, за какой книгой зашла сюда, что́ вообще искала.
Графа Толстого, должно быть. “Войну и мир”. Единственный упомянул замаранные пеленки, но Надежда Александровна точно помнила, что не так. Тоже не так.
Она взяла какой-то том, потрепанный, мягкий, зачитанный. Может, Монтень? Ей всегда помогал Монтень.
“Опыты” послушно открылись на любимом месте. Впрочем, Монтень был любимым весь. Борятинская поднесла его к подсвечнику, поближе к восковому ровному теплу. Грудь распирало так, что кожа, кажется, не выдержит – лопнет.
“Всякий, кто долго мучается, виноват в этом сам. Страдания порождаются рассудком”.
Надежда Александровна подивилась тому, как могла верить такой глупости. Пролистала дальше, раздраженно облизав палец. Бумага была тяжелая, сырая. Неприятная. Значит, зимой в кабинете плохо топили. Пока она вынашивала свое счастье. Пока ей…
Борятинская вдруг наклонила голову, прислушиваясь. В детской было тихо – она слышала это через две двери, три просторные комнаты, даже не слышала – просто знала.
Только это было другое тихо. Не такое, как всегда. Слишком тихое.
Нет!
Борятинская уронила книгу на пол и пошла из комнат, торопясь и не замечая, что забыла подсвечник и все так же странно, набок, держит голову.
Поверженный Монтень, поразмыслив, открыл новый желтоватый разворот.
“Квинт Максим похоронил своего сына, бывшего консула, Марк Катон – своего, избранного на должность претора, а Луций Павел – двух сыновей, умерших один за другим, – и все они внешне сохраняли спокойствие и не выказывали никакой скорби”.
Контрабандой пробравшийся в дом сквознячок перевернул страницу, любопытствуя – что же дальше.
“Я сам потерял двух-трех детей, правда, в младенческом возрасте, если и не без некоторого сожаления, то, во всяком случае, без ропота”.
Сквознячок шелестнул страницами еще раз и, соскучившись, шмыгнул под гардины, прихватив с собой ближайший, самый слабый огонек.
Свечей в тяжелой жирандоли осталось три.
Скверная примета.
И тут в глубине дома, истошно, на одной ноте, закричала, срывая голос, какая-то женщина.
Перепелка была серенькая, неприметная, сидела, вжавшись в серую же траву, так что Борятинский едва не наступил на нее и шарахнулся, споткнувшись о кочку. Перепелка не шевельнулась даже, и только по прижмуренному черному глазку ясно было – живая. Ты сдурела, что ли, милая? Или голову мне морочишь? Борятинский присмотрелся – так и есть. Рядом с перепелкой лежали несколько легких комков пыли – птенцы. Тоже изо всех сил притворялись мертвыми. Борятинский наклонился, хотел тронуть одного пальцем, и перепелка немедленно раздулась, вспушила перья, пытаясь его напугать или хотя бы накрыть всех птенцов разом. Но сразу же поняла, что напрасно, не сумеет. По спинке ее прошла волна – не дрожи даже, а боли, такой видимой, ощутимой, что Борятинский отдернул руку. Пожалел. Хотя был охотник заядлый, опытный и за сезон, бывало, набивал столько дичи, что и хвастаться совестно.
Перепелка снова застыла, как будто надеялась, что Борятинский пришел не за ней или вовсе не существует, как не существует персональной смерти. Умирают ведь только чужие. А каждый из нас втайне уверен в собственном бессмертии. Борятинский некстати вспомнил особенно удачный выезд на болота, свист крыльев, азарт, приятную боль в натруженном прикладом плече и победное первобытное возвращение домой с трофеями. Наденька, уже заметно брюхатая тогда, вышла на черное крыльцо, увидела груду чирков – едва ли не вровень с верхней ступенькой. Вокруг уже суетились бабы, картаво каркал, распоряжаясь, повар-француз, а ветерок раздувал пушистые перья, тормошил их, топорщил – и гора стреляной птицы шевелилась, будто живая. Как она тогда посмотрела, Наденька. Сперва на гору эту, потом на него…
Кыш, – пробормотал Борятинский и подпихнул бестолковую перепелку носком сапога. – Кыш, пошла отсюда, глупая. И деток своих забирай.
Перепелка трепыхнулась, точно опомнилась, и выводок, то замирая и прижимаясь к земле, то суетливо попискивая, шуркнул в заросли. Будто змея проползла. От жары всё тихо, едва ощутимо звенело – словно листья на жестяном венке, и только солнце, почти невидимое, растворившееся в сером небе, казалось не только беззвучным, но и совершенно неподвижным.
Подбежал, громко пыхтя, гончак – яркий, широкогрудый. Понюхал примятые перепелкой травяные космы, заглянул виновато в глаза. Всё прошляпил, старый ты болван, – беззлобно упрекнул Борятинский, и гончак уронил разом уши и хвост. Застыдился. Борятинский погладил его по рыжей горячей голове, почесал пятно на холке – характерное, чудно́е: будто бабочка присела, расставив белые крылья, на собачью шкуру. Шерсть под пальцами была странная, неживая.
Борятинский поднял голову – и понял вдруг, что лес тоже неживой, нарисованный. Нет, не нарисованный даже, а отпечатанный на сереньком небе, будто гравюра из детской книжки. И башня на горизонте – нерусская, зубастая – тоже была из той же книжки с давно позабытым названием. Серое вокруг сгустилось, чавкнуло – ненастоящее, опасное, и гончак, словно почуяв это, прижался боком к ноге и глухо заворчал. Ну что ты, Пилат, – укорил Борятинский. Но пес, захлебываясь от страха, заворчал громче, совсем громко, с почти человеческими интонациями – конч, конч, конч…
Кончается! – сказал тоненько детский голос.
И Борятинский проснулся.
Он лежал на диване в своем кабинете, неудобно запрокинув голову, и, должно быть, храпел ужасно. Егор, камердинер, переминался в дверях, и свеча выхватывала из темноты то его седые бакенбарды, то ряды крепко стиснутых книжных корешков. Борятинский сел, потер затекшую шею, зашарил ногами в поисках домашних туфель. Да где же, будь они неладны… А! Вот. И еще одна.
Я Пилата во сне видел, Егор. Представляешь? Все-таки лучше пса у меня не было. Восемь лет замену найти не могу…
Кончается, Владимир Анатольевич, – повторил Егор виновато, не своим, тонким, дребезжащим от слез голосом. – Надежда Александровна велели…
Борятинский не дослушал, ахнул и, на ходу запахивая халат, побежал.
В детской было жарко – как в только что виденном сне, метались какие-то исступленные бабы, совсем незнакомые. Борятинский с трудом узнал растрепанную потную Танюшку, которая отталкивала одну из баб от колыбели, очень тихой, страшной. Ни звука оттуда не доносилось. Совсем ни одного. Дышать было нечем абсолютно – будто нырнул с головой под ватное одеяло. И вонь, господи! Что за вонь! Борятинский поискал глазами жену – и не нашел. Вышла? вынесли? Таня, рявкнул он, Таня, какого черта! Где Надежда Александровна? Танюшка обернулась, и баба, которую она пыталась оттащить, улучила момент, выхватила из колыбели ребенка, маленького, твердого, как полено. Совершенно очевидно – неживого.
Танюшка всплеснула руками – да что же это! Отдайте! Но баба оттолкнула ее, забилась куда-то в угол, в кресла, и, всем телом загородив ребенка, вдруг оскалилась. Сколько раз Борятинский видел такое на охоте! Это движение боком и задом. Закрыть. Защитить. Эту угрожающе вздернутую верхнюю губу. Это отчаяние, эту ярость. Этих беспомощных и страшных матерей. Волчихи, медведицы, зайчихи. Что там зайчихи – перепелка, даже та, ненастоящая, во сне, тоже была бы рада его убить. Просто не могла. Она могла только умереть. И умерла бы. Любая бы умерла. Лишь бы не…
Смертию смерть поправ, достигшее самой основы жизни. Ее сути.
Баба вдруг прошипела сквозь оскаленные, стиснутые зубы – Meisel, faites venir Meisel immédiatement![17] – и только теперь Борятинский ее узнал.
Это была Надя. Наденька его.
Княгиня Надежда Александровна Борятинская.
Урожденная фон Стенбок.
Кучер спросонья был особенный дурак – икал, крестился, путал постромки и не поумнел, даже когда князь крепко сунул ему в зубы. Борятинский схватил седло сам, метнулся по деннику, но Боярин, чуя кровь от ссаженных костяшек, скалился, бил копытом, а потом и вовсе надул предательски пузо, так что пришлось не по-княжески совсем, охлюпкой, но это ничего, ничего. Лишь бы успеть.
Мейзель жил в десяти верстах всего, у Боярина даже шерсть не потемнела, но Борятинскому показалось – прошла вечность, настоящая, ветхозаветная, не наполняемая ничем. Все было ночное, жуткое, незнакомое, бросалось то в глаза, то под копыта, ухало, обдавало сырыми теплыми вздохами. Хрипло, коротко, как удавленник, вскрикивала неподалеку какая-то птица и замолчала, как только Борятинский спрыгнул с коня в мокрую черную траву. Окно у Мейзеля светилось ровным ясным светом. Борятинский пошел, потом побежал на этот свет – и птица захрипела снова, как будто летела где-то рядом, в темноте, страшная, невидимая, неотвязная. И только на крыльце, колотя в дверь, когда птица не захрипела даже – заклокотала, Борятинский понял, что никакой птицы вовсе нету.
Это дышал он сам. Он сам.
Мейзель вышел сразу, свежий, спокойный, словно не спал – а может, правда не спал, сидел в комнате, нет, даже в пещере, наполненной таинственными устройствами, читал что-то умное на никому на свете, кроме него, не известном языке, размышлял. И вообразить было нельзя, чтобы человек, способный спасти Наденьку, играл в вист, кушал лапшу или прел под тяжелой периной. Борятинский растерялся, не зная, как сладить с горой нелепых светских условностей. Сударь! Нет. Милостивый государь! Нет. Не соблаговолите ли вы… Нет. Не откажете ли вы в милости… Нет. Не будете ли вы так любезны… Черт! Сначала отрекомендоваться! Борятинский вдруг понял, что стоит на чужом крыльце в халате, в мятой сорочке и домашних туфлях – растрепанный, перепуганный человек, не знающий, как обратиться за помощью к другому человеку.
Я вас узнал, князь, – сказал Мейзель просто. – Что случилось?
Борятинский попытался объяснить всё сразу, то есть вообще – всё, включая птицу, ночную езду и то, как дико, как страшно Наденька оскалилась, но снова сбился и замолчал, чувствуя себя валким косноязыким идиотом – не хуже собственного кучера. Даром что по зубам дать некому.
Всё очень скверно, – едва выдавил он. – Очень! Ради всего святого…
Мейзель помолчал несколько секунд и вдруг ушел – просто ушел, закрыв за собой дверь. И окно в доме почти сразу погасло.
Борятинский остался совершенно один, в темноте, как в детстве, и даже услышал запах только что погашенной толстыми пальцами свечи, и ровное дыхание спящих братьев, и шаги неумолимого дядьки, торопившегося к себе в комнату, к невысокому шкапчику с заветным штофом. Ужас, тогдашний, детский, никуда, оказывается, не девшийся, толкнул в горло, под коленки, лишил последних сил. Борятинский понял, что сейчас упадет, просто ляжет на крыльцо, натянет на голову халат и будет скулить, отбиваясь от невидимых демонов, пока наконец не рассветет, потому что никакой надежды не было, никакой совершенно надежды – надежды спастись, спасти жену, дочь, самого себя, даже надежды вырасти, потому что вырасти из детства оказалось просто невозможно.
Дверь открылась снова, и вышел Мейзель – с саквояжем.
Поедемте скорее, князь, – сказал он. – Где ваш экипаж?
Боярин, удивившийся, кажется, куда больше Мейзеля, второго седока выдержал легко и на обратной дороге не сбавил ни рыси, ни темпа, так что Борятинский, сам поражаясь своей способности думать о ерунде в такой неподходящий момент, в очередной раз прикинул, что надо бы покрыть и Ласточку, и Оду, а то и прикупить еще маток. Хороший коник. Резвый. Доброезжий. Глядишь, так и наберется потом на новый выезд.
Мейзель сидел впереди, чуть светился в темноте его перчено-седой колючий затылок, горячая широкая спина Боярина мягко, сильно покачивалась, и, несмотря на то что обнимать так тесно едва знакомого мужчину было неловко, Борятинский вдруг понял, что почти совершенно успокоился. От Мейзеля пахло почти так же хорошо, как от Боярина, – какой-то сухой разогретой травой, в которой стрекотали такие же сухие, ароматные цикады, италийские, невиданные, заблудившиеся, как он когда-то с Наденькой между Пизой и Флоренцией, в самой глубине глазастой иноземной ночи, медовой, горячей, как Наденькины губы, как их первое взрослое путешествие вдвоем – далеко-далеко, в чужой плывущей карете, по чужой плывущей земле…
Как она? – вдруг громко спросил кто-то совсем рядом, и Борятинский второй раз за эту нескончаемую ночь проснулся, испуганный, с разинутым наждачным ртом. Было все еще темно, но по краю поля уже мазнули будущим слабым светом. Мейзель, не оборачиваясь, повторил вопрос, и Борятинский снова (не слишком ли часто?) растерялся, не зная с чего начать.
Совсем себя потеряла. Из детской не выходит. Пыталась даже кормить сама…
Я про девочку. Мне сказали, Надежда Александровна родила дочь, верно?
Борятинский даже скривился, вспомнив, как самолично велел вытолкать Мейзеля за дверь. Просили передать, что в ваших услугах не нуждаются. К барыне настоящий доктор прибыли – из Петербурга-с.
Я должен принести вам свои извинения…
Мейзель перебил, невежливо, недопустимо:
Вы ничего мне не должны, князь. Как и я вам, впрочем. Девочка давно заболела? Что с ней?
Я не знаю… Мне сказали – кончается. Должно быть, уже умерла. Царствие небесное. – Борятинский быстро, стыдливо перекрестился, чтобы от самого себя скрыть, что ничего не чувствует. Да и что было чувствовать, господи? Девочка! Он едва ли два раза видел ее за все это время. Наденька не подпускала к детской никого, сама оттуда неделями не выходила…
Остановите, – приказал вдруг Мейзель. Борятинский не ослышался – не попросил, именно приказал. Боярин, словно тоже почувствовав эту тихую чужую волю, всхрапнул, сам перешел на шаг и встал у въезда в усадебный парк, непроницаемый, как будто вырезанный из черной фольги и наклеенный на такую же черную, но уже бархатную бумагу. Мейзель спешился (неприятно ловко – не по званию, не по сословию, не по чину) и быстро пошел назад.
Je vous l’interdis[18]!
Борятинский не закричал даже – завизжал, невыносимо, как заяц, раненый, погибающий, уже понимающий, что всё кончено, всё, совершенно всё.
Наденька, господи! Впервые за долгие месяцы снова заметила его, попросила! Что он скажет? Как объяснит?
Борятинский тоже спрыгнул с Боярина и побежал за Мейзелем следом.
Вы не смеете! Стой, мерзавец, или я буду стрелять! Князь захлопал себя по безоружному халату, одна туфля, дорогая, тонкая, тотчас позорно дезертировала, другая промокла насквозь, чавкнула, жалуясь на непотребство. Борятинский едва не упал, оскользнувшись.
Подлец! Подлец! Подлец! – закричал он снова, ужасно, тонко, ломко, как мальчишка, адресуясь то ли Мейзелю, то ли себе самому, то ли Богу, но откликнулся только Мейзель, откуда-то из-за деревьев.
Сюда, – уже привычно приказал он. – Так можно спрямить к дому, я знаю дорогу.
Борятинский постоял секунду – и бросился на голос.
В детской ничего не изменилось, Борятинская даже, кажется, позу не поменяла – так и сидела, крепко прижав к себе спеленутого ребенка. Разве что бабы перестали метаться и стояли теперь в ряд вдоль стены. Танюшка, кормилица и две няни. Поджав разом руки и губы, с одинаково постными твердыми лицами – будто в почетном карауле, нет – в ночном дозоре, потому что единственная свеча едва дрожала в круге маленького, смуглого, совершенно рембрандтовского света.
Мейзель распахнул дверь – резко, будто хотел ее выбить, и свеча тотчас заплясала, задвигалась, превращая Рембрандта в Босха. Мейзель ахнул от вони, от жары – и выхватил у Борятинской девочку, грубо, рывком. Стянул чепчик – мотнулась маленькая темноволосая головка, запавшие веки, взмокшие завитки. Мейзель попытался распеленать, накололся на булавку, вбитую в свивальник до самой кожи, господи, еще одна, еще! Свивальник все не заканчивался, метры и метры жесткого льняного полотна, закоржавевшее кружево. Как замотали, нелюди! Пальцы Мейзеля, все в йодистых коричневых пятнах, тряслись, волны вони, гнева и духоты накатывали попеременно, так что в какую-то секунду ему показалось, что он не выдержит, сорвется. Давно было пора – уже много лет. Но тут девочка шевельнулась и запищала, сначала слабо, придушенно, но с каждой минутой все увереннее, все сильнее, как будто давала Мейзелю знать, что жива, что все еще надеется на спасение.
Мейзель распеленал ее наконец, выпутал и даже зашипел от жалости: пергаментная кожа, вздутое щенячье пузцо, судорожно стиснутые синеватые пальчики. Сколько он видел таких, господи, сколько – кажется, надо давно привыкнуть, закрыться изнутри наглухо, очерстветь, но он не мог, просто не мог. Со спокойным сердцем отпускал взрослых – зарезанных, поломанных, замерзших спьяну и удавившихся с тоски, умерших от удара и болезни кишок, ращения утробы и нарыва на глазе. Делал, что мог, если не получалось – отходил в сторону с сожалением, но без боли. У взрослых был выбор, и не важно, как они им воспользовались. Выбор – был. Бог дал, Бог взял – это было про них. Про взрослых. Детям Бог не дал ничего, значит, не смел и отбирать. Поэтому каждую смерть ребенка Мейзель считал личным вызовом, прицельным, мстительным плевком в собственное лицо.
Это был его персональный крестовый поход. За детей. На деле – бесконечная битва с ветряными мельницами, конечно. Дети умирали. Крестьянские – тысячами. Тысячами! Малярия, дифтерия, оспа, холера, тиф. До земской реформы 1864 года на всю Воронежскую губернию приходилось семь врачей. После – прибыло еще сорок. Легче не стало. Хуже всего было летом – и Мейзель ненавидел его люто. Июнь, июль и август были временем самой тяжелой крестьянской работы, и если родившиеся в осень и зиму еще могли чудом увернуться от кори или пневмонии, то летние дети умирали от голода. Почти все. Почти все! Единственная больница брала с каждого страждущего шесть рублей тридцать копеек в месяц. Немыслимо дорого!
Каждое лето Мейзель бесконечно мотался из одной смрадной избы в другую, пытаясь сделать хоть что-то, хоть как-то помочь. Напрасно. Матери уходили в поле еще до света, возвращались затемно. Новорожденных оставляли на младших, чудом выживших детей, на полоумных стариков. Или совсем одних. Счастье, если в доме была корова. Если нет… В лучшем случае нажевывали в тряпку хлеба с кислым квасом или брагой, в худшем – давали рожок, самый обычный коровий рог, к которому привязывался отрезанный и тоже коровий сосок. В рожок заливали жидкую кашу. К вечеру, в жаре, сосок превращался в кусок тухлого мяса, каша закисала. В такой же кусок тухлого мяса часто превращался и сам младенец, которого сутками держали в замаранных тугих свивальниках, так что Мейзель часами потом вычищал из распухших язв мушиные личинки без малейшей надежды, что это поможет, просто повинуясь совести и долгу.
Он всё понимал, ей-богу: каторжная работа, усталость, невежество, да что там невежество – настоящая дремучесть; он не понимал только одного – почему в избах была такая чудовищная, невообразимая грязь? Почему каша в рожке, и без того дрянная, часто была с тараканами и трухой? Почему дети червивели заживо? Почему нельзя было, ладно – не вымыть, но хотя бы проветрить? Перетряхнуть кишащие вшами и блохами лежанки?
Это был вопрос не врача, а отчаянно, почти патологически брезгливого человека. Коллеги Мейзеля если и ушли от крестьян, то всего на пару шагов. Из мертвецкой в родильную палату входили в одном и том же сюртуке, и в нем же отправлялись на дружескую пирушку. Земмельвейс, попытавшийся привить медикам любовь к мытью рук раствором хлорной извести, умер в шестьдесят пятом, чокнутый, осмеянный, в сумасшедшем доме. Мейзель и слыхом о нем не слыхивал, разумеется, не догадывался, что через тринадцать лет всего воцарится карболка, врачи разом, будто не было никакого затравленного Земмельвейса, заговорят об асептике и антисептике, о стерильности, об обработке ран и рук. Просто грязь и плоть были невыносимы ему физически. И кровь. Особенно кровь. Полнейшая по сути профессиональная непригодность.
Мейзель осторожно прощупал живот ребенка – вздутый. Паучьи ручки и ножки. Огромная голова. Девочка дышала прерывисто, поверхностно. Но еще дышала. Она тоже умирала от голода, господи! Княжеская детская. Батистовые пеленки. Шелковые диваны. Та же дикость. То же невежество. Тот же смрад. Мейзель достал из саквояжа шприц, набрал камфару, долго выбирал, куда уколоть, но понял, что так и не выберет. Некуда. Игла вошла в натянутую сухую кожу. Ребенок перестал пищать, коротко застонал и снова затих.
Бабы разом перекрестились. Борятинская сидела все так же неподвижно, уронив опустевшие руки и глядя перед собой светлыми, совершенно сумасшедшими глазами.
Грязь! – заорал вдруг Мейзель. – Почему тут такая грязь?! Почему нечем дышать?!
Бабы переглянулись.
Трясовицы ходют, не ровён час… – низко, в нос, сказала кормилица, молодая, задастая баба, смуглая, гладкая, как породистая кобыла. И даже взгляд у нее был совершенно лошадиный – диковатый, испуганный, темный. Боялась, что погонят с теплого места.
Окна! Окна открыть немедленно!
Бабы снова переглянулись. Мейзель был им никто, немчура, даром что ученый. Отставной козы барабанщик. Не сама коза даже. Тогда Мейзель, не выпуская из рук ребенка, сам затрещал неподатливыми рамами, путаясь в тяжелых пыльных гардинах и ругаясь, пока предрассветный воздух наконец не оттолкнул его плотным плечом и не вошел в детскую – огромный, прохладный, квадратный, полный запаха сырой травы и гомона просыпающихся птиц.
Девочка судорожно вздохнула и снова запищала.
Борятинская на секунду вскинула голову, прислушиваясь, – и лицо ее опять захлопнулось, застыло. Она покачала пустые руки и тихонько, ласково, на одной ноте, запела – а-а-а! а-а-а! Мейзель осторожно положил ребенка в колыбель, подошел к Борятинской и отпустил ей короткую, сильную пощечину. Голова княгини мотнулась, Танюшка ахнула и снова перекрестилась.
Борятинская прижала ладонь к распухшей щеке, и глаза ее потемнели, медленно наливаясь слезами. Ожили. Гнев улетучился, теперь Мейзелю было жалко ее так же, как ребенка. Она хотя бы страдала. Оплакивала свое дитя. Мейзель только раз видел крестьянку, рыдающую над мертвым тельцем. Август. Первенец. Жара. Другие крестились и говорили – вот спасибо, развязал Господь. Выродки! Настоящие выродки! Не люди!
Почему вашего ребенка не кормят, ваше сиятельство? – раздельно, громко, будто разговаривал с глухой, спросил Мейзель.
Как это не кормят! – ахнула кормилица и вдруг стала копаться у себя за пазухой, будто искала на дне мешка что-то важное и дорогое – соскользнувшее венчальное кольцо или завалившийся образок. – Как же не кормят!
Мейзель наклонился ниже.
Вы знаете, что ваш ребенок умирает от голода?
Борятинская посмотрела испуганно – уже совсем, слава богу, в себе.
Я хотела сама, – сказала она виновато. – Хотела сама. Но она не ест. Не хочет мое молоко. Не берет…
Кормилица закончила наконец свои поиски и вывалила на ладони голые груди – громадные, смуглые, тугие. От голода! – сказала она сварливо. – Да я мужика взрослого выкормлю, коли надо будет!
Хлопнула дверь. Мейзель оглянулся – это был нагнавший его наконец-то князь Борятинский, заблудившийся в собственном парке, окончательно утративший вторую туфлю, исцарапанный, потный, весь облепленный паутиной и невесомым июльским сором. Великолепное кормилицыно вымя так и прыгнуло ему в глаза – и Борятинский смущенно заморгал, не зная, что приличнее – смотреть или отвернуться. Все светское, привитое, вколоченное с детства, делавшее мир понятным и простым, не работало этой ночью, словно князь действительно оказался в страшной сказке.
Мейзель подошел к кормилице, осмотрел грудь, пощелкал пальцами – и кормилица тотчас поняла, брызнула ему на ладонь теплой молочной струйкой. Мейзель лизнул – и тут же коротко сплюнул. Срыгивает? – спросил он Борятинскую. Та кивнула. Кормилицу меняли? Эта третья уже, – вмешалась Танюшка, снова почуявшая в Мейзеле опасного фаворита, но не решившая еще, жрать его или угождать. – Полусотню перебрали, выбирая-то, никак не меньше.
Мейзель смерил старую горничную тяжелым взглядом и пощелкал пальцами еще раз. Борятинская тотчас поняла, послушно потянулась к лифу.
Какого черта! – возмутился Борятинский. – Что вы себе позволяете!
Но Надежда Александровна уже расстегнулась. Бледная кожа, синеватые надутые жилки. Сорок четыре года. Старуха по всем законам – и по божеским, и по человеческим. Мейзель слизнул молоко с ладони – и сплюнул еще раз. Борятинская опустила голову. Мейзель легко, как священник, дотронулся до ее макушки. То ли отпустил грехи, то ли привычно принял их на себя. Борятинская всхлипнула.
Мейзель обвел глазами детскую и сухо распорядился – окна держать открытыми, в любую погоду, всегда. Про свивальники забыть. Приготовить сахарную воду. И вот сюда поставить кушетку – для меня.
Сахарную воду? – переспросила Танюшка. – Как для кашлю?
Мейзель подумал, сморщился – просто велите принести сахар, спиртовку и воду. Много воды. Прямо сейчас! Я всё приготовлю сам.
Бабы поспешили, пихаясь локтями, сталкиваясь. Борятинский невольно посторонился, как посторонился бы, пропуская всполошившихся лосих.
Борятинская подняла голову, вытерла глаза и нос – по-детски, рукавом. Хлюпнула даже.
Почему она не ест, Григорий Иванович?
Жара. Духота. Дрянное молоко. Свивальники эти ужасные. Ей, простите, пёрднуть некуда, не то что есть.
Она же не умрет?
Мейзель подошел к колыбели, взял девочку на руки, взвесил, словно раздумывая.
Надеюсь, что нет. Но на одной сахарной воде точно не вырастет. Придется завести козу…
Простите! – Борятинский даже поперхнулся. – Кого надо завести?
Козу. Будем разводить молоко – половина воды, половина молока. Я сам буду разводить. Мы ее выкормим. – Мейзель еще раз взвесил девочку на ладони. – Красавица какая! Как вы ее назвали, княгиня?
Борятинская слабо улыбнулась.
Туся. Наташа. В честь Наташи Ростовой. Вы же читали Толстого? “Война и мир”.
Нет, – спокойно ответил Мейзель. – Я не читаю ерунды. И вам не советую.
Пять лет спустя, в 1875 году, когда в “Русском вестнике” вышла первая книжка “Анны Карениной”, Надежда Александровна сидела в той же детской, глядя в сад сквозь распахнутые огромные окна. Среди яблонь носилась, играя с Мейзелем в салки, Туся, высоко задирая жирные ножки и пронзительно вереща. Она была в одной рубашечке – бегала так, по настоянию Мейзеля, до самых холодов. Никогда не болела, слава богу. Ни разу. Надежда Александровна сморгнула, перекрестилась украдкой – Мейзель не любил ни веры, ни суеверия. И напрасно – в него самого Борятинская теперь верила куда больше, чем в Бога.
После той страшной ночи ни в одном доме Борятинских, ни в одной их усадьбе не осталось ни единой книги. Громадная, годами собиравшаяся библиотека была раздарена, расточена, распылена. Уничтожена. Из воронежской усадьбы они больше не выезжали.
Надежда Александровна была счастлива. Да, счастлива. Несмотря на то что Туся – в свои пять лет – еще не сказала ни одного слова. Ни единого. Мейзель уверял, что это совершенно естественно. Ребенок прекрасно слышит, весел, смышлен, выполняет все распоряжения, живо всем интересуется. Молчание в данном случае – признак особенного ума. Не будем мешать природе, она сама всё управит.
Врал. Постыдно. Бессовестно.
Ничего естественного в Тусином молчании не было. Она была немая. Совершенно. Немтырь. Захлопнувшая шкатулка.
И самое страшное, что Мейзель не имел ни малейшего представления, что с этим делать.
Глава вторая
Отец
Пращур его, тихий лекарь Йоганн Мозель, был живьем зажарен на вертеле.
Великая Русь. Москва. Мороз. Опричнина. Воронье.
Лето от Рождества Христова тысяча пятьсот семьдесят девятое.
Мозеля схватили на улице, худенького, перепуганного, – отчаянный заячий крик, шапка, затоптанная в грязном снегу. Он был виновен лишь в том, что оказался уроженцем вестфальского Везеля – и, значит, земляком всесильного Элизеуса Бомелиуса, возможно, мошенника, несомненно – недоучки, и – вот она глупость, вот истинная вина! – личного дохтура Иоанна Грозного, Государя, Царя и Великого князя всея Руси. На дыбе, едва живой уже, Мозель Богом клялся, что ни разу в жизни не видал Бомелиуса ни издали, ни в едином шаге, но даже Бог не хотел это слушать, даже Он.
Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене.
Нет, не внемлет. Отвернулся. Все напрасно.
По делу об отравителях царя хватали десятками. Изобретательный психопат на троне. Перепачканный кровью, прихваченный дымом допросный лист.
Всегда один и тот же. Всегда все тот же.
Жена Мозеля только вернулась от пастора, шубейки еще не расстегнула (словно не решаясь выпустить махонькую, тихо пригревшуюся на груди веру), как ворвалась перепуганная кухаркина дочка, залопотала, мешая немецкие и русские слова. Жена Мозеля поняла сразу, ахнула коротко, утробно, как от удара, и бросилась в комнату – к детям.
Трое.
Годовалая Анхен в корзинке – щеки опять красные, всю ночь басовито ныла, отращивала себе новый зубок. Четырехлетний Георг, кудрявый, как отец, такой же серьезный. И десятилетняя Ансельма. Вскочила с лавки, округлила пушистые светлые глаза – что, мама? Совсем взрослая, худенькая, на запястьях – красные костяшки. Единственная родилась не здесь. Всё, что они привезли с собой в Московию с родины.
Честные руки Йоганна Мозеля. Его доброе сердце. Лекарскую сумку.
И Ансельму.
Трое.
Время дернулось несколько раз и колом встало посреди комнаты, натопленной до малиновой одури, тесной. Жена Мозеля схватилась за горло, сжала чужими холодными пальцами, точно это могло помочь. В оконце, затянутое бычьим пузырем, заглянуло январское солнце, крошечное, жуткое, ухмыльнулось криво, как параноик, – и исчезло, спряталось за рябой птичьей стаей. Будто занавесилось.
Трое!
Что, мама?!
Жена Мозеля не ответила, только ахнула еще раз – и побежала, побежала, побежала опять, сперва перескакивая ступеньки, потом по галерейке и дальше – проулком, кривым, как судьба, еще одним, таким же коротким и страшным, потом по тракту, дальше, дальше – белесые растрепанные волосы, белесые остановившиеся глаза, так и не перевела дух до самого Ревеля и только всё прятала на груди головку Георга, тяжеленького, теплого, – не смотри, сынок, не смотри.
Но он все равно смотрел – и навсегда запомнил страшное дивное сияние снега и огненное закатное небо, прошитое колокольным гулом и торжественным вороньем.
В Ревеле мать наконец остановилась и в три дня умерла – будто опомнилась. Георга забрал проезжий вестфальский купец, рыжий, толстый, важный. Завернул в шубу и увез, прижав к огромному, как будто даже жидкому пузу, прочь, прочь от Ливонской войны, от Руси, – держись от московитов подальше, сынок, дикий народишко, дикий и трусливый, они все рабы своего царя, и царь у них такой же – настоящий зверь.
Под шубой стояла плотная, кислая вонь, от которой слезились глаза, Георг задыхался, а купец все бубнил и бубнил, гудел гулким брюхом в самое ухо. С каждой верстой становилось теплее и грязнее, они въезжали в весну, вползали в нее – медленно, неотвратимо, как будто мир действительно оттаивал, отдаляясь от Москвы. Полозья сперва стали застревать, потом заскреблись жалко, как зазябшая собака под дверью, и наконец под ногами застучали, мягко переваливаясь, колёса. Снег, долго-долго слабевший, исчез вовсе, словно его и не было. Георгу это не понравилось, он завозился, попытался пожаловаться – но не смог.
Да и купец все равно никого, кроме себя, не слушал.
Вестфальская земля оказалась зеленой, кудрявой, и даже птицы тут не орали, а звучали – торжественно, радостно, слаженно, как орга́н. Невидимая точка на горизонте, к которой Георг с купцом стремились, обрела наконец очертания, словно сбывающаяся мечта: темная, самую малость зачерствевшая стена, два собора, острая геометрия крыш. Город все наплывал, наплывал, потом глуховатый стук колес сменился грохотом, и повозка въехала на центральную площадь.
Везель, – объявил купец торжественно и поставил Георга на брусчатку. Мальчик закинул голову – небо было безоблачное, яркое и совершенно пустое. Вкусно пахло горячим хлебом с анисом и кориандром, сытостью, свежей грязью и таким же сытным, свежим, парны́м дерьмом. У са́мого соборного шпиля болталась клетка, в ней дотлевало какое-то умертвие.
Георг зажмурился.
Всегда уповай на Господа, сынок, – назидательно прогудел купец, подбирая поводья. – Держись только своих. И помни, что ты – свободный гражданин свободного города.
Георг кивнул и зажмурился еще крепче. За долгую дорогу он завшивел, отощал и разучился плакать. Своих у него больше не было. Совсем.
Купец, довольный, что развязался с богоугодной обузой, причмокнул, лошадь дернула мохнатой спиной, и через несколько минут от прошлого Георга не осталось даже грохота.
С-своб-бодный, – попробовал повторить он, но не смог. Звуки стали густыми, вязкими, налипли на нёбо, как вишневый клей. Отец учил его есть вишневый клей. В Москве. У них был свой сад. И вишни.
Всё, что Георг хотел, – вернуться домой.
Когда он в следующий раз открыл глаза, то снова увидел снег. И Москву. У ног Георга стояла лекарская сумка.
По величанию как?
Двадцать пять лет. Худой, как отец, такой же упрямый. Правда, уже не такой же кудрявый. Темя словно обглодало – временем, ветром, и макушка торчала – голая, беспомощная, розовая. У отца не так было. Он подбрасывал Георга – высоко-высоко, сажал на плечи. И макушка у него была кудрявая, плотная, как руно.
Георг помнил. Макушку вот эту. Вишневый клей.
И еще – снег.
Дьяк из Посольского приказа потерпел еще немного, выжидающе вися пером, и уточнил на глухом неповоротливом немецком – не надо ли толмача.
Георгу было не надо. Двенадцать лет учебы. Ляйпциг. Штрассбург. Лейден. Оксфорд. Парис. Падова. Шесть языков. На всех заикался ужасно. Цесарский, латинский, французский, итальянский, голландский.
И русский, да. Он не забыл.
Отроком бросался к редким купцам-московитам – п-п-па-а-аж-жа-алуйте! Плюясь от радости, спотыкаясь. Тощий, нескладный. Многие чурались, шарахались, как от юродивого, обливали с перепугу грязной площадной бранью.
Растряси тебя хуеманка, залупоглазая ты проёбина!
Георг не огорчался, не унывал. Нравом тоже пошел в отца – легкий, слабый, упрямый. Грязь – та же земля. Брань – те же слова. Складывал одно к другому. Повторял внутри себя – там, где всегда говорил легко, гладко. Свободно.
Русский мат оставался свободным всегда. Только с ним Георг не заикался.
Так по величанию как?
Дуроёб отпетый.
Чиво?!
Дьяк вздернул башку, ошеломленный.
Причудилось?
Угорел?
Обожрался с вечера молочной каши?
М-м-м-мо-оэ-э…
Георг замычал привычно, без отчаяния, – обычные человеческие слова приходилось тянуть из себя, как проглоченную веревку, трудно, почти рвотно давясь. Изблюю тебя из уст Моих. Дьяк машинально погладил себя по животу и даже скривился от сочувствия и скуки. Все-таки каша. И правду сказать – выжрал на ночь целый чугунок. И никто ведь не неволил.
Г-г-ге-эор-р…
Да понял, понял я, болезный. А по батюшке? Отец есть? Как величали, знаешь?
Георг засмеялся даже, кивнул.
И-и-ио-о-о-о…
Дьяк покачал головой, и, не чая конца этой фонетической муке, высунул язык, и вывел по своему разумению – Мейзель Григорий Иоаннович. Иванович тоись.
Георг не стал поправлять. Зачем?
Новоявленный Григорий Иванович Мейзель вышел из приказа, щурясь на закатное солнце, на огненный снег. Россыпь ярких шаров конского навоза – будто спелые каштаны. Печные дымы, подпирающие небо, густо наперченное вороньем. Все было, как он помнил. Только лучше. Пахло прелой соломой, березовыми дровами, живыми, горячими лошадьми. Москва гомонила, визжала санями и девками, ухала, колыхалась внутри кремля темной веселой жижей и то закручивала люд гулким водоворотом, то застывала, вылупив нахальные глаза и раззявив рот.
Какая-то бабенка, щекастая, рыжая, в сбившемся платке, завела на ходу протяжную, сильную песню, но шарахнулась от пьяных стрельцов, захохотала, шмыгнула в едва заметную дверь – будто лиса в отнорочек. И только голос ее, прекрасный, высокий, еще несколько секунд звенел на морозе, пока не застыл и не рассыпался колкой ледяной крупкой.
Мейзель сам не заметил, что улыбается. Шел тысяча шестисотый год. Хорошая, легкая дата для начала новой жизни. Впереди был великий голод, продолжение Великой смуты, плач и скрежет зубовный, Лжедмитрий, Семибоярщина, первый Романов и последний защитник осажденной Лавры, но Георг всего этого не знал – и потому не боялся.
Он вернулся домой, он смог.
Он смог!
Рожденный при Иване Грозном Георгом Мозелем, Григорий Иванович Мейзель умер при Алексее Михайловиче Романове в своем собственном доме, окруженный взрослыми правнуками и стареющими внуками, легкий, светлый, костяной, восьмидесятитрехлетний. В 1658 году. Он никогда не искал сестер, даже не пытался, – и никогда не говорил о них ни сам с собой, ни с другими, но дочерей назвал Анхен и Ансельма, и всегда очень жалел баб – всех, любых, старых и малых, словно надеялся хоть так искупить невозможную вину.
Мать ведь выбрала его, потому что он был мальчик. Мужчина. Георг это быстро понял. Очень быстро.
Каждый обитатель тогдашнего тварного мира был чьим-то рабом – господина или государя, Господа Бога нашего Иисуса Христа, да хотя бы и просто своего дома, поля либо ремесла. Это была настоящая лестница, грубая, страшная, ведущая из дерьма до самого неба, но женщины, бедные, были ниже любого дерьма – и служили всем. Даже самые родовитые из них ценились меньше бессловесного скота. Да что там говорить – добрую корову иной раз берегли крепче, чем какую-нибудь княжескую дочку, рожденную в палатах, но не смевшую поднять без воли батюшки или мужа ни голоса, ни глаз, ни головы. От коровы был толк – молоко, приплод и мясо, а баба, даже самая сладкая, была просто баба. Инструмент для воспроизводства. Раба самого распоследнего раба.
Это было не только на Руси, конечно. “Хороша ли женщина, плоха ли, ей надо изведать палки”, – так говорили везде, во всей Европе.
Так везде и поступали.
А Георг не мог. Заика, почти немой (дважды, выходит, немец), он помнил по именам и баб, и их детишек (даже умерших, которых и сами-то матери не помнили) – выговорить толком не мог эти имена, но знал, и бабы это понимали. Чуяли. Притерпевшиеся ко всему, кроме самого простого сердечного участия, они поначалу терялись, искали в Георге похоти или хотя бы корысти и, не найдя, привязывались к нему почти исступленно. Всякое могло случиться, но Мейзель блюл себя крепко и женился не удом, а головой – на тихой немочке, бледной, неяркой, как огонек дневной свечи. И так же, как от дневной свечи, шло от нее ровное тепло и едва видимый, но ощутимый свет.
На маму была похожа. Очень.
Георгу так казалось.
Сам того не замечая, он жил, как велел когда-то бросивший его в Везеле купец, – держался своих и более всего ценил личную человеческую свободу. Все его дети были грамотными, даже дочери, все умели уважать себя – а значит, и других, все почитали служение делу и людям важнее служения отчизне и даже Богу. Труднее всего следовать самым простым правилам. Но Мейзели были упрямы, потому и две с лишним сотни лет спустя оставались немцами, не смешиваясь с русским миром, как не смешиваются уксус и масло.
Кроме Ансельмы и Анхен жена родила Георгу двух сыновей. Старшего назвали Йоганн, в честь деда, младшего – Георг, как отца. Оба тоже стали врачами. И с той поры в каждом поколении Мейзелей дочери были Анны и Ансельмы, а сыновья носили имена Йоганн или Георг – и не важно, что другие звали их Иванами и Григориями. И еще – хотя бы один из мальчиков в семье непременно становился лекарем. Это было словно заикание, заикание целого рода в память о мальчишке-сироте, который жрал объедки, чтобы вернуться в город, где его отца зажарили живьем. И когда история, как по ступеням шагая по державным Петрам, Екатеринам и Александрам, добралась наконец до середины девятнадцатого века, Григорий Иванович Мейзель, сам потомственный врач, не понимал только одного – почему мальчишка этот вернулся, чтобы лечить, а не для того, чтобы всадить Иоанну Васильевичу Грозному, Государю, Царю и Великому князю всея Руси, арбалетный болт между глаз?
Почему вообще никто этого не сделал? Никто и никогда?
Подданный самой могучей в Европе империи, коренной москвич, ремеслу обучившийся в столичном Петербурге, лекарь бог знает в каком поколении, последний Мейзель ненавидел власть в любом ее проявлении – от гимназического учителя до добродушного урядника, и даже само слово “самодержавие” – важное, тяжелое, с соболиной выпушкой и черненым серебром – вызывало у него невыдуманную физическую дурноту. Самодержавие ненавидел, а снег любил. Снег – и вот это всё, неяркое, едва заметное, еще сложнее объяснимое: заплаканные болотца, стыдливую простодушную глушь, ночи, как кровеносной системой, пронизанные дельвиговскими соловьиными трелями, веселый, яростный визг полозьев, пар над крепкими лошадиными крупами, гори, гори, моя звезда…
Тоже, оказывается, передается по наследству.
В день смерти Георга Мозеля было жарко.
Весна выдалась поздней, хмурой. Наголодавшаяся постом, ослабевшая Москва едва ворочалась по ноздри в густой ледяной грязи, и только в июне вдруг все оттаяло, распустилось и разом, опоздав на целый месяц, зацвели вишни. Город стоял белый, легкий, завороженный сам собой, словно девушка. У ворот толокся скорбный вздыхающий люд. Старого заику любили – то там, то тут взвывали неутешные бабы, мужики деликатно сглатывали, рассчитывая на чарочку, потому что хоть и нехристь был наш Иоганыч, а не скаред, так что, бог даст, поднесут на помин. Ребятня, оставшись без пригляда, втихомолку оседлала сперва забор, а потом и вовсе рассыпалась среди деревьев, гомоня и марая рты молоденьким ярким вишневым клеем. У Мозеля был первый в Немецкой слободе сад – не по-русски ухоженный, по-московски щедрый.
