Золушка и Дракон
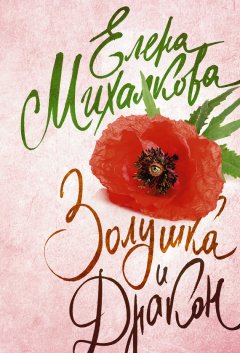
Скелеты в шкафу хороши лишь до тех пор, пока шкаф не открыли.
«От волос мальчиков пахнет воробьями» – так говорят все родители. Они никогда не добавляют, что от волос девочек пахнет цветочной пыльцой. Потому что это секрет. Никто не должен знать. Цветочной пыльцой, цветочной пыльцой… Повтори это тысячу раз, чтобы на губах у тебя стало сладко, а в носу защекотало.
Тени от свечей плясали на стенах, на белом теле девушки. Ровного дыхания почти не было слышно за монотонным бормотанием человека, замершего возле нее.
Стало сладко? Скажи. Скажи это вслух. Скажи это громко! А теперь наклонись к ней, вдохни аромат ее кожи, ее волос. Только не трогай! Их тела обжигают – не успеешь оглянуться, как все вокруг вспыхнет.
Веревка обхватывала запястья, не врезаясь в кожу. Отблеск свечи вспыхивал и затухал на отброшенном в сторону ноже, как сверкающий глаз, подглядывающий с серебристой поверхности за тем, что происходит в крохотной комнатке с грубо сколоченным столом посередине.
Надеть перчатки. Раздвинуть ей ноги, согнуть в коленях… Вот так. Так хорошо. Но не смотреть туда, не смотреть, не смотреть… Там темное, влажное, сочное, цвета бузинных ягод, но нельзя, нельзя! Еще рано.
Бормотание сменилось завыванием, взгляд человека обратился к потолку. В зеркале, закрепленном наверху, все отражалось в истинном виде: пылающий огненный круг, девушка в центре его – и фигура в длинной накидке. Дальняя свеча оплавилась и с шипением потухла, капли воска стекли на лиловые веточки вереска, перевязанные ниткой.
Знак, что пора начинать.
Глава 1
– Матильда! Матильда!
Сергей обернулся и посмотрел на длинноногую девчонку, которая носилась вокруг качелей, размахивая сачком.
– Матильда! – крикнула женщина еще громче, и девочка нехотя остановилась. – Не убегай далеко!
– Ладно, мам! – донеслось до них. – Я ту-у-уут!
Сергей вздохнул про себя и отпил из чашки теплый чай, пахнущий шишками. Последний раз он ел пять часов назад, и чувство голода проснулось еще в дороге. Бабкин пытался обмануть его двумя чашками чая, но фокус не прошел: в животе негодующе забурчало, забулькало, и он заерзал, покраснев. «Надо было захватить бутерброды».
На блюдце перед ним кучей лежало бугристое овсяное печенье, и он взял одно, незаметно постучал им о край стола. Раздался сухой стук. Черникова обернулась, и Бабкин, устыдившись ребячества, тотчас накрыл зачерствевший кругляш ладонью.
– Думаете, я полоумная, а? – вдруг резко спросила женщина, вскинув на него черные глаза. – Нервная дамочка, свихнувшаяся на почве гиперопеки?
Широкоплечая, коренастая, очень основательная, Евгения Черникова меньше всего напоминала Сергею Бабкину нервную дамочку. При взгляде на нее в голову ему отчего-то навязчиво лезло слово «увесистая». Она была из тех людей, что крепко стоят на ногах и на кого земное тяготение действует, кажется, сильнее, чем на многих других: даже в юности они не способны витать в облаках, и в детстве им не снятся сны, в которых они летают.
– Нет, не считаю, – ответил Сергей, почти не покривив душой.
Он все еще не был уверен, что история, рассказанная ею, правдива. Но Илюшин просил его выяснить детали, а это означало, что его напарник поверил Черниковой. Или почти поверил.
– Вот и прекрасно. Потому что нам с вами еще работать вместе! – заявление женщины прозвучало категорично, как почти все, что она говорила.
– Возможно, – мягко согласился Бабкин.
Она окинула его пытливым взглядом, словно решая, можно ли ему довериться, и на лице ее явственно выразилось сомнение. Евгения Викторовна не давала себе особого труда скрывать чувства, и Сергей без усилий читал ее мысли. «Прислали мне черт знает кого вместо того, первого… А этот, похоже, не слишком сообразителен. Что хорошего от него можно ожидать?»
– А почему ваш коллега не приехал с вами? – осведомилась Черникова, в точности подтверждая своим вопросом предположения Бабкина.
– Евгения, мы с вами это уже обсуждали. Он сейчас занят и приедет, как только освободится. Но до этого времени мне нужно, чтобы вы как можно подробнее рассказали о том, что произошло. Со всеми деталями, какие только вспомните. Даже если они покажутся вам несущественными.
Женщина нахмурилась. Ей не хотелось ничего ему рассказывать, но выбора не оставалось.
Она снова взглянула на дочь, раскачивавшуюся на качелях. В лесу за ней показался мужской силуэт, замелькал в отдалении между соснами: кто-то быстрыми шагами шел к соседнему домику. Черникова приподнялась, бессознательно вцепившись пальцами в подлокотники, и на лице ее промелькнул неприкрытый страх. Человек скрылся за домом, и она тотчас облегченно опустилась в кресло, сложила руки на груди.
«А ведь она, пожалуй, не врет… – подумал Сергей, озадаченно наблюдавший за метаморфозами, происходившими с Черниковой. – Ей и впрямь страшно».
– У меня сын чуть младше Матильды, – неожиданно для самого себя сказал он. – Я прекрасно понимаю вашу тревогу. Если бы он пропал, не могу представить, что стало бы с женой.
Ее нахмуренное лицо разгладилось, немного смягчилось.
– Ей уже четырнадцать, понимаете? – негромко проговорила Черникова, не отрывая взгляда от девочки. – А она совсем еще ребенок. Дурочка, ей-богу! Видите, за бабочками гоняется? – Евгения невесело рассмеялась. – А я на нее смотрю и думаю: как у меня, эдакой… и вот эдакой… – она сделала неопределенный жест, обрисовав что-то квадратное в воздухе, – родился такой ангел?
Сергей покосился на растрепанную светловолосую девчонку, что-то распевавшую на качелях. И в самом деле, ангел. Нежное, солнечное, будто бы невесомое создание с застенчивой улыбкой, ни единой чертой не напоминающее мать. Сама невинность. Но он был не слишком уверен в том, что разбирается в четырнадцатилетних девочках, и, кроме того, еще Набоков что-то там писал такое… неоднозначное. Из чего следовало, что юные девушки могут быть совсем не тем, чем кажутся, и умеют притворяться получше иных взрослых.
Если говорить начистоту, вся эта история, рассказанная матерью и дочерью, представлялась более чем сомнительной. Точнее, ее трактовка. Сама-то история, как поначалу считал Сергей, была ясной: дом отдыха, в котором юная девушка фактически предоставлена самой себе, искушения в виде дискотек в ближайшем поселке, побег от строгой авторитарной матери и, наконец, логичное и неизбежное возвращение заблудшей дочери. Ах да, и, само собой, легенда! Сочиненная наспех для того, чтобы преобразовать материнский гнев в такой же силы материнский страх. Людьми, которые боятся, всегда легче управлять, чем теми, кто гневается. Возможно, Матильда Черникова в свои четырнадцать лет знала об этом не хуже тридцатидевятилетнего Сергея Бабкина.
Логичную, саму собой напрашивающуюся теорию ее побега он придумал, когда ехал в пансионат, и в мыслях его сквозило раздражение на Илюшина, погнавшего его из Москвы к черту на кулички «для выяснения деталей». Но, понаблюдав за Черниковой и поговорив с ней, Бабкин потерял уверенность в своей правоте. И чем больше подробностей рассказывала ему женщина, тем мрачнее становился Сергей: простым побегом умеренно бунтующего подростка здесь, пожалуй, и не пахло.
Во-первых, девочка пропала утром и вернулась поздно вечером. Уже это рушило его гипотезу о том, что Матильда отплясывала всю ночь в поселковом клубе. Одиннадцатого августа она вышла из маленького коттеджа, который они снимали в пансионате «Рассвет», и отправилась на завтрак в главный корпус.
– Здесь очень много тропинок и дорожек, а лес светлый, и ходить не страшно, – объясняла Черникова. – Я не завтракаю, а Матильда вечно хочет есть, поэтому ходит без меня. Я легко отпускаю… отпускала ее, – поправилась она, – потому что здесь безопасно. Мне так казалось.
Она бесцельно поправила крышку на чайнике хозяйственным, совсем не вяжущимся с ней жестом, передвинула тарелку с черствым овсяным печеньем, смахнула муравья, деловито пересекавшего стол…
И вдруг у нее вырвалось с приглушенным отчаянием:
– Поэтому мы сюда и приехали! Понимаете?! Это же, – она обвела рукой вокруг, – болото! Тишь, гладь, божья благодать. Никаких компаний, никаких подростков! Все спокойно! А нам больше ничего и не нужно… Вы понимаете?
Сергей понимал. Он понимал, что Матильда – единственный поздний ребенок и что мир для Черниковой с каждым годом все больше полон опасностей, угрожающих ее дочери. Она замечает взгляды, которые взрослые мужчины бросают на Матильду, и ей хочется залепить им глаза, а девочку увести подальше, спрятать от этих отвратительных мужланов, которые смеют так смотреть на ее ребенка. Она слышит смех Матильды, и ей хочется кричать, что она совсем еще маленькая, совсем еще глупенькая девочка, не осознающая силы своего смеха.
Из года в год Черникова привозила дочь в дом отдыха «Рассвет», зная, что здесь их ждет спокойствие и тихий скучный отдых. Все было неизменно, все было привычно, и тем страшнее стал для нее удар.
– Что вы сделали, когда поняли, что Матильда пропала? – спросил Сергей.
– Вызвала милицию – раз, – не задумываясь, ответила Черникова. – Позвонила своим безопасникам – два. Приказала искать в лесу и озере – три. Да, и еще… – она замялась, – в поселок съездила. Думала, может быть, она там с подростками развлекается. Они собираются днем в одном месте на набережной.
– Какой еще набережной? – поразился Бабкин, двумя часами ранее проезжавший поселок и успевший бегло ознакомиться с его географией.
– А! – она пренебрежительно махнула рукой. – Это их пешеходная улица. Лавры Нью-Васюков не дают покоя, вот местные и выдумали, что у них, как во всех приличных населенных пунктах, должна быть своя набережная. Иначе несолидно. И прочие улицы заодно переименовали. Площадь Евросоюза у них теперь есть. Не проезжали через такую? Где сквер с памятником?
– Проезжал, – кивнул Бабкин. – Там я у поселковых хануриков дорогу спрашивал.
– Ну вот. Значит, видели площадь Евросоюза. Но когда я приехала, Матильды с местной бандой не было. Тогда я возвратилась сюда, здесь как раз прочесывали озеро. Спасибо заведующей, она дала людей. Ходили с баграми, на лодке плавали…
Она судорожно вздохнула, но взяла себя в руки и продолжила:
– Потом стемнело, и поиски решили отложить до следующего дня. А в десять Матильда пришла сама.
Сергей быстро записывал, представляя картину происходящего. Итак, девочка убежала на завтрак и не вернулась. Сперва Черникова подумала, что дочь задержалась в главном корпусе. Когда после завтрака прошел час, а Матильда не появилась, она дошла до столовой, заглянула в бильярдную, прошла по этажам, заглядывая в приоткрытые двери. Она уже начала удивляться, но еще не встревожилась. В конце концов, рядом озеро и пруд, день жаркий, дочь могла захотеть искупаться.
Но возле озера Матильды не было. Другие отдыхающие сказали женщине, что девочка не прибегала с утра на пляж.
Черникова побледнела. Она быстрым шагом вернулась в свой коттедж в надежде, что они где-то разминулись с дочерью. Внутри дома все осталось так же, как было, когда она ушла. Матильда не приходила.
Женщина обежала весь лагерь, расспрашивая встречных, но Матильду никто не видел.
И тогда ее охватила паника. Больше часа она металась по лесу вокруг «Рассвета» и звала дочь, пока, наконец, охрипнув, не пришла в себя. Тогда-то женщина и позвонила в службу безопасности своей фирмы, написала заявление в ближайшем отделе милиции и упросила заведующую пансионатом помочь в поисках.
Конечно, никто не отнесся к ее просьбам и страху всерьез. Все знают, на что способны подростки в таком возрасте. «Да вернется она к утру», – лениво пообещали Черниковой в отделении и, как ни странно, почти угадали. Матильда вернулась раньше.
– Она просто постучала в дверь, – сказала Евгения, подливая Бабкину остывший чай. – Я открываю – стоит! Улыбается как ни в чем не бывало, а глаза какие-то странные, сонные. И за косяк держится. Я ее спрашиваю: «Ты где была?!» А она мне: «Заблудилась…»
Затащив дочь в дом, Черникова приступила к допросу. Но Матильда смогла рассказать лишь, что утром, после завтрака, решила немного прогуляться по лесу – и заблудилась. Некоторое время ходила кругами, затем устала и заснула, а проснулась только вечером и каким-то удивительным образом, точно по наитию, вышла к «Рассвету».
– Вы пытались узнать подробности? – спросил Сергей, выслушав это.
Черникова раздраженно всплеснула руками:
– Боже мой, ну конечно! Я расспрашивала ее без конца, пыталась поймать на вранье.
– И что же?
– Она твердит одно и то же: пошла погулять в лес, заблудилась, уснула-проснулась-вернулась. Только вот говорит об этом как-то неуверенно. Лицо у нее и впрямь было опухшее, сонное. И я ей верю. Но вы же понимаете, самое главное – не это!
Черникова ушла в дом и вскоре вернулась с бланками медицинского заключения.
– Ваш друг, наверное, сказал вам об этом? – она положила листы перед Сергеем. – Я сразу же, на следующее утро повезла Матильду в Москву, на осмотр к знакомому врачу. Нужно ведь было удостовериться, что не было изнасилования или половых актов.
Евгения даже не стала понижать голос, и Бабкин сперва почувствовал неловкость, а затем испытал к девушке приступ сочувствия.
– Ничего! – продолжала Евгения, ожесточенно прибивая ладонью заключение к столу. И подтвердила, будто вколачивая бумажные листы в доски: – Ни-че-го!
– Вы так говорите, словно вас это разочаровало, – не удержался Сергей.
– Не болтайте глупостей! – резко оборвала его Черникова. – Я должна была убедиться, что с Матильдой все в порядке, и я в этом убедилась. Если бы ваша дочь начала нести бред о том, что она заблудилась в лесу и весь день проспала под сосной, вы бы и не то проверили.
– Почему же бред?
– Да потому, что я искала ее в лесу, и никого там не было!
– Лес большой…
– Потому что моя дочь не могла бы заснуть, лежа на земле!
– Я слышал, организм подростков…
– Господи, да вот почему! Возьмите, читайте! – Она буквально сунула Сергею под нос верхний бланк.
Он начал читать, продираясь через заросли громоздких медицинских формулировок. Ему не сразу удалось вникнуть в смысл заключения, но когда Бабкин наконец разобрался, то не удержался и негромко присвистнул.
– Вот именно, – сардонически сказала в ответ Черникова. – Вот именно «фью-ить».
Сергей перечитал заключение еще раз, стараясь ничего не упустить. Но вывод получался однозначный: в крови Матильды Черниковой найдены остатки вещества, по своему составу сходного с опиуматами. Результатом воздействия большой дозы этого вещества является продолжительный сон, близкий к бессознательному состоянию, после которого человек не помнит событий, предшествовавших приему средства, и легко подвержен внушению. «Вероятна частичная амнезия с последующим замещением утраченных воспоминаний навязанными извне», – прочел Сергей.
– Анализ делали три дня, я получила его позавчера, – добавила Черникова.
– Вы уверены, что врачу можно доверять?
– Трем врачам, – поправила она. – Да, можно. Это солидный медицинский центр, у меня нет оснований им не верить.
Сергей немного поразмыслил.
– Получается, – медленно начал он, по привычке подытоживая собственные мысли, – что ваша дочь ушла утром, затем при каких-то обстоятельствах выпила это средство… Кстати, она его выпила? Или вколола? Как его принимают?
– Разумеется, не вколола! – оскорбилась Черникова. – Она даже вида шприца боится! Врачи говорят, выпила.
– Значит, выпила – и уснула. Затем проснулась в лесу и пошла домой, не помня, что с ней случилось. Где одежда, в которой она была? Обувь?
– Я уже все отправила на экспертизу. В частном порядке.
Сергей уважительно посмотрел на нее.
Матильда забежала на веранду, остановилась у приоткрытой двери, стряхивая с волос длинные сосновые хвоинки.
– Мам, я в дом пойду. А вы со мной будете разговаривать? – простодушно обратилась она к Бабкину. – О том дне, когда я уснула, правда? Вы врач?
– Да, мне бы хотелось с тобой поговорить, – кивнул Сергей, обойдя вопрос о своей профессиональной принадлежности. – Минут через десять, хорошо?
– Конечно!
Черникова встала и плотно прикрыла за дочерью дверь.
– Итак, чего я от вас жду… – вполголоса произнесла она, тотчас возвращаясь к делу. – Кто-то использовал мою дочь в своих целях, и я хочу знать, кто и в каких именно. Мне нужно будет вернуться в Москву через неделю. Эту неделю я собираюсь прожить здесь как ни в чем не бывало. Может быть, мне и самой удастся что-нибудь выяснить… В одном я уверена: здесь есть человек, который точно знает, что случилось с Матильдой.
Сергей обдумал ее слова, прикинул вероятность случайности, при которой девушка могла выпить такое сильнодействующее средство… Вероятность получалась крайне низкой.
– Я уже все продумала, – между тем говорила женщина. – Вас поселят с соседнем коттедже, оттуда только что уехали два старичка. Станете жить под видом отдыхающего, я вас со всеми познакомлю, скажу, что вы мой сотрудник. Так вам будет легче узнать, кто сделал это с Матильдой.
Евгения Черникова наклонилась к нему, и глаза ее недобро сверкнули:
– Я хочу знать, что именно ее заставили забыть.
Сергея поселили поразительно быстро. Энергичность и напористость Черниковой сделали свое дело: спустя двадцать минут после окончания разговора с Матильдой (девочка подтвердила все, что сказала мать, не добавив ничего нового) Бабкину уже вручили ключи и дали свернутый вчетверо бумажный лист, оказавшийся планом пансионата. Стоило Серею развернуть план, как взгляд его упал на схематичное изображение ложки и вилки.
– Столовая сейчас открыта? – спросил он заведующую, красивую статную женщину лет тридцати шести.
– Обед у нас начинается в два, но вас накормят, – улыбнулась та. – Когда выйдете, сверните направо – и до конца.
«Котлеты, – мечтал Сергей, шагая по коридору первого этажа. – Макароны с сыром. Суп!» В конце коридора маячила белая дверь, а за ней, он знал, его наконец-то ждет еда. Сосредоточиться на предстоящем расследовании Бабкин не мог: ему представлялось блюдо с молодой отварной картошкой, по которой сверху сонно растекается сливочное масло. Поблескивающая селедка на подушке из белоснежных луковых колечек. Тарелка с борщом, в которой триумфально возвышается кусок – нет, пускай будет ломоть! – ломоть вареного мяса.
Сергей нервно сглотнул слюну. Да, вареного мяса! И побольше.
Повариха Марья Федоровна обернулась на скрип открывающейся двери и увидела высокого широкоплечего мужчину в джинсах и черном свитере, коротко остриженного, с глубоко посаженными глазами, проницательный взгляд которых контрастировал с общим простоватым обликом. «Московский, что ли? Здоровый какой… – с удовольствием оценила она. – И не жарко ему?»
В окна столовой било солнце, словно желая своими лучами опрокинуть стеклянные граненые стаканы, стоящие на каждом столе. По стенам суетливо мельтешили солнечные зайчики. Вошедший прищурился, заметил Марью Федоровну и шагнул к ней, явно обрадовавшись:
– Здравствуйте! Хозяюшка, можно пообедать у вас? Ольга Романовна сказала, разрешается…
– День добрый! Почему же нельзя? Можно! Присаживайтесь! – Повариха гостеприимно обвела красной ладонью столы. – Сейчас принесу сегодняшнее, оно уж готово, наверное.
Сергей выбрал столик в углу и стал ждать, пока ему принесут поесть. Несколько неожиданным оказалось для него почти полное отсутствие запахов, свойственных любой столовой, будь то столовая в школе или в доме отдыха, но он решил, что дело в хорошей изоляции кухни. «Вытяжки… Открытые окна…» Он ностальгически провел пальцами по граням стакана, и тут перед ним поставили тарелку.
– Угощайтесь, – добродушно предложила женщина. – У нас сегодня рыбный день.
Бабкин опустил глаза, и улыбка предвкушения исчезла с его лица. На тарелке лежали отварные стебли фасоли, похожие на нарезанный кусачками зеленый провод, а из-под них стыдливо выглядывал небольшой белый ромбик, в котором Сергей опознал рыбное филе.
– Ах! – всплеснула руками повариха. – Забыла! Суп-то, суп! Мужчине ведь суп нужен! – Она кокетливо подмигнула.
– А какой у вас сегодня суп? – осмелился спросить Бабкин, предчувствуя худшее.
– Так консоме. С иичком!
Консоме добило Сергея. Он обессиленно откинулся на спинку стула, созерцая фасоль, и даже появление на столе чашки с прозрачным бульоном, в котором бултыхалось «иичко», не сразу смогло вывести его из оцепенения.
– Приятного аппетита! – пожелала Марья Федоровна и уплыла на кухню, покачивая бедрами чуть сильнее обычного.
Бабкин в три глотка проглотил бульон, сжевал яйцо, всыпал в себя фасоль и закусил рыбным филе. Оглядев голодным взглядом стол, он обнаружил то, чего не заметил раньше: компот и блюдце с хлебом. Спустя минуту ни того, ни другого на столе не осталось.
Из кухни высунулась повариха, громко спросила:
– А добавочки не желаете?
– Желаю!
Судя по тому, с какой скоростью женщина исчезла за дверью, восклицание получилось чуть более экспрессивным, чем он хотел.
– Спасибо! – запоздало крикнул ей вслед Сергей.
Вторая тарелка с фасолью исчезла так же быстро, как и первая.
– И консоме? – рискнула спросить Марья Федоровна, забирая посуду.
– Консоме обязательно, – мрачно ответил Бабкин. – Я очень люблю консоме.
Покончив со второй порцией обеда, Сергей подождал некоторое время, но повариха больше не появлялась. «Не будет мне третьей перемены блюд», – понял он. Тяжело вздохнул, поднялся и пошел к выходу.
Возле двери на стене за прозрачной пластиковой панелью висело объявление, и Бабкин подошел поближе, приглядываясь. Это оказалось не объявление, а меню на предстоящую неделю. Он прочел, ощущая, как бледный призрак голода раскрывает зовущие объятия за его спиной.
«Гречка вареная со свекольным салатом».
«Сезонный суп (травяной)».
«Рыба с гарниром из брокколи».
«Суп капустный, вегетарианский».
«Десерт из ягод».
«Тушеное филе курицы с гарниром из отварной моркови».
«Салат из зеленых яблок».
Образ тарелки борща с ломтем отварного мяса окончательно растаял в воздухе, оставив после себя слабый запах чесночной дольки, растертой по ржаной корочке.
Сергей достал телефон, набрал номер Макара Илюшина. И в ответ на бодрое илюшинское «Алло!» сказал тихо и угрожающе, не сводя глаз с супа капустного, вегетарианского:
– Ты куда меня прислал, скотина?
Глава 2
Моя мама собирает осколки от всех чашек и тарелок, которые я разбила. За двадцать пять лет их собралось столько, что можно было бы основать небольшую фабрику по производству чайных сервизов, если б существовал способ делать посуду из осколков. А может быть, он и существует, только я об этом ничего не знаю.
Из осколков мама выкладывает панно. Когда мне было шесть лет, оно висело в моей комнате и было размером с подсолнух. Когда мне исполнилось пятнадцать, его перевесили в прихожую, потому что там больше места. Сейчас оно висит в кухне – мама считает, что так декоративнее и «вносит интригу сразу, как только проходишь в квартиру».
«Это должно показать тебе, что даже из неудачи можно извлечь пользу!» – объясняет мама.
Но склеенные осколки говорят мне лишь об одном: я – неуклюжая корова, которая за много лет даже не научилась нормально пользоваться посудой.
Моя тетя постоянно твердит, что я человек-праздник. Но вовсе не потому, что делаю радостной жизнь других, а потому, что мое появление обычно сопровождается звуками, сопоставимыми по громкости с небольшим салютом. Если вы услышали, как хлопнула дверь, следом что-то громко упало со шкафа, взвыла кошка и с грохотом свалился стул – значит, к вам пришла я. Здравствуйте.
Наверное, будь я высокой грузной женщиной, мне было бы легче. Имелось бы оправдание моей неуклюжести. Но мать с первого класса называла меня белобрысой килькой, потому что я мелкая, как рыбешка, и такая же тощая. И – да, белобрысая.
Я – материнское разочарование и живу с этим клеймом вот уже двадцать шесть лет. Меня назвали Лилей в надежде, что я вырасту высокой, царственной, с горделивой посадкой головы на лебединой шее. Из всего этого сбылась только шея, да и то лебедь для нее попался худосочный. «Горшок на дрыне», как говорит тетя, когда она не в духе. Мама выражается изящнее: бледная поганка.
Я давно привыкла и пропускаю их слова через себя, чтобы они не задерживались внутри. Раньше я не умела этого делать, и осевшие во мне слова пускали корни, прорастали длинными колючими стеблями, царапали кишки и сердце. Очень сложно выдергивать из себя сорняки чужих фраз, они цепляются и не хотят выходить. Но теперь я научилась, и все стало чудесно.
Если не считать того, что происходит сейчас.
Первый раз в жизни меня одолевают дурные предчувствия. Лес, светлый лес, столь любимый отдыхающими, кажется мне опасной чащей, а наш дом – ненадежным убежищем, в котором прячемся не только мы, но и кто-то еще.
По утрам, когда я просыпаюсь, воздух вокруг меня густой, и в нем плавают хвостики недосмотренных снов. Я все чаще ловлю себя на том, что голос мой звучит плаксиво, а слова теряются, едва слетев с губ, будто окружающее пространство тотчас подъедает их. Ему нравится тишина.
А мы шумим. Не секрет, что многие из нас мысленно привыкли считать себя хозяевами дома, и теперь им мучительно сложно расставаться с иллюзиями. Но дом не наш, и отныне мы в нем только гости.
К тому же он уже старый и, как ворчливый старик с дурным характером, то и дело подкидывает нам неприятные сюрпризы.
Лестница, ведущая в подвал, начала разрушаться несколько лет назад, и к этому лету целыми осталось пять ступеней из десяти. Григорий решил, что глупо не использовать такую большую площадь – ведь подвал глубок и очень просторен – и полез вниз. Хорошо, что Лидия стояла рядом и держала фонарь! Прогнившие ступени провалились под ее братом, а когда он схватился за перила, те треснули и обрушились, хотя сверху вовсе не выглядели хлипкими.
Лидия – могучая женщина: она ухватила Григория за воротник и вытянула наружу. Если бы лампу держала я, как и планировалось вначале, лежать бы ему в подвале с переломанными ногами.
Гейдманы всегда отличались упрямством. К тому же Клара Ивановна, прибежав на шум, подлила масла в огонь, обвинив их в трусости. Они и так были на взводе, потому что за завтраком их обоих косвенно обвинили в воровстве: оказывается, Клара Ивановна день за днем недосчитывается каких-то старинных предметов, принадлежащих Карлу Ефимовичу (правда, не может вспомнить каких). На этот раз в подвал полезла Лидия: мы спустили вниз узкую переносную лесенку, и она героически уцепилась за верхнюю перекладину, зажав фонарик в зубах.
Я ожидала какой-нибудь пакости, но Лидия осторожно спустилась и встала, вглядываясь в темноту.
– Зажги фонарь, – крикнул ей сверху брат.
Щелчок – и бледный круг света выхватил из мрака лысую тахту, узкий шкаф с пустыми стеклянными банками, сваленные грудой доски, все в паутине и в пыли… Все остальное отвоевала темнота. Лидия нашла выключатель, но он не работал, и она побрела, перешагивая через завалы мусора, к другой стене.
– Здесь такой бардак… – услышали мы сверху ее гулкий голос.
А затем раздался истошный визг.
Мы втроем сидели, наклонившись над люком, и когда Лидия завизжала, двое из нас чуть не свалились вниз. Я увидела, как что-то длинное, словно змея, протянулось от стены к тахте, взбивая пыль, и из спинки тахты почти вертикально вверх выскочила крыса. Все это мы наблюдали буквально секунду, потому что Лидия завопила, свет фонаря заметался по всему подвалу, и она бросилась бежать обратно к люку.
Должна признаться, до сих пор я считала сестру Григория неповоротливой, как линкор. Но то, с какой скоростью она взлетела вверх по переносной лесенке, изменило мое мнение о ней. К счастью, упавший фонарик застрял у нее в рукаве – и хорошо, иначе кому-то пришлось бы лезть в чертов подвал третий раз, а ни один из нас этого не хотел.
Что-то подсказывает мне, что дело не только в крысах и сломанной лестнице… Я ни с кем не делюсь своими догадками, иначе меня высмеют. Мне и самой хотелось бы посмеяться над собой, но история, рассказанная пару месяцев назад местным доктором, Леонидом Сергеевичем, запала мне в душу.
Доктор крайне словоохотлив и отлавливает всех, кто готов его слушать, бесконечно изливая на жертву местные сплетни нынешних и прошлых лет. Поначалу я полагала, что его рассказ – одна из очередных легенд, которые нужны, чтобы заинтриговать приезжих и придать нашему пансионату интересный колорит. Но сейчас я думаю, что все в этой истории – правда, и мы ловим ее отголоски.
Много-много лет назад в этих лесах на месте, где сейчас пансионат, стояла небольшая крепость – так утверждает Леонид Сергеевич. Говорит, отдельные укрепления доходили до берега бурной обрывистой реки Ворши. Ворша протекает за лесом, до нее добрых четыре километра, и поселковым детям запрещено купаться в ее коварных водах – там полно омутов и водоворотов. Но со временем крепость разрушилась и пришла в полную негодность.
Не знаю, правда это или нет, но известно точно, что в восемнадцатом веке эти земли были подарены роду Вязниковых, и здесь построили живописное поместье, вокруг которого разбили небольшой парк. Из-за этого лес вокруг не совсем обычный: среди сосен попадаются одичавшие яблони и груши – старые, корявые, с изъеденными стволами. Они приносят горькие плоды, и если куснуть их, то горечь потом не запить водой и не заесть конфетами.
Граф Вязников, по словам доктора, был женат несчастливым бездетным браком, который состоялся лишь затем, чтобы поправить его материальное положение. До женитьбы он жил в своем ветшавшем имении, в котором все было устроено по его вкусу, бродил бесцельно по парку и лесу и, говорят, знал наизусть возраст каждого дерева в саду и помнил каждый кирпичик в кладке поместья.
Жена Николая Александровича оказалась особой свирепого нрава, сварливой и крайне ревнивой. Я видела в альбоме репродукцию их семейного портрета. На нем граф немолод, но весьма хорош собой: подтянут, седоус… Выражение лица кроткое, а губы тронула мягкая извиняющаяся улыбка.
У его молодой жены Натальи – широко расставленные глаза, короткий нос с вывернутыми наружу ноздрями, как у арапа, и выражение упрямства на лице: «Мое. Не дам!» На портрете она сидит, выпрямившись, на неудобном стуле с высокой спинкой, а граф стоит за ней, положив руки жене на плечи. Но меня не оставляет ощущение, что это он должен сидеть на стуле, а она – держать его, чтобы не сбежал.
Поговаривают, Наталья лично била и порола служанок так, что их визг был слышен далеко за пределами усадьбы. Как-то раз граф попытался урезонить разгневанную супругу, и она в ярости швырнула в него лампой. Попала в лицо, и на щеке у Николая Александровича остался шрам.
Конечно же, в этой легенде не могла не появиться девушка с каким-нибудь трогательным простонародным именем вроде Дуняши или Парани. Она и появилась. Звали ее Любкой, Любашей, и, по свидетельству очевидцев, она была миловидна, тиха и добра. Должно быть, тем и пленила графа, уставшего от шумного характера жены.
К счастью для юной горничной, графу хватило осторожности скрывать свое чувство. Но Наталья все равно что-то заподозрила и стала придираться к Любаше по каждому пустяку. Сперва ее разжаловали из горничных, услав с глаз долой, а затем, поймав на какой-то провинности, отправили в «мешок».
«Мешком» в усадьбе называли погреб, вырытый неподалеку от барского дома. Над глубокой ямой с бревенчатыми стенами высился сарайчик, в котором на полках временно хранилась всякая снедь и сушились яблоки. В эту-то яму Наталья и придумала сажать провинившихся. Страшны были не только холод и голод, но и темнота, и одиночество. Там сновали крысы и ползали мелкие подземные твари, прикосновение к которым вызывает непроизвольную дрожь. Самые строптивые девушки, посидев часов пять в «мешке», каялись и просили прощения, лишь бы снова не оказаться в нем.
Неторопливо повествуя об этом, доктор не забывал хитро поглядывать на меня, словно говоря: «Ну-ка, догадайся, к чему я веду». Но я догадалась почти сразу же, стоило ему упомянуть о погребе. Так вот какой участок выкупил Гейдман!
Я впечатлительна, и мое воображение живо нарисовало перепуганную до смерти девушку, съежившуюся в углу и зажмурившуюся от страха. При мысли, что все это происходило здесь, мне стало не по себе – словно человеку, услышавшему тихие шаги в доме, где никого нет, кроме него.
– Не делайте поспешных выводов, дорогая Лиля, – посоветовал Леонид Сергеевич, наблюдавший за мной. – Это история с хорошим концом…
Очевидно, любовница графа оказалась девицей с очень стойким характером, и те, кто описывал ее как мягкую робкую девушку, заблуждались. Она просидела в подвале сутки, но после того, как Наталья выпустила ее, не выказала ни раскаяния, ни сожаления о том проступке, за который попала в «мешок». Ее отправили туда снова, уже на более долгий срок. Люба спокойно выдержала и это.
Взбешенная непокорностью бывшей горничной, а больше всего тем, что ей не удается сломить девушку, Наталья распорядилась отправить Любу в «мешок» на целую неделю и не кормить ее. Крышку подвала закрыли, а возле входа в сарай Наталья поставила сторожа, подозревая, что Любке помогают другие слуги.
Вопреки ожиданиям, Николай Александрович не стал защищать Любку. Быть может, он опасался, что его заступничество лишь повредит ей. Как бы то ни было, неделю ее заточения граф провел, почти не выходя из своего кабинета. И когда жена потребовала, чтобы он проводил больше времени с ней, а не с его книгами, Николай Александрович первый раз в жизни ответил ей резко.
По углам потекли шепотки: Любка-то уже померла, и звуков никаких из подвала не слышно – ни криков, не стонов. Довела ее Наталья Андреевна. Сгубила живую душу, взяла на себя грех великий.
Новоиспеченной графине стало не по себе. Но гордыня не позволила ей отдать другой приказ, и на неделю усадьба затаилась, ожидая, что будет.
То, что случилось по истечении семидневного срока Любкиного заключения, поразило всех. Девушка вышла из подвала исхудавшая, бледная, щурящаяся от яркого света, прошла несколько шагов, не обращая внимания на жадные взгляды, и встала перед Натальей Андреевной. Очевидцы после говорили, что Любаша была красива, как никогда прежде. Наталья Андреевна не успела вымолвить и слова, как с ближайшего дерева слетели, хлопая крыльями, несколько белых голубей и опустились у ног Любы.
Вот тогда-то зрители и ахнули, уверенные, что на их глазах свершилось чудо: птицы заступились за невинную. Из толпы донеслись голоса: «Не трогай Любашу!» «Люба, не бойся ее!» И Наталья Андреевна отступила.
– А что стало с ними потом? – спросила я Леонида Сергеевича, когда он замолчал.
– Да ничего особенного. Любку выдали замуж за лесника, сплавив таким образом с глаз долой. Ничего о ее жизни больше не известно, кроме того, что в браке у нее родился единственный ребенок, мальчик. Графиня смягчилась характером, но отношения ее с Николаем Александровичем безвозвратно испортились, и с тех пор они жили как чужие люди. Граф увлекся охотой, хотя хорошим охотником так никогда и не стал. Однажды его лошадь понесла, и Николай Александрович разбился насмерть. Обычные судьбы, ничего выдающегося. Самое интересное в этих людях то, что они жили здесь до нас. Голубушка моя, можете быть уверены: призраков, звенящих кандалами, в вашем подвале не найдется.
Но, несмотря на все заверения доктора, от его рассказа у меня осталось гнетущее чувство. И, честно говоря, я была рада той крысе, что испугала Лидию.
Так что исследование подвала провалилось. Хорошо еще, сказал Олег, услышав рассказ, что обошлось без жертв.
Тогда все сделали вид, что приняли его слова за шутку, но два дня спустя Лидия подошла к окну в столовой – поправить сбившуюся штору – и тяжелая деревянная гардина вдруг плавно поехала вниз. Лидия замешкалась, и Григорию пришлось подскочить к ней и дернуть на себя, иначе она так и стояла бы, зачарованно глядя на падающую гардину.
А балка на чердаке, едва не свалившаяся Кларе Ивановне на голову! После этого случая наша хозяйка стала твердить о том, что мы хотим извести ее.
И ни один из нас не нашелся что ответить на это.
Сегодня, собираясь на завтрак, я уронила стул и сшибла лампу с буфета. Это старинный буфет, он стоит на четырех когтистых львиных лапах, растопырив их в стороны, и я не могу пройти мимо, чтобы не запнуться об одну из них. Мне кажется, что буфет вот-вот отзовется свирепым рыком, но он только страдальчески скрипит в ответ.
Пока я восстанавливала порядок в отведенной нам комнате, завтрак уже начался. Я поспешно заправила волосы, выбившиеся из-под чепца, одернула юбку и отправилась вниз, в столовую.
К счастью, сегодня Клара Ивановна разрешила разговаривать. Если бы выпал молчаливый день, мое опоздание стало бы поводом для криков, но, поскольку все беседовали, я не навлекла на себя ее гнева.
Глубокий реверанс, в котором я присела перед хозяйкой, вышел не слишком грациозным. Но Клара так увлеклась, слушая спор Григория и Лидии, что ей было не до меня: она царственно взмахнула рукой, и я с облегчением пробралась на свое место и стала следить за разговором.
– Тебе этого не понять, – густым красивым басом сказала Лидия и бросила на брата высокомерный взгляд. – Ты так же далек от поэзии, как помоечный голубь – от райских островов.
– О-о, значит, ты у нас райская птица! – уязвленный Гриша принялся теребить завитки черной бороды и, кажется, едва не вырвал из нее клочок. – А твои острова, очевидно – творения, которыми ты осчастливливаешь публику!
– Да! Я дарую им радость!
Она вся напряглась и прислушалась к себе, словно курица, готовящаяся снести яичко. Для нас счастливый момент прошел незамеченным, но в Лидии что-то свершилось – она слегка выкатила глаза и провозгласила:
– Все ждут моих стихов неслышных! Они цветам подобны вишни!
– Вишни?! – воскликнул Гриша. – Подобны! За те чудовищные вирши, которые ты плодишь по любому поводу, тебя надо лишить права писать! Что ты сочинила для последнего заказа? А? Нет, прочти, прочти!
Лидия, сдержанно улыбнувшись, сделала жест, говорящий о том, что истинному творцу не нужно признание толпы. Но унять брата ей было уже не под силу.
– Не помнишь… – злорадно протянул Гриша. – А я помню!
Он встал, вытянулся во весь небольшой рост и с выражением, точно мальчик на утреннике, продекламировал:
- – Мы поздравляем начальника нашего!
- Нет его лучше и нет его краше!
- Весь наш отдел юридический
- Уважает ваш характер нордический!
Олег загоготал. Клара Ивановна с сокрушенным видом покачала головой.
Лидия, слегка покраснев, отложила вилку и уставилась на брата воловьими глазами. Она больше и массивнее него в два раза, Григорий рядом с ней – просто карлик, и временами я опасаюсь, что она может прихлопнуть его как шмеля. Правда, подозреваю, что ей не хватит прыти: Лидия двигается неторопливо, с величавостью вдовствующей королевы, а Гриша – живчик, вечно скалящий острые зубы из черной курчавой бороды. Похожи у них лишь носы: крупные картофелины, только у Гриши – пористая, в красноватых прожилках, а у Лидии – безупречного оливкового цвета, ровная и гладкая.
– Ты смешон со своей завистью, – с достоинством проговорила она. – Творческой востребованности всегда завидуют. Но мне жаль, что ты не нашел в себе сил справиться с этим разрушающим чувством.
Гриша криво усмехнулся. Кажется, сестре удалось его поддеть: «творческой востребованностью» он похвастаться не может, и в этом одна из причин его желчности.
Дело в том, что Григорий – несостоявшийся режиссер. В оправдание своих неудач он ссылается на сложные обстоятельства, могущественных завистников, интриги… Конечно, его не устраивает место руководителя театрального кружка в детском доме творчества, и он отчаянно пытается выделиться, рьяно привлекая в театр новых подростков и надеясь, что о «студии Гейдмана» вот-вот начнут писать. Однако этого не происходит вот уже пятнадцать лет, и вряд ли что-то изменится в ближайшие пятнадцать.
А вот Лидия – настоящая сложившаяся поэтесса. В доказательство этого она может предъявить томик стихов. «Томик» представляет собой тонкую брошюрку, на обложке которой красиво выведено: «Лидия Гейдман. Ручей моей души». Эту книжку Лидия издала за свой счет тиражом в семьсот экземпляров. Пятьдесят штук ей удалось пристроить по знакомым, еще двадцать забрал из жалости владелец небольшого книжного магазина, с которым она познакомилась на поэтической встрече (другого автора), а остальные хранятся у Лидии в книжном шкафу. На полке стоят Пушкин, Блок, Ахматова – и шестьсот тридцать книжек Лидии Гейдман.
Но мир суров к таланту, и Лида не может зарабатывать поэзией. Поэтому она пишет на заказ стихи к разным праздникам. Сперва Лидия говорила об этом стеснительно, как возвышенный человек, вынужденный опускаться до грязной и грубой работы, но со временем пришла к выводу, что таким образом она несет поэзию в массы, и даже возгордилась.
– Завидовать? Тебе? Да я бы сгорел со стыда, если бы подписался под теми несусветными стишатами, которые ты плодишь в невероятном количестве! – сказал Григорий, подцепляя вилкой кусок ветчины. – Клара Ивановна, вы знаете, что Лида осваивает классику?
– В каком смысле?
– Безжалостно эксплуатирует нетленки гениев, прививая к стволу их таланта обильные ветки своей графомании.
– Что ты городишь?! – возмутилась Лидия.
Гриша невозмутимо отправил в рот ветчину, прожевал ее и утерся салфеткой.
– А кто на восьмое марта накропал на заказ двадцать четверостиший? Я, что ли? Вот, послушайте: «Восьмое марта! День чудесный! Вставай скорее, друг прелестный! Тебя, желанья воплотив, мужской встречает коллектив!»
– Это творческий прием! – защищалась Лидия.
– Ты сама-то понимаешь, что написала? «Тебя, желанья воплотив, мужской встречает коллектив!» О чем это? Об элитном стриптиз-клубе для состоятельных дам? А вот такое: «Весна! Как много в слове этом! Идут мужчины за букетом, и словно лоси там и тут толпою женщины бегут».
– Вполне реалистичная зарисовка, – вполголоса заметила Клара Ивановна. – Действительно, и толпою, и бегут. Только отчего же лоси? Тогда уж серны!
– Но это еще не конец! Имеется продолжение. «Взгляни ж и ты на эти розы и на душистые мимозы! Мужчины дарят их тебе, добыв, как мамонта, в борьбе». Лидия, если бы я не знал, что бог лишил тебя чувства юмора, то подумал бы, что ты смеешься.
– Людям нравится!
– О да! – язвительно согласился Гриша. – Или, иными словами, пипл хавает! Не сомневаюсь! А на Новый Год? Что ты сочинила на Новый Год?
– Что?
– Уже не помнишь, да? Милосердное подсознание, не в силах справиться с кошмарным воспоминанием, стерло его из твоей памяти? А вот мне повезло меньше. Боюсь, я до смерти не забуду новогоднее поздравление, которое тебе заказали несчастные работники мясокомбината.
– Что еще за поздравление? – ухмыляясь, спросил Олег.
Все затаили дыхание, предчувствуя, что на этот раз Лидия забралась на недосягаемую высоту. Гриша перевел дух, взглянул на сестру, сидевшую с надменным видом, и начал:
– Пусть будет свежим ваше мясо…
Я не выдержала и фыркнула. Вслед за мной засмеялась Клара Ивановна. Лидия метнула на меня оскорбленный взгляд, и я постаралась спрятать улыбку.
– Ты все перепутал, – холодно сказала она брату.
– Точно! – Григорий хлопнул себя по лбу. – Меня так поразила эта строка, что я забыл про остальное. Лида, прости! – он умоляюще протянул к ней руки.
– Паяц, – бросила его сестра. – Тебе лишь бы насмешничать над тем, что неподвластно пониманию.
– Грешен, – покаялся Григорий. – Нам, гагарам, недоступно. Но твой укор напрасен – я вспомнил все четверостишие целиком.
Он откинул голову назад, вытянул вперед руку, откашлялся и прочел:
- – Скажу я так, устав от пляса,
- Раз до курантов полчаса:
- Пусть будет свежим ваше мясо
- И длинной будет колбаса!
Он прижал руку к сердцу, поклонился, и мы дружно зааплодировали.
– Может быть, это не самое удачное мое произведение, – созналась Лидия. – Но я вкладываю душу в стихи, и заказчики очень ценят это.
– Душу? – простонал Григорий. – Лида, да ты Лоханкин в женском обличье!
– Попрошу без оскорблений!
– Васисуалий, собственной персоной! – не унимался Гриша.
– Зато мне нет нужды создавать вокруг себя кокон из поклонников! – парировала Лидия. – Я самодостаточна! А ты, мой бедный друг, все пыжишься, ловишь новые души… Записываешь их в блокнотик, правда же?
Она рассмеялась, и Олег рассмеялся вслед за ней. Мой муж никогда не занимает ничью сторону, он всегда лишь на своей собственной. Вот и сейчас в споре Григория и Лидии ему все равно, кто победит, – он хочет лишь развлечений.
В этом он полностью поддерживает Клару Ивановну. Я исподтишка перевожу взгляд с мужа на нашу хозяйку, и мне кажется, что они похожи между собой куда больше, чем родные брат и сестра Гейдманы. Но это не из-за физиогномического сходства, нет! На их бледных лицах сквозь криво надетую маску скучающего безразличия проступает одинаковое жадное желание развлечений, скрытое упоение самым дешевым видом из всех театральных представлений – руганью клоунов, переходящей в мордобитие.
Клара Ивановна откровенно любуется нами, ждет, с какой еще стороны каждый из нас покажет себя. О, она великий экспериментатор! Впрочем, неудивительно, после стольких-то лет унижений… Мне стоит сказать ей спасибо уже за то, что она не заставила меня привезти сюда Федю.
При мысли о сыне, оставшемся на все лето с бабушкой, я вдруг чуть не расплакалась. «Господи, пожалуйста, только не это!» – взмолилась я, удерживая застывшие в глазах слезы. Клара ненавидит плакс, она может наказать нас, если увидит, что я реву. А Олег мне этого не простит.
Перепалку Лидии и Григория оборвало громкое распоряжение Клары:
– Ну все, довольно шуток! Уберите со стола. Живо!
Наступило секундное оцепенение. Но тут же мы, все четверо, вскочили и засновали между столовой и кухней, перетаскивая посуду в глубокую раковину. Я успела уловить на лице нашей хозяйки выражение болезненного удовольствия, но оно тут же исчезло, сменившись улыбкой умиротворения.
Вот так, да. Только что мы посмеивались друг над другом, делая вид, что все мы – одна компания, притворяясь равными, но Клара тут же окатила нас ледяной водой, напомнив, кто мы есть на самом деле.
Слуги.
А слуги должны знать свое место.
Я взяла салатник и поспешила уйти из столовой, чувствуя на себе взгляд Клары Ивановны. Но моя вечная неуклюжесть снова подвела меня: выходя, я ударилась плечом о дверной косяк, вскрикнула от боли – и выпустила тарелку из рук.
Сверкнув золотистой каемкой, салатник перевернулся в воздухе – и ударился об пол. Уверена: урони его кто-нибудь другой, он бы в худшем случае грустно треснул, не привлекая к себе внимания. Но в моих руках его судьба была предрешена.
На грохот обернулись все. Я съежилась над осколками, плавающими в лужице подсолнечного масла, и тихо сказала: «Извините». Но Клара Ивановна уже поднималась со стула, гневно постукивая веером о край стола, и стало ясно, что гроза неотвратима.
– Английский костяной фарфор, – визгливо сообщила она. – Но вам, милая моя, это неинтересно, правда? Вы ведь не считаете нужным заботиться о чужих вещах.
Я смотрела на нее снизу вверх и видела, что ее бледно-розовая помада скомкалась в углах тонкогубого рта.
– Я давно хочу сказать, Лилия: меня не устраивает ваша работа! Вас даже близко нельзя подпускать к посуде!
«Ну так и не подпускайте», – хотелось сказать мне, но, конечно же, я не посмела. Олег, Лидия и Григорий за моей спиной позвякивали тарелками, явно стараясь делать это как можно тише.
– Вы едва не разбили стекло в шкафу, постоянно роняете вешалку, сломали ставни на окне… – пронзительный голос Клары Ивановны набирал силу, и я с ужасом подумала, что основной разнос у меня впереди. – Там, где вы, все ломается и выходит из строя. Не понимаю, как ваш муж подпускает вас к сыну! Голубушка, да вы просто стихийное бедствие! Вы можете быть опасны для ребенка.
Я вздрогнула и выпрямилась. «Вы можете быть опасны для ребенка».
– Что вы сказали?
Кажется, я проговорила это одними губами, но хозяйка поняла меня.
– Я сказала, – с удовольствием объяснила она, разделяя слова, – что не понимаю, как ваш муж подпускает вас к сыну. Не думаю, что вы хорошая мать. Уверена, вы и сами это понимаете, милая моя.
Мы стояли всего в нескольких шагах друг от друга, и я хорошо видела выражение ее глаз под нарисованными бровками, вздернутыми в ожидании моего ответа. В них плескалось веселье – и что-то еще, похожее на свирепую радость охотника, ждущего зверя в засаде с ружьем наготове.
Клара Ивановна забавлялась.
На ее шее отливали перламутром крупные бусы из жемчуга, и взгляд мой застрял на глубокой морщине прямо над ними. Клара Ивановна нестарая женщина, но шея у нее старческая, длинная, как у гусыни, и такая же красная. И еще эта морщина… Точно пунктир, подсказывающий ребенку, по какой линии отрезать.
– Вы успокоились? – осведомилась хозяйка. – Тогда займитесь делом. И выкиньте уже, наконец, этот кусок!
Только проследив за ее указующим пальцем, я заметила, что держу в руке осколок салатника, острый, как бритва. Осторожно положив его на край стола, словно он мог сам порезать меня, я вышла из комнаты. В голове колотилась одна мысль: «Все, хватит. С меня довольно».
От унижения и гнева у меня защипало в глазах. Щеки горели так, словно мне надавали пощечин. Отчасти так оно и было.
«Не думаю, что вы хорошая мать».
Рывком вытащив чемодан из-под кровати, я распахнула дверцу шкафа и схватила в охапку вещи вместе с вешалками. Мятое, скомканное, свернутое в узел – пускай! Лишь бы оборвать это издевательство! Пусть они играют в эти игры без меня, раз их устраивают правила.
Сзади скрипнула дверь, но я не стала оборачиваться. Конечно же, это Олег: поднялся не спеша (он никогда ничего не делает в спешке) и теперь стоит за моей спиной, сунув руки в карманы.
Петли еще раз скрипнули, и еще… Удивившись, я обернулась и застыла над чемоданом с пижамой в руках.
Они стояли там все трое: Лидия, Григорий и Олег. Лица их были одинаково мрачны и серьезны. Мне стало не по себе.
– Это она отправила вас сюда? – спросила я, чтобы хоть что-то спросить. Зря: голос подвел меня, дрогнул, словно от страха.
Олег покачал головой:
– Не выдумывай. Она уже не сердится, так что можешь успокоиться. Бежать незачем.
Тихий бесцветный голос моего мужа обладает парализующим действием, гасит мою волю, и я, зная об этом, стараюсь не слушать его.
– Ты не можешь нас так подвести, – своим низким голосом сказала Лидия. – Взаимопомощь! Помни об этом!
Мне хочется стукнуть ее чем-нибудь тяжелым, но под рукой у меня только чемодан, а его я не смогу бросить, даже если очень захочу. Взаимопомощь!
– Лиля, признайся, что ты погорячилась, и все обойдется, – вплетает свой вкрадчивый голос в их трио Григорий. – Извинишься перед Кларой, сделаешь реверанс… Не глупи. Ты не можешь уехать.
– Конечно, не может, – с улыбкой подтвердил мой муж. – Она просто пугает нас.
– Лилечка, ну перестань! Все, все, успокойся. Ты же знаешь, мы на твоей стороне.
– Неужели?! – вырвалось у меня.
– А ты не знала? – Олег подошел ко мне и забрал из моих рук скомканную пижаму. Я попыталась не отдавать ее, но он сильнее меня, а улыбка на его лице, которая сделалась злой, лишила меня сил.
Тем временем Лидия, ни слова не говоря, вынула мои вещи из чемодана. Я дернулась, желая остановить ее, но Олег крепко взял меня за локоть и держал, не отпуская. Пальцы у него цепкие, как паучьи лапы: просто поразительно, как в таком слабом на вид человеке таится такая сила.
– Пойми, мы желаем тебе только добра, – уговаривал он, удерживая меня. Лидия и Григорий хором подтвердили, что да, только добра и ничего другого. – Клара – сложная женщина, мы все становились жертвами ее характера. Так что ты не исключение. Относись к этому как к игре. А главное, помни, что мы выигрываем! Своим поступком ты ставишь под угрозу нас всех. Но если ты больше не желаешь позаботиться о нашей выгоде, как мы договаривались, – он понижает голос и теперь говорит со мной почти шепотом, ласковым и заботливым, – тогда подумай о том, что выигрываешь конкретно ты. Подумала? А теперь закрой чемодан, будь умницей.
Лидия и Григорий дружно кивают, словно близнецы, забыв про свои распри. Они слышат лишь слова, а я слышу то, что за ними, и Олег знает, что я все понимаю. Голос его ни на секунду не стал жестким, нет, он мягок и тих. Но ослушаться его невозможно.
Муж наконец отпустил меня, поняв, что сопротивление сломлено. Я обреченно закрыла чемодан и медленно задвинула его под кровать. Он показался мне невозможно тяжелым, хотя всего десять минут назад я легко достала его.
– А теперь мы пойдем вниз, и ты извинишься перед Кларой, – посоветовал Олег, и даже позволил себе пошутить: – Это быстро и не больно.
Я кивнула, чувствуя себя онемевшей, и вышла за ним из комнаты.
Так, наверное последняя крыса, оставшаяся в живых, не в силах противиться настойчивой мелодии, мчится за дудочкой Крысолова, хотя от черных волн веет холодом неминуемой гибели, и ни одного из ее собратьев уже не видно над водой.
Сергей бежал по тропинке, чувствуя, как приятно пружинит земля под ногами. Утро было прохладное, очень ясное, и стволы сосен светились в голубом воздухе. Царила лесная тишина – то время, когда ухо не может вычленить из негромкого хора едва слышных голосов чей-то один, и все они сливаются для него в ровный зеленый шум.
Тяжеловесный Бабкин не любил кроссы, но лучшего способа осмотреть всю территорию «Рассвета» он не придумал, и потому, встав в шесть утра, добросовестно отправился на пробежку. План пансионата он запомнил, теперь предстояло соотнести его с реальной картиной местности.
Накануне Сергей успел убедиться в том, что территория пансионата совсем невелика и отдыхающих в нем не больше сорока человек. Черникова упомянула, что многие гости – постоянные клиенты, приезжающие к Светлому озеру из года в год. Большинство из них останавливались в главном корпусе, но были и те, кто, подобно самой Черниковой, занимал коттеджи: утепленные деревянные домики, разбросанные по лесу тут и там.
Главный корпус Бабкин бегло осмотрел еще вчера: двухэтажное кирпичное здание с мемориальной табличкой, сообщавшей, что прежде на этом месте находилось имение графа Вязникова. От имения сохранились лишь два фонтана перед входом, в одном из которых с трудом узнавалась дева с кувшином, а второй и вовсе представлял собой бесформенную фигуру. Дно фонтанов густым ковром устилали пожелтевшие сосновые иглы.
Позади главного корпуса, совсем рядом с черным входом в столовую, красовался аккуратный коттедж с вывеской «Администрация». Его, как догадался Бабкин, занимала заведующая с красивым именем Ольга Романовна Григорьева.
Ни возле корпуса, ни около домика заведующей никого не оказалось, только на подоконнике столовой сидела пушистая белая кошка с рыжей манишкой и рыжим хвостом.
– Кис-кис-кис, – негромко позвал Сергей, перешедший на шаг, чтобы отдышаться.
Кошка округлила желтые глаза и нервно дернула хвостом. Затем встала, потянулась на всех лапах и, бесшумно спрыгнув вниз, засеменила в сторону коттеджей.
– Ну, веди, – пробормотал Бабкин, направляясь за ней.
Коттеджей было пятнадцать, и возле первого же из них кошка исчезла, обернувшись на прощанье и внимательно поглядев на Сергея. Просто завернула за угол, а когда спустя несколько секунд Бабкин завернул следом, ее уже не было.
«Чеширский кот какой-то, а не кошка».
Системы в выборе места для коттеджей Сергей не заметил. Первые три домика разделяли сто метров, но четвертый уже терялся в глубине леса, почти невидимый за деревьями (именно его и занимали Черниковы). Пятый вырастал, будто из-под земли, на краю пруда, похожего на синее блюдце с изумрудной каймой ряски по краям. Шестой тоже прятался у подножия невысокого лесного холма, за которым, как обещал план, должно было находиться озеро Светлое.
Сергей взбежал на холм и остановился.
Обещанное озеро лежало перед ним. Бабкин сразу понял, откуда взялось название: вода в озере казалась нежно-голубой, местами белесой. Но не цвет воды привлек его внимание, и даже не лодка с одиноким рыбаком, ссутулившимся над своей снастью…
На берегу озера стоял дом. От него-то Сергей и не мог оторвать взгляда.
Двухэтажная бревенчатая изба казалась сказочным обиталищем чародея, живущего в этом лесу. За ней смыкали строй высоченные ели, словно охранявшие повелителя, и темная, мрачно-торжественная зелень их хвои издалека была похожа на грозовую тучу. Кто-то много лет назад посадил здесь маленькие елочки, и они вымахали до самого неба, изгнав из своих владений низкорослые кустарники и деревья поменьше. Ни одно не смогло выжить под тенью широколапых ветвей.
Изба выглядела старой, не сказать – старинной, но, приглядевшись, Сергей понял, что перед ним все же новодел. Не строили русских изб с такими большими окнами, с верандой, обнесенной резной оградой, с балкончиком, выходящим к лесу.
Бабкин вытащил из кармана план, расправил и озадаченно наклонил голову. План убеждал его, что вместо большой просторной дачи на берегу озера стоит конура. Крохотный домик, нарисованный на листе, был раз в десять меньше, чем значки, обозначающие коттеджи. Сергей вдруг понял, что, бегая, сделал полный круг и главный корпус должен стоять совсем недалеко от избы. Приглядевшись, он даже рассмотрел очертания здания – всего лишь метрах в сорока за сказочным домом.
Он снова взглянул на план «Рассвета» и нахмурился: если судить по схеме, пансионат был вытянут вдоль берега озера, и выходило, что основной корпус находится в крайней левой точке территории, а «изба чародея» – в крайней правой.
– Руки тебе пообрывать, – пробормотал Бабкин, имея в виду составителя плана. – Сусанин какой-то.
Он спустился с холма и пошел по берегу озера, разглядывая затейливую вязь резьбы на коньке крыши.
На полпути Сергей спохватился, что вышел из роли спортсмена, и побежал. Но кроссовки увязали в песке, и, помучившись немного, он плюнул на конспирацию. В конце концов, ничего удивительного, что вновь прибывшему стало интересно посмотреть на необычную постройку.
Подойдя вплотную, Бабкин задрал голову вверх. Десять окон, по пять на каждом этаже, плотно зашторены. Но изнутри слышались голоса.
Сергей обошел дом кругом, отметив, что позади него имеются деревянный сарай и дряхлая погребица, и наткнулся на крохотный, совсем кукольный огородик, где росли петрушка и укроп, покачивала пушистыми сиреневыми соцветиями мята, и даже огуречный куст осторожно высовывал свои плети из-под парника, будто проверял, не озябнет ли, если выползет целиком. Хозяева посадили здесь и малину, но без ухода та совсем одичала и закустилась.
Бабкин воровато оглянулся и, не удержавшись, сорвал листик мяты, растер в пальцах. В ту же секунду хлопнула дверь, и на крыльце заговорили – громко, повелительно. Не раздумывая, Сергей отпрыгнул в сторону и затаился в малиннике.
Из зарослей хорошо просматривались крыльцо и часть веранды со столом и плетеными стульями. Возле одного из стульев, взявшись руками за спинку, будто собираясь поднять его, стояла женщина столь необычного вида, что Бабкин, собиравшийся незаметно исчезнуть, в изумлении замер на месте.
Он дал бы ей около пятидесяти лет. Мелкая востроносенькая дамочка с редкими рыжеватыми волосами, убранными в мышиный хвостик, и недобрым лицом. На ней было ошеломительной красоты длинное платье из зеленовато-серой ткани. Оно струилось вниз, падало складками на пол, и даже Бабкину, плохо разбиравшемуся в моде, одного взгляда было достаточно, чтобы понять: такая вещь не может принадлежать этому времени. Поразил его именно контраст между необычностью наряда и банальнейшей внешностью его обладательницы.
– Мне кажется, пора приступать к завтраку, – громко сообщила женщина. Это ее повелительный голос Сергей слышал минутой ранее.
– Но позвольте, Клара Ивановна, – запротестовал мужской баритон. – Еще нет семи!
– А вам, Григорий, надо бы оставить свои барские замашки! – визгливо сказала женщина. И нравоучительно добавила: – Завтракать в половине одиннадцатого вредно для здоровья! Подавайте!
– Слушаюсь!
Почти сразу Сергей увидел и обладателя баритона, шагнувшего на веранду и остановившегося в нескольких шагах от женщины в платье. Мужчина застыл в нелепой позе, чуть наклонившись вперед и согнувшись в спине: поза его выражала не то подобострастие, не то готовность выкинуть фокус. Что-то определенно шутовское имелось и в манерах, и в его голосе. Со спины Бабкину было видно лишь, что он невысок и очень черноволос: смоляного цвета завитки спадали ему на шею.
«Баритон» шагнул на крыльцо и скрылся в доме. Когда он вернулся, в руках его был поднос с чашками. Последние он расставил на столе с проворством официанта. Только теперь Сергей обратил внимание, что мужчина тоже одет странно: серые хлопковые брюки, рубаха навыпуск из такого же материала и подобие фрака. Вид нелепый и даже отчасти пугающий своей нелепостью.
– А где ваша сестра? – раздраженно спросила дама, похлопывая ладонью по перилам. – И где эти двое?
– Сейчас будут. Одну секунду!
Он вновь исчез, и вскоре вернулся, но уже не один. За ним шла женщина в длинном и широком черном платье с белым фартуком. Голову ее покрывал белый чепец. Крепкая, широкая в кости, такая же черноволосая и курчавая, как мужчина, она не улыбалась и выглядела угрюмой.
– Доброе утро, Клара Ивановна! – поздоровалась она, ставя на стол поднос с чайником и бутербродами.
– Доброе утро, милочка, – небрежно ответила та, шагнула к столу и застыла, словно в ожидании.
На несколько секунд воцарилась странная тишина, которую даже Сергей из своего укрытия ощутил как напряженную.
– А что нам нужно сказать? – наконец пропела первая женщина.
Вторая поправила съехавший на лоб чепец и попыталась что-то выговорить.
– Не слы-ы-ы-ышу! – покачала головой первая.
Лицо второй покраснело как от натуги, губы шевелились, но из них не вырывалось ни слова.
– Лидия, – раздраженно сказала дама, – у вас что – во рту пересохло? Так выпейте воды!
– Прошу к столу, Клара Ивановна, – выдавила наконец женщина в чепце.
Мужчина с той же кошачьей быстротой и ловкостью разлил чай по трем чашкам, и та, которую они называли Кларой Ивановной, прошествовала к своему месту.
– Воды все-таки выпейте, – бросила она, прежде чем сесть. И неторопливо опустилась на заботливо подставленный мужчиной стул, откинув подол своего великолепного платья. Взмах руки – и, подчиняясь этому взмаху, брат с сестрой тоже сели за стол. Больше никто не говорил ни слова.
Пока Сергей смотрел на завтракающую троицу, в голову ему закралась мысль, что он стал свидетелем спектакля. Очевидно, перед ним актеры, задумавшие по какой-то причине провести репетицию ранним утром на природе. Чем еще можно было объяснить костюмы и все эти «прошу к столу, Клара Ивановна»?
Он решил, что такая версия вполне объясняет все увиденные им странности. Правда, какое-то смутное чувство не давало утвердиться в этой мысли окончательно. Озадаченный Сергей смотрел на молчаливо жующих людей, пытаясь понять, во что они играют, но размышления его были прерваны появлением новых персонажей.
Первой на веранду вышла молодая женщина, одетая так же, как и предыдущая: черное платье, белый капор на голове. Бабкин не успел разглядеть ее лица – так быстро она прошла и остановилась там, где он не мог ее видеть. Он услышал лишь негромкий нежный голос:
– Доброе утро, Клара Ивановна.
– Доброе, доброе, – ворчливо проговорила та, отпивая чай. – Вы опоздали, милочка моя. И вы… – она обернулась к мужчине, топчущемуся на крыльце, и на него уставился обвиняющий палец, – вы тоже!
– Извиняюсь, – хмуро буркнул он, делая шаг к столу.
– Что?!
От громкого возмущенного выкрика Сергей вздрогнул, а из соседнего куста вылетела перепуганная пичужка.
– Что вы себе позволяете? – вознегодовала женщина в зеленом платье. – Вы невоспитанный, необразованный… «Извиняюсь!» Да вы помните, с кем разговариваете?!
– Прошу извинить, Клара Ивановна.
Слова мужчины прозвучали тихо, но их услышали все. Голос был заискивающий.
– Вы же знаете, Клара Ивановна, университетов мы не кончали, – продолжал мужчина тем же голосом без намека на издевку, – манерам хорошим не обучены…
– Олег, перестань! – вдруг звонко сказала женщина, которую Сергей не видел.
– А ты не командуй! – одернула ее хозяйка. – Раскомандовалась…
– Ведь правда, Лиль, – задушевно сказал мужчина, – Клара Ивановна с нами бьется, необразованными, а мы ее огорчаем. Извините нас, Клара Ивановна!
– Хорошо, – недовольным тоном сказала та. – Разрешаю вам сесть за стол.
Зазвякали ложечки в фарфоровых чашках, задребезжали блюдца… Бабкин подождал еще, прислушиваясь и не сводя глаз с крыльца, но больше из дверей никто не вышел. Похоже, обитатели дома завтракали в полном составе.
Закончив трапезу, они чинно поблагодарили Клару Ивановну, и женщины в чепцах убрали посуду, а мужчины помогли им. Как Бабкин ни старался, он снова не смог разглядеть лицо второй женщины – слишком быстро она перемещалась между верандой и домом.
Когда с уборкой было покончено, Клара Ивановна церемонным жестом разрешила другим участникам чаепития удалиться. Бабкин почти перестал удивляться, но реверанс, в котором присели две женщины, и поклон мужчин заставили его вскинуть брови.
Четверо ушли в дом, а женщина в зеленом платье осталась стоять на веранде, любуясь озером. Но стоило утреннему прохладному ветру погнать по воде рябь, и она последовала примеру своих помощников, зябко кутаясь на ходу в тонкую шаль с длинными серебристыми нитями на концах.
Дверь, скрипнув, закрылась, и все затихло.
Бабкин выбрался из малинника, оцарапался о колючую ветку и в качестве компенсации за перенесенные страдания снял с куста несколько красных ягод. Обошел дом по широкой дуге и спустился к берегу озера, размышляя над сценой, свидетелем которой стал.
«Игры? Любительская постановка?»
Для постановки поведение всех участников выглядело слишком естественно, а для игры им слишком мало нравилось происходящее. Во всяком случае, троим из них. Бабкин был уверен, что женщина по имени Клара Ивановна получала удовольствие от того, что происходило на веранде, но по голосам остальных, за исключением разве что черноволосого крепыша, он мог сказать со всей уверенностью: им это не нравилось.
Сергей так задумался над загадочной сценой, что даже не заметил лодку, бесшумно подошедшую к берегу. Он встрепенулся лишь тогда, когда из лодки его окликнули.
– Утречко доброе вам, – сказал скрипучий насмешливый голос. – Погодка сегодня балует, а?
Сергей живо обернулся и мысленно обругал себя за то, что его так легко застали врасплох. Лодка ударилась днищем о песок, рыбак в капюшоне выпрыгнул из нее, подняв кучу брызг, и с трудом потащил за собой.
Как только нос лодки оказался на суше, Бабкин присоединился к нему и, не слушая благодарностей, в три сильных рывка вытащил утлую посудину на берег.
– Погода неплохая, – согласился он, выпрямляясь. – Как улов?
Рыбак откинул капюшон, усмехнулся:
– Так себе. Но разве ж улов – это главное? Для нас, городских страдальцев, просто посидеть, посмотреть на восход – уже благодать!
Под капюшоном обнаружился моложавый старичок с лукавым лицом, похожий на гнома. Сходство придавали седые усы и бородка.
Бабкин подумал, что для любования восходом не обязательно забираться в лодку, но благоразумно не стал спорить и кивнул, показывая, что и ему, городскому страдальцу, не чужды такие чувства.
– А рыба здесь водится, водится, – наставительно продолжал рыбак, – только нужно наживку правильную подобрать. Мучнистого червя они не особо уважают и хлеб не всякий возьмут. Но если капнуть анисового масла, то дело пойдет веселее.
И, не сделав ни малейшей паузы, без перехода добавил:
– А вы, значит, заинтересовались семейством Гейдманов? Занимательные они люди, ничего не скажешь.
Он уставился на Сергея с откровенным любопытством. Отпираться было бессмысленно, и Бабкин, вспомнив правило Илюшина: «не знаешь, что говорить, – говори правду», смущенно сказал:
– Подошел разглядеть дом, а там такое представление началось…
Старичок замахал руками:
– Голубчик, мне вы можете не рассказывать об этом! Знаю, прекрасно знаю! Да все знают! Вы ведь впервые у нас, правда?
«У нас», – отметил про себя Сергей и кивнул.
– Ну вот! – будто бы обрадовался рыбак. – Конечно, непривычно… Эх, что ж это я! И не представился!
Он церемонно наклонил голову, протянул руку:
– Леонид Сергеевич, можно просто Леонид. Местный врачеватель. Эскулап, так сказать.
– Сергей.
Бабкин пожал узкую сухую ладонь, изучая нового знакомца. Пожалуй, ему было меньше лет, чем казалось на первый взгляд. «Не старше пятидесяти пяти, – определил Сергей. – Не такой уж он и старичок».
– Невероятно, конечно, что такое могло произойти. Никто не ожидал! Никто! И я не ожидал, хотя мог бы предположить, зная Карла. А ведь вот оно как все обернулось… – Доктор покачал головой, глядя на избу, в окнах которой засверкало солнце.
– Что обернулось? – рискнул спросить Бабкин. И добавил доверительно: – Вы же понимаете, я человек новый, ничего не знаю… Глуповато себя чувствую, честно говоря.
– Понимаю, прекрасно вас понимаю, – заверил доктор. – Я сам испытываю в точности то же самое, когда захожу к ним. Сейчас немного попривык, но еще пару месяцев назад каждый визит был для меня сущим наказанием.
Он по-птичьи наклонил голову, явно ожидая чего-то от Сергея. И тут Бабкина осенило: новый знакомец явно был из числа тех людей, что чувствуют себя прирожденными рассказчиками и подпитываются интересом слушателей. Их подстегивает спортивный азарт: выложить историю первым, чтобы стать свидетелем вызванных ею чувств. Никакое происшествие не остается без их внимания: в душе они подлинные летописцы, хоть недобрые люди и именуют их пренебрежительно сплетниками.
Доктору не терпелось выложить перед новичком часть сокровищ из своих запасов. Это полностью совпадало с намерениями Сергея, желавшего выяснить как можно больше.
– А что там случилось? – прямо спросил Бабкин и по огоньку, мелькнувшему в глазах собеседника, понял, что попал.
– О, такое дело, такое дело! – многообещающе пробормотал Леонид Сергеевич. – Секундочку…
Он повертел головой, углядел на берегу бревно и уверенно пошел к нему, увязая сапогами в песке. Бабкин побрел за ним.
Леонид Сергеевич опустился на бревно, выудил из дальнего кармана пачку «Кента», угостил Сергея и закурил сам.
– Вы, должно быть, знаете, что этот дом – единственный, не принадлежащий нашему пансионату? – спросил врач.
– Нет, впервые слышу.
– Однако это так. Он частный. Около двадцати лет назад Карл Ефимович выкупил у тогдашнего руководства «Рассвета» участок земли и дом на ней. Домик, правда, был поменьше и всего в один этаж. Карл не стал его сносить, а достроил, и получилась эдакая избушка. На курьих ножках.
– Разве это возможно – купить участок у пансионата? – удивился Сергей. – Тем более с домом?
А в те годы, кажется, и землю покупать было запрещено…
– Карл Ефимович был человек не простой, и связей там… – доктор многозначительно указал пальцем вверх, – у него хватало. Председатель райисполкома все-таки, он и не такое мог себе позволить. Ежу понятно, что он ее не купил в прямом смысле слова, но участок ему выделили. А в девяностых, когда все пошло вразнос, Гейдман уже оформил все это дело так, что комар носа не подточит.
– И ему безропотно отдали землю и дом? – усомнился Бабкин.
– А куда людям было деваться? Карл, старый пройдоха, предъявил документы, согласно которым он является наследником графа Вязникова. И пригрозил, что пойдет в суд, если они не договорятся по-мирному, и тогда уж заберет все, до чего сможет дотянуться.
– Он и в самом деле наследник?
– А кто ж его знает! Написать-то можно что угодно, бумага, она все стерпит. Если подумать, то где Николай Александрович Вязников, а где Карл Ефимович Гейдман! Но наверняка утверждать не могу, в жизни всякое бывает. Может быть, Карлуша и впрямь раскопал старые бумаги и решил воспользоваться неожиданно открывшимся родством.
Леонид Сергеевич усмехнулся в усы, и Сергей подумал, что сам доктор слабо верит в такую возможность.
– А что потом? – с интересом спросил он.
– Карл приезжал сюда отдыхать на целое лето. Так мы с ним и познакомились. Кстати, он меня и к рыбалке приохотил. Страстный был любитель этого дела! Разве что по имени каждую рыбу в этом озере не звал. А жена его прекрасно готовила. Когда жарила рыбу, такой запах стоял! М-м-м-м-м…
Доктор закатил глаза и некоторое время сидел неподвижно, заново переживая воспоминания. Прошла минута, и Сергей осторожно откашлялся.
– А? – встрепенулся Леонид Сергеевич, открывая глаза. – Да, так об Агриппине… Если хотите понять всю историю, то начинать придется с этой красавицы. Что, готовы, так сказать, совершить экскурс в прошлое? Или еще по сигаретке – и побредем на завтрак?
Сергей заверил доктора, что готов к экскурсу, а завтрак подождет. Его заинтриговало начало рассказа, а желание найти объяснение увиденному на веранде лишь подогревало любопытство.
– Ну, тогда слушайте. Агриппина, между прочим, была родом из этих мест. Точнее, из поселка, из Вязников…
1973 год
Будь он проклят, этот поселок! Сдерживая рыдания, Агриппина свернула в проулок, промчалась до знакомого лаза в заборе и нырнула в него, обдирая колени. Вылезла возле поленницы и забилась в укромное местечко за досками, известное только ей, подтянула кровоточащие коленки к подбородку, слизнула соленые капли.
Здесь можно было отсиживаться долго – не найдут. А в то, что преследователи рискнут полезть в лаз, даже если и обнаружат его в зарослях лопуха, она не верила.
Поселок городского типа… Она презрительно сплюнула на лист подорожника и усмехнулась, увидев, что слюна стала красной от крови. Про себя Агриппина, которую звали исключительно Грунькой, произносила это так: «Поселок городского, типа!» С такой расстановкой знаков выходило, что поселок, конечно, деревня деревней, но, типа, притворяется городским.
И жители его притворяются, думала Груня. Все до одного. У-у-у, оборотни!
Травили Груньку не все, а только мальчишки-подростки, но и осуждение в глазах взрослых она принимала за готовность к преследованию. Пожалуй, что и небезосновательно. Старик Прохор Семенович, воевавший в Великую Отечественную, вернувшийся в сорок пятом увешанный медалями и орденами и часто рассказывавший девочке истории из военного прошлого, при встрече с бывшей любимицей теперь переходил на другую сторону улицы, а столкнувшись с Груней нос к носу в магазине, громко и отчетливо сказал: «Шалава!» – и плюнул в ее сторону. И с тех пор плевал в нее, где бы ни увидел. Дошло до того, что Агриппина ходила в поселковый гастроном украдкой, прижимаясь к заборам и готовясь удирать при первом же намеке на встречу со стариком.
А когда живот стал заметен, ее совсем заклевали. Те, кто не считал своим долгом пристыдить, смотрели с молчаливым презрением, или же, подобно озверевшему Прохору Семеновичу, прямо высказывали Груньке мнение о ее моральном облике. Нравы в поселке были строгие, и девочкам в шестнадцать лет беременеть не дозволялось.
Когда Груня, не выдержав, пожаловалась дяде, тот устало взглянул на нее и сказал:
– А ты чего хотела? Сама виновата.
Верно, думала Груня. Сама виновата. Чем мог привлечь ее тридцатипятилетний лысеющий агроном, откомандированный в их поселок на три летних месяца? Что она выдумала, кого вообразила вместо похотливого трусливого человечка, на прощанье сунувшего ей украдкой несколько мятых червонцев? И о чем думала, когда закрывала глаза на все признаки, списывала утреннюю тошноту на несвежую пищу, на жару, на запахи – да на что угодно, кроме того, что было на самом деле?!
Когда она бросилась к поселковой врачихе, было уже поздно. Врачиха, если и имела когда-то представление о врачебной тайне и этике, давно об этом позабыла, и новость о Груниной беременности распространилась по поселку быстрее, чем девушка дошла домой из больницы.
В марте Груня родила. Мелкий, крикливый, болезненный младенец выпивал из нее все соки. С рождения, казалось, у него наметились две залысины, как у агронома, и даже характер прорисовывался похожий: Олежек рос осторожным, трусоватым мальчиком себе на уме.
Агриппина пару раз всерьез обдумывала, то ли ей утопиться самой, то ли утопить ребенка. Жизнь стала невыносима не потому, что была тяжела, а потому, что в ней не было ни единой радости, ни одного просвета. Вопреки собственным ожиданиям, Груня не полюбила сына, и оттого оказалась лишена единственного верного утешения несчастной женщины – утешения в своем ребенке.
От страшного шага ее уберег дядя. Валентин Петрович не мог смотреть, как равнодушно Груня обращается с Олегом, и понемногу сам стал принимать участие в воспитании мальчика. Его сестра, мать Груни, давно умерла, отец был неизвестен, и большая часть тягот, связанных с выращиванием строптивой маленькой девочки, десять лет назад легла на плечи Валентина. Теперь он с таким же тщанием взялся за сына племянницы, который звал его дядей.
Постепенно в сознании жителей Вязников утвердилось это сочетание: Валя и Олежек, большой и маленький. К тому времени, когда мальчику исполнилось десять, он проводил куда больше времени с дядей, чем с матерью. С Валентином Петровичем ему было спокойнее: тот никогда не кричал на него, в отличие от нервной, раздражительной Груни. К тому же дядя работал учителем в школе, много общался с детьми и знал, чем их заинтересовать.
Высокий, худой, с вечной отрешенной полуулыбкой на добром лице, Валентин Петрович разъезжал по всему району на своей старенькой «копейке» и из каждой поездки привозил растения. Много лет он увлекался биологией и мечтал сделать полный каталог травянистых растений средней полосы России. Самый полный! Может быть, даже названный его именем! «Каталог Валентина Чайки»… Думая об этом, Валентин Петрович зажмуривался от удовольствия, и перед глазами его возникал бордовый корешок книги, по которому тянулась золотая надпись. Валентину Петровичу повезло с фамилией – звучной, запоминающейся, – и втайне он был уверен: она может сыграть не последнюю роль в том, чтобы назвать каталог в его честь.
Груня так и не вышла замуж. Рядом с ней не было ни одного понимающего человека, не считая дяди, но тот все свои силы отдал ребенку. И понемногу она совсем одичала. Те, кто поначалу изводил девочку, со временем стали опасаться ее: Груня научилась злобно огрызаться, а самым усердным преследователям могла дать оплеуху.
Когда старый Прохор Васильев, встретив ее в магазине, в очередной раз по привычке плюнул в ее сторону, Груня схватила с прилавка первое, что подвернулось под руку, и пошла на него. Подвернулись счеты. Замахнувшись ими, девушка загремела, будто кастаньетами, но никто не рассмеялся: слишком бешеные стали у Груни глаза, и никто не усомнился в том, что она вот-вот разобьет старые, видавшие виды счеты о голову старика.
Не усомнился в этом и сам Прохор Семенович: в один миг растеряв весь боевой задор, он бочком, бочком стал отодвигаться от Груни, словно краб, и спрятался за дверью. Ни один человек в зале не рискнул остановить ее: люди откатились волнами в две стороны. Но девушка остановилась сама. Постояла, не сводя глаз с двери, из-за которой виднелся край поношенного ботинка, вернула счеты на прилавок онемевшей продавщице и ушла, не забыв прихватить купленную буханку.
А в двадцать шесть лет сбежала из Вязников, оставив все – дом, деньги, сына – родному дяде.
Все эти годы у нее развивалось и крепло ощущение, что поселок сжимает ее со всех сторон, что дома сближаются, теснятся, оставляя все меньше свободного пространства. Ей было нечем дышать. Все Грунины попытки жить «нормальной», по меркам Вязников, жизнью оканчивались плохо: она убеждалась в своей никчемности и отступала. Неподалеку от них жила старая одинокая полусумасшедшая женщина, и Груня поймала себя на том, что, проходя возле ее дома, ускоряет шаг. Поняв, отчего она это делает, девушка ужаснулась: не сама несчастная помешанная пугала ее, а предвидение свой судьбы.
Ранним мартовским утром, в первый по-настоящему солнечный день, Груня сложила вещи и документы в спортивную сумку, написала дяде Вале записку, поцеловала его, спящего, в седой висок, посмотрела на сына и вышла из дома. Холодный весенний воздух пах свежими огурцами, слезились и текли верхушки сугробов, а вдалеке автобус скользил по обледенелой дороге, похожий на большое неуклюжее животное с квадратной мордой.
Груня издалека замахала водителю, побежала, оскальзываясь и едва не падая, и еще успела перед тем, как впрыгнуть в автобус, обернуться и посмотреть на дом, где мирно спали Валентин Петрович и Олег.
Больше она никогда их не видела.
Полгода спустя
Карл Ефимович Гейдман пил крепкий кофе, сваренный домработницей, и изучал ее, особенно и не скрываясь. Предыдущую он уволил за воровство, и кто-то из знакомых посоветовал ему эту – деревенскую женщину с несуразным именем. Карл Ефимович ожидал, что появится расторопная бой-баба с широким задом и мутными глазами, а пришла ладно сложенная темноглазая деваха с бровями вразлет, серьезная и молчаливая. Пухлые губы, курносый нос и черный платок на голове, как у вдовицы.
Карл Ефимович приказал ей вычистить кухню, а заодно сварить ему кофе. Если домработница спрашивала, какой кофе он любит, значит, не была безнадежной. Если начинала варить сама, смело можно было гнать ее в шею: кофе все равно оказывался паршивым, а домработница – не способной переучиваться. Нечего и время терять.
Такой у Гейдмана был тест, и ни разу он его не подводил. Но строгая девица, справившись с кухней, сама взялась за турку, ничего не спрашивая. Карл Ефимович понимающе вздохнул, но когда перед ним на подносе поставили белоснежную фарфоровую чашечку, наполненную почти черным напитком, он подчинился выжидающему взгляду девушки и нехотя отпил из нее.
Кофе был неописуемо хорош. Карл Ефимович не смог добиться внятного ответа на вопрос, кто научил домработницу варить его правильно, но про себя решил: возьмет ее за одно это умение, пусть даже она окажется бестолковой во всем остальном.
Но Агриппина не подвела. Она взгромоздила на себя весь дом, и привычный Карлу Ефимовичу быт не претерпел никаких изменений, не считая изменений к лучшему. Груня по собственному почину терла серебро, мыла окна, чистила Карлу Ефимовичу ботинки и натирала тряпочкой хрустальные подвески великолепной люстры, сверкавшей в гостиной.
Она очень его боялась. Гейдман напоминал ей лешего. Но не забавного тощего старикашку, гугукающего в осиновом дупле, а недоброго хозяина леса, водящего дружбу с медведями и волками. Коренастый, с крепкой бычьей шеей, с тяжеловесным квадратным подбородком, выпирающим вперед, он казался воплощением свирепой силы. В свои пятьдесят пять лет плавал в проруби, разминался на снегу и легко тягал тяжеленные гири, которые Груня еле перетаскивала двумя руками.
Первые недели она старалась не вжимать голову в плечи, когда он заговаривал с ней. Но Карл Ефимович был с новой домработницей на удивление ласков и ни разу не повысил на нее голос. Постепенно Груня осмелела и даже стала позволять себе посматривать на него. Иногда.
Ее новый хозяин был одиночкой. Не одиноким мужчиной, а именно одиночкой, то есть – не нуждающимся в присутствии другой человеческой особи рядом с собой. Груня узнала, что он был женат, но развелся, и из родственников у него есть только странноватая сестра-поэтесса, над которой он подсмеивался, и ее мелкие дети.
Карл Ефимович отвел новой домработнице отдельную комнатку, которая не запиралась изнутри. Груня, обнаружив это, приготовилась к тому, что хозяин попробует прийти к ней на ночь. И даже завела на тумбочке возле кровати тяжелые деревянные счеты (у нее осталась из прошлой жизни уверенность, что этот предмет может помочь ей защитить себя).
Но шли недели, а Гейдман не предпринимал попыток, которых она опасалась. Счеты перекочевали на стол, а потом и вовсе упокоились в шкафу. Через три месяца по мелким признакам Груня заключила, что хозяин не видит в ней женщину. Поняв это, она неожиданно расстроилась, хотя должна была бы обрадоваться, и от своего расстройства сама на себя рассердилась.
С горечью Груня стала отмечать, что Карл Ефимович суховат с ней. Она делала свою работу по-прежнему добросовестно, стараясь угождать ему во всех мелочах, и ее старания не остались незамеченными: в конце месяца Гейдман, и без того щедро плативший своей домработнице, выдал ей премию. Груня проплакала над этими деньгами полночи и на следующий день старательно прятала опухшие глаза. Но Карл Ефимович ничего не заметил.
Она стала невероятно чувствительной ко всему, что касалось хозяина. Догадывалась о его возвращении за пятнадцать минут, как верная собака, по одному движению губ улавливала, в каком он настроении, а по бледности его лица могла сказать об уровне давления точнее тонометра.
Развязка наступила тогда, когда Гейдман принес домой букет белых роз.
– Грушенька, поставь их в вазу, но не распаковывай, – распорядился он. – И приготовь серый костюм.
Потом он разговаривал по телефону мурлыкающим голосом и убеждал какую-то Галечку, что она будет неотразима, в чем бы ни пришла. Побледневшая Груня слышала из-за приоткрытой двери отрывки разговора и не замечала, как сжимает стебли роз с такой силой, что шипы пронзают кожу до крови.
Она приготовила серый в синюю полоску костюм, который Карл Ефимович надевал по торжественным случаям, машинально достала подходящую к нему пару обуви. Гейдман ходил по квартире, напевая что-то себе под нос, и был похож на давно не кормленного тигра, знающего, что вскоре его ожидает теплое нежное мясо.
Прошло два часа, во время которых Груня не вымолвила ни слова. Она подала легкий полдник, стараясь, чтобы руки не дрожали, и вздрогнула, когда Карл Ефимович одобряюще прикоснулся к ее запястью.
Поев, он собрался и, уже стоя в прихожей, крикнул:
– Груша, давай цветы! Только воду стряхни!
Груня взяла розы, прижала к себе, вдыхая волны воздушного, прозрачного аромата, и понесла в прихожую. Но когда увидела Гейдмана, стоявшего в предвкушении встречи, с ней что-то случилось. Должно быть, запах цветов, предназначавшихся не ей, свел Груню с ума, но только она замерла, не дойдя до хозяина двух шагов.
– Ну что же ты? – ласково спросил тот, протягивая руку за букетом.
Сошедшая с ума Груня оттолкнула его руку и со всей силы ударила цветы об стену. Вниз посыпались лепестки.
– Уходите! – выкрикнула она, ломая крепкие стебли и швыряя их на пол к его ногам. – Уходите без цветов! Пусть она обойдется! Зачем ей цветы?! У нее же есть вы!
Последняя белая роза хрустнула, переломившись пополам в ее исколотых пальцах. Этот звук внезапно привел Груню в себя. Она с ужасом посмотрела на дело своих рук, перевела взгляд на онемевшего мужчину, закрыла лицо и бросилась к себе в комнату.
Там Груня выхватила из шкафа чемодан и принялась без разбору бросать в него вещи, чувствуя, что вся горит от стыда. Уйти, уйти скорее, просочиться по стеночке, не показываясь ему на глаза! Что она наделала… Что она наделала?!
Дверь за ее спиной скрипнула, но не успела Груня броситься к выходу, как сильные руки развернули ее, буквально приподняли вверх. Карл Ефимович смотрел на нее, и в глазах его было что-то, невидимое ей до сих пор.
– Дурочка, – очень тихо сказал он. – Какая же ты дурочка…
Спустя секунду чемодан полетел с кровати в одну сторону, Грунино платье – в другую. Она не помнила, как они оказались в постели: память ее сохранила происходящее в виде вспышек. Его искаженное лицо; руки, сжимающие ее запястья; потолок, опрокидывающийся куда-то вправо. И счастливый провал сна, долгого и крепкого, как у ребенка.
Два месяца спустя Карл зашел в спальню, присел на краешке кровати возле Груни. Она выздоравливала после тяжелого гриппа, много спала и почти ничего не ела. Гейдман наклонился над ней, поцеловал влажный лоб и строго сказал:
– Выздоровеешь – пойдем в ЗАГС.
– Что? – Груня приподнялась на подушке.
– Что слышала.
– Зачем тебе это? Я и так…
Она хотела добавить «люблю тебя», но осеклась и замолчала. Они редко говорили о чувствах. Сказать по правде, никогда.
– Знаю, что ты и так, – спокойно сказал Карл Ефимович. – Считай, что я хочу обеспечить себе старость. А то вильнешь хвостом, найдешь себе мускулистого мальчика – и только я тебя и видел. А мужа, может, постесняешься бросить.
Груня хотела что-то возразить, но Гейдман остановил ее:
– Все, я сказал! Вопрос решенный.
Через два месяца их расписали: очень скромно, без всяких торжеств. Агриппина Чайка стала Агриппиной Гейдман.
Олежку, оставшегося без матери, очень жалели, но сам он, узнав о ее отъезде, не горевал ни капли. Напротив, у него появилось чувство, что наконец-то все встало на свои места. Мать вносила сумбур в их жизнь, от нее веяло чем-то чуждым, разрушительным. С дядей все было иначе.
Олег рос неглупым мальчиком и понимал, что подобными мыслями не стоит делиться с окружающими. Поэтому он делал скорбное лицо всякий раз, когда речь заходила о Груне, и со свойственной детям чуткостью научился извлекать выгоду из положения кукушкиного птенца, подброшенного в соседнее гнездо.
И его дядя, Валентин Петрович, тоже втайне испытал облегчение, прочтя записку сестры. Освободившуюся комнату он тут же переделал в кабинет, перенес туда свои гербарии и стал еще больше похож на чудака-ученого, мечтающего открыть новый, неизвестный науке вид.
Иногда дядя брал Олежку в свои лесные вылазки. На заднем сиденье машины-развалюхи тряслись ящики с песком, прикрытые брезентовым полотном, а на переднем тряслись Олег с дядей. Валентин Петрович выбирал место, огораживал его и, передвигаясь на корточках, с лупой изучал попадающиеся на пути травинки. Олег в это время шатался в окрестностях, не уходя далеко от машины. Иногда лес вздрагивал от победного вопля – это означало, что дядя наткнулся на растение, которого еще нет в гербарии.
Находку бережно везли домой в ящике с прохладным песком, и дядя совершал над ней разнообразные манипуляции, измеряя и обнюхивая чахлую былинку со всех сторон.
Тогда-то у Олега и выявился талант. Он зарисовывал принесенные из леса трофеи, и рисунки его были точны и красивы. Обрадованный Валентин Петрович уверял, что племянник станет художником, и готовился отправить его в Москву, учиться живописи. Олег тоже хотел стать художником, но в Москву при этом не хотел. Туда отправилась мать, а значит, было в этом направлении что-то пугающее, как в Кудыкиной горе, куда слетаются на шабаш ведьмы.
Кроме того, Олег не хотел работать. К шестнадцати годам он превратился в тонкого бледного подростка с глазами навыкате, бездеятельного и апатичного. Оживление появлялось на его лице только тогда, когда кто-то хвалил его картины. Все свои неудачи он списывал на бросившую его мать и, наконец, сам поверил в это.
Валентин Петрович, оправдывая племянника, говорил, что мальчик хороший, просто очень уж мечтательный. И это было правдой. Олег мечтал о том, как в Вязники приедет богатый человек, увидит его картины и будет молча стоять перед ними. Долго. Час, а может быть, и два. Потом недоверчиво взглянет на Олега и спросит: «Это…ты?! Ты написал?!» Олег скромно кивнет и потупится, а богатый человек будет горячо трясти ему руку, а потом купит две картины. И на эти деньги Олег сможет безбедно жить до самой старости.
А еще лучше – не купит картины (они Олегу и самому нравились, он заранее жалел, что придется расстаться с ними), а будет для художника этим… как его… спонсором. В смысле – меценатом! Такой расклад Олега устраивал полностью, и он не торопился ни получать образование, ни искать работу, уверенный в том, что все задуманное сбудется.
Как ни странно, почти так и случилось.
В две тысячи четвертом году Карл Гейдман похоронил жену, умершую от рака, и сразу попал в больницу. Врачи диагностировали диабет. Из больницы Карл Ефимович не вышел, а выехал – на инвалидной коляске. Прогнозы врачей были неблагоприятными, но Гейдман не собирался оставлять этот свет в ближайшее время. У него имелись незаконченные дела.
Первое из них было связано с волей жены. Умирая, Груша попросила его узнать о ее сыне и помочь ему. Карл никогда не осуждал ее за принятое много лет назад решение оставить ребенка, ему было попросту все равно. Но он обещал жене выполнить просьбу.
Второй долг Гейдман желал закрыть перед самим собой. Его старшая сестра Маргарита, наивная особа со склонностью к мелодраматизму, пишущая плохие стихи и считающая себе хорошей поэтессой, в сорок лет вышла замуж за ленивого прохиндея, жившего за ее счет. Брак продержался недолго: прохиндей исчез через три года, найдя новую творческую душу. Но остались двое детей, которых Маргарита воспитывала кое-как, то балуя, то наказывая. Перед смертью она впала в полубессознательное состояние и ни о чем уже не могла попросить младшего брата. Но Гейдман и без ее просьб знал, что делать.
– Так вот, голубчик, он собрал их всех под одной крышей, – сказал доктор, выпуская колечко дыма. – Детей сестры и сына жены. На лето они приезжали сюда все вместе, и в городе были на его обеспечении.
– Что значит «на обеспечении»? – не понял Сергей.
– Понимаете, получилось так, что ни из кого из тех, кто принадлежит к младшему поколению Гейдманов, не вышло толку. Все они творческие люди, и умение зарабатывать деньги – не их сильная сторона. А Карл Ефимович, как вы, наверное, уже поняли, был мужчиной предприимчивым, умным и хитрым, и к старости скопил сумму, позволявшую ему жить безбедно. У него ведь и две квартиры в Москве имеются. Впрочем, это к делу не относится – так, штрих к портрету. Вот он и содержал пару лет всех этих отпрысков. Из которых один – не забывайте – ему даже не кровный родственник!
– Но на веранде я видел пять человек, – вспомнил Сергей. – Кто еще две женщины?
– Э-э-э, не торопитесь! Одна из них – жена Грушиного сына, Олега. Он ведь женился, и сынишка у него имеется. А еще одна – та особа, из-за которой здесь этим летом начался весь сыр-бор.
– Неужели третья супруга этого вашего Гейдмана? – усмехнулся Бабкин.
– Между прочим, вы зря иронизируете! Карл был мужчиной хоть куда даже в инвалидной коляске. Но все же это не третья его жена. Он слишком сильно любил Грушу, чтобы жениться снова. Но вы ведь помните, что он заболел после ее смерти и уже не мог ходить? Одно время справлялся сам, но возраст сказывался, и два года назад у них в доме появилась сиделка. Зовут ее Клара Ивановна. Она и есть пятая.
Сергей вспомнил крупную женщину в чепце и покачал головой: он все еще не понимал, каким образом история семьи Карла Гейдмана привела всех ее участников к той сцене, что он наблюдал.
– Терпение, терпение! – призвал доктор, заметив его жест. – Я все разъясню! Надо вам сказать, что жизнь у Клары Ивановны сложилась нелегкая. Во-первых, она должна была ухаживать за неходячим инвалидом. Во-вторых, на ее плечи легли хлопоты по дому. А в-третьих, семья Карла дружно ее невзлюбила и принялась третировать, проявляя при этом изобретательность.
– А что же сам Гейдман?
– Не могу сказать, что он это поощрял, – задумчиво сказал доктор. – Но и не препятствовал. Окружающие списывали это на его болезнь и слабость. Но, думаю, правда состояла не в этом.
– А в чем же?
– В том, что Карл Ефимович никогда не был добрым человеком и не считал нужным заботиться о ком-либо, кроме себя и жены. К старости он заскучал, ему требовались развлечения. А для умного человека лучшее развлечение – это наблюдение за другими людьми. Вот он и наблюдал, посмеиваясь в бороду. Перед ним разворачивалась такая картина! Кипели такие страсти! Сиделка была дурнушка без намека на чувство юмора, очень державшаяся за свою работу, и в то же время заносчивая и крайне самолюбивая. Вы понимаете: сочетание этих качеств делает человека идеальной мишенью для издевок. Лидия, племянница, придумала вот что: достала для сиделки платье английской прислуги начала девятнадцатого века и заставила беднягу носить его. Ей приказали обращаться ко всем домашним «сэр» и «миссис». «Миссис Лидия», «сэр Олег» – как звучит! Когда бедную Клару обязали делать книксен, она едва не взбунтовалась. Я был при этом. На секунду я испугался, что она бросится на Лидию и начнет душить ее! Но Клара взяла себя в руки и послушно сделала книксен под дружные смешки. Помнится, я еще тогда подумал, что они перегнули палку и эта женщина им отомстит.
Вот так и обстояли у них дела пару лет: Карл развлекался, все остальные тоже веселились от души. Кроме сиделки. Сиделка была всеобщим козлом отпущения, и я искренне недоумевал, почему она не бросит все и не сбежит из этого дома. Григорий, племянник, придумал глупейшую шутку про Карла и Клару, которая украла у него и кораллы, и кларнет, а затем сбежала со всеми деньгами. Они постоянно дразнили ее этой дурацкой скороговоркой. Вообще во всем этом было столько злого ребячества, что я диву давался.
– Но почему же она не ушла?
– Думаю, из-за денег. Я же сказал, Гейдман хорошо платил ей. Вот Клара и терпела. А родственники Карла, уверовав в свою безнаказанность, отплясывали на ней как хотели.
– Но ведь Карл Гейдман умер. Почему же она до сих пор там? Или у них еще кто-то заболел? – скептически поинтересовался Сергей.
Доктор захихикал.
– Голубчик вы мой… – выговорил он. – Да ведь Карл Гейдман оставил завещание… завещание… – Хихиканье перешло в смех. – Завещание оставил! Ой, не могу… В котором все… ах-ха-ха!.. отписал сиделке! Ни одного… хи-хи-хи… родственничка… родственничка… не осчастливил! Ни одного нахлебника не сделал богаче! Ох, бог мой… – Леонид Сергеевич вытер выступившие на глаза слезы.
И тут Сергей понял.
– Вы хотите сказать, – медленно начал он, – что сиделка – это худая женщина в зеленом платье? Та, что командует остальными?
– Разумеется! А вы о ком подумали?
Картина, которая уже сложилась в голове Бабкина, перевернулась, и все герои ее попадали вверх тормашками.
– Это сиделка… – повторил он ошеломленно.
– Клара Ивановна, – подтвердил Леонид Сергеевич с нескрываемым удовольствием. – Собственница дома, квартир и всех его накоплений. Теперь вы понимаете? Что скажете, а? Каков жизненный финт ушами! Нет, голубчик, чем больше живу, тем больше убеждаюсь, что судьба – дамочка с хорошим чувством юмора.
– Тогда уж не судьба, а сам Гейдман, – возразил Бабкин, не в силах до конца поверить в рассказ Леонида Сергеевича.
– И ведь вы совершенно правы! – вскричал доктор так громко, что Сергей покосился в сторону дома – не услышали бы оттуда. – Голову дам на отсечение, что все это он придумал заранее!
– Потому и не препятствовал издевкам… – задумчиво протянул Бабкин. – Развлекался, говорите…
– Точно так, – убежденно ответил его собеседник. – Заранее знал, как все обернется. У меня даже закрадывается подозрение, что наш Карл притворялся атеистом, а на самом деле верил в загробную жизнь. Хотел вдоволь насмеяться, поглядывая с небес на то, что будет твориться после его смерти. Вы ведь видели, не правда ли?
– Видел… Только сам не понял, что именно.
– О, сначала у всех был шок! – уже серьезно сказал доктор. – Включая Клару Ивановну. Два года быть девочкой для битья, а потом – такой сюрприз! Но, конечно, куда хуже пришлось семье Гейдмана. Представьте: оказаться в полной финансовой зависимости от человека, которого они увлеченно шпыняли и считали за пустое место. Я видел их вскоре после смерти Карла: они со страхом ждали расплаты и винили в произошедшем друг друга. Все они перессорились, потом их примирило совместное решение: обратиться в суд. Но тут выяснилось, что Гейдман незадолго до смерти проходил обследование и был признан психически здоровым. Это сильно подорвало их веру в то, что они выиграют дело, и суд отменился.
В начале лета сюда, в пансионат, прибыла Клара Ивановна и разрешила приехать семье. Вступив в наследство, она будто бы по инерции продолжала выплачивать всем им деньги – ту сумму, которую они привыкли ежемесячно получать от Карла. Они и приехали в надежде, что все будет как раньше. Что показывает нам, насколько наивными могут быть взрослые люди. Как дети, честное слово!
– Их встретил не тот прием, которого они ждали? – усмехнулся Сергей.
– «Не тот» – мягко сказано! Встреча происходила без меня, но я видел, с какими лицами выходили Гейдманы из дома. Кое-кто из них сразу хотел уехать, но ему не дали.
– И кто же?
– Жена Груниного сына, Лилия. Кажется, единственная, кто не участвовал в травле сиделки. Но она очень зависима от мужа, и голос ее не играет в семейных делах никакой роли.
– А что же остальные? Неужели остались?
– Остались, милый мой, остались! Не знаю, что Клара говорила им. Но в конце концов все они сдались и начали играть по тем правилам, которые диктовала им Клара. И вот тут-то наступило время ее торжества! Роли поменялись! Теперь она – знатная дама, а они – прислуга. Они обязаны обращаться к ней с почтением, быстро исполнять ее распоряжения и угождать мелким прихотям. И носить одежду слуг, когда Клара этого требует.
– Так они не постоянно ходят как ряженые?
– Нет, в том-то и дело. Клара непредсказуема. Ни один из них так и не научился предугадывать, когда она выступит в роли хозяйки, а когда в роли простой славной благодетельницы. Есть у меня подозрение, что это – часть ее плана.
– А какой у нее план?
Доктор огляделся, будто проверяя, не подслушивает ли их кто-нибудь, и доверительно наклонился к Сергею:
– Никому не говорите, но, по-моему… Она хочет их извести!
Бабкин отстранился и пристально посмотрел на доктора, словно пытаясь найти на его лице признаки душевной болезни.
– Сами понаблюдайте, раз не верите, – пожал плечами Леонид Сергеевич. – Если, конечно, вам представится такая возможность. Мне-то они доверяют, я у них летний семейный доктор. – Он усмехнулся в усы.
– Зачем это сиделке? Логичнее, если бы было наоборот!
– Может быть, берет реванш за два года унижений? – Доктор поднялся, и Сергей тоже вынужден был встать. – У нас тут пару недель назад был случай: из поселка прибежала женщина искать свою четырнадцатилетнюю дочь. Говорила, что девчонка утром поехала к нам на велосипеде – продавать ягоды, но в обещанное время не вернулась. Так Клара Ивановна начала намекать, что все это неспроста и что в ее доме живут двое мужчин, которые поглядывали на эту пропавшую Катю с однозначными намерениями. Мол, допросить бы их с пристрастием, может быть, что-нибудь и выяснилось бы!
Леонид Сергеевич осуждающе покачал головой:
– Очень это глупо выглядело.
– Постойте… – сказал Сергей, в голове которого вихрем пронеслись разнообразные мысли. – А девчонка-то нашлась?
– Ну конечно! – Доктор явно удивился такому вопросу. – Вечером приехала, целая и невредимая.
– И где же она была? – с видимым безразличием осведомился Бабкин.
– А! – тот махнул рукой. – В лесу заблудилась. Решила срезать путь, поехала незнакомой тропинкой и заплутала.
– Заплутала… – повторил Сергей. – Решила срезать путь и заплутала…
– И в этом нет ничего удивительного, – охотно подхватил Леонид Сергеевич. – Нынешним летом просто эпидемия подобных случаев!
– Неужели?
– С эпидемией я, пожалуй, погорячился, но у нас терялись уже три девицы. Мать третьей подняла всю округу на уши, а потом выяснилось, что девчонка уснула на поляне и проспала весь день. В общем, взбаламутила народ, и отдыхающие пошли искать эту дурочку. Не все, конечно… Говоря по правде, мало кто поверил в ее исчезновение. Но жена Олега, Груниного сына, уговорила мужа, и они обошли весь пансионат, а потом еще и в лес отправились.
– А кто вторая? – Бабкин постарался придать вопросу оттенок простого любопытства.
– Да так, одна легкомысленная отроковица, тоже из Вязников. В столовой работает ее родственница, и девчонка часто наведывается сюда. Ольга Романовна ее не гоняет, а зря. Пустая девица, финтифлюшка.
В голосе доктора сквозило осуждение.
– И она тоже исчезла утром, а появилась вечером? – спросил Сергей, внимательно наблюдая за его лицом.
– Почти что так. После обеда Марья Федоровна, повариха, вышла покормить кошку и заметила велосипед девчонки. Тут она забеспокоилась. По ее словам, племянница не могла приехать в «Рассвет» и не зайти к ней. Две поварихи прошлись по окрестностям, покричали девицу.
– И нашли ее спящей на поляне? – без улыбки поинтересовался Бабкин.
Доктор взглянул на него и покачал головой:
– Нет, через пару часов сама вышла откуда-то.
Сонная, взлохмаченная… В общем, всем было понятно, что произошло, только непонятно, с кем именно.
– А были варианты? – усмехнулся сыщик, догадавшись, что имеет в виду Леонид Сергеевич.
– Были, отчего же нет. Девица, хоть и молоденькая, очень даже аппетитная. А то, что безнравственна, так и на это много любителей.
– Педофилов, – утвердительно вставил Бабкин.
– Ни в коем случае! – запротестовал доктор. – Она взрослая девушка, ей шестнадцать! Прелестное сочетание хитрости с глупостью. Кажется, наш пансионат она рассматривает как озеро с карасями, а себя – как рыбака. В общем, ловит свой шанс выбраться из Вязников. Дуреха!
И, подытожив краткой характеристикой свое отношение к третьей девушке, доктор направился к лодке.
– Идемте же! – позвал он, обернувшись на неподвижно стоящего Сергея. – Что вы застыли? Опоздаем на завтрак, а сегодня, если не ошибаюсь, вареное яйцо и морская капуста!
Последняя фраза мигом вывела Бабкина из его раздумий.
– Яйцо? – встревоженно спросил он, устремляясь за своим провожатым. – Подождите… Что значит «вареное яйцо»? Что – одно?!
Глава 3
Нынче после завтрака мне удалось ускользнуть. Стыдно сказать, но я сбежала из дома, пока все были поглощены очередной ссорой между Лидией и Григорием, и нырнула за погребицу. Там растут лебеда и полынь, пахнет луговой горечью, горячей дорожной пылью и кибиткой (хотя, признаться, мне не доводилось нюхать кибиток), и на секунду, прикрыв глаза, я представила, что у меня все хорошо, что мы с Федей живем одни и нам больше не нужно никого бояться.
От этих кощунственных мыслей я вздрогнула и открыла глаза. Что я говорю?! Мы и так никого не боимся! Федька-то уж точно: он живет все лето у моих мамы и тети, носится босиком по лужам, рисует молочные усы возле губ и знает всех коров по именам, а быка – еще и по отчеству.
Мама часто жалуется мне на него. Неудивительно: она понятия не имеет, как обращаться с мальчишками! Единственный мужчина в нашей семье, да и то условный, это кот Шампиньон. Три поколения меланхоличных женщин взирают со стены в гостиной: прабабушка, бабушка и мама с тетей. Я могла бы пополнить этот ряд одиноких дам, но меня угораздило выйти замуж. То есть посчастливилось, как говорит мама.
Я знаю, что мне очень повезло. Мне твердили об этом так часто, что у меня выработался рефлекс: стоит матери начать: «и помни, что тебе…», как я бодро заканчиваю: «очень повезло». И еще ни разу не ошиблась с продолжением.
Видите ли, у каждой женщины в нашей семье есть талант, призвание. Мама – дизайнер: она из обломков, обрывков и ненужных кусочков чего ни попадя создает эстетические кошмары, но ужасы нынче в моде, и ее творения охотно раскупаются. Бабушка, учитель музыки, прекрасно пела: у нас даже сохранились записи. Меня каждый раз пробирает дрожь, когда я слышу арию из «Травиаты» в ее исполнении, но затрудняюсь сказать, связано ли это с воздействием бабушкиного голоса или же с тем, что она была приверженцем порки детей в любых неоднозначных ситуациях.
Моя тетя унаследовала от нее музыкальность и пошла по материнским стопам: она преподает в музыкальной школе и дает частные уроки. Иногда, возвращаясь домой, я вижу детей, выходящих из нашей квартиры после окончания занятий. Когда дверь за ними закрывается, у них становятся такие счастливые, такие радостные личики! Разве нет в этой радости заслуги моей тетушки?
Мне же, увы, не досталось ни одного таланта. Даже малюсенькой способности. Даже заурядного уменьица, которым я могла бы если не блеснуть, то хотя бы чуть-чуть погордиться.
Мама рьяно пыталась выжать из меня призвание, найти хоть какую-нибудь зацепку, которая позволила бы назвать меня одаренной. Меня отдали на танцы – я ухитрилась в первый же день занятий разбить зеркало и стукнуть чешками по ушам другую девочку. Стукнула я ее потому, что она обозвала меня коровой – как я теперь понимаю, вполне заслуженно. Но в шесть лет я еще не успела свыкнуться с тем, что прозвище это справедливо, и отомстила как могла.
Вслед за танцами на меня обрушилось фигурное катание. Я была строго-настрого предупреждена, что коньки – не чешки, и наставлять с их помощью других детей на путь истинный нельзя. Первое занятие прошло без эксцессов, но на втором я врезалась в бортик и сломала два пальца себе и три – тренеру. Мне казалось, что соотношение справедливо, но тренер счел иначе, и на фигурное катание меня больше не водили.
Кружок рисования, к счастью, прошел для всех безболезненно. Не считая моральной травмы, нанесенной руководительнице кружка – милейшей женщине, убежденной в том, что даже зайца можно научить рисовать. Возможно, применяй она свои методы обучения на зайце, они и впрямь дали бы толк. Но ей попалась я. Когда моей маме надоело видеть в альбоме жутковатые каляки-маляки вместо ожидаемых шедевров, кружок рисования для меня закончился.
Затем последовала секция художественной гимнастики, которую сменил теннис, а его, в свою очередь, хоровое пение. Мама металась со мной по кружкам, пытаясь понять: где же, в какой области скрывается вожделенное дарование? Как суматошный золотоискатель она рыла то здесь, то там, дожидаясь, не блеснет ли, не ослепит ли своим сиянием прожилка моего таланта, но снова и снова отшвыривала в сторону пустую руду.
В отчаянии мама попыталась пристроить меня в конный спорт. Секция женской академической гребли, в которую меня отдали после того, как сросся перелом (заслуга не лошади, а земного притяжения: я грохнулась со стоящего смирно животного и сломала руку), стала последним этапом: выяснилось, что я и весло – вещи еще менее совместимые, чем я и лошадь. С травмой кисти я вновь попала в больницу. После этого мама сдалась.
Не подумайте, что я росла хулиганкой – совсем наоборот! Я была тихой безропотной девочкой, старательно выполнявшей все, что мне говорили. Меня до слез огорчали мои «успехи», а еще больше реакция мамы, поджимавшей губы с видом «я так и знала» всякий раз, когда очередное ее начинание оканчивалось неудачей. Я чувствовала себя виноватой в том, что не могу кружиться в танце легко, как другие девочки, что не в силах нарисовать простейшее яблоко с хвостиком, что голос мой пискляв и фальшив.
– Никчемная у тебя девица растет, – как-то раз осуждающе сказала бабушка моей маме. И припечатала, не заботясь о том, слышу я или нет: – Твое педагогическое фиаско.
Да, каждую мою неудачу мама воспринимала как плевок ей в душу. Она, вкладывавшая в меня столько сил, рассчитывавшая гордиться мною, получила на выходе ребенка сомнительных достоинств. Гордиться было нечем. Она злилась и кричала на меня, а я только тупо моргала, вжав голову в плечи. «Никчемная девица» привязалось ко мне: мама нашла объяснение своим неудачам в том, что ей выдали изначально бракованный продукт, и не уставала напоминать мне об этом.
Примерно тогда я начала заикаться и ронять все, до чего случайно дотрагивалась. С возрастом прошло лишь заикание.
– Единственное, в чем ты превосходишь других детей – так это в неуклюжести, – сухо сказала мама, когда в десять лет я уронила новогоднюю елку. – «Слон в посудной лавке» в отношении тебя звучит как комплимент.
– Косорукая Лиля, – вздохнув, добавила тетя Лера, и это прозвище тоже надолго закрепилось за мной.
Панно, которое мама склеивала из осколков разбитой мною посуды, увеличивалось с каждым годом, и я в ужасе закрывала глаза, проходя мимо него. Оно разрасталось, меняло форму, ухмылялось щербатым оскалом из чашечек, блюдечек, тарелочек… Оно пожирало все мои попытки стать ловкой и аккуратной, пережевывало их с хрустом, какой слышится, если наступить на осколки тонкого фарфора, и брезгливо выплевывало в меня острую белую крошку.
А в восемнадцать лет я вышла замуж за Олега. Это был первый мужчина в моей жизни, и первый, кто предложил мне выйти за него замуж. Мне показалось, что он любит меня, а я – его, и я согласилась.
Как ни поразительно, но Олег мигом нашел общий язык с моими мамой и тетей! Он до слез хохотал над их рассказами об идиотских ситуациях, в которые я попадала, а вскоре и сам смог добавить в архив семейных преданий много веселого. Втроем они признали, что меня нужно оберегать от самой себя и никто лучше Олега не годится на эту роль.
Он оказался существом того же вида, что и вся моя родня: творцом, художником, взирающим со снисходительным сожалением на тех, кому ничего не дано. И мама не стеснялась напоминать, как невероятно, сказочно мне повезло. Помимо таланта к Олегу прилагалась красивая фамилия – Чайка, и постоянный доход от продажи картин. «Лиля, ты очень счастливый человек, – строго говорила тетя. – Очень! Ты не заслужила такого счастья».
Не знаю, чем объяснить, что первый год моего брака я была несчастна настолько, что не могла даже плакать. Наверное, мама была права, называя меня истеричкой. Но в октябре родился Федя, и все изменилось: как будто я всю жизнь жила без солнца, а потом наступил рассвет. Или как если бы человека, родившегося в пустыне и видевшего вокруг только песок, привезли на берег океана.
До сих пор у меня в ушах иногда звучит обвиняющий хор голосов.
Мамин: «Тебе нельзя доверить ребенка, ты его уронишь!»
Тетин: «Воспитанием вашего сына должен заниматься Олег!»
Мужа: «Ты ни к чему не способна!»
Клянусь, я старалась изо всех сил! К счастью, с Федей моя злосчастная неуклюжесть куда-то исчезала. Он рос чудесным мальчиком, жизнерадостным, хохочущим по любому пустяку. Олега его заливистый громкий смех выводил из себя, и он требовал, чтобы мы оба замолчали. Мы с сыном прятались под стол, устраивали палатку из одеял и сидели там, как заговорщики: я рассказывала тысячи историй, сочиняя их на ходу, он слушал с широко раскрытыми глазами, поблескивавшими в темноте. «Ма-ам, а что было дальше с царевичем Хлоркой?» (я не умела придумывать имена и заимствовала их у окружающих предметов. У Царевича Хлорки был враг, принц Вантуз, и невеста, принцесса Духовка).
– Лиля! Лилия, где ты?!
Голос Олега! Я вздрогнула, как будто он неожиданно подкрался, сорвал со стола одеяло и застал нас врасплох: маленьких, прижавшихся друг к другу, разгоряченных от своих тайн и сказок, поведанных таинственным шепотом. Меня вдруг охватило острое нежелание видеть мужа. Я вжалась в стену, затем очень осторожно выглянула из своих зарослей и увидела, что он спускается с крыльца, недовольно вертя головой по сторонам.
– Лилия! Где ты, черт возьми?! Ты нужна Кларе Ивановне…
Нет, только не это!
Я поползла обратно, словно надеясь укрыться в траве. Можно было обежать погребицу с другой стороны, будто играя в прятки, но тут моя ладонь нащупала на выщербленной стене, нагретой солнцем, изогнутую скобу – ручку двери. Я с усилием потянула ее на себя, и часть стены отделилась, превращаясь в дверцу, немного приоткрылась, сминая лебеду и полынь.
– Лилька! – заорал Олег совсем рядом и выругался: – Вот дура…
С бьющимся сердцем я протиснулась в образовавшуюся щель, в душную темноту, и поспешно закрыла тяжелую дверь, чуть не прищемив пальцы. Остался небольшой просвет, в который я, прижавшись щекой к занозистой доске, видела мужа: как он идет, крадучись, будто выслеживает меня, и поводит носом влево-вправо.
Я отшатнулась от входа, будто мой взгляд мог притянуть Олега, подождала немного и рискнула посмотреть снова. Вдруг он подошел и стоит рядом, с улыбочкой рассматривая постройку и предвкушая, как вытащит меня отсюда? Но старая заброшенная погребица не привлекла его внимания: он ушел дальше, к лесу, и его вкрадчивый голос растаял среди мрачных елей.
Я постояла с минуту, закрыв глаза, а потом открыла их и обвела взглядом низкие стены. Сперва, когда я только попала сюда, мне показалось, что внутри царит кромешная тьма. Но сейчас я убедилась, что это не так. Не тьма, а мягкий полумрак, из которого один за другим выступают контуры предметов, словно приближаются ко мне. На самом деле это мои глаза с каждой минутой все больше и больше привыкали к темноте, и вот я уже разглядела широкие полки вдоль стен, большие, как люльки, дырявые корзины, наваленные грудой в углу, грабли и лопаты, связки сухих веток, свисающие с потолка, мотки до ужаса пыльных веревок… В узком столбе света, падавшего снаружи, тучей роились пылинки, словно крошечные насекомые.
В пяти шагах от меня на полу лежал какой-то предмет, покрытый густой, почти вязкой, как грязь, пылью. Что-то, похожее на большую и широкую дверную ручку… Поморщившись от запаха пыли, я взялась за нее, но поднять не смогла, и только после второй неудачной попытки вдруг сообразила: это и есть ручка – ручка от люка в полу!
«Уж не тот ли это погреб, в котором сидела бедная Любаша? – пришло мне в голову. – Хоть доктор и говорил, что он был точно под нашим домом, но откуда ему знать наверняка? А по описанию похоже…»
Мне потребовались все силы, чтобы, ухватившись двумя руками за ручку, поднять люк вверх. Наконец я смогла откинуть его, и передо мной открылся черный квадрат погреба с уходившей в глубину лестницей. Оттуда на меня дохнуло плотным затхлым воздухом, земляной сыростью напополам с червяками.
«Интересно, что там, внизу?»
Мне представились ряды банок с клубничным вареньем, огурцы в тусклом рассоле, сквозь который просвечивают белые зубки чеснока, соленые помидоры с тончайшей кожицей, лопающейся от натяжения тугих помидорных телес… Наверное, после смерти Карла Ефимовича сюда никто ни разу не спускался.
Я жадно вглядывалась в заманчивую черноту, понимая, что лезть вниз без света – бессмысленная затея. Можно было бы вернуться за фонарем, но пройти в дом незамеченной мне вряд ли удалось бы.
– Ну и ладно! Подумаешь, подвал! – тихонько сказала я, отодвигаясь от люка. – Пустой подвал, ничего особенного!
В спину мне деликатно уткнулся край полки. Я обернулась, и первым, что бросилось мне в глаза, оказался черный фонарь с широкой выпуклой кнопкой. Это был современный фонарик из тех, что работают без батареек и аккумуляторов и называются вечными, хотя ломаются куда чаще обычных.
Я схватила его так быстро, словно боялась, что он исчезнет так же неожиданно, как появился. Раз-два-три-четыре-пять-шесть: резкие, почти судорожные сжатия, словно я тренировала кисть на эспандере – и вот лампы проснулись, замигали… Неуверенный слабенький свет стал ярче, перестал дрожать, и я с волнением присела над люком, опустила фонарь вниз, не переставая нажимать на кнопку.
Так и есть! На полках в отраженном луче что-то блеснуло. Чувствуя себя кладоискателем, я перехватила фонарик поудобнее и полезла вниз по лестнице, с большой осмотрительностью проверяя каждую ступеньку под ногами. У меня в памяти еще свежи воспоминания о том, как Григорий едва не ухнул в подвал. Последняя перекладина – и я встала, осматриваясь, водя вокруг фонариком.
Пол под ногами оказался не земляной, как я ожидала, а дощатый – трухлявый, прогнивший насквозь. Ежась от промозглого холода, я прошла по шаткому настилу и остановилась перед полкой, на которой и в самом деле выстроились трехлитровые банки, закатанные железными крышками – те покрылись коркой ржавчины. Но за толстым слоем пыли я никак не могла разглядеть, что внутри. Фонарик светил все слабее, и мне пришлось поднести его близко-близко к стеклянной поверхности банки и самой наклониться вплотную. Что-то круглое, небольшое, белое и, кажется, с коричневой сердцевиной…
Ближе, ближе, еще ближе… Я накренила банку, вытерла ладонь о джинсы, всматриваясь в ее содержимое, которое от моего движения заколыхалось, будто ожило…
И вдруг поняла, что это такое.
В банке за стеклом в прозрачной жидкости плавно покачивались человеческие глаза.
Я дико закричала и шарахнулась назад в ужасе. Под ногой что-то хрустнуло, я споткнулась и упала на спину. На мгновение мне показалось, что банка вместе с ее кошмарным содержимым вот-вот опрокинется с полки, упадет, разобьется прямо передо мной, и эта мысль вызвала у меня приступ безумного отвращения. Как жук, перевернутый кверху лапками, я отчаянно заколотила по полу, пытаясь отодвинуться назад и испытывая то же ощущение, которое испытывает во сне бегущий человек, не двигающийся с места.
Банка не упала. Вместо этого пол подо мной вдруг треснул, обрушился, и я провалилась, не успев даже вскрикнуть второй раз.
Удар. Тишина. Темнота. Кажется, земля вокруг. Первой моей мыслью было, что я провалилась в чью-то могилу, и волосы у меня на голове встали дыбом. Но в следующую секунду, дернувшись в страхе, я услышала звук, который внезапно успокоил меня.
Стук. Стук перекатившегося фонарика, который я выпустила во время падения, о что-то твердое: по звуку, кажется, камень.
Я лихорадочно ощупала то, на чем лежала. Под сгнившими досками, вместе с которыми я свалилась, была каменистая поверхность.
Еще несколько секунд поисков – и рядом со мной нашелся теплый цилиндр фонарика. У меня было такое чувство, будто я встретила знакомое живое существо. «Зарядив» его, я включила свет – и ахнула.
Я находилась в пещере, или, вернее, в горизонтально идущей шахте – широкой и круглой, как нора. Быть может, под воздействием пережитого ужаса я могла бы подумать, что ее прорыло неведомое подземное страшилище, гигантский червь, перемоловший тонны сырой земли… Но один факт не позволил этой гипотезе стать предположением. Факт, которому не смог противостоять даже мой ужас, ввергавший меня в безумие и заставлявший придумывать немыслимые картинки сродни тем, что рисуют в американских комиксах.
Все стены этой пещеры, сколько хватало света фонаря, были выложены камнем. Даже я, готовая принять самое жуткое и неправдоподобное объяснение за правду, не могла представить себе гигантского кольчатого червя, любовно облицовывающего плиткой стены своей столовой. И мифическое чудовище, пожирающее проваливающихся под землю туристов, тоже вряд ли стало бы занимать таким образом свой досуг. По всему выходило, что чудовищ и червей можно пока не опасаться.
Мало-помалу моя паника рассеялась. Я задрала голову и с невыразимым облегчением увидела, что падала с совсем небольшой высоты: обломившиеся края досок находились на расстоянии моей вытянутой руки, и при желании я легко могла бы забраться обратно. Но пока мне не хотелось возвращаться туда. Мне не терпелось исследовать мое новое убежище.
После короткого осмотра стало ясно, что это не что иное, как благоустроенный подземный туннель. В том месте, где я упала, он имел выход в подвал под нашей погребицей. Возможно, когда-то там была потайная дверь, а, может, этот ход держали на крайний случай, и беглецы должны были разобрать половицы, чтобы спуститься в него. Мой же путь облегчили и сократили сгнившие доски.
Теперь стало понятно, почему настил в подполе показался мне шатким. Он был фальшивым.
Но куда же ведет этот подземный ход?
Забыв про страшную находку в подвале, я села, стараясь не дотрагиваться до стен, покрытых кое-где черно-зеленым, похожим на плесень налетом, и с любопытством вгляделась в глубь лаза.
Я всегда считала себя трусихой, но трусость моя распространяется лишь на людей. Меня не пугают ни крысы со змеями, ни темные комнаты, и мне странно представить, что на кого-то могут наводить ужас кладбища или дома с привидениями. Никакое привидение не может быть страшнее хорошо знакомого тебе человека. Мне кажется, это они должны нас бояться, а не мы их.
Но перед этим ходом, выложенным грязно-белым камнем, я стояла в колебаниях. Точнее, сидела, поскольку выпрямиться в полный рост было невозможно. По стенам и потолку змеились белесые нити – корешки растений, кое-где они становились толстыми, как щупальца кальмара, и затягивали проход своей паучьей сетью. В одной из таких сетей терялся свет моего маленького фонаря.
Собравшись с силами и говоря себе, что другой возможности исследовать это загадочное место может и не представиться, я встала на корточки, зажала фонарь в зубах и поползла. Свет запрыгал передо мною: вверх-вниз, вверх-вниз… Достигнув «паутины», я растащила ее руками в разные стороны, освободив себе проход, и осторожно двинулась дальше.
Стоило лучу фонаря переметнуться вперед, как оставшееся без света пространство молниеносно погружалось во мрак и камни чернели. Бархатная темнота за мной смыкала объятия, тянулась ко мне щупальцами корней, изучающе водила по щекам, шее, дотрагивалась до обнаженных рук – точно слепец, встречающий гостя в своем заброшенном доме, где сотни лет не было слышно ничьих шагов, кроме его собственных.
Воздух вокруг был густым и пах известью, но мне казалось, что это густеет вокруг меня время, замедляет свой ход, поворачивает обратно, раскачивает маховик, унося в те годы, когда люди, подобно муравьям, рыли этот ход и укрепляли его. Сколько лет прошло? Двести? Триста? Больше? Вот когда я пожалела о том, что не расспросила доктора подробнее! Ведь он говорил о древней крепости, когда-то стоявшей на этой земле…
Камни подо мною были влажными, и ладони вскоре сделались скользкими и липкими, как кожа лягушки. Во что превратились джинсы, мне даже не хотелось задумываться. Мазнув лучом фонарика по потолку туннеля, я заметила, что он стал выше. Можно было бы подняться и идти, низко согнувшись, но я предпочла ползти: кто знает, как сильно время и природа потрудились над творением людей, и не обрушится ли на меня этот потолок от случайного прикосновения, замуровывая в земляной галерее?
Я проползла еще несколько метров, и вдруг передо мной выросла преграда: каменная башенка поднималась в центре хода, широкий прямоугольный столб, подпиравший свод туннеля. Я сообразила, что это и есть опора. Слева и справа было достаточно места, чтобы обогнуть башню. Протискиваясь мимо нее, я задела плечом кирпичную кладку – и отшатнулась: прикосновение было ледяным.
В следующие десять минут мне встретились еще две таких опоры. От последней, когда я посветила на нее, проворно метнулось какое-то насекомое: большущее, размером с мою ладонь. Оно передвигалось так быстро, что я успела увидеть только блеснувший рыжий панцирь и длинные острые выступы на хвосте, похожие на усы. Меня передернуло, когда я представила, что это создание могло свалиться на меня откуда-нибудь сверху. Но, судя по его поведению, оно боялось меня еще больше, и это немного успокаивало.
– А не встречаются ли здесь змеи? – вслух спросила я, ожидая услышать поддакивание эха: «змеи, змеи, змеи…»
Но мой голос тут же съелся темнотой.
– Будем считать, что не встречаются, – пробормотала я, карабкаясь дальше. – Это мой ход, я его открыла. Здесь не должно быть змей.
Вскоре я потеряла счет времени. Часов я не ношу, телефон остался дома. По моим ощущениям, я провела в галерее не меньше часа. Как далеко можно было уползти за час? Наверное, не очень…
Я замерзла, натерла колени, ползти с каждым шагом становилось все труднее, но назад я не повернула бы ни за что на свете. Единственное, что могло заставить меня остановиться – это отсутствие света. В темноте я оказалась бы беспомощна. Пока мой верный фонарик освещал дорогу, я не собиралась сдаваться.
И стоило мне подумать об этом, как луч на миг сделался ярче – и исчез. Галерея погрузилась во мглу.
Я изо всех сил принялась нажимать на кнопку, но то ли перегорела лампочка, то ли что-то сломалось, но мне не удалось выжать даже крошечной искорки из фонаря. Я потрясла его, попробовала вслепую открутить крышку – бесполезно. Фонарь умер.
Не могу сказать, что я сильно испугалась, но перспектива ползти обратно в кромешной тьме меня не обрадовала. То существо в хитиновом панцире, с колючками на хвосте, убежало лишь потому, что попало в центр луча, и кто знает, какие еще существа скрывались от меня заблаговременно, лишь заметив издалека бледно-желтое пятно, обшаривавшее стены? Что они станут делать теперь, когда я лишилась единственной защиты?
Приказав себе не фантазировать раньше времени, я обдумала создавшееся положение. Мне не было известно, куда выводит подземный ход и выводит ли вообще куда-нибудь. За сотни лет он, конечно, мог обвалиться, и почти наверняка так оно и случилось – в противном случае кто-нибудь наткнулся бы на него раньше меня. Может быть, мне под силу оказалось бы расчистить завал, но без фонаря и инструментов об этом нечего было и думать!
Получалось, что надо возвращаться.
Я уже собиралась повернуть назад, но что-то остановило меня. Глаза мои по-прежнему ничего не видели, но у меня появилось ощущение, будто что-то изменилось…
И вдруг я поняла: воздух! Воздух в туннеле стал другим! Исчезла вязкость, затхлость, и пахло уже не известью и землей, а обычными лесными запахами: соснами, сухой травой, отцветающим иван-чаем…
Где-то поблизости был выход на поверхность!
Забыв о возвращении, я рванула вперед со скоростью встреченного насекомого. И тут стало ясно, отчего последняя сотня метров галереи далась мне так тяжело: туннель шел под уклон. Я заметила это только сейчас, после вынужденной передышки: он довольно круто поднимался вверх, и я ощущала себя так, будто забираюсь в горку.
Но и это придало мне сил. Вокруг меня стали слабо, едва заметно проявляться очертания стен. И хотя источника света я по-прежнему не видела, было очевидно, что царство глухой тьмы осталось позади.
Я двигалась вперед с таким энтузиазмом, что, когда ход внезапно оборвался, не поверила своим глазам и ощупала неожиданную преграду, подозревая какой-то подвох или обман зрения. Но глаза не лгали: резко сужавшийся проход был целиком заложен досками. Я недоверчиво постучала по ним, сначала слегка, потом сильнее, со все возрастающей злостью. Выходит, я пробиралась сюда с таким трудом лишь затем, чтобы в двух шагах от цели повернуть обратно?!
Я толкнула деревянный заслон, но он не шелохнулся. Забарабанила изо всех сил, но доски, похоже, были чем-то пропитаны, и это предохранило их от гниения – они устояли против моих ударов. Лоб у меня покрылся холодным потом. Я решила попробовать выбить их ногами, но в последний момент остановилась. Мне пришла в голову одна мысль…
Кем бы ни были строители подземного хода, вряд ли они планировали замуровать тех, кто будет им пользоваться. И вряд ли пробиравшиеся через него люди могли позволить себе потерять время на то, чтобы выломать крепкий заслон. Нет, это была защита от внешнего проникновения… Для тех же, кто внутри, должен быть иной способ выбраться наружу, чем с помощью физической силы.
Подумав об этом, я закрыла глаза и медленно провела ладонями по дереву – сухому, как лучина для печи. От него исходил едва уловимый смоляной запах, который подтверждал мою догадку о том, что его обработали каким-то составом.
Скупой свет не помогал мне: я по-прежнему почти ничего не видела, скорее угадывала контуры в полумраке. Пальцы мои ощупывали каждый сантиметр гладких обструганных досок, но не находили ни скважины, ни зазора, ни щелей – ничего из того, что могло бы помочь мне открыть эту дверь – а в том, что передо мной именно дверь, я теперь почти не сомневалась.
То, что в ней нет скважины, обескуражило меня. Как же можно открыть дверь, в которой не сделали отверстия для ключа?!
«М-да, задачка не для слабых умов. Значит, тебе не справиться», – насмешливо сказал в моей голове Олег. Как всегда, когда я терялась в трудных ситуациях, меня настигали уверенные голоса моих близких, не считавших нужным скрывать от меня малоприятную истину.
«Я всегда была с тобой честной, – возразил голос матери. – Ты не должна переоценивать себя. Помнишь, как ты училась водить машину? Если бы не мы, к чему бы это привело?»
«При чем здесь машина, мама?!» – я не выдержала и вступила в разговор, проигранный уже тысячу раз в реальной жизни и столько же – в моем воображении.
«Давай смотреть правде в глаза, Лиля! – призвала тетя. – Ты безнадежна. Ты не справишься. Иди обратно, так будет лучше».
«Мы заботимся только о тебе!»
«Дурочка ты безрукая, мы желаем лишь добра… Сама видишь, у тебя нет ключа. Откуда ему взяться? Значит, у тебя ничего не получится».
«Что же поделать, если ты и в самом деле не сможешь открыть эту дверь!»
От каждой новой реплики между мной и дверью словно вырастало новое препятствие, и мне сперва нужно было справиться с ним, а потом еще с одним, и еще, и еще, и еще…
– Как же можно открыть дверь, если в ней нет скважины? – вслух с отчаянием повторила я, лишь бы отвязаться от голосов.
И вдруг ответ сам нашел меня.
Нет скважины – значит, нет и ключа. Все очень просто.
«Эта дверь открывается как-то иначе!»
Голоса выжидательно затихли.
– Допустим, есть секретный механизм, – неуверенно прошептала я. – Он должен быть простым, чтобы каждый, кому сказали о секрете, мог бы выбраться наружу. Например, потайной рычажок…
Я еще раз изучила дверь, но вновь убедилась, что она гладкая и доски плотно прижаты друг к другу.
«Не заклинанием же тебя открывали! Должно быть что-то… что-то… Скажем, то, что отодвигает засов на той стороне! Или приводит в действие пружину… Нет, постойте, какую пружину? Пружина – это слишком сложно, это не годится. Скорее, такой же деревянный просмоленный брус, который нужно сдвинуть… Но чем? Здесь ничего нет, кроме этой проклятой двери и камней!»
Рассердившись, я замахнулась, собираясь ударить кулаком по упрямому дереву, не желавшему поддаваться, но тут меня осенила мысль, от которой я так и застыла с поднятой рукой.
«Кроме проклятой двери и камней…»
– И камней!.
С бьющимся сердцем я ощупала кладку стены вокруг выхода. Слева и справа – ничего, камни плотно прилегают друг к другу и почти не отличаются по размерам. Я прижала ладони к «полу», на котором впустую просидела столько времени, и похлопала возле своих ног. Справа пальцы мои уперлись в камень, сильно выступавший вверх по сравнению с остальными. Если бы я стояла, об него даже можно было бы споткнуться, но высота лаза не позволяла подняться здесь ни в полный рост, ни даже согнувшись пополам.
Булыжник холодил ладонь, он был как огромное яйцо, наполовину закопанное в землю – такой же ровный, с заостренной верхушкой. Но когда я обхватила его всей кистью, мои пальцы сами собою легли в небольшие шершавые ямки, явно искусственного происхождения. Несмотря на всю напряженность момента, меня разобрал смех, когда я подумала, что это допотопный шар для боулинга. Рассмеявшись, я с силой нажала на него. Ничего не случилось. Я положила сверху левую руку, оперлась всем своим весом, и тогда камень, преодолев сопротивление, подался, ушел вниз.
Получилось!
Я продолжала изо всех сил давить на него, и там, под землей, что-то зашевелилось. Я услышала треск, скрежет с другой стороны двери, и по каким-то неуловимым изменениям поняла, что больше ее ничего не удерживает.
