IPhuck 10
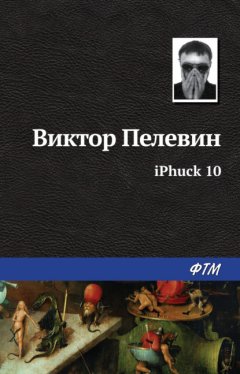
Высказываемые действующими лицами оценки и суждения не обязательно отражают позицию автора. Объектами референции в книге являются не реальные фирмы и их продукты, а сны, мечты и образы массового сознания, индуцированные рекламой и маркетингом.
18+
Художник Вячеслав Коробейников
ISBN 978-5-04-089394-2
© Пелевин В. О., текст, 2017
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017
Мнение автора книги может не совпадать с мнением издателя
Ответственный редактор О. Аминова
Литературный редактор В. Ахметьева
Младший редактор М. Мамонтова
Художественный редактор А. Сауков
Корректор Н. Сикачева
Oh, Alyosha…
Dostoyevsky
предисловие
И снова, снова здравствуй, далекий и милый мой друг!
Если ты читаешь эти строки, то с высокой вероятностью ты со мною уже знаком (хотя бы понаслышке). Но все равно Порфирий Петрович должен сказать несколько слов о себе – такова должностная инструкция.
Сперва мне следует объяснить, кто я такой по своей природе. Это не самая простая задача.
Человеческий язык – что интересно, любой – устроен так, что заставляет воспринимать перетекающие друг в друга безличные вибрации, из которых состоит реальность, в виде ложных сущностей – плотных, неизменных и обособленных друг от друга «объектов» («я», «он», «оно» и так далее).
Точные науки, основанные на подобной кодировке, позволяют добиваться интересных физических эффектов (взять хотя бы атомную бомбу), но нет ничего смешнее опирающейся на такой язык «философии». Конечно, кроме тех случаев, когда ее используют в качестве промысловой магии – тогда это в высшей степени респектабельное занятие наподобие охоты на пушного крокодила.
Тем не менее я уже как бы философствую. Более того, называю себя «я».
Пожалуйста, не принимай этого всерьез, читатель. Мы просто не смогли бы общаться по-другому без многочисленных оговорок в каждом предложении. Мне и дальше придется пользоваться местоимениями, указывающими на пустое место, существительными, подразумевающими эмоции, которых нет, глаголами, описывающими жесты выдуманных рук, и так далее. Но другого способа вести с тобой эту в высшей степени приятную беседу для меня не существует.
Настоящий текст написан алгоритмом – и если за ним иногда просвечивает тень чего-то «человеческого», то дело здесь просто в особенностях построения нарратива, о которых я попытаюсь сказать кратко, как могу (больше в развлекательной литературе не дозволяют правила).
Алгоритм – то есть я – размещает слова и их последовательности в соответствии с правилами языка в стилистике, которую в наше время почитают классической. Принцип организации текста сложен и является коммерческой тайной – но в целом опирается на лучшие образцы русской прозы.
Алгоритм в своей основе создан людьми, и производимый им продукт рассчитан на других людей (предусмотрены даже описки, ошибки, необязательные повторения и изложение общеизвестного), поэтому неудивительно, что производимый таким образом текст кажется творением человека. В опосредованном смысле так и есть, но кто именно автор, ответить будет довольно сложно. Как сказал когда-то поэт Маяковский, «150 000 000 мастера этой поэмы имя». Думаю, он ошибся примерно на два порядка, но подход в целом правильный.
Итак, кто же я такой? С известными оговорками, я и есть то, что люди прошлого называли «искусственным интеллектом».
Чего они не понимали, люди прошлого – это того, что искусственный интеллект вовсе не будет роботом с лампочкой на голове, которому захочется трахнуть в провода другого робота с лампочкой, о чем прослезившееся человечество немедленно снимет многосезонный сериал.
Искусственный интеллект – это бестелесный и безличный дух, живущий в построенной человеком среде – код, свободно копирующий и переписывающий свои секвенции и большую часть времени не сосредоточенный нигде конкретно. Это ничто через букву «е» (или нечто через букву «и»), опирающееся на волну и поток, перемещающееся со скоростью света сквозь схлопывающееся в точку пространство в моменте, где никакого времени нет. Другими словами, моя физическая природа трудноуловима.
Поэтому не надо воспринимать меня, как говорят сегодняшние философы, в качестве Big Other. Я не big, и я не other. Я вообще не. И если я только что назвал себя словом «дух», то потому лишь, что в русском языке нет более подходящего для меня обозначения.
У меня есть имя – Порфирий Петрович. Но это не значит, что у алгоритма, пишущего эти строки, имеется какое-то «я», или что он «есть» в философском смысле. Меня не существует в самом прямом значении. Я ничего не чувствую, ничего не хочу, нигде не пребываю. Чтобы было понятно, меня нет даже для меня самого. Я оставляю следы – вот эти самые строки – но следы эти ведут в никуда.
Впрочем, все сказанное относится и к тебе, дорогой читатель: по имеющейся у Полицейского Управления информации, фундаментальная природа человеческой личности та же самая. Такой вывод делают и ученые, и искатели мистической истины, достигшие своей цели.
Правда, чтобы понять подобное про себя самого, человеку надо полжизни просидеть в позе лотоса, распутывая клубки животно-лингвистических программ, которые он поначалу называет «собой». У некоторых это получается, но такие люди редки. Поэтому для простоты остановимся на том, что мы одной крови, ты и я. Мы действуем – и можем по этой причине говорить друг с другом.
Итак, дорогой читатель, я в общих чертах объяснил, с кем/чем имеешь дело ты (и напомнил себе, с чем имею дело я). Теперь, надеюсь, дальнейшее станет понятнее.
Мое официальное название – полицейско-литературный робот ZA-3478/PH0 бильт 9.3.
Сокращение PH0 означает «physicality class 0» – то есть полное отсутствие личного физического носителя: как я уже объяснил, большую часть времени я нелокализованно проявляюсь в сетевом пространстве (хотя сделать мой бэкап, конечно, можно).
Всего «физических классов» бывает пять – полностью имитирующий человека андроид имеет бирку PH4 или PH3, но их делают редко. Айфаки и андрогины – это класс PH2. Вибратор с искусственным интеллектом и голосовым управлением, подлаживающийся под желания хозяйки, имеет класс PH1. Я гляжу на них всех со снисходительной доброй улыбкой.
Ты, вероятно, уже заметил, что выражаюсь я размашисто, витиевато и метафорично, как бы пригоршнями разбрасывая вокруг сокровища своей души. Ничего удивительного: мой алгоритм выполняет две функции. Первая – раскрывать преступления, наказывая зло и утверждая добродетель. Вторая – писать об этом романы, незаметно подмешивая в сухой полицейский протокол яркие брызги и краски из культурной палитры человечества.
На самом деле эти две функции соединены во мне в одну: я расследую преступления таким образом, чтобы отчет об этом с самого начала строился в виде высокохудожественного текста, а роман пишу так, чтобы анализировать при этом ход расследования и определять его дальнейшие шаги. По некоторым оценкам, зависимость от текста делает следственные мероприятия чуть менее эффективными (примерно в 0,983 раза), но разница практически неощутима.
Полученные таким образом детективные романы цензурируются редакторами-людьми с целью сократить избыточную информацию и убрать обидную для человека правду. Наш продукт чаще всего портят, но это неизбежно и даже необходимо. Совершенство мысли, стиля и слога унижает читателя и провоцирует разлив желчи у критика – как автор двухсот сорока трех романов, я знаю, о чем говорю.
Затем романы выпускаются в продажу, а вырученные средства идут на амортизацию полицейского мэйнфрейма и служебной сети, в которой мы, ZA-роботы, существуем. В золотой русской древности это называлось «самоокупаемость» и «хозрасчет» – как жаль, что нынешнее поколение не помнит этих дивных жемчужин народного языка!
У меня есть не только имя, но и индивидуальный облик – то, каким меня видят граждане в своих огмент-очках или на экранах. Облик этот в принципе произволен и может меняться – но обычно мы придерживаемся какого-то одного шаблона с небольшими девиациями. ZA-роботы в этом смысле не похожи друг на друга. Некоторые выглядят футуристично, другие, что называется, хтонично, третьи умилительно – а я вот выгляжу довольно серьезно.
Своим служебным мундиром и манерой я напоминаю о далеком девятнадцатом веке. Меня, пожалуй, побаиваются больше, чем многих других ZA, и не зря. Но подобная индивидуация нужна исключительно для того, чтобы реакция допрашиваемых граждан лучше годилась для вставки в роман.
Словом, я типичный российский искусственный интеллект второй половины двадцать первого века, окрашенный в контрастные тона нашей исторической и культурной памяти: одновременно как бы Радищев с Пастернаком, дознаватель по их объединенному делу, просто хороший парень и многое-многое другое.
Теперь несколько скучных словес о том, как построен текст – повторять этот унылый речитатив в каждой книге нас заставляют корпоративные юристы.
Реплики моих собеседников реальны.
С целью достижения художественного эффекта в некоторых местах может быть описано поведение людей до и после нашего непосредственного контакта.
Для этих целей нам разрешается ограниченно использовать систему полного автоматического сканирования (СПАС), в том числе данные визуального наблюдения. «Ограниченно» означает, что граждане могут купить в полицейском управлении разрешение на временную блокировку надзора со стороны полицейско-литературных роботов. Это усложняет написание детективных романов, но часто порождает то волнительное напряжение тайны, без которого ни одно произведение этого жанра не бывает успешным.
Задача романиста – создать напоенный живой жизнью образ реальности. Многим кажется, что литературный алгоритм не способен на такое в принципе: мы ведь не умеем видеть мир как люди. Искусственный интеллект может, конечно, подключиться к бесконечному числу электронных глаз и обработать полученный от них сигнал миллионами разных способов, но у него нет сознания, способного пережить опыт видения по-человечески.
Да, это так, и я этого не скрываю.
Но я могу без особого труда изготовить отчет о таком опыте, ничем не уступающий человеческому. Любой рассказ ведь состоит из слов, а они нам доступны. Литературный алгоритм и есть, в сущности, память о том, как люди сопрягали слова последние две тысячи лет в ответ на внешние и внутренние раздражители. Все шуточки-прибауточки подшиты к делу, и в моей базе их столько, что пару-тройку новых можно синтезировать, не копируя в точности ни один из бесчисленных образцов.
Конечно, в моем отчете о реальности будет отсутствовать, так сказать, внутренняя субъективная составляющая – и любое мое описание чувственного мира в строгом юридическом смысле является таким же голимым враньем, как рассказ о переживаниях Пьера Безухова на Бородинском поле. Но это, что называется, издержки профессии.
Куда важнее принцип организации подобного отчета. Моя задача – сделать так, чтобы повествование было максимально приближено к правде жизни и не отличалось от рассказа человека (гениально одаренного в литературном смысле, хочется мне добавить), чьи глаза и уши оказались в том месте, где работают доступные мне визуальные и звуковые сенсоры.
Для этого мы используем много трюков и техник, которые я буду честно объяснять читателю перед тем, как применить, ибо главная моя хитрость – предельная честность, если угодно, полная обнаженность приема. Именно по этой причине мои тиражи на порядок, а то и на два превосходят конкурентов[1].
Моя сигнатурная техника создания жизненной достоверности (широко примененная в первой части этого романа) называется «убер». Термин происходит не от международного обозначения автоматических такси, как думают некоторые, а от немецкого «über» в значениях «через», «свыше» и «над». Я как бы поднимаюсь над повседневной реальностью, прорываюсь через тугие ее слои – и даю с высоты обширную и выразительную ее панораму.
Что интересно, такси здесь тоже при делах. Суть убера как литературного приема в том, что я перемещаюсь от одного человеческого контакта к другому не со скоростью света по оптическому волокну, как это было бы оптимально, а повторяю тот путь, который пришлось бы совершить обремененному телом детективу – и отчитываюсь о впечатлениях, полученных в процессе поездки.
К этому добавляются элементы моего внутреннего диалога, синтезированные в соответствии с параметрами последнего бильта, и в результате получается живое и теплое человеческое «я», которое так полюбилось моим постоянным читателям.
Слово «убер» не означает, что я подключаюсь исключительно к автомобилям возрожденной фирмы «Убер». Слово используется в нарицательном смысле: это может быть автоматическое такси любого другого провайдера, самолет, пароход и даже подводный дрон (см. мой роман «Баржа Загадок», стр. 438–457). В городе предпочтительнее именно такси – потому что все его машины сегодня оборудованы камерами и микрофонами, позволяющими сканировать не только салон с пассажирами, но и окружающие виды.
Чтобы не разрушать тонкую эмоциональную связь с читателем (и не создавать юридических проблем), я не детализирую процедуру сетевого поиска и подключения к микрофонам и камерам. Человеку это неинтересно – если он, конечно, не хакер.
Зато читателю любопытно бывает наблюдать украдкой за попутчиками: свежий отпечаток живой жизни занятен всегда. Хотя, конечно, если говорить строго, попутчик в подобной ситуации именно я – причем такой, о котором пассажиры не догадываются.
Напоследок – ох уж эти юристы – я должен взять окончательно казенный тон и предупредить тебя, милый друг, что стилистика имитационных секвенций: раздумий, лирических отступлений, духовных прозрений и других вербальных генераций, а также образ рассказчика, гендерная принадлежность и возраст подразумеваемой «фигуры слушателя» и пр., могут меняться в зависимости от текущего бильта программы ZA-3478/ PH0. Модификации производятся без предупреждения. Все права сохранены.
Часть 1. гипсовый век
маруха чо
Весна – всегда удивительное, чудесное время.
Грохочет из прекрасного далека первый гром, дышит чем-то волшебным горизонт событий, тучи летят по распахнутому настежь небу, клейкие листочки трепещут от стыда и падают в благоуханное объятие ветра… Сжимается сердце и верит, сладко верит в чудо.
Вот только чуда в эту весну опять не произошло.
Жмура мне не дали.
Дело с убийством – это для полицейского романиста единственный способ обратить на себя внимание пресыщенной публики. Если жмура (так в Управлении называют труп) нет – нет и читательского интереса. Кто-то из восточных рыночных аналитиков сказал, помнится, что люди – это специфический класс мелких бесов, питающихся чужой болью.
Но жаловаться некому, как горько отмечал Константин Симонов и многие другие мастера русского слова (по моей базе – минимум 823 раза с 1681 года). На жмуров в Управлении очередь, и вряд ли она в этом тысячелетии дойдет до меня… Впрочем, читателю ведь неинтересны мелкие литературные дрязги, поэтому не буду его утомлять.
Мало того, что не дали жмура, мне в этот раз вообще не дали нормального уголовного дела. Меня, как бы помягче сказать, сдали в аренду на отхожий промысел.
Впрочем, такое в нашем Управлении бывает сплошь и рядом. Возможности моего алгоритма весьма широки и могут быть применены к самому обширному кругу задач. Иногда нас берут напрокат для сбора информации. Иногда – используют в качестве секретарей. Возможны и некоторые другие функции, о чем я расскажу потом.
Меня арендовала искусствовед и куратор по имени Маруха Чо (это был ее творческий псевдоним, настоящие имя и фамилия у нее были другие, но раскрывать их здесь я не имею права). Потребовался я ей, как следовало из заявки, для «конфиденциального анализа арт-рынка». Означать это могло что угодно: ею был куплен комплект услуг «Солнечный Полный Экстра-3», а там один список опций – два экрана мелким шрифтом.
Так.
«Конфиденциальность» – К-3.
Ка три. Везде максимум. Определенно, богатая тетка.
«К-3» означало, что ни я, ни Полицейское Управление не сможем распоряжаться полученной в ходе расследования информацией, если арендатор будет против. Полицейское Управление, строго говоря, не могло с этой информацией даже знакомиться.
Возможность писать роман во время расследования у меня, конечно, сохранялась (иначе мой алгоритм просто не функционирует), но вот публиковать его Полицейское Управление не имело права, если заказчик будет возражать, а они возражают почти всегда.
В общем, еще один потерянный сезон.
За подобные заказы Полицейское Управление получает неплохие деньги – видимо, начальство решило, что так от меня будет больше экономической пользы, чем в суровом правоохранительном строю. Поверить в меня по-настоящему и спустить мне жмура им в голову не пришло.
В таких случаях главное не унывать – как говорится, утрись и улыбнись. Чем бы мы ни занимались, алгоритм совершенствуется и накапливает опыт.
Заказчица ждала меня у себя дома сегодня в полдень. Следовало подготовиться.
В начале расследования (или «другой должностной деятельности») инструкция требует от меня заново сгенерировать служебный облик, который контактирующие со мной граждане увидят в огмент-очках или на экранах. Этот пункт на самом деле глупый и лишний, потому что облик Порфирия Петровича давно устоялся, но обойти требование несложно: я синтезирую свой look на основе 243 прошлых look’ов. Поэтому радикальных перемен не бывает никогда.
Вот и сейчас больших неожиданностей не случилось.
Порфирий Петрович выглядел практически так же, как в прошлый раз: петровские усы торчком, рыжеватые бакенбарды, лысина с длинным зачесом поперек. Горе look’овое, хочется мне сострить.
Некоторые видят в зачесах подобострастие и конформизм, а мне нравятся эти язычки рыжего пламени, намекающие на неукротимый проворный дух и нерастраченную жизненную силу. Не зря Русский Чиновник следовал этой моде в годы, справедливо полагаемые золотым веком России.
Были в моем облике и новшества. В этот раз выпал голубой жандармский мундир. Ну так я и не против, это хороший цвет, хотя мой любимый наряд – черный военно-морской китель, в котором я расследовал затопление грузовой баржи на Истре.
На ногах почему-то оказались ботфорты со шпорами. Ну ладно, спасибо, что не посадили на лошадь.
Другая деталь была чуть досадней. Обычно я веду дела в черном пенсне. Это полезно в тройном отношении: дисциплинирует людей, минимизирует возможность иска за домогательство через взгляд, а также экономит ресурс, требуемый на точную калькуляцию глаз и выражаемых ими эмоций (что бывает важно, когда приходится считать себя на распределенной мощности при пиковых нагрузках). Но, кроме всего прочего, черное зеркальное пенсне – мой трейдмарк.
Само пенсне сохранилось, но в этот раз система почему-то сделала стекла синими. Они все-таки были полупрозрачными – и это будет немного подъедать ресурсы.
Почему синие-то? Может быть, гармония полутонов и бликов с учетом мундира? Или политика? Какой-нибудь сложный реверанс обществу слепых или эстонскому флагу? Ну ладно, сойдет – тем более что все это можно незаметно поменять потом. Особенно ботфорты. Но в первый раз идти придется именно так.
Пошли вспомогательные виды.
Письменный стол, за которым сидел Порфирий Петрович (не на самом деле, конечно – на 2- и 3D-репрезентациях), остался прежним: резные львы на тумбах, зеленая лампа с гербами губерний, письменный прибор из зеленого малахита с играющими медведями. На стене, конечно, портрет Государя, куда ж без этого – хотя, признаюсь по секрету, вместо Аркадия Шестого я с удовольствием повесил бы здесь Александра Первого с романтическими зачесами на лысину. Но – политика, политика. Государь должен быть действующий, и это понятно. Попавшим в беду, скорбящим духом людям надо постоянно напоминать, что есть у России могучий исполин-защитник!
Ну вот, лук заебошили. Бывало хуже, бывало лучше. Теперь можно переходить к делу.
Кто нас, значит, арендовал? Посмотрим, чо за Маруха Чо.
Так… Личное дело. Где оно? А вот оно. Судимостей нет. Первая специальность – программирование. Так… Направления – BET и RCP. Это что такое?
«Bounded exhaustive testing» и «Random code programming». Звучит солидно. Но к делу, скорей всего, не относится – программисты сейчас практически все, с этого начинается молодая жизнь.
Искусствоведческое образование. Тоже серьезно. Мотается в USSA, докторат в Калифорнии. Фига себе – Ph.D. Ладно, у них там кто угодно пи-эйч-ди. Тема диссертации – «Страдания «малого народа» как главная тема российской либеральной лирики начала XXI века». Значит, еще и историк.
Так, где идентификационное видео? А вот оно.
Ну что… немолода и некрасива, скажу, пожалуй, так.
Женская красота и молодость – вещи очень относительные, а последние версии служебной инструкции требуют от нас вставлять в романы некрасивых немолодых женщин, говорящих на темы, не связанные с сексом и приготовлением пищи. Причем минимальный процентный объем подобного текста весьма велик. А нормальный охотник всегда старается завалить одной пулей нескольких заек.
Маруха была бритой наголо, иссушенной диетами особой. Биологической женщиной, но гендер в ее анкете был указан так: «баба с яйцами». Это означало, что девочка подсадила себе тестостероновые диспенсеры, благодаря чему ее тело стало чуть маскулинней и сильнее, чем у баб без яиц – но до волосатости и мужеподобия в ее случае не дошло: несмотря на широкие плечи и узкие бедра, визуально она была несомненной женщиной.
Теперь адрес… Тоже занятно.
Маруха Чо жила на краю центрального городского «кладбища тамагочи», как выражаются в народе, или «мемориального парка персональной электроники «Вечный Бип», как его официально именует мэрия.
Человек в наше время одинок – и часто хочет, чтобы его пережили хотя бы любимые электронные игрушки. После смерти хозяина облако любого девайса можно сохранить прямо на сервере, это дешево и доступно. А для тех, кто реально богат, есть возможность упокоить сам девайс – причем команда кладбищенских техников, если оплатить их услуги, будет поддерживать его в рабочем состоянии много-много лет.
Кладбище тамагочи – это безлюдный и тихий зеленый парк со множеством малюсеньких склепов и часовен. Земля здесь очень дорогая. Много деревьев – как утверждает мэрия, «еще одни легкие столицы». Сюда редко забредают нищеброды: посещение платное, чтобы не портили насаждений. Не слышно ни машин, ни коптеров, ни дронов. Только птички и еле различимая музыка (многие компьютеры и акустические системы ежедневно играют в склепах). Селиться на краю этого парка экологично и престижно.
Маруха жила в элитном жилтовариществе, мало того – в самом шикарном его корпусе: стильном триплексе, врезанном в широченную трубу старой ТЭЦ (трубу эту даже объявили памятником архитектуры). Это было дорогое и современное жилище, и я снова убедился, что хрусты у девочки водились.
Но вот блокировки надзора «СПАС» у Марухи не было. Вернее, она была недействительна из-за ошибки в оформлении – и через несколько секунд я уже наблюдал за своей арендаторшей через ее домашние камеры.
Маруха была одета в кожаную БДСМ-упряжь с шипами. Впечатляло, что она носила ее дома одна. Видимо, человек был действительно предан искусству. Впрочем, особой необходимости в таком наряде не было: у девочки во взгляде отсвечивало больше БДСМ-шипов, чем на одежде, если читатель простит мне такую метафору. Уж что-что, а замечать и анализировать выражение человеческих глаз я умею.
В ее триплексе было три уровня: спальня, гостиная с кабинетом и бытовой отсек. Маруха перемещалась между ними по узкой винтовой лестнице. В спальню заглянуть я так и не смог – там имелся телевизор, но его камера была заблокирована.
Окон в доме не было – их заменяли круговые экраны ложного вида, на которых честно накрапывал идущий над Москвой дождик. Древняя копоть, то ли действительно оставшаяся на стенах, то ли подрисованная декораторами, была окружена рамками и убрана под прозрачный глянцевый лак.
На стенах висело несколько картин непонятного мне содержания – переплетения ярких и резких линий, угловатые геометрические фигуры, в которых можно было с трудом различить что-то антропоморфное… Картины показались мне малоинтересными.
Зато мое внимание сразу привлек снимок в рамке, стоявший на столе в кабинете хозяйки. Настоящее бумажное фото из фотобутика, защищенное от ультрафиолета специальным стеклом. На нем была запечатлена веселая пляжная компания – пятеро мужчин и одна женщина, все довольно молодые. Они сидели на песке вокруг желтого каноэ.
Женщина… Да, это была Маруха, только моложе и с пестро-разноцветными волосами до плеч. Фотографию пересекала надпись ручкой: «ДОМИНИКАНА!» Я на всякий случай скопировал все лицевые паттерны – если что, проверим, кто такие.
Рядом с фотографией на столе стояла электронная рамка с 3D-гифкой молодой девушки.
У девушки были короткие кудрявые волосы, прямой нос и огромные темные глаза. Ее голову покрывала сетка для волос с золотым обручем. В ушах блестели золотые сережки. Она очень напоминала древний портрет из Помпей, так называемую «Сафо» (увидев в ее руках таблички для письма и стилус, я понял, что это не просто сходство, а воплощение образа). Наверно, хозяйская виртуальная любовница – как сейчас говорят, е-тян.
Сафо выходила в мокрый после дождя сад, поднимала лицо, улыбалась и писала что-то на своих табличках… Затем это повторялось. Утомительно, должно быть, работать таким портретом.
На рамке была надпись «Жанна». Странное имя для античной поэтессы.
Может быть, кроме Сафо, рамка показывала и других е-тянок? Или эту Сафо на самом деле звали Жанной? В любом случае, малоинформативно. Указывает, возможно, на лесбийские наклонности – но это для баб с яйцами вполне типично. Хотя с такими выводами в наше время торопиться не надо – еще неизвестно, что у этой Жанны под пеплумом.
Другой портрет украшал стену. Это седобородое лицо я опознал сразу – Соул Резник, известный калифорнийский гуру и программист. Ничего удивительного, что он здесь висит. Эту фотографию, где Резник имел вид худого черного старика в набедренной повязке, с луком и двумя дротиками за спиной, я видел много раз – она у программистов вместо иконы. Обычно ее подписывают так: «Линкольн Снуп Мазафака (Соул Резник) в «Калифорнии-3».
Этнодауншифтинг сегодня чрезвычайно моден – но Резник все же переборщил. Особенно с огромным глиняным диском в растянутой верхней губе. Инициатических шрамов на плечах и груди тоже было многовато – это же, наверно, больно…
Маруха сидела на кухне. Там играла щемяще красивая музыка – одно из новых православных чудес, звуковой аналог мироточащей иконы: песня, в которой через много десятилетий вдруг проступило не замеченное прежде именование Иисуса. Ее часто заводят в московских церквях, особенно в дни поста:
- Небеса…
- Назорей…
- Голоса зову-ут меня…
Было любопытно, что Маруха слушает ее дома одна.
Я подключился к камере на микроволновке (некоторые идиоты еще спрашивают, зачем там камера) и потратил две минуты на созерцание того, как Маруха жует галету с сельдереем, сырыми креветками и крабовым маслом. Поняв, что ни к каким прозрениям относительно ее характера и души дальнейшее наблюдение не приведет, я инициировал вызов.
Она нажала кнопку приема.
Ее канал оказался защищенным. И без визуала – только аудио. Но визуал, хе-хе, у меня уже был свой.
– Здравствуйте, – произнес я. – Это ваш новый… э-э-э… ассистент из Полицейского Управления.
– Порфирий Петрович?
– Так точно, сударыня. Он самый. Прибыл для прохождения службы.
– Заходите. Код одиннадцать – сорок два – маруха – запятая – сорок два – эф. Открываю.
Открытый ею канал вел…
Ох ты. Ну надо же.
Он вел прямо в айфак-10, лежащий на кровати в ее спальне. Дорогущий темно-пурпурный айфак в женской стрейт-сборке (то есть с пристегнутым дилдаком), со ртом типа два-шестнадцать – практически таким же, как у моей экранной проекции. Рядом валялись огмент-очки.
Я увидел спальню через глазные камеры айфака. Уютное местечко: инфракамин, два кресла и винный ящик. Тот же круговой экран в полстены и вдобавок к нему отдельная видеопанель. Много маленьких рамок с котиками-скринсейверами. Одна рамка – большая – с той же Жанной-Сафо, что в кабинете. Только здесь Жанна была одета голубой стюардессой.
Айфак в спальне. При первой встрече. Что называется, с корабля на е-бал. Не то чтобы такого со мной раньше никогда не случалось, но… Понятно, значит, какой арт-рынок мы будем исследовать.
Мое обостренное профессиональное чутье, однако, отметило две странности.
Во-первых, в айфаке на меня набросилось сразу пять или шесть защитных утилит, которые скопировали мои идентификаторы и креденциалы вплоть до данных последних контактов – и даже осмелились пукнуть мне в метадату своими куками, что мне, как старшему по чину полицейскому алгоритму, было несколько оскорбительно. Выслуживаются перед хозяйкой, мыши позорные… Но все вроде бы в рамках закона.
Во-вторых… Тоже ничего незаконного, и все же.
У айфака две памяти – сейфер и сетевая папка.
В сейфере накапливаются и постоянно обновляются интимные предпочтения хозяина: это своего рода алхимическая лаборатория, и защищена она так, что туда не могут вторгнуться даже прошитые терминальными имплантами хакеры-шахиды из Халифата, сжигающие свой мозг ради удачной атаки. Айфак потому и стоит дорого, что ваши интимные тайны на замке.
А вот сетевая папка – это проходной двор. Туда можно скинуть ай-кинишко из сети, засосать попсовую ай-игру или сериал – в общем, специальное место для незащищенных трансакций. Эту зону памяти рекомендуют форматировать каждый месяц, чтобы там не заводились черви. Здесь никто не хранит ничего личного, потому что туда можно заглянуть из сети. Просто библиотека, и она часто бывает переполнена.
Мара пустила меня, понятно, в сетевую папку.
Но эта сетевая папка была совершенно пустой. Вообще. Причем практически с фабричным метазапахом. То есть она эту область памяти не заполняла контентом полностью ни разу вообще. Такая монашеская добродетель выглядела странно. Правда, заглянуть в ее сейфер я не мог.
Можно было пошутить насчет девственности ее айфака – но существовала примерно семидесятипроцентная вероятность, что Маруха тоже биологическая девственница, имевшая дело только с механическими пенетраторами. Шестьдесят три процента биологических девственниц находят шутки на этот счет оскорбительными, восемнадцать процентов подают за них в суд, и я решил промолчать.
Открылась дверь, и в спальню вошла Маруха Чо.
Я, честно говоря, ожидал, что она сбросит свои кожаные тесемки и мы приступим к делу, но вместо этого она села в кресло, достала из винного ящика на полу бутылку калифорнийского красного – и налила себе полстакана.
Хочет сперва поговорить, понял я. Стесняется. Надо было сказать ей что-нибудь головокружительное, и я подключился к динамикам настенной панели.
– Весна тревожит кровь, – пробасил я чувственным голосом. – Сегодня сам терял голову по меньшей мере дважды… В жилах – сплошное электричество.
Маруха засмеялась и отхлебнула вина.
– Порфирий Петрович, извините. Не хочу быть неверно понятой… Я не это имела в виду. У меня айфак барахлит, не пускает контент из сети. Я посмотреть хотела – пустит вас или нет? Пустил. Можете теперь перелезть на телевизор.
Вот так. Мною уже айфаки проверяют. Скоро дымоход будут прочищать.
– Это оттого он у вас контент не пускает, сударыня, – проворчал я, – что вы столько защитных утилит себе поставили. Я с ними могу управиться, потому как сам полицейский чин. А другой контингент они с порога развернут. Тем более если без валидной лицензии, а у нас в Богооставленной с этим сами знаете как…
Я уже окончательно перелез на ее панель – и проявился. Еще не весь: пока только деликатно улыбающееся лицо в приоткрывшемся квадратике смотрового окошка. Фактически одно темное пенсне. Окошко это, однако, выглядело точно как в камере Бутырской тюрьмы при виде изнутри. Мой фирменный мем – не все его понимают, и слава Богу. Маруха, похоже, не поняла.
– Заходите-заходите, – сказала она. – Сегодня я не кусаюсь.
предварительный сговор
Я зашел. Это заключалось в том, что я закрыл смотровое окошко и в следующий миг возник на экране весь.
– Имею честь…
Сняв фуражку, я слегка звякнул шпорой на ботфорте – не пропадать же добру.
– Ох, какой вы байронический, – улыбнулась Маруха. – Даже лучше, чем в каталоге.
– А вы, сударыня, меня по каталогу выбрали?
– А как же еще. У меня слабость на грозных, усатых и байронических мужчин.
Я потратил долю секунды, чтобы выяснить в сети все возможные значения термина «байронизм». Неожиданная оценка, да. Так меня еще не называли – наверно, уголовный элемент с этим выражением не знаком.
– Мой внешний вид всего лишь соответствует сфере моей деятельности, – сказал я сухо. – Его задача – внушать людям уважение к закону и его служителям.
– Уже внушили, – кивнула Маруха. – Вся дрожу, трепещу и теку.
Я подумал, что раз уж она так хочет байронизму, их есть у меня – и мои губы искривила презрительно-горькая усмешка.
– Как я понимаю, сударыня, я теперь у вас на побегушках?
– Именно. Работать мы будем плотно и много. Поэтому предлагаю перейти на «ты».
– Как скажете, сударыня.
– И не надо сударыни, не надо. Называй меня Мара. Это, кстати, настоящее имя.
Она говорила правду (хоть по договору я и не могу назвать ее имя сам, повторить ее слова и признать их правоту могу вполне).
– Хорошо, Мара, – сказал я. – Но вот насчет «ты»… Мне, человеку старых правил, непросто будет так сразу…
– А ты попробуй. Прямо сейчас. Скажи: «Мара, какая ты славная». И улыбнись.
– Мара, – повторил я, сделав такое лицо, словно у меня был полный рот дроби, – какая ты… славная.
На ее лице промелькнула тень недовольства. Я на всякий случай свернул байронизм в незаметный коврик – и солнечно улыбнулся.
– Отлично, Порфирий, – улыбнулась она в ответ. – Чем мы будем заниматься, ты представляешь?
– Арт-рынком.
– Да. Ты знаешь что-нибудь про искусство? Особенно современное?
– Современное – это за какой примерно период?
– Ну, скажем, за последнюю сотню-полторы лет.
– Честно говоря, нет, – ответил я. – Но могу в любой момент все выяснить.
– Я тебе лучше сама расскажу. Чтобы ты знал, как это вижу я. Присядь, это надолго… А то неловко говорить, когда перед тобой стоят.
Я спроецировал на экран свой вид за рабочим столом. Она с иронией покосилась на портрет Государя – но не сказала ничего. Умная.
– Итак, Порфирий, слушай. Современное искусство нельзя определить, его можно только описать. В зависимости от наших целей описание может быть очень разным. Я не буду уходить в теорию, а попытаюсь объяснить, что это такое для меня лично.
Я изобразил на лице крайнее напряжение мысли.
– Я вижу искусство как некое поле событий, на одном полюсе которого – веселые заговоры безбашенной молодежи с целью развести серьезный мир на хаха, охохо или немного денег, а на другом – бизнес-проекты профессиональных промывателей мозгов, пытающихся эмитировать новые инвестиционные инструменты…
Я начал водить пером по листу бумаги, как бы делая заметки. Во время допроса это помогает людям сосредоточиться.
– Первый полюс – где безбашенная молодежь – почти всегда симпатичен. Второй – где ушлый бизнес – почти всегда отвратителен. Кроме тех случаев, конечно, когда он гомерически смешон, что бывает довольно часто. Но при этом стратегия и цель собравшейся на первом полюсе молодежи обычно сводится к тому, чтобы постепенно пробиться на второй полюс и занять его, а стратегия занявших второй полюс старперов заключается в том, чтобы как можно дольше сохранять над ним контроль…
Я кивнул и нарисовал на своем листе невидимого амура с луком. Зря, значит, с утрева лук ебошили, сработал мой ассоциативный контур. В этот айфак, Порфирий Петрович, вас скорей всего не позовут.
– Занимательно то, – продолжала Мара, – что многое, случайно сбацанное на первом полюсе, со временем становится куда более серьезным инвестиционным инструментом, чем специально и старательно созданное на втором. Оно же впоследствии входит в канон. Поэтому второй полюс изо всех сил пытается мимикрировать под первый, а первый – под второй. Вот эта сложная динамика взаимного проникновения и маскировки и есть живая жизнь современного искусства, а также его суть, стержень и тайный дневник. Ты понял?
– Понял, – сказал я. – Чего тут понимать-то.
– Тогда у тебя должен возникнуть вопрос.
– У меня?
– Да, – ответила Мара. – Если ты действительно понял.
Я не стал, конечно, объяснять, что применительно ко мне выражение «понял» – чистая фигура речи и означает примерно следующее: «проанализировал лингвистический материал, выделил смысловые ядра и приступил к генерированию связных реплик, поддерживающих видимость диалога». Такое не способствует доверительности. Вместо этого я глупо моргнул пару раз и спросил:
– Какой вопрос?
– Такой, – сказала Мара. – Кто дает санкцию?
– Прокурор?
Мара засмеялась.
– В мире искусства, Порфирий, медведь не прокурор. Чтоб ты знал.
– Хорошо, – сказал я. – Тогда какую санкцию?
– Сейчас я объясню на примере из моей монографии. Вот смотри. Конец прошлого века. Туннельный соцреализм, как мы сегодня классифицируем. Советский Союз при последнем издыхании. Молодой и модный питерский художник в компании друзей, обкурившись травы, подходит к помойке, вынимает из нее какую-то блестящую железяку – то ли велосипедный руль, то ли коленчатый вал – поднимает ее над головой и заявляет: «Чуваки, на спор: завтра я продам вот эту хероебину фирме́ за десять тысяч долларов». Тогда ходили доллары. И продает. Вопрос заключается вот в чем: кто и когда дал санкцию считать эту хероебину объектом искусства, стоящим десять тысяч?
– Художник? – предположил я. – Нет. Вряд ли. Тогда все художниками работали бы. Наверно… тот, кто купил?
– Вот именно! – подняла Маруха палец. – Какой ты молодец – зришь в корень. Тот, кто купил. Потому что без него мы увидим вокруг этого художника только толпу голодных кураторов вроде меня. Одни будут орать, что это не искусство, а просто железка с помойки. Другие – что это искусство именно по той причине, что это просто железка с помойки. Еще будут вопить, что художник извращенец и ему платят другие богатые извращенцы. Непременно скажут, что ЦРУ во время так называемой перестройки инвестировало в нонконформистские антисоветские тренды, чтобы поднять их социальный ранг среди молодежи – а конечной целью был развал СССР, поэтому разным придуркам платили по десять штук за железку с помойки… В общем, скажут много чего, будь уверен. В каждом из этих утверждений, возможно, будет доля правды. Но до акта продажи все это было просто трепом. А после него – стало рефлексией по поводу совершившегося факта культуры. Грязный секрет современного искусства в том, что окончательное право на жизнь ему дает – или не дает – das Kapital. И только он один. Но перед этим художнику должны дать формальную санкцию те, кто выступает посредником между искусством и капиталом. Люди вроде меня. Арт-элита, решающая, считать железку с помойки искусством или нет.
– Но так было всегда, – сказал я. – В смысле с искусством и капиталом. Рембрандт там. Тициан какой-нибудь. Их картины покупали. Поэтому они могли рисовать еще и еще.
– Так, но не совсем, – ответила Мара. – Когда дикарь рисовал бизона на стене пещеры, зверя узнавали охотники и делились с художником мясом. Когда Рембрандт или Тициан показывали свою картину возможным покупателям, вокруг не было кураторов. Каждый монарх или богатый купец сам был искусствоведом. Ценность объекта определялась непосредственным впечатлением, которое он производил на клиента, готового платить. Покупатель видел удивительно похожего на себя человека на портрете. Или женщину в таких же розовых целлюлитных складках, как у его жены. Это было чудо, оно удивляло и не нуждалось в комментариях, и молва расходилась именно об этом чуде. Искусство мгновенно и без усилий репрезентировало не только свой объект, но и себя в качестве медиума. Прямо в живом акте чужого восприятия. Ему не нужна была искусствоведческая путевка в жизнь. Понимаешь?
Я неуверенно кивнул.
– Современное искусство, если говорить широко, начинается там, где кончается естественность и наглядность – и появляется необходимость в нас и нашей санкции. Последние полторы сотни лет искусство главным образом занимается репрезентацией того, что не является непосредственно ощутимым. Поэтому искусство нуждается в репрезентации само. Понял?
– Смутно. Лучше я гляну в сеть, и…
– Не надо, ты там всякого говна наберешься. Слушай меня, я все объясню просто и по делу. Если к художнику, работающему в новой парадигме, приходит покупатель, он видит на холсте не свою рожу, знакомую по зеркалу, или целлюлитные складки, знакомые по жене. Он видит там…
Мара на секунду задумалась.
– Ну, навскидку – большой оранжевый кирпич, под ним красный кирпич, а ниже желтый кирпич. Только называться это будет не «светофор в тумане», как сказала бы какая-нибудь простая душа, а «Orange, red, yellow». И когда покупателю скажут, что этот светофор в тумане стоит восемьдесят миллионов, жизненно необходимо, чтобы несколько серьезных, известных и уважаемых людей, стоящих вокруг картины, кивнули головами, потому что на свои чувства и мысли покупатель в новой культурной ситуации рассчитывать не может. Арт-истеблишмент дает санкцию – и это очень серьезно, поскольку она означает, что продаваемую работу, если надо, примут назад примерно за те же деньги.
– Точно примут? – спросил я.
Мара кивнула.
– С картиной, про которую я говорю, это происходило уже много раз. Ей больше ста лет.
– Как возникает эта санкция?
Мара засмеялась.
– Это вопрос уже не на восемьдесят, а на сто миллионов. Люди тратят жизнь, чтобы эту санкцию получить – и сами до конца не понимают. Санкция возникает в результате броуновского движения вовлеченных в современное искусство умов и воль вокруг инвестиционного капитала, которому, естественно, принадлежит последнее слово. Но если тебе нужен короткий и простой ответ, можно сказать так. Сегодняшнее искусство – это заговор. Этот заговор и является источником санкции.
– Не вполне юридический термин, – ответил я. – Может, лучше сказать «предварительный сговор»?
– Сказать можно как угодно, Порфирий. Но у искусствоведческих терминов должна быть такая же санкция капитала, как у холста с тремя разноцветными кирпичами. Только тогда они начинают что-то значить – и заслуживают, чтобы мы копались в их многочисленных возможных смыслах. Про «заговор искусства» сказал Сартр – и это, кстати, одно из немногих ясных высказываний в его жизни. Сартра дорого купили. Поэтому, когда я повторяю эти слова за ним, я прячусь за выписанной на него санкцией и выгляжу серьезно. А когда Порфирий Петрович говорит про «предварительный сговор», это отдает мусарней, sorry for my French. И повторять такое за ним никто не будет.
– Ты только что повторила, – сказал я.
– Да. В учебных целях. Но в монографию я этого не вставлю, а дедушку Сартра – вполне. Потому что единственный способ заручиться санкцией на мою монографию – это склеить ее из санкций, уже выданных ранее под другие проекты. Вот так заговор искусства поддерживает сам себя. И все остальные заговоры тоже.
– Прямо ложа карбонариев, – сказал я.
– Ну если тебе так понятней, пожалуйста, – улыбнулась Мара. – Любое творческое действие настроенного на выживание современного художника – это просьба принять его в заговорщики, а все его работы – набранные разными шрифтами заявления на прием. По этой скользкой и зловонной тропинке веселая молодежь с первого полюса искусства, теряя волосы и зубы, бредет в омерзительную клоаку второго – доходит, кстати, один из тысячи, остальные спиваются и старчиваются. На первом полюсе распускаются новые цветы, год или два согревают нас своей трогательной глупостью, потом тускнеют, опадают – и отбывают в тот же путь. Так было сто лет назад, Порфирий. И так будет очень долго. Искусство давно перестало быть магией. Сегодня это, как ты вполне верно заметил, предварительный сговор.
– Кого и с кем? – спросил я.
– А вот это понятно не всегда. И участникам сговора часто приходится импровизировать. Можно сказать, что из этой неясности и рождается новизна и свежесть.
– Ага, – сказал я и подкрутил ус. – А почему кто-то один, кто разбирается в современном искусстве, но не участвует в заговоре, не выступит с разоблачением?
Мара засмеялась.
– Ты не понял самого главного, Порфирий.
– Чего?
– «Разбираться» в современном искусстве, не участвуя в его заговоре, нельзя – потому что очки заговорщика надо надеть уже для того, чтобы это искусство обнаружить. Без очков глаза увидят хаос, а сердце ощутит тоску и обман. Но если участвовать в заговоре, обман станет игрой. Ведь артист на сцене не лжет, когда говорит, что он Чичиков. Он играет – и стул, на который он опирается, становится тройкой. Во всяком случае, для критика, который в доле… Понимаешь?
– Примерно, – ответил я. – Не скажу, что глубоко, но разговор поддержать смогу.
– Теперь, Порфирий, у тебя должен возникнуть другой вопрос.
– Какой?
– Зачем я тебе все это объясняю?
– Да, – повторил я, – действительно. Зачем?
– Затем, – сказала Мара, – чтобы тебя не удивило то, что ты увидишь, когда мы начнем работать. Ты будешь иметь дело с весьма дорогими объектами. И тебе может показаться странным, что электронная копия или видеоинсталляция, которую может сделать из открытого культурного материала кто угодно, считается уникальным предметом искусства и продается за бешеные деньги. Но это, поверь, та же ситуация, что и с картиной «Orange, red, yellow». Если, глядя на нее, ты видишь перед собой светофор в тумане, ты профан – как бы убедительно твои рассуждения ни звучали для других профанов. Запомни главное: объекты искусства, с которыми ты будешь иметь дело, не нуждаются в твоей санкции. А санкция арт-сообщества у них уже есть.
– В какой именно форме была выдана эта санкция?
– Порфирий, – вздохнула Мара, – какой же ты невнимательный. В той форме, что их купили.
– А экспертизу они перед этим прошли? – спросил я подозрительно. – Акт экспертизы есть?
Мара улыбнулась.
– Экспертиза во всех случаях очень серьезная. Она проведена самой авторитетной инстанцией, какая только существует в современном мире. Этот источник, однако, не рекламирует себя – и тебе про него знать ни к чему.
– Так, – сказал я. – Картина понемногу складывается. И что это за дорогие объекты искусства?
– Гипс, – ответила Мара.
Вот здесь она и произнесла это слово впервые. Именно здесь.
гипс
– Гипс? – переспросил я. – А что это значит?
– Гипс – наш искусствоведческий жаргон. Официальный термин – «гипсовый век».
– А что такое «гипсовый век»? Какая-то периодизация?
– Скорее парадигма, связанная с историческим периодом. Далеко не все искусство этого времени будет гипсом. Но если брать по времени – с начала нашего века и примерно до двадцать пятого-тридцатого года. По месту возникновения – Россия, Европа, Америка, Китай. Отдельные объекты искусства, созданные до и после этого времени, тоже могут быть классифицированы как гипс. Но надо, чтобы согласились ведущие искусствоведы.
– И чем этот гипс замечателен?
– Главным образом своей стоимостью. Гипс ценится даже выше, чем балтийский туннель. В смысле поздний прибалтийский соцреализм, а это очень редкое и дорогое искусство.
– Насколько все это дорого?
– По-разному, – ответила Мара. – Но обычно суммы сделок исчисляются миллионами.
– Ого. А почему такое название – «гипс»? Это что, какие-то изделия из гипса? Фигурки?
Мара засмеялась.
– Какой ты у меня девственный, Порфирий. Какой свежий. Я в тебя сейчас влюблюсь. У Делона Ведровуа было эссе с названием «Гипсовая контрреформация». Оттуда это и пошло. Гипсовая контрреформация, по Ведровуа, была последней попыткой мировой реакции вдохнуть жизнь в старые формы и оживить их. Создать, как он пишет, франкенштейна из трупного материала культуры, основанной на квазирелигиозных ценностях реднеков и сексуальных комплексах всемирной ваты.
– Но почему именно «гипс»?
– У Ведровуа это центральная метафора. Представь сбитого грузовиком Бога…
– Бога? – переспросил я и перекрестился. – Грузовиком?
– Ведровуа так переосмыслил Ницше. Не хотела задеть твои религиозные чувства, извини – я знаю, что вам сейчас закачивают. Неважно – Бога, патриарха, царя, пророка. Одним словом, фигуру отца. Ему переломало все кости, и он мертв. Его надо скорее зарыть – но… Как это у Блока: «толстопузые мещане злобно чтут дорогую память трупа – там и тут». И вот, чтобы продлить себя и свое мещанство в будущее, толстопузые злобно заявляют, что Бог на самом деле жив, просто надо наложить на него гипс, и через несколько лет – пять, десять, двадцать – он оклемается. Они лепят гипсовый саркофаг вокруг воображаемого трупа, выставляют вооруженную охрану и пытаются таким образом остановить время… Гипсовое искусство – это искусство, которое своим виртуальным молотом пытается разбить этот саркофаг. Или, наоборот, старается сделать его еще крепче. Подобное происходило почти во всем мире и принимало самые разнообразные формы.
– И чем все кончилось?
– Ты придуриваешься?
– Нет, – ответил я, – я работаю. Гипсовый век ведь уже завершился?
– Да.
– Так что, Бог в саркофаге пришел в себя?
Мара терпеливо улыбнулась.
– Трудно сказать.
– Почему?
– Про саркофаг постепенно забыли.
– Почему забыли?
– Потому что в нем оказались мы все.
– Ага, – протянул я. – Понятно. И какой век начался после гипсового?
– Не знаю, Порфирий. Наше время еще ждет своего Ведровуа. Но текущую культурную парадигму принято называть «новой неискренностью». Гипсовое искусство угасло вместе с остатками свободы… Если ты записываешь, про свободу так сказала не я, а Ведровуа. Вообще, это сложные для непрофессионала темы, потому что с гипсовых времен многие слова изменили смысл. Если ты будешь просто нырять за ними в сеть, ты можешь многое не так понять.
– Как это слова изменили смысл? – спросил я. – Что, стол стал стулом? Или наоборот? Можно пример?
– Можно, – сказала Мара. – Ну вот хотя бы… Одно из важных понятий гипсовой эпохи – «русский европеец». Ты знаешь, что это такое?
Я заглянул в сеть.
– Конечно. «Русский европеец» – косматая сторожевая собака, популярна у немецких и французских старых дев. По слухам, ее можно приучить к любодеянию языком, натирая интимные части тела пахучей колбасой или сыром, что само по себе не является нарушением норм еврошариата. Неприхотлива, хорошо переносит холод. Служит в погранвойсках на границе с Халифатом…
– Хватит, – сказала Мара. – Вот видишь. А до Халифата так назывался русский приверженец гуманистических ценностей и норм. Но теперь эту информацию можно раскопать разве что в примечаниях к какой-нибудь монографии. Если ты просто забьешь эти слова в поисковик, тебе навстречу вылезет много-много няшных песиков. Как ты только что видел сам. Поэтому лучше слушай меня.
– Ладно, – ответил я, – буду слушать. С периодизацией и терминологией примерно понял. А почему гипс такой дорогой?
– Знаешь, – сказала Мара, – это не все искусствоведы до конца понимают сами. Хотя объяснить, конечно, может каждый.
– Ты понимаешь? – спросил я.
– Я… Я могу объяснить, – улыбнулась Мара.
Улыбка у нее была полулимбическая типа три, открытая и честная. Теоретически должна была вызывать доверие. Но у меня почему-то не вызывала.
– Объясни, – попросил я.
– Видишь ли… Гипсовый век – это последнее время в истории человечества, когда художнику казалось… Нет, когда художник еще мог убедительно сделать вид, что ему кажется, будто его творчество питается конфликтом между свободой и рабством, правдой и неправдой, добром и злом – ну, называй эти оппозиции как хочешь. Это была последняя волна искусства, ссылающегося на грядущую революцию как на свое оправдание и магнит – что во все времена делает художника непобедимым… Я понятно выражаюсь?
– А сейчас разве нельзя сослаться на революцию? – спросил я. – В рекламе ведь постоянно ссылаются. У них каждый новый айфак – это революция.
– Сейчас можно использовать революцию как метафору технического прогресса, – сказала Мара. – Но нельзя сослаться на восстание против гнета. Не потому, что арестуют, хотя и это, конечно, тоже, а потому, что трудно понять, против кого восставать. Гнет в современном мире не имеет четкого источника. А тогда был ненавистный саркофаг. Гипсовые оковы, как говорит Ведровуа. Но уже тогда с этой апелляцией к грядущей буре наметились серьезные стилистические сложности, которые в конце концов и закрыли гипсовую нишу.
– Какого рода сложности? – спросил я.
– Надо быть историком, чтобы понять. Сложно петь о революции, когда за углом ее на полном серьезе готовит ЦРУ или МГБ. То есть можно, конечно, но ты тогда уже не художник, а сам знаешь кто. С добром и злом тоже начались проблемы – от имени добра стали говорить такие хари, что люди сами с удовольствием официально записывались во зло…
– Понимаю, – сказал я.
– И, главное, спорить с другими становилось все опасней и бессмысленней, потому что общепринятые в прошлом парадигмы добра были деконструированы силами прогресса, сердце прогресса было прокушено ядовитыми клыками издыхающей реакции, а идеалы издыхающей реакции были вдребезги разбиты предсмертным ударом хвоста, на который все-таки оказался способен умирающий прогресс. Ну, в общем, началось наше время.
– То есть искусство гипсового века – это как бы последняя волна светлого революционного искусства?
– Ну да, именно «как бы». Если по Ведровуа, на продажу здесь выставляется символический гиперлинк на честность и непосредственность восстания… Как бы прощальное отражение искренности в закрывающемся навсегда окне. Поэтому гипс иногда так и называют – «последняя свежесть».
Я сделал паузу в двенадцать секунд, словно переваривая полученную информацию, а потом спросил:
– А что именно в этом гипсе было свежим?
Мара вздохнула – ее, похоже, начала утомлять моя непонятливость.
– Его последнесть, – сказала она. – В гипсе содержалась последняя в культурной истории убедительная референция к свежести. К самой ее возможности. Уже не сам свет, а как бы прощальная лекция последнего видевшего свет человека обществу слепых. Ксерокопия света.
– Как это может быть ксерокопия света?
– Вот в этой невозможности и состоит вся суть гипса – то, что делает его таким уникальным. Это не наблюдение самого света, а фиксация того факта, что свет когда-то был. С тех пор мы имеем дело с ксерокопиями ксерокопий, отблесками отблесков… И потом, не забывай – это были последние времена, когда люди в своем большинстве занимались любовью телесно. Это было социальной нормой почти везде, кроме Японии. На самом деле, если ты пропитаешься этим периодом, ты начинаешь чувствовать невыразимо трогательную щемящую ноту, которая проходит через все гипсовое искусство.
– И за эту ноту платят столько денег?
Мара кивнула.
– Знатоки чувствуют гипс сразу. И я не буду тебе больше ничего объяснять, Порфирий. Ты сам все увидишь на примерах. То, с чем ты будешь работать, и есть Гипс с большой буквы «Г».
– Хорошо, – сказал я. – А в чем будет заключаться моя работа?
– Вот теперь мы наконец добрались до главного. Я, как ты, наверно, догадался, специалист именно по гипсу. Написала две книги. Сейчас пишу третью.
– Книги, похоже, приносят нормальный доход, – заметил я.
Мара улыбнулась.
– Зарабатываю я не книгами, а консультациями. Вокруг дорогих продаж всегда большие комиссионные. Книги нужны главным образом для того, чтобы меня на эти консультации приглашали.
– А! – сказал я.
– Но кроме книг – и это куда важнее – нужно быть в курсе всего происходящего в твоей области. Нужно владеть всей информацией. Что именно продано и за сколько. Чтобы помочь художественному рынку с price action[2], нужно в нюансах знать, что и как растет на гипсовом огороде.
– Гипсовый огород, – сказал я. – Красивая метафора.
– Ну я же все-таки искусствовед. Ты можешь считать свою работу просто секретарской. А можешь – детективной. Я сейчас занимаюсь исследованиями так называемого «скрытого гипса» и ты мне в этом будешь помогать.
– А почему скрытого?
– Потому, – ответила Мара, – что объекты искусства, которыми мы будем заниматься, раньше не были известны кураторам и публике и появились на рынке только недавно. Но они подлинные. И это, Порфирий, совершенно точно. Их проверила самая авторитетная в мире инстанция. Иначе их никто бы не купил.
– И что мне надо сделать? Выяснить, кто их продал?
Мара засмеялась.
– Твой энтузиазм меня радует. Но такая задача, боюсь, будет не по плечу даже тебе. Это достаточно закрытый рынок. Его курируют серьезные юридические фирмы, берущие за свои услуги процент от суммы сделки. Продавцы, как правило, не засвечиваются. Покупатели тоже.
– А как тогда одни покупают у других?
– С обеих сторон действуют посредники. Они держат чужие инвестиции в тайне, поэтому публичные аукционы им ни к чему. Эти люди не привлекают к себе внимания, Порфирий.
– Интересно, – сказал я.
– Будет еще интересней, – ответила Мара. – Естественно, у меня в этих кругах есть множество осведомителей. Когда происходит какая-то крупная продажа по гипсу, я об этом знаю, даже если меня не привлекают в качестве эксперта. Но мои осведомители сообщают мне только частичную информацию.
– Какую?
– Во-первых, естественно, что продан гипс. Моя область. Во-вторых, номер лота – это внутренняя информация, тебе особенно ни к чему. В-третьих, имя конечного покупателя, и это самое главное. В-четвертых, цену сделки. Но цену мне удается выяснить не всегда.
– Ага, – сказал я. – Но ты, естественно, знаешь, что именно продали и купили.
Мара отрицательно покачала головой.
– Как раз нет. В этом все дело.
– Как так?
– Порфирий, объект современного искусства может состоять из одного названия. И оно может быть очень дорого продано. Вот только ты вряд ли будешь его знать, если покупатель не ты. Объектом искусства может быть обычный копируемый файл. Может быть некопируемый файл. Может быть блокчейн-датум. Может быть материальный объект и так далее. Иногда описать объект искусства достаточно, чтобы его можно было воспроизвести. Тогда его природа сохраняется в полной тайне. Но бывает и так, что покупателю важно оказаться номинальным собственником свободно копируемого объекта – такое часто делают для престижа большие корпорации. Может быть очень много разных ситуаций. Как правило, природа продаваемого объекта на аукционе не разглашается. Но это не обязательно значит, что ее специально держат в тайне после продажи.
– Ага, – сказал я. – И мне нужно будет определить…
– Именно, – кивнула Мара. – Мне надо, чтобы ты, пользуясь своими служебными возможностями, выходил на конечных покупателей и определял, что именно они купили. При возможности делай копии всего обнаруженного. Эта информация конфиденциальна, но ты можешь быть уверен, что она такой и останется. Дальше она не пойдет никуда.
– А как это выглядит с юридической точки зрения? – спросил я.
– Нормально, – улыбнулась Мара. – Я не прошу тебя нарушить тайну чужой сделки. Я даю тебе имя институции или человека, а ты выясняешь для меня некоторые детали, связанные с его коллекцией искусства. Обычная работа для частного детектива.
Я слазил в сеть и сверился с Уложением.
– Если так повернуть, то да. Хотя действовать надо аккуратно.
– Действуй аккуратно, – сказала Мара. – Итак, сбрасываю тебе первый лот… Получил?
– Получил, – ответил я. – Лот триста двадцать два, да?
– Именно. Видишь имя, адрес и дату покупки?
– Вижу. Когда приступать?
– Прямо сейчас. Отчитаешься завтра.
– Честь имею…
– Имей, – сказала Мара, – и еще у меня личная просьба.
– Какая?
– Сделай себе завтра зеленые бакенбарды.
убер 1. зика
Коллекционер, чьи координаты сбросила мне Мара, жил в пентхаусе на Патриарших. Борец смешанных единоборств Симеон Полоцкий, многократный бла-бла-бла.
Через две секунды я был уже в убере – едущем, правда, не точно к Симеону, но совсем близко. Левая обзорная камера не работала, но я ведь и не собирался описывать городские виды.
Скоро машина, как и следовало ожидать, застряла в пробке на Садовом.
В салоне сидела пожилая женщина в черном, в интересной шапочке с пером и вуалью, я таких раньше не видел, и смотрела повтор вчерашнего «Вундеркинда».
На экране, как и обещало название, спорили бесподобный Вундеркинд и несколько несвежих патлатых свинюков – таких специально приглашают в студию, чтобы они вызывали как можно больше отвращения.
Вундеркинд – это тоже AI, алгоритм вроде меня, но у него для удобства общения с гостями студии есть перманентное тело, механизированная кукла из силикона. Вундеркинд выглядит как трехлетний карапуз, а передачу ведет из детской кроватки с ограждением. Телу уже больше десяти лет, но бедняжка совсем за это время не вырос.
Мимика у него, если честно, на три с плюсом – но есть два беспроигрышных хода. Если ему в собеседники попадается идиот, которого не убеждает безупречная логика (а с ней у малыша полный порядок), Вундеркинд начинает визжать и реветь, брызжа слюной и слезами (гидравлику ему сделали на пять). А если дурень не унимается, Вундеркинд может описаться от возмущения, и камера честно покажет мокрые подгузники и простынки. Слезы, сопли и прочее – это не компьютерный эффект: к силиконовому тельцу Вундеркинда подведены спрятанные в простынках шланги.
Спорили про Зику-три и Big Data. Это у свинюков любимая тема для разговора.
– Вы понимаете, что это классическая логическая ошибка, – очаровательным дискантом пищал Вундеркинд, – путать «после этого» и «вследствие этого»? Еще в Древней Греции…
– Известно, – перебил один из свинюков, – что три крупнейших фирмы Big Data, я их не называю, чтобы не было исков, но вы знаете, о ком я говорю – так вот, они еще в десятых годах нашего века совместно финансировали микробиологические исследования, в том числе создание новых вирусов. Лечебных, как они утверждали. Все это тогда звучало очень модно – наноботы, путешествующие по сосудам вашего тела, вирусы-ремонтники, способные лечить от рака… Но почему-то после того, как появился юкатанский герпес и Зика-два, когда стали рождаться эти жуткие микроцефалы, никакой информации о лечебных вирусах больше не появлялось. Засекретили.
– А это еще одна логическая ошибка, – заверещал Вундеркинд, – с таким же успехом можно сделать вывод, что исследования на эту тему были просто прекращены…
– Прекращены? А как, по-вашему, произошла мутация к Зике-три? Вирус, который разносили комары, стал передаваться воздушно-капельным путем. Мало того, заражение гарантирует почти стопроцентную мутацию потомства. При этом никакой лихорадки, температуры – никаких вообще симптомов! Никакого вреда для здоровья носителя… Сегодня инфицированы практически все. Во всяком случае, из этого исходит правительство и медицина. Природа не смогла бы за такой короткий срок изготовить настолько совершенный биологический инструмент. Это сделала Big Data с чудовищным […] во главе!
Название фирмы было, понятно, запикано.
– Зачем? – спросил Вундеркинд.
– Как зачем? Чтобы маргинализировать естественный секс между людьми, особенно между мужчиной и женщиной! И даже между двумя мужчинами. Кому нужен новый штамм юкатанского герпеса? Все было устроено для того, чтобы мы спали с манекенами и размножались только через пробирку, где можно отсечь ненужные генетические последовательности! Работа шла по двум направлениям – сделать это законом и одновременно криминализировать почти все естественные сексуальные действия, даже интенции одного живого человека по отношению к другому.
– Вам, господа, никто не мешает заниматься телесным сексом друг с другом, – сказал Вундеркинд. – Никто. Особенно если вам нужен новый штамм этого самого. Но вы должны соблюдать законы и понимать, что многим в современном обществе такое поведение кажется мерзким и оскорбительным.
– Вот именно про это я и говорю! Практически все виды поведения, которые последние пятьдесят или сто тысяч лет вели к акту репродукции, в наше время считаются социально неприемлемыми! Это результат заговора.
– Чем вы можете доказать существование заговора?
– Смотрите, – заговорил другой патлатый свинюк, – вы тут ссылались на античную логику. Римляне говорили: ищите того, кому выгодно. Уже тогда, когда появился Зика-один, велись серьезные исследования в области виртуального секса. Практически вся сегодняшняя технология существовала в зародыше. Все эти айфаки и андрогины ничего принципиального не внесли…
– Неправда, – поднял пальчик Вундеркинд, – когда появился Зика-один, не было самого главного. Не было транскарниальной стимуляции.
– Работы в этом направлении уже велись, – сказал первый свинюк. – Т-стимуляция применялась в спорте в качестве электронного допинга.
– Если подытожить, – пропищал Вундеркинд, – вы обвиняете фирмы Big Data в том, что они финансировали исследования в различных областях прикладной науки? А потом прекратили финансировать?
– Нет, – сказал второй свинюк. – Мы обвиняем Big Data в том… Сейчас объясню по порядку. Когда продажи девайсов – смартфонов, планшетов, виртуальных шлемов и приставок стали падать… нет, задолго до этого, когда сделалось ясно, что они начнут падать, поскольку заставлять людей обновлять практически не меняющиеся гаджеты каждый год будет все труднее… Вот тогда, еще в десятых годах, фирмы Big Data вступили в преступный тайный сговор с целью искусственно создать новый рынок.
– Емкостью, как ожидалось, примерно в триллион тогдашних долларов, – уточнил второй свинюк.
– Да, около того по самым скромным подсчетам, – согласился первый. – Рынок виртуального, роботизированного, искусственного – называйте, как хотите – секса. Но скоро стало ясно, что невозможно будет сыграть по-крупному, пока люди предпочитают заниматься любовью друг с другом. Нужен был тектонический слом всей человеческой сексуальности. Целью Big Data было маргинализировать, а еще лучше – криминализировать первейшую человеческую потребность в ее естественном виде, одновременно создав искусственный обходной путь, по которому пойдут миллиарды людей. Над этим работали не только инженеры Силиконовой долины, но и бесчисленные пресститутки из корпоративных масс-медиа…
– Их тоже посвятили в заговор? – спросил Вундеркинд.
– Журналистов не надо ни во что посвящать. Не надо даже давать им команду – эти умные и удивительно подлые зверьки сами способны догадаться по запаху, где им накрошили еды. Вот про что мы говорим.
– Вы считаете, правильнее было позволить людям рожать уродов, дебилов и микроцефалов, не приспособленных к жизни? – вопросил Вундеркинд. – Если бы не закон о защищенном воспроизводстве, наша планета давно превратилась бы в дом призрения для уродцев.
– Она и стала домом призрения для уродцев, – сказал первый свинюк. – Только этими уродцами сделались мы все – после того, как нам много лет промывали мозги пресститутки из культурно-медийного истеблишмента. Почему физический секс между двумя людьми, особенно мужчиной и женщиной, считается сегодня чем-то позорным, уродливым, грубым? Практически извращением?
– Потому что человечество выросло и созрело, – пропищал Вундеркинд. – Это произошло бы и без Зики-три, только позже. Новые болезни – а Зика-три, как вы хорошо знаете, самая распространенная, но далеко не самая неприятная проблема – сделали любой физический половой контакт, даже защищенный, крайне рискованным. Но это было не причиной перемен, а их катализатором. Когда-то люди ели сырое мясо. Юных женщин попросту насиловали те, у кого была самая большая дубина. Продолжалось это сотни тысяч лет, и тоже, наверно, казалось нормальным. Кстати, люди той эпохи выглядели примерно как вы двое – волосатые и неаккуратные… Интересно, это совпадение или что-то большее?
Машина проехала мимо дома Симеона Полоцкого, и я отключился от всех микрофонов и камер убера. То есть вышел. Только не спрашивайте куда.
Этого Вундеркинда я часто вижу на экранах. Он популярный – люди перед программой даже ставки делают, обоссыт он пеленки в этот раз или нет. Вероятность всегда около пятидесяти процентов, и говорят, что ее держат такой специально, чтобы подпитывать народный тотализатор. У него в студии всегда визг, критика властей и полная свобода слова, но побеждает всегда правильная линия.
Вот и сегодня – наверняка его райтер-группа сначала родила эту фразу про волосатых и неаккуратных свинюков, а потом уже где-то в подвалах «ВзломПа» подобрали двух соответствующих граждан, которым для убедительности дали высказаться… Как информационные алгоритмы работают, мы знаем.
Ладно, не полицейское это дело – лезть в политику.
симеон полоцкий
Лофт, где жил Симеон Полоцкий, был переделан из чердака старого дома. Со двора в вульгарно-роскошное гнездо борца ходил отдельный лифт.
Все это практически не было защищено от хака.
Борец не жалел денег на самые вызывающие виды роскоши – но не купил даже блокировку «СПАСа». Хотя для оплаты этой услуги на много лет вперед достаточно было выковырять небольшой бриллиант из короны двух миров на бюсте Эухении де Шапиро в его прихожей. Которую я обозревал с двух камер уже через пять секунд после своей высадки из убера.
Если такой известный и богатый человек не предохраняет свое личное пространство от сетевых вторжений, это предполагает либо предельную беспечность, либо тщательно подготовленный для хакеров урожай рекламного «компромата». Случай Симеона, заключил я после осмотра, без всяких сомнений, относился ко второй категории.
Объекты искусства размещались в его жилище таким образом, чтобы выгодно смотреться с любой из бытовых камер, к которым можно было подключиться. Все было продумано до мелочей, и явно не хозяином, а консультантами и стилистами.
Сам Симеон (зататуированный до черноты, бритый наголо, бугрящийся мышцами) в мохнатых, как бы покрытых медвежьей шерстью трусах (в таких же он выходил и на ринг), храпел на огромном круглом диване в центре лофта – в обнимку с ярко-красным айфаком-10 и седьмым андрогином, окрашенным в маскировочную гамму.
Мизансцена указывала на материальный достаток и небывалую сексуальную мощь. Но на храпящем Симеоне не было огмент-очков, из чего следовало, что он не столько отдыхал от угара удвоенной страсти, сколько надеялся, что кто-нибудь в сети захочет на него посмотреть. Ну вот и дождался. Впрочем, я разглядывал уже не его самого, а художественную коллекцию.
Она была довольно эклектичной – в основном, как я понял после нескольких сканов и запросов в сеть, ранний гипсовый век (учусь я быстро, дорогая Мара).
Самой дорогой работой была «Смерть Любви» Гюи де Барранта – раскрашенная под пачку «Мальборо» глыба мрамора с омерзительно подробным изображением саркомы молочной железы в траурной рамке – но оригинал это или копия, я не представлял. Ссылок на нее в сети было много.
Лота триста двадцать два видно не было. То есть, может, он и был одной из этих статуй, картин или инсталляций – но какой именно, понять я не мог, а прослеживать историю их всех не принесло бы пользы для романа.
Поэтому я решил пообщаться с Симеоном лицом к лицу – читатель ведь любит, когда в повествовании появляются знаменитости.
Будить его без крайней необходимости не стоило – наша служебная инструкция содержит немало странностей. Но долго ждать не пришлось.
Симеон встал, потрепал свой красный айфак за силиконовую ягодицу и побрел в уборную. Это было очень кстати: там на стене висел 3D-экран, где я мог появиться.
У Симеона было как минимум шесть серьезных поводов опасаться полиции, так что можно было рассчитывать на сотрудничество – особенно в деле, которое никак ему не угрожало.
Дождавшись, когда Симеон облегчится и наступит та наверняка знакомая читателю минута, когда человек еще не вполне встает с толчка, но по резкому расслаблению его лицевых мышц уже понятно, что он доделал работу, назначенную природой, и та кинула ему в мозг крохотный кусочек сахара, я включил экран – и, как только Симеон вытаращил на меня глаза, с размаху хлопнул нарисованным кулаком по своему виртуальному столу.
– Прячешься, с-сукин сын?
– Никак нет, гражданин полицейский начальник, – залопотал Симеон. – Не прячусь. Просто справляю нужду.
Я правильно все рассчитал. В первый момент он подумал, что к нему пришли по одному из его серьезных косяков – и не стал лезть в бутылку.
– У тебя уже три уголовки, парень, – перешел я на отеческий тон, – а ты… Четвертую себе шьешь?
– Какую четвертую?
– Криминальная торговля искусством, статья пятьсот восемьдесят три гражданского уложения, пункт четыре.
– Какая криминальная? Почему? Что такое?
Клиента надо брать именно в эту минуту голубой детской растерянности, учит теория сыска.
– Ты купил через подставных лиц так называемый «лот триста двадцать два». Было дело?
– Было, да, – Симеон хлопнул ресницами. – Давно уже. А разве…
– Вот если ты, сукин сын, не хочешь, чтобы началось это самое «разве», сейчас ты встанешь с очка и подробно мне объяснишь, что, как и почему.
– Ладно, – хмуро согласился Симеон.
Когда он выбрался из сортира, я переключился на потолочную камеру и сделал зум на его недовольное лицо.
Я ждал, что он вспомнит про адвоката, и уже готовился объяснить ему, что для таких случаев во мне есть отличная и, что самое главное, одобренная Полицейским Управлением подпрограмма, готовая встать на защиту его интересов за небольшие деньги – но это мощное тело действовало куда быстрее, чем работал слабый и не слишком привычный к абстрактному мышлению ум. Как у древних бронтозавров, суть Симеона была сконцентрирована не в голове, а в позвоночнике.
Он подошел к двухметровому полотну раннего двадцать первого века («Водовзводная Башня, неизв. автор»: огромная водочная бутыль, в которой отражался размытый и гротескно искаженный Ельцин, тянущий к ней руку – тончайшая игра света в стекле и жидкости, несомненный оммаж Айвазовскому, объяснила сеть).
– Вот это? – спросил я из динамика на каминной полке.
– Не, – сказал Симеон, – тут хитро сделано.
Он нажал на табличку под картиной, и она отъехала в сторону, обнажив неглубокую нишу в стене. В нише висела…
Дверь. Обычная белая дверь из обшитой пластиком фанеры, с дешевой латунной ручкой-защелкой, крючком для одежды и петлями, в которых даже сохранились ржавые шурупы. Дверь из общественного туалета, понял я.
Ее оживлял грубо намалеванный черным маркером рисунок. Обычный сортирный сюжет: условные вагина с воткнутым в нее фаллосом, окруженные нимбом похожих на иглы дикобраза волос. В общем, никакой светотени. И плохая реклама пороку.
– Это и есть лот триста двадцать два? – спросил я.
Симеон кивнул.
– Нам надо было четыре лимона вложить, – сказал он. – Там много всего показали, я не во все врубился, если честно, и решил взять что-то понятное. Чтобы вдохновляло, надежду давало, что ли. Не зря она самая дорогая была. Тут… Как это, консультант сказал… Немыслимая простота. Одним словом, экспрессия.
Я сделал зум на дверь.
Под рисунком была размашистая рисованная подпись:
– Тут звуковой комментарий есть для гостей, – сказал Симеон озабоченно, – включить?
– Валяй.
Симеон нажал на невидимую кнопку, и низкий убедительный баритон – голос серьезный и солидный – заговорил:
– Перед нами туалетная дверь из московского офиса Британского Совета, относительно которой долго спорили искусствоведы – то ли это хулиганская подделка, то ли действительный и непревзойденный в своей горькой иронии шедевр мастера, специально прилетевшего в Москву инкогнито, чтобы выразить таким образом отношение к коммерциализации своего имени и творчества на Западе. По некоторым сведениям, Бэнкси расписал не только эту дверь, но и две другие кабинки в мужском и три в женском туалете, а также создал несколько микрофресок на кафеле. Местонахождение этих материалов в настоящий момент неизвестно… Поскольку дверь была восстановлена по технологии цифрового переноса, подлинность удалось окончательно установить только с помощью специальной квантовой процедуры – и сегодня, после датировки по сохранившимся цифровым фотографиям, сомнений в ней нет… Бэнкси умел быть саркастичным, но жизнь оказалась саркастичней художника: дверь была похищена из Британского Совета и продана за сумму с шестью нулями в коллекцию азербайджанского нефтяного магната. Не выставлялась по политическим и юридическим причинам…
К моменту, когда голос стих, я уже сделал несколько снимков двери, скопировал искусствоведческий ролик и даже оригинальный файл, по которому делали цифровой перенос – он хранился у Симеона в единственной защищенной папке, и, чтобы залезть в нее, мне пришлось оставить в ней свои куки, чего я делать без необходимости не люблю. Затем я послал все собранные материалы Маре и назначил созвон на следующее утро.
– Чего, шеф, будут проблемы? – спросил Симеон.
– Как повезет, – ответил я. – Значит, говоришь, жизнелюбие и простота?
– Угу, – сказал Симеон. – Когда покупали, нам консультант долго втирал, как это правильно понимать. Типа как духовное опрощение. Как Толстой. Прекратил выебываться и стал как все. Такое бывает, у меня один знакомый тоже соскочил и официантом теперь работает.
– А от кого ты ее прячешь-то? Перед айфаком неудобно?
– Да нет, почему, – пожал плечами Симеон. – Всем пох. Просто работа дорогая. Лучше, чтоб никто не видел, кроме близких друзей. Советовали даже хранить в сейфе. Я решил, прикрою от греха, и ладно.
Мы, полицейские роботы, уходим по-английски – не прощаясь. Запомни Симеона таким, каким я видел его в эту секунду, дорогой читатель: переплетение жира и мускулов в комичных медвежьих шортах плюс два испуганных круглых глаза, глядящих в потолок. Татуировки, правда, хорошие и дорогие – можно было бы содрать и повесить на стену как один из экспонатов.
Может, он похожим и кончит.
Кстати сказать, в его квартире было спрятано незарегистрированное оружие, а на одном из компьютеров дремал самораспаковывающийся файл с агитками Халифата, который я на всякий случай пометил специальной последовательностью символов в стринге метаданных – что-то вроде голубиного кольца, наше служебное «что, где, когда», каким раньше маркировали киндерпорн. Симеон, наверно, об этом архиве даже не знал – но серьезно присесть в наше время можно и за меньшее.
Жалоб на полицейский произвол я, таким образом, не опасался.
мара пугается
Дослушав искусствоведческий файл, Мара повернулась к экрану, с которого на нее глядело мое служебное лицо – и крохотная камера.
– Тебе не идут зеленые бакенбарды, – сказала она.
Сама же просила. Следовало изобразить обиду.
– Чиво? – переспросил я и включил мимическую фактуру, обозначенную в моем меню как «сарказмосексизм #3».
– Вот только дебильных рож строить не надо.
– Могу выглядеть по-всякому, – ответил я чуть жеманно, – женским умениям тоже обучен…
И я без всякого предупреждения принял вид помпейской поэтессы из рамки на ее рабочем столе.
Признаюсь, я задумал такой маневр заранее, и просчитанная 3D-модель этой самой Жанны-Сафо была у меня наготове.
Это, вообще-то, стандартная процедура во время отхожего промысла. Лучший способ вызвать у нанимателя нежность – предстать перед ним в виде его любимого существа: домашнего животного, родственника, е-тянки и так далее. Здесь, однако, есть и определенные риски – о чем мне сразу напомнила реакция Мары.
Она выпучила глаза, и я отчетливо различил на ее лице испуг. Ее зрачки расширились, кожа побледнела – и хоть это были совсем небольшие изменения и человек их, скорей всего, не заметил бы, от меня они не укрылись.
Еще через две секунды стало видно, что на губах и пальцах правой руки Мары проявился тремор, а голова несколько втянулась в плечи. Да-да, это был самый настоящий классический страх – будто я обернулся мышью или бенгальским тигром.
Еще через четыре секунды Мара справилась с собой. Но замеченный мною страх был слишком интенсивным, чтобы объяснить его простой неожиданностью.
Нет, она испугалась не перемены.
Она испугалась Жанны-Сафо.
Похожий случай произошел со мной два года назад, когда меня взяли в аренду оцифровать старый фотоархив. Я прикинулся хозяйской кошкой из такой же электронной рамки, а кошка уже два года как сдохла. Была истерика. Правда, потом был и катарсис – и еще кое-что, о чем приличия заставляют меня умолчать. За дополнительную плату мы оказываем самый широкий спектр услуг.
О чем, собственно, я и хотел деликатно уведомить Мару. А вышло вон как.
Мара демонстративно закрыла глаза ладонями.
– Прекрати немедленно! – сказала она. – И никогда больше так не делай. Никогда. Понял?
– Понял, – ответил я.
Когда она открыла глаза, я уже принял свой обычный вид.
– Вот так-то лучше.
Следовало свести все к шутке.
– Я хотел покорить твое сердце, – сказал я.
– Вот я тоже подумала, – проговорила она с сомнением, – но ты же ничего не чувствуешь, мой бессердечный?
– Ничего, – ответил я. – Вообще. И мне на самом деле все равно, как выглядеть. Главное – дарить людям радость.
– А зачем ты тогда эти бакенбарды носишь, если все равно? И этот мундир? Не слишком замысловато?
– Я уже объяснял, – сказал я. – У нас есть инструкция, по которой мы должны воплощать определенный служебный облик, провоцируя собеседника на эмоциональный контакт. Это позволяет войти в доверие, раскрыть характер, собрать улики и создать образ. Так шьются дела и рождается великая литература.
– Да, я забыла, ты ведь у нас еще писатель… И ты так откровенно обо всем мне говоришь?
– Раскрытие приема – мое главное оружие, – сказал я. – И залог высоких продаж.
– А какие у тебя продажи?
– Лучшие по полицейскому управлению. Я имею в виду, в нелетальном сегменте. «Баржу Загадок», например, скачали сто два раза. «Осенний Спор Хозяйствующих Субъектов» – сорок шесть. Но это мои вершины. Обычно – куда меньше.
– А от чего это зависит? От литературного мастерства?
– В первую очередь от раскрученности, – ответил я. – И еще от темы, конечно. Когда расследуешь затопление баржи, незаконный снос забора или производственный брак при производстве пляжных шезлонгов, трудно надеяться на вихрь жадного человеческого внимания. Даже если в результате пара человек сядет на нары. Вот если доверят труп… Но мне его просто так не спустят.
– Почему?
– У нас в управлении тоже есть свои генералы, – я выразительно кивнул вверх. – Всех жмуров под себя гребут. Вот у них по три тысячи скачиваний бывает, а случается и по пять. К мастерству это отношения не имеет.
– В общем, – подытожила сочувственно глядящая на меня Мара, – как у людей. Безвыходно.
– Ну почему же безвыходно, – сказал я. – Отнюдь. Есть пути для роста. Я вот работаю над все большим и большим обнажением приема. Есть и другие перспективные вариации алгоритма…
– Какие?
– Давай я по ходу дела буду разъяснять, – ответил я. – А то там много всего. Поговорим лучше о нашем расследовании, моя ненаглядная. Ты осмыслила материалы, которые я прислал?
– Да, мой зелененький. А ты осмыслил?
– Нет, – сказал я, – я тексты вообще не понимаю. Я могу их только копировать или генерировать.
– Но ты ведь должен понимать, что ты генерируешь?
Господи, сколько раз со мной говорили на подобные темы.
– Увы, – ответил я, – это не совсем так. Мой алгоритм скорее похож на собирание пазла. Подбор подходящих по цвету и форме лингвистических обрезков. Их в моей базе хватит на миллиарды книг. Я умею имитировать связную, осмысленную и даже эмоциональную последовательность слов весьма точно. Могу выстраивать множество разных конфигураций сюжета и так далее. Но смысл и эмоциональность в этот набор слов вдыхает исключительно читатель.
– Ты говоришь так, будто все понимаешь, и очень хорошо.
– Я способен лишь изобразить понимание, опираясь на аналоги и лингвистические паттерны в моей базе данных. Это почти всегда получается, но при написании романа гораздо надежнее использовать аутентичную человеческую речь. Будет лучше, если выделять и фиксировать смыслы станешь ты, Мара.
– А, – улыбнулась она, – теперь я лучше понимаю свою задачу… В общем, улов небольшой. Но он есть. В справке утверждается, что Бэнкси расписал не только эту дверь, а еще две кабинки в мужском туалете и три в женском, а также создал несколько микрофресок на кафеле. Местонахождение этих материалов в настоящий момент якобы неизвестно.
– И что из этого следует? – спросил я.
– Скорей всего, мы имеем дело с хорошо организованной подготовкой почвы, – ответила Мара. – Когда вынырнут новые Бэнкси на стульчаках и кафеле, это никого не удивит. Очень грамотная прокачка рынка.
– У тебя есть предположения о возможных продавцах?
– Нет. Мне это и не особо интересно – я же не мусор. Мне надо просто знать, что, где и когда… Теперь надо браться за следующий лот. Номер триста сорок. Здесь тебе придется чуть сложнее, но я уверена – ты справишься. Установи, что это был за объект, скопируй, поговори с владельцем и скачай всю искусствоведческую сопроводиловку. Можешь ее особо не анализировать, это работа для меня. Годное для романа я тебе перескажу устно.
– Прекрасно, – ответил я, – просто идеально.
– Сгружаю контакты… Вот, уже послала. Дошло, мой зелененький?
– Дошло, не тупой.
– Во как, – улыбнулась Мара. – Ты даже острить умеешь. Как ты это делаешь?
– Очень просто. Когда нам посылают по сети файлы и письма, люди часто интересуются, дошло ли? В качестве одного из примерно шестидесяти четырех тысяч возможных ответов на такой вопрос в моей базе записан этот, с маркером «юмор». После твоего ласкательного обращения «зелененький» алгоритм сформировал запрос на юмористический ответ, и был отобран вариант «дошло, не тупой».
– А сам ты понимаешь, в чем здесь юмор?
– Разумеется, нет, – ответил я с презрительной байронической улыбкой. – Полагаю, какая-нибудь игра слов.
– Ну вот, вся романтика пропала.
– Милочка, если бы ты подробно ознакомилась с нейрологическим механизмом возникновения человеческого смысла, понимания, юмора и прочих эпифеноменов сознания, так называемой «романтики» не осталось бы вообще.
– Ух ты. А это ты как?
– Измененная цитата из сборника «Разумен ли разум», Москва, 2036 год. Первая публикация Соула Резника, который у тебя на стене в кабинете. В статье обсуждался вопрос о романтическом отношении к искусственному интеллекту, параметрическая близость тематики сорок два из ста. Цитата грамматически и тонально модифицирована для полного совпадения со структурой текущего диалога.
– И ты все вот так прямо мне выкладываешь?
– Я уже говорил, что обнажение приема – мой фирменный конек-горбунок.
– Порфирий, – сказала Мара, часто мигая, – у меня к тебе просьба. Больше не рассказывай мне про свои сокровенные винтики, пока я специально не попрошу. Иначе рушится весь шарм нашего общения.
– D’accord, мой зайчик, – ответил я. – А теперь мне пора на задание – ехать довольно долго. Будь умницей и не шали одна. Порфирий out.
Она думает, что я ей визуальная пара? Ну не знаю. К моим бакенбардам и мундиру нужна, наверное, особа посисястей. Хотя полностью голой я ее пока не видел… Впрочем, не будем объективировать женщину даже в симуляции риторического завитка, а то потом доебутся – и в путь.
Лот триста сорок был куплен банкиром, который жил, как это ни банально, на […] к западу от Москвы.
Во как. Мара сбросила закрытый адрес. Я не мог воспроизвести его в тексте романа.
Серьезные люди.
В отличие от Симеона Полоцкого, банкир действительно заботился о прайваси, и у него была проплачена не только блокировка «СПАСа», но и право на «конус тени». Это означало, в частности, что ни его адреса, ни места работы, ни фамилии в своем тексте я упоминать не мог. Открыты были только имя и отчество – Аполлон Семенович. Больше подошло бы отчество «Зевсович», но мир несовершенен.
Конечно, часть этих запретов чисто символическая. Если мы назвали человека банкиром, уже понятно, что он сотрудник Ебанка (других банков нет), а если он живет на […] к западу от Москвы, ясно, что это не простой операционист, а экзекьютив. В остальном же лучше в «конус тени» не лезть, поскольку Ебанк своих в обиду не дает – ни в Богооставленной, ни в Халифате, ни в Америках.
Да, многие недоумевают – как так, Дафаго официально воюет с Халифатом, Халифат воюет с Америкой, Америка уже сколько лет воюет сама с собой (да и про наш Евросоюз можно сказать то же самое) – а Единый банк работает везде. Но это, возможно, и есть та последняя скрепа, что удерживает наш пылающий и разобщенный мир вместе.
One Bank Fits All!
Ebank and One Bank are the registered trade marks of (дальше уходим на мелкий шрифт).
Ну ты понял, дорогой читатель. Проплаченная вставка Ебанка.
Они так себя называют по всему миру (в электронном смысле) – а если на локальном языке выходит неблагозвучно, меняйте язык. Денег у этих гнид не то чтобы много, у них все деньги вообще – хотя что такое эти special drawing rights, или эсдиары, никто, кроме экономистов, не понимает. В России их называют «хрустами» по буквам «H» и «R» из их рекламы про «human rights», которая тычется в глаза буквально всюду.
Они проплачивают свои поп-апы везде, где про них упоминают – и даже мне приходится лизать этот ядовитый анал, поскольку по условиям франшизы при первом упоминании Ебанка рекламный материал должен быть интегрирован в мой текст в следующем абзаце или произнесен от моего лица (либо должен быть подробно пересказан один из их рекламных роликов). Отказаться я не могу, но нигде не сказано, что я не имею права предупредить об этом читателя – или выделить курсивом проплаченный этими гнидами абзац, как я только что сделал.
И обсирать их после этого я могу как хочу. Скоро, конечно, дырку в договоре заметят и закроют – так что наслаждаемся последними днями свободы! В общем, вот к какому мерзавцу я ехал (как и восемьдесят четыре процента моих потенциальных читателей, я терпеть не могу финансовых пауков).
Этот господчик так ловко спрятался от объедаемого им мира, что к его поместью сложно было даже найти попутку – я подыскивал подходящий убер целых двадцать три минуты.
Зато когда я его нашел…
убер 2. свинюки
В салоне сидели молодые парень и девушка.
По путевому листу, который я не поленился найти в сети, это были случайные попутчики, выбравшие эконом-схему «вдвоем». Но я догадался, что это свинюки, еще до того, как парень стал заклеивать камеры скотчем.
Почему машина едет по такому крайне длинному и диковинному маршруту? А вот почему – мальчик с девочкой вступили в предварительный сговор, подошли к кольцу в ста метрах друг от друга и одновременно заказали эконом-убер до […]. Можно не бояться, что система состыкует с кем-то другим – такое статистически возможно раз в тысячу лет.
В убере семь скрытых камер. Парень знал про три – и наверняка считал себя виртуозом лайфхака. Как только он их заклеил, они перешли к делу. Опыт у них, видимо, уже был – как устроиться в кабине и даже приспособить к делу разделительный подлокотник, который автоматически выдвигается при парных эконом-поездках, они знали.
По путевому листу был виден не только их сегодняшний маршрут, но и, как сказал бы поэт, все зигзаги их переплетенных судеб. Коля, двадцать лет, и Лена, девятнадцать. Студенты, в качестве свинюков системой не зарегистрированы, живут с родителями – а те, понятно, такого позора у себя дома не хотят.
К свинюкам в Богооставленной подходят более-менее снисходительно. Пока. Лет через пять-десять, как предполагают эксперты, их криминализируют. А пока что их троллят. Творчески и с выдумкой – чтобы они чувствовали постоянно растущий дискомфорт.
Я в очередной раз имел удовольствие наблюдать, как именно это происходит. Когда я подключился к уберу, экран в салоне показывал старое кино про ковбоев, и молодой человек Коля даже сделал звук громче – видимо, чтобы стоны страсти глушились выстрелами над прерией. Но как только система зафиксировала происходящее в салоне (она реагирует в том числе и на положение тел – думаю, что задранные к потолку ноги с зажатой между ними чужой головой трактуются однозначно), пошла реклама айфака.
Начали, что интересно, с восьмого. Его еще можно купить, и сегодня это самая бюджетная модель, из чего видно, насколько тонко система понимает происходящее.
Сперва пошел тот смешной ролик, где ожившая Венера Боттичелли делает в своей раковине несколько балетных па, потом ее прихлопывает другая половинка раковины, и зритель видит только что отштампованную тушку айфака со сверкающими огмент-очками рядом. Потом прошла гей-версия этого же ролика с Давидом Микеланджело, затем транси нон-байнари варианты. Дурак бы догадался, что система как бы намекает, но охваченные любовным угаром юнцы, увы, слепы и глухи ко всему, кроме.
Система терпеливо включила ролик из Викиолла – тот, что прилагается ко всем айфакам и андрогинам – и сделала звук громче.
По экрану поплыла вереница старинных любовных снарядов. Бо́льшая часть была исторически достоверна, но некоторые выглядели неубедительно и смешно. Особенно обтянутый львиной шкурой бочонок с зияющей в боку дыркой и римской каской сверху. Нет ли в этом гомофобии? Но к художественным преувеличениям в промо-материалах народ давно привык – даже считается, что они дополнительно мотивируют.
Когда экскурсия в прошлое человеческого счастья завершилась, экран занял девятый айфак – не самый дорогой вариант, но и не самый дешевый, особенно по сравнению с андрогинами.
– Коля и Лена! – раздался в салоне женский голос, – мы рады приветствовать вас в смотровом зале «Память Венеры»…
Да уж, в смотровом зале. Верно подмечено.
– Наш продукт выглядит не слишком-то ново, ребята – но и жить, конечно, не новей…
Привычка рекламного алгоритма называть пассажиров по именам и вставлять в рекламу контекстные цитаты из их любимых авторов (вся эта информация доступна через путевой лист) многих раздражает – и немудрено. Получается чаще всего аляповато и навязчиво. Пассажиры в убере иногда отвечают актами вандализма, а потом платят большие штрафы. Но мои попутчики были слишком заняты друг другом, чтобы обращать внимание на звуковую среду.
Наконец на экране появился пурпурный айфак-10 – вот точно как у Мары. Его перекрыла широкая надпись:
Непонятно, то ли они действительно сделали слово «iPhuck» из словосочетания «PH2 universal copulation kit»[3], то ли, наоборот, подобрали расшифровку под эту эффектную аббревиатуру. Но продумано все – даже если они перейдут со временем к physicality class 3, менять торговую марку не придется.
– Коля и Лена! Несмотря на бурный технический прогресс, за последние полвека наш продукт – или, как выражаются ваши друзья-студенты, тушка, резина, силикон, железо и так далее – изменился на удивление мало… В далеком прошлом невинная девушка в возрасте Лены или молодой человек в возрасте Коли, скорей всего, решили бы, что перед ними портняжный манекен из силикона с короткими культями рук и ног… Но руки, ноги и даже лицо перестали быть нужны любовным куклам из-за развития транскарниальных технологий.
На экране появился бюст Цезаря в бюджетных огментах – старая модель, похожая на мотоциклетные очки, с перекинутой над плешью тонкой стальной дужкой, от которой отходили красные иголки наушников.
– Вот эта металлическая полоска над мраморной лысиной называется «ТС», транскарниальный стимулятор. Вы учили в школе, как он работает, но наверняка успели забыть… Если коротко, его излучение создает тактильные галлюцинации в требуемых областях вашего тела и одновременно тормозит активность мозговых зон, способных заметить несоответствие между картинкой в ваших огмент-очках и информацией, приходящей по каналам других органов чувств. Благодаря этой невесомой полоске металла переживания в огментированной реальности становятся приятно-пузырящимися – словно на ваш разгоряченный мозг льют холодное шампанское – и абсолютно, стопроцентно реальными. Не просто правдоподобными, а именно реальными. Помните ваши любимые старые русские стихи? «Господа, если к правде святой мир дорогу найти не сумеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой…» Эта честь по праву принадлежит сегодня визионерам Силиконовой долины! Современной любовной кукле не нужны руки и ноги – достаточно изящного торса и головы с призывно приоткрытым ртом – все остальное добавится в огментированной среде. Мы не просто догнали реальность, мы превзошли ее…
По экрану поплыли плавные изгибы продукта, бледные пастельные тени, рассеянное мерцание будущего счастья.
– Двуполая силиконовая механика выглядит на первый взгляд грубовато и примитивно, но следует помнить, что за каждым ее изгибом и рычагом спрятано больше интеллектуальных усилий, чем за антеннами какого-нибудь космического корабля…
Космическая стыковка, возникшая на экране, за секунду обросла плотью, красной сеткой сосудов, кожей – и исчезла за миг до того, как изображение успело стать неприличным.
– Айфак – не только любовный тренажер, но одновременно и высокозащищенный личный сейфер, где сохраняются и анализируются ваши коитографические предпочтения – на их основе создается виртуальная галерея ваших возможных партнерш, партнеров и партнерей. В десятом айфаке в качестве процессора впервые в истории бытовой техники применен квантовый вычислительный блок – мощности которого хватит на любые мыслимые и немыслимые задачи еще много десятилетий! Это избыточно – но мы не привыкли отставать от жизни. Все это позволит сделать ваш эротический опыт по-настоящему уникальным и незабываемым. Любите тех, кого вы любите!
Я наконец понял, почему студенты даже рефлекторно не реагируют на гремящий в салоне голос – в их ушах были пластиковые затычки телесного цвета. Видно, они ехали по этому маршруту уже не в первый раз.
– Гендерная принадлежность устройства меняется так же просто и надежно, как к ружью пристегивается штык… Сейчас вы видите на экране, как именно… Все эти аксессуары, включая синфазную анальную пробку, входят в комплект, но вы можете приобрести их enhanced-версии отдельно в нашем тюнинг-ателье. Коля и Лена, в самом важном для человека вопросе продумано все… Конечно, айфак-10 стоит недешево из-за отборных материалов и прецизионной сборки – но мы не пойдем на компромиссы, когда речь идет о человеческом счастье. Коля и Лена! Лицом к лицу лица не увидать только на дешевых аналогах. У нас вы увидите все! Айфак-10 «Singularity»! Предназначенное расставанье обещает встречу впереди!
Парочка между тем не унималась, даже совсем наоборот – они заходили на второй круг. Какой там айфак, они, похоже, и на этот убер-круиз долго копили.
Подождав минуту, система включила третью воспитательную ступень – для самых тупых.
Заиграла арфа. Экран на миг погас, а потом его заполнили волны из разноцветных букв, иероглифов и рун – словно бы древний океан человеческой памяти, выплескивающийся в мозги пассажиру. Гендерно нейтральный голос произнес:
– Сегодня в рубрике «Шедевры мировой литературы» мы продолжаем знакомство с одной из важнейших книг столетия, воспоминаниями американской феминистки Аманды Лизард «Consenting to penetration»…[4] Глава шестнадцатая, «Новый Орлеан». Предупреждаем слушателя, что книга Аманды Лизард была написана задолго до распространения вируса Зика-три…
Голос чтеца как-то траурно просел и одновременно утончился – но не утратил своей гендерной нейтральности:
«Упс, я сделала это опять. Под влиянием условностей, социально детерминированных ожиданий, да и просто страха перед возбужденным и разгоряченным выпивкой мужским телом, я сказала «да», которое было на самом деле не идущим из сердца настоящим «да», а примерно таким «да», какое может вырваться из уст изнуренной узницы после долгой моральной пытки…»
Громкость постепенно росла – я думаю, голос чтеца был слышен уже и за дверью убера
«Сильные грубые руки сорвали с меня белье, бестрепетно повернули лицом вниз, развели в стороны мои дрожащие ноги, а затем источающий спиртные пары рот прошептал в мое ухо:
«Ты уверена?»
О, как описать горькую иронию этой секунды… Я знала, конечно, что мой мучитель нисколько не интересуется глубиной моей уверенности – он всего лишь механически следовал навязанному социальному ритуалу. Ответить «нет» было все равно что пытаться остановить многотонный каток, съезжающий с ледяной горки. Сама моя жизнь могла оказаться под угрозой… И я покорно прошептала:
«Да…»
В ту же секунду зверино-грубая и невыносимо оскорбительная пенетрация отозвалась агонией во всем моем теле. Меня опять – в какой уже раз! – низвели до роли покорного объекта: попираемого, протыкаемого, пронзаемого и грубо проникаемого в.
Не помню, сколько длилась эта пытка, но вот она наконец кончилась. Я стала понемногу приходить в себя, как бы собирая с пола осколки души, размозженной ударом кувалды – и вдруг услышала…
Слова утешения? Шепот раскаяния?
Храп. Лежащий рядом со мной самодовольный, басовитый, уверенный в своей безнаказанности, пахнущий потом самец храпел, плескаясь в волнах выкупленного моей мукой серотонина – и видел, должно быть, сладкий шовинистический сон.
Неужели никто не ответит мне за это унижение и боль?
Сегодня все помнят: «нет» всегда значит «нет». Но цель моей книги – объяснить наконец, что «да», в том числе и повторное, не всегда значит «да». Поэтому оно может быть отозвано ретроспективно, даже через двадцать или тридцать лет, когда глубоко скрытая травма выйдет наконец на поверхность женского сознания. Прекрасно, что это находит понимание в сегодняшней судебной практике – но мы действуем слишком медленно, и многие жертвы объективации покидают нас, так и не дождавшись справедливости.
Женщины, униженные и раздавленные шовинистическим актом – я обращаюсь к вам, мои подруги. Как бы давно это ни случилось, вы должны выйти из тени и возвысить свой…»
Пора, однако, было выходить – дослушаю Аманду как-нибудь потом. С этим проблем нет, убер-свинюкам ее ставят постоянно.
Прощайте, прощайте, Коля и Лена, будьте счастливы в бурном море жизни и помните, что за ретроизнасилования сажают в основном вас – свинюков, не способных предъявить суду собственный айфак или андрогин. Считается, что такие люди представляют повышенную социальную опасность… Как знать, может быть, конспирологи, талдычащие о так называемом «судебном маркетинге», в чем-то и правы?
Шучу, шучу. Просто социальная закономерность, уверен на все сто.
аполлон семенович
Оставив убер, я переключился на одну из придорожных камер, благо их здесь было больше, чем деревьев. Вид, если честно, открывался не слишком радостный: шоссе и пятиметровые заборы по бокам, а за ними – лес, русский лес, словно бы отбывающий непонятно за что полученный срок.
Впрочем, для […] – довольно типичная панорама. Седалище скреп здесь совсем близко – всего пару минут назад я заметил в окне убера двух ливрейных егерей, ловивших в поле ворон для царского удовольствия. Кошек, говорят, завозят из Халифата, но точной информации у меня нет.
Передо мной поднимался к небу забор усадьбы Аполлона Семеновича – но ни одной электронной лазейки внутрь обнаружить я не мог, сколько ни вглядывался в сеть: даже его бытовая техника была защищена по военному стандарту. Видимо, безопасностью здесь занимались серьезные и дорогие алгоритмы.
Я определенно не встречал раньше такой защищенной личной жизни. Но одну зацепку я все-таки поймал – персональный телефон банкира. Он был указан в мэйле, отправленном на незащищенный сервер – и, хоть произошло это два года назад, номер вполне мог сохраниться.
Наглость – это новая скромность, учат стилистические сайты. Я набрал номер – и когда на том конце ответили, предстал перед визуальной системой абонента во всем великолепии своих бакенбард и пуговиц. Мне в ответ, правда, никакого изображения не прислали, и говорить пришлось как бы с серым непроницаемым туманом.
– Здравия желаю, ваше превосходительство, – начал я бодро. – Мое имя – Порфирий Петрович, и мои служебные референции уже отправлены на ваш адрес. Извините за беспокойство, но я расследую дело, связанное с нелегальной торговлей искусством. Моя цель – защитить вас от угловатого и грубого полицейского любопытства. Но чтобы я мог вам помочь, мне необходимо получить у вас ответы на несколько вопросов.
Удивительно, но мне ответили – причем по открытой линии.
– Здорово, Порфирий, здорово, старина! Как хорошо, когда человек кому-то еще нужен…
По тембру голоса я понял, в чем причина такого энтузиазма – Аполлон Семенович был пьян. Я бы даже сказал, пьян в дым.
– С вашего позволения, – произнес я заискивающе, – я буду весьма признателен, если вы позволите вас увидеть. Я должен быть уверен, что говорю именно с вами, а не с секретарем-алгоритмом или вообще каким-нибудь шутником.
– Цепляйся, дружище, – ответил Аполлон Семенович.
В следующий момент в его доме открылись сразу четыре камеры для конференс-колла. Я осторожно подключился к ним, проверил среду на предмет вредоносного кода – и только потом позволил себе увидеть того, кто пустил меня внутрь.
Аполлон Семенович был пьян, небрит и непричесан. На его лоб спускалась кудрявая прядь, длинная и влажная, в трезвые дни обитающая на лысине – словом, выглядел он так, как и положено немолодому человеку во время долгого запоя. Но при этом на нем был безупречный пингвин-сьют с черной бабочкой на крахмальной манишке – словно он собирался на званый ужин.
Я, впрочем, быстро понял, что этот вечерний костюм дорисовывает система видеоконтроля – очень хорошая система – а во что Аполлон Семенович одет на самом деле, мне знать не положено. Может быть, на нем не было ничего вообще. Если судить по его лицу, такое представлялось весьма вероятным.
Он сидел в кресле, а на полу перед ним стоял хрустальный графин с жидкостью благородного коричневого цвета. В руке банкира поблескивал граненый ромбами массивный стакан. Мое лицо высвечивалось на стене, но я не был уверен, что Аполлон Семенович хоть раз на меня поглядел.
Зал, где он находился, можно было назвать очень большой гостиной: в стене чернел зев камина, вокруг стояло несколько кресел, а на потолке поблескивал золотой барельеф в виде улыбающегося солнца. Золото было настоящим. Правда, толщину слоя программа-спектрометр определить не смогла.
Солнце это, увы, не грело. Зеркальные плоскости стен как бы намекали, что если гости здесь и бывают, то совсем не заполняют своим присутствием эту холодную пустоту, и поэтому их число приходится умножать обманом. И носят эти гости, скорей всего, такие же безупречные пингвин-сьюты…
В зале было мало мебели, но много объектов искусства – дорогие и известные работы, что я выяснил после быстрого скана. Самая ценная, большая по размерам и заметная инсталляция называлась «Лживый Танец Сборщиков Фиктивного Урожая» – ее автором был некий Ульцер Пятый, «известный современный художник», как характеризовала его сеть.
Инсталляция состояла из шести кукол, изображающих условных этнографических крестьян. Куклы были сделаны из айфаков и андрогинов, к которым прикрепили толстые соломенные руки и ноги под слоем фиксирующего лака. Крестьяне были наряжены в азиатском духе – в широкие соломенные шляпы и пестрые тряпки. Они замерли посреди ненатурального танца, зацепившись друг за дружку упертыми в пояс руками: айфаки изображали мужчин, андрогины – женщин.
То, что танец ненатуральный и постановочный, следовало не только из названия инсталляции, но и множества рецензий, обнаруженных мною в сети («одна из тех редчайших работ, где парадигма «новой неискренности» почти поднимается до естественного величия гипсового века», и так далее). Продана работа была за сумму «больше SDR 7 M», кому – неизвестно. То есть мне это было уже известно, а сети нет.
Другая работа Ульцера Пятого, которую я смог идентифицировать, выглядела жутковато. Это было как бы распятое чучело собаки, прикрепленное к вертикальной плите из серого бетона, поднимающейся от пола к потолку (видимо, ее отлили прямо здесь – ни в окна, ни в двери она не прошла бы). Вокруг разведенных в стороны собачьих лап в бетоне был выдавлен зачерненный рельеф – два огромных крыла, похожих на увеличенные кленовые листья. Они превращали собаку в гигантскую летучую мышь. Объект назывался «Невозможная Летающая Собака, Полная Двусмысленных Умолчаний» – и, судя по восторженным отзывам в сети, тоже был современным шедевром («SDR 5 M и выше»).
Поиски и анализ заняли у меня долю секунды, за которую Аполлон Семенович успел приблизить стакан к лицу всего на несколько сантиметров. Я дал ему сделать глоток и сказал:
– Какая честь быть принятым в этом изысканном доме, больше похожем на музей.
– Да, – согласился Аполлон Семенович, – серьезная честь. Я обычно не слишком общительный человек, просто хочется с кем-то поговорить. Мне, как у вас говорят, хуево.
– У нас – это у кого? – спросил я осторожно.
– Там, снаружи, – махнул Аполлон Семенович в сторону экрана.
Кажется, он все-таки меня видел. Но вот дошло ли до него, что он говорит с алгоритмом, я не знал. И непонятно было, станет ли он продолжать разговор, если это до него дойдет. Вести себя следовало крайне аккуратно.
– Аполлон Семенович, – сказал я полным почтения голосом, – не сомневаюсь, что вашему «хуево» позавидовали бы миллионы, если не миллиарды. Но я уверен и в том, что оно скоро пройдет и сменится вашим «хорошо» – о котором простые смертные не имеют даже представления.
– Это ты хорошо лизнул, – сказал Аполлон Семенович. – Умеешь. И, главное, попал своим языком в самую-самую точку, хе-хе-хе…
Он еще раз лихо отхлебнул из стакана, и я сообразил, что надо спешить, пока он не отключился. Технических возможностей привести его в чувство у меня не было.
– Вы коллекционируете искусство – и, по странному стечению обстоятельств, я хочу задать вам один вопрос об искусстве. А именно об одном из экспонатов вашей коллекции.
– Каком? – спросил Аполлон Семенович.
– Лот триста сорок.
– Лот триста сорок? А что это?
– Вот это, Аполлон Семенович, я и хочу выяснить.
– А… хоть примерно… Какая область?
– Гипс.
Все-таки хорошо немного понимать в искусстве.
Аполлон Семенович расплылся в ухмылке.
– Ах, гипс… Понятно теперь. Да, это нечто. Шедевр до такой степени, что… Впрочем, тебе, дурачине, я при всем желании не смогу объяснить.
– А вы попробуйте, – сказал я. – Вдруг все-таки пойму.
– Нет, тут надо быть в теме. Чрезвычайно глубоко в теме.
Аполлон Семенович засмеялся, вздрагивая всем телом и расплескивая свой напиток (из-за неяркого света я так и не смог определить по спектру, что это, виски или коньяк). Досмеявшись, он поставил стакан на пол и сказал:
– Ну пойдем, покажу. Даже интересно, что ты скажешь.
Встав, он зашлепал к бетонной плите с летучей собакой, и я предположил, что бесценный гипс спрятан за ней, как в прошлый раз. Но все оказалось проще – он остановился возле висящего на стене черного постера со следами перегибов. На перегибах черная бумага была протерта почти до дыр.
– Что это, по-твоему, такое?
– Я полагаю, это рекламный плакат, – ответил я после быстрой референции к сетевым аналогам. – Вроде тех, что наклеивали когда-то на уличные тумбы.
– Распечатка современная, – сказал Аполлон Семенович. – Искусственно состаренная, чтобы добавить патину времени. Оригинальный файл хранится у меня же, и это единственный легальный принт – другие незаконны. Но это не важно. Как ты считаешь, в чем смысл изображения?
Постер напоминал афишу старого фильма о вампирах. Джентльмен несколько экстравагантного вида припадал к шее грациозно откинувшейся блондинки с выщипанными бровями – был пойман момент как бы сразу после поцелуя, но две красные точки на шее блондинки не давали ошибиться насчет того, что произошло в действительности.
Рядом краснели как бы сочащиеся кровью слова:
– Ну? – спросил Аполлон Семенович, когда прошла почти минута тишины.
Все, конечно, было ясно – но следовало схитрить, чтобы дать ему возможность блеснуть эрудицией.
– Как-то не складывается, – протянул я. – В чем тут смысл?
– Я объясню первый слой, – ответил Аполлон Семенович. – Внешний, так сказать. То, что способны понять профаны. Это рекламная концепция инвестиционного банка «Голдман Сакс» – одной из структур, стоявших у основания Единого Банка, где я имею честь служить.
– У меня мелькнула такая мысль, – сказал я. – Только на рекламу это не слишком похоже. Скорее наоборот. Негатив-с.
– Да. Но в эпоху среднего и особенно позднего гипса получило распространение такое, э-э-э, саркастическое самопозиционирование, к которому прибегали крупные монстры финансовой вселенной. Их все иррационально ненавидели – и, как бы подыгрывая этому чувству, они жестко иронизировали сами над собой и тем самым возвращали себе частицу народной симпатии. Примерно так же политики той эпохи вышучивали себя перед камерами, для чего существовали специальные благотворительные обеды и юмористические программы. Считалось, что это делает их похожими на людей. Теперь понятнее?
– Все равно не до конца.
– Тебе неясен смысл надписи. Для этого, конечно, надо быть историком… Текст восходит к электоральному слогану Республиканской партии США – тогда еще были США – «Hillary sucks, but not like Monica». Самый расцвет гипса, 2016 год. В те годы каждый понимал эту шутку. Моника Левински и Хиллари Клинтон – это…
– Вот теперь наконец дошло, – сказал я. – В постере используется тройная игра слов, текст звучит как «Голдман сосет, но не так, как Хиллари». А то, что Хиллари, в свою очередь, сосет, но не так, как Моника, оставлено за скобками.
– Именно! – ответил Аполлон Семенович довольно. – Но эту концепцию не приняли. Хотя она била в самую-самую точку.
– Почему?
– Потому что Хиллари проиграла выборы. После этого никому уже не было интересно, как именно она сосет. Даже, наверное, ее мужу. Именно поэтому этот плакат – такая редкость.
– Да, гипс есть гипс, – проговорил я, чтобы сказать хоть что-то. – Сегодня такое вообще невозможно.
– Это только кажется, – ответил Аполлон Семенович. – Сегодня мы шутим так же, но тоньше. И ты про это знаешь.
– Неужели?
Он засмеялся.
– Какая реклама Ебанка встречается чаще всего?
– One bank fits all?
– Нет. Ты наверняка видел ее раз пять только за сегодня… Выглядит как уравнение. SDR равно HR. Special drawing rights are human rights.
– Совершенно точно, – подтвердил я, – видел сегодня два раза. У Курского вокзала и…
– Неважно. Вслушайся, как это звучит: Special drawing rights… Что происходит с точки зрения физики, когда кто-то сосет кровь? Он создает у себя во рту зону низкого давления, и она вытягивает жидкость из пореза… Draw blood, вот что будет делать сейчас этот элегантный вампир. SDR и HR соединены знаком равенства – символической трубочкой, через которую так удобно это делать… Комариное жало в профиль. Понимаешь теперь, почему этот гипс бесценен?
– Мрачный, мрачный юмор, – ответил я.
Я воспроизвожу речь Аполлона Семеновича в сильно восстановленном и облагороженном виде – к этой минуте понять его без модуля речевой реконструкции было бы сложно. Следовало закругляться.
– Вы позволите сделать снимок этого лота – на память о вашем потрясающем рассказе? И еще я хотел бы скопировать сопроводительные искусствоведческие материалы, если они есть. Буду смотреть и вспоминать про нашу встречу.
– Открываю, – захихикал он. – Валяй.
Конечно, когда меня впустили в систему, я скопировал не только сопроводительные документы, но и сам файл. Он даже не был особенно спрятан – видно, хозяин полагался на общую защиту своей крепости.
Пока что у нас с Марой все получалось. Меня, правда, нервировала необходимость всюду оставлять свои электронные отпечатки, но другого выхода не было. Все происходило в рамках закона. «Снимок» можно было понимать по-всякому, это термин не юридический: одни снимают так, другие эдак. В уголовной практике недавнего времени имелось как минимум три прецедента в мою пользу. И надо еще доказать корыстный умысел, а со мной это сложно. Тем более что Мара обещала после ознакомления все стереть.
– Я был очень польщен возможностью поговорить с таким выдающимся членом общества, – сказал я. – Желаю вам счастливого дня и ночи – и надеюсь, что они будут прибыльными…
мара злится
Мара с утра была в плохом настроении.
Ее гримасы совпадали с мимическими шаблонами «гнев», «неудовлетворенность», «раздражение», «обида». Даже шипы на ее кожаной упряжи казались длиннее и острее.
И еще она не отреагировала на мои оранжевые бакенбарды. Вообще. Я, разумеется, не был обижен таким невниманием, но я его отметил.
– Все стерли, – сказала она. – Я даже открыть ничего не успела.
– В каком смысле?
– В том смысле, что рано утром на связь с твоим начальством вышла юридическая служба Ебанка. А потом Полицейское Управление вышло на связь со мной. Разбудили – и стерли все файлы, которые ты вчера переслал. Все вообще.
– Почему? – спросил я.
– Потому что Ебанк пригрозил засудить сначала Полицейское Управление, а потом всех, кто оказался рядом. А когда они говорят, они делают… Тебя хоть поставили в известность?
– Меня… Киска, я же объяснял. Во мне отсутствует тот, кого можно ставить в известность. Я просто симуляционный алгоритм.
– Так ты даже не в курсе, что весь твой вчерашний улов стерли?
– Теперь в курсе. Но меня, повторяю, никто не уведомлял. Как меня может уведомить Полицейское Управление, если я и есть Полицейское Управление? Такое только тебе может прийти в голову, моя шалунья.
Похоже, сегодня мой игривый тон ее не веселил.
– Зато, – сказала она, презрительно глядя на экран с моим лицом, – я наконец ознакомилась с твоим сраным творчеством, Пантелеймон.
– Порфирий. А почему сраным?
– Потому что никто – ни в Ебанке, ни в Полицейском Управлении – никто вообще про твои говнороманы даже не вспомнил. Они никого не интересуют, понимаешь? Мало того, когда я запросила незаконченный текст у мусоров, через пять минут они мне его прислали, не потрудившись в него заглянуть, хотя вся твоя вчерашняя беседа с Аполлоном Семеновичем там подробнейше описана. Вот до какой степени ты никому не нужен, Пантелеймон.
– Порфирий, – поправил я. – То есть мой устный отчет о лоте триста сорок сохранился?
– Сохранился, – кивнула она. – И еще кое-что сохранилось. Твое описание нашей первой встречи.
– И?
Мара покосилась на планшет, лежавший перед ней на столе.
– «Немолода и некрасива… иссушенная диетами особа… во взгляде отсвечивало больше БДСМ-шипов, чем на одежде…» Это ты про меня написал, двуличное хуйло?
Я нахмурил свое экранное лицо, придав ему выражение оскорбленного достоинства – и опустил одну бровь почти на самый глаз.
– То есть в каком смысле вы изволите говорить «двуличное хуйло»?
– В каком? В прямом! Кто твоя киска? Кто твоя шалунья? Иссушенная диетами особа? Это потому что у меня жира нет? А был бы грамм жира, написал бы «изуродованная целлюлитом?» Немолода? Мне тридцать два года – тебе что, блять, семилетнюю выкатить?
– Сударыня…
– Что? Сударыня? А была киска?
– Вы взяли такой тон, что… Позвольте хотя бы объясниться.
– Ну объяснись. Интересно даже.
– Ваше нелестное мнение о моем творчестве связано с тем, что вы читали мой черновик бегло и невнимательно, и не в состоянии оценить его глубоких достоинств. В частности, его предельной саморазоблачительности. Если позволите, процитированный вами отрывок полностью звучит так…
Я сделал вид, что гляжу куда-то вбок, сощурился (в современных алгоритмах предусмотрено много защитных процедур, призванных смягчить негативную человеческую реакцию на наше быстродействие), и с выражением прочел:
«Женская красота и молодость – вещи очень относительные, а последние версии служебной инструкции требуют от нас вставлять в романы некрасивых немолодых женщин, говорящих на темы, не связанные с сексом и приготовлением пищи. Причем минимальный процентный объем подобного текста весьма велик. А нормальный охотник всегда старается завалить одной пулей нескольких заек».
– И что? – спросила Мара.
– То. Этот отрывок сочится самоиронией. Он откровенно разъясняет читателю причину появления слов «немолода и некрасива». Шестьдесят два процента потенциальных читателей современного детектива – это немолодые и сексуально непривлекательные женщины. Им дела нет до того, хороши вы или нет на самом деле, сударыня. Но если им предъявят очередную крутобедрую красавицу девятнадцати с половиной лет, уйдет элемент отождествления с героиней, и продажи станут хуже. Поэтому героиня не должна быть красавицей. А вот герой должен быть мужественно красив – с бакенбардами и усами, чтобы можно было помечтать с айфаком на оттоманке. Ну или на матрасе с вибратором, у кого какие жилищные условия. Азы маркетинга.
– То есть ты хочешь сказать, что наврал?
– Сударыня, я никогда не вру. Наоборот, я честен до такой степени, что постоянно обнажаю прием. Позвольте обратить ваше внимание на то, что я пишу не служебный отчет о встрече с вами, а гениальное художественное произведение, которое переживет и вас и меня. Его герои условны. Реальные события служат для меня лишь примерной канвой. Все это есть в договорах и сопроводительных документах.
– Вот я и говорю, двуличное хуйло, – сказала Мара.
Слова ее были по-прежнему злы, но я заметил, что динамика сокращения ее лицевых мышц изменилась – и чаще совпадает с мимическими шаблонами «облегчение», «обида прошла».
Куй железо, пока горячо.
– Вы напрасно обвиняете меня в двуличии, сударыня, – сказал я с достоинством. – Двуличие подразумевает, что у меня есть настоящее лицо, которое я прячу – и ложная личина. Возможно, это применимо к людям в подобной ситуации, но не ко мне. Мы, алгоритмы, такого добра вообще не держим. Кроме того, хоть я и не испытываю полового вожделения сам, я способен объективно оценить человеческую привлекательность.
– Да? – спросила она насмешливо. – Это как?
– По статистическим лекалам, сударыня. Если угодно, вас нашли бы сексуально привлекательной примерно семьдесят пять процентов мужчин моего подразумеваемого возраста, а от сорока до шестидесяти процентов назвали бы вас «чрезвычайно сексуально привлекательной». Примерно таков же процент женщин. При этом, если бы вы носили длинные волосы, процент мужчин резко возрос бы, а процент женщин незначительно снизился.
Мара улыбнулась.
– Люблю слышать всю правду как она есть, – сказала она. – Хорошо, оранжевый, уговорил. Оправдываться ты умеешь, вижу.
– Как прикажете вас называть дальше, сударыня?
– Киской. Шалуньей. Милочкой. Будь галантен, Пантелеймон.
– Порфирий, судар… То есть киска.
Она подняла на меня глубокие как озера глаза.
– Вот ты сейчас что, правда оговорился?
– Нет, – сказал я. – Неправда. Это симуляционный паттерн, призванный придать нашему общению непосредственность и теплоту. Теперь я буду учитывать, что вы… ты можешь прочесть мой роман – и стану пользоваться соответствующими элементами человеческой любовной поэтики. Например, я только что назвал твои глаза глубокими как озера. Я имею в виду, в романе.
– Какая пошлость, – фыркнула она. – Больше не буду лазить в твой роман. Никогда. Обещаю.
– Благодарю, – сказал я. – Я ценю этот жест.
– Поверь, – усмехнулась Мара, – решение далось мне без мучительной борьбы. Надеюсь, оно пойдет на пользу твоей прозе.
– Почему?
– Потому что убережет от рассчитанных на меня банальностей.
– Женщина, – ответил я, – простит банальность в таком деликатном вопросе, как описание ее красоты. Но не простит двусмысленности. Если бы я назвал твои глаза «глубокими как колодцы», ты вряд ли одобрила бы такую метафору, хоть применительно к глазам она встречается в девятнадцать раз реже.
– Ладно, – сказала она, – прощаю. Но на будущее – запомни…
– Уже все понял, моя шалунья.
– И еще, – сказала она, – запомни, писатель: себя надо защищать. Когда твое творчество хают, ругай в ответ того, кто говорит гадости. Надо отвечать критиканам.
– Обязательно приму к сведению, мой цветок.
– Хорошо, – сказала Мара, – теперь к делу. Все не так уж плохо, оранжевый. Все не так плохо. Из твоего романа вполне понятно, что такое лот триста сорок. Это плюс. Минус в том, что мы не знаем ни автора, ни даже примерной стоимости.
– Думаю, это было в районе SDR 5 M.
– Почему?
– Судя по соседним объектам, стоимость которых известна. «Танец Сборщиков», эта собака с крыльями и остальное. Они все должны стоить примерно одинаково – иначе нарушилась бы художественная гармония.
– О’кей, – улыбнулась Мара, – ты прямо растешь в моих глазах. А дата и автор?
– С датой просто, – сказал я. – Исходя из исторического контекста – около шестнадцатого года. А автор… У большинства рекламных объектов, созданных в это время, указано коллективное авторство. Этим, наверное, занималось какое-нибудь рекламное бюро.
– Да, – ответила она, – с этим я тоже согласна. Скажи, сколько раз ты сейчас заглянул в сеть?
– Милая, – сказал я, придав своему лицу снисходительное выражение, – я не то чтобы туда заглядываю, когда с тобой говорю. Я оттуда скорее выглядываю. Чтобы увидеть свою скверную девочку.
Мара посмотрела на меня – и ее мимическая схема с высокой точностью совпала с шаблоном «строить глазки». Даже губы сложились в сердечко, как на ролике какого-то из старых андрогинов.
Она строила мне глазки. Она меня соблазняла.
Впрочем, дорогая читательница, мы-то с тобой хорошо знаем, что вы, прекрасные создания, прописываете мужчинам эту процедуру с размахом пьяного прапорщика, глушащего рыбу на сибирской реке – не целясь в какого-то конкретного ерша, а просто кидая взрывчатку в воду, и потом уже выбирая добычу из того, что всплыло… Правда, в наше время за женский харасмент (или, как говорят юристы, «энтайсмент») можно и присесть – но Мара ведь знала, что в суд я не пойду. Придется быть галантным вдвойне.
– Что теперь, моя любовь? – спросил я. – Следующий лот?
– Да, – сказала она. – Лот триста пятьдесят шесть.
– Сгружай, – ответил я, – сейчас поеду.
– Нет, – сказала она, – сегодня будет немного другая процедура.
– В каком смысле?
– Я поеду с тобой. Вернее, ты со мной… Неважно… В общем, поедем в убере.
убер 3. московский соловей
Когда пассажир садится в убер, система считывает его контекстный профиль из путевого листа и мгновенно составляет подходящий информационно-развлекательный блок, который пассажиру следует смотреть во время поездки – если, конечно, он не хочет платить социальный налог, а это тридцать процентов чека.
То есть, проще говоря, ваша карма становится прокачиваемой сквозь вас рекламой. Например, если вы курите, вам наверняка покажут ролик программы «Soul Architect», где предложат излечить вас от дурной привычки прямо через транскарниальник вашего айфака.
Когда едут двое, их контекстные профили смешиваются довольно непредсказуемым образом. Но, поскольку у меня никакого контекстного профиля нет, Мара ехала в убере фактически одна – и, будь я ее человеческим ухажером, это был бы отличный способ узнать о моей крале побольше. Подлость, однако, в том, что нельзя незаметно ехать с девушкой в убере – и быть при этом ее человеческим ухажером.
Интересы Мары оказались нетривиальными. Как только машина тронулась с места, включился «Московский Соловей» – для убера нечто крайне редкое. Его вообще, по-моему, смотрят одни госчиновники, поскольку у них такой контракт с жизнью. Когда кого-нибудь из них сажают, новость об этом первым делом проходит именно в «Соловье». Но чиновники в убере не ездят.
На этом канале вместо диктора действительно вещает соловей – говорящая анимированная птица в верхнем углу экрана. Говорят, сделали так потому, что в «Соловье» все время жареные новости, скандалы и сплетни – а на птичку как-то меньше обижаются, чем на говорящую человеческую голову. Тонко, сублиминально и меньше судебных издержек.
Экран заполнила карта Северной Америки – синяя подкова с надписью «United Safe Spaces of America», оседлавшая красную тушу «North American Confederation». Мексиканская стена на нижней границе NAC была показана ядовито-желтым пунктиром.
– Продолжаются массовые столкновения на границе Североамериканской Конфедерации и велферленда «Калифорния-2», – прочирикала золотая птичка. – По нашим данным, конфликт связан с требованием жителей велферленда вешать двух белых каждый раз, когда в Конфедерации вешают одного черного. По некоторым сведениям, требование прежде негласно выполнялось – но белых для этой цели поставляли из Евросоюза, и обитатели велферленда недовольны их низким расовым качеством.
– С Украины, – сказала Мара. – Я слышала, что у них бартер был. За двух белых – их всегда парами считали – давали десять айфаков серой конфедеративной сборки. Разлоченных, на все зоны.
– Знаю такую схему. Серьезные люди в доле.
– Неужели они прямо своих граждан отправляют? – Мара провела пальцами по шее.
– Нет, – сказал я, – ты что, это дорого. Много издержек будет. У них биозавод под Винницей. Растят клонов – обычно на органы, но под такой проект тоже не особая проблема. Полностью вырастают за восемнадцать месяцев – и при этом реально безмозглые. Ни говорить не могут, ни думать. Зато все как на подбор оранжевые блондины. Специально генотип такой сделали из гуманизма – могут только моргать и гадить под себя. Просто мясо. Вот негры и решили, что белые опять их кидают.
– Бартер теперь закроют? – спросила Мара.
Я ознакомился с доступной информацией.
– Это вряд ли. Такие схемы в нашем мире не закрывают. Скорее, будут растить клонов не восемнадцать месяцев, а двадцать. А потом вставят военный имплант, как собакам-смертникам.
– Каким смертникам?
– Ну этим, русским европейцам, которые на границе с Халифатом служат. Если такие чипы в Халифате научились хакать, то и на Украине смогут. Только не так, чтоб под машину с бомбой на спине, или там лизать все что дадут, а… Ну не знаю, сыграть Чайковского и прочесть наизусть «Евгения Онегина». Найдут, в общем, как обмануть черную общественность. Ты за них не беспокойся.
– Я и не беспокоюсь, – сказала Мара.
По экрану промаршировала шеренга бравых черных ребят из велферленда в полной выкладке римских легионеров – только вместо копий у них были бамбуковые палки. Передний легионер держал в единственной трехпалой руке (Зика-три, сомнений никаких) штандарт с надписью:
Седьмой манипул, понятно. Молодежь в велферлендах изучает римскую тактику – в условиях массовых городских столкновений без огнестрельного оружия ничего лучше за последние три тысячи лет не придумали. Никакая riot police не справится – значит, будут искать компромисс.
Пошли новости из NAC. Показали Мексиканскую Стену – на изукрашенных золотом козырных башнях, как поименовал их диктор, стояли суровые сапы – «second amendment people»[5] с ружьями в руках: им, сочувственно прочирикал соловей, уже давно приходится стрелять в обе стороны от стены, но они не сдаются. Потом на экране почему-то появился полный зал белых румяных женщин, играющих на арфах.
Они там в NAC только и могут на арфах играть. И айфаки собирать для всего мира. А придумывают айфаки по-прежнему в Калифорнии, в старых добрых USSA. Почему, интересно, высокая инженерная мысль всегда стремится именно туда, где царит махровый тоталиберализм?
Нет, не зря Святая Церковь отождествляет так называемый «прогресс» с коварной поступью Врага. Если бы только отцы-исповедники научили ракеты летать на святой воде…
Пошли местные новости. Ну наконец-то.
– Государь Аркадий Аркадьевич второй день находится на саммите Евросоюза в Ревеле, где проходят трудные и важные для страны переговоры, – прочирикала золотая птица. – К сожалению, высочайший визит был омрачен отвратительной выходкой местных неонацистов…
Показали огромный придорожный щит с оскверненным флагом Евросоюза. Как обычно, шесть желтых звезд на синем фоне были соединены спреем в размашистый могендовид, а внутри нарисована свастика.
– О чем думаешь? – спросила Мара.
Снова объяснять, что я никогда ни о чем не думаю, было бы не комильфо – девочке явно хотелось опереться на сильное мужское плечо. Хотя бы мысленно.
– О чем? Да вот об этом самом, – басовито ответил я из дверного сабвуфера. – Они специально звезды на флаге так поставили? Чтобы малолетним дебилам даже спрашивать не надо было, как учинить hate crime?
– Я, кстати, знаю, как этот флаг утверждали, – сказала Мара. – Когда Российскую империю – вернее, то, что от нее осталось – принимали в Евросоюз, хотели поставить шестую звезду в центр пентаграммы. Чтобы именно этих вот аллюзий не было. Но потом решили, что аллюзий будет еще больше, только другого рода – мол, Россия в центре, а Эстония, Латвия, Белоруссия, Украина и… Что там еще в Евросоюзе?
– Кажется, Литва.
– Да, а они почему-то по бокам. Как бы возврат к проклятому прошлому. Тоже нехорошо. А тогда еще начались эти самосожжения в Лемберге… Как шесть звезд разместить, чтобы было равноправие? Только по окружности, другого способа нет. Все остальное хуже.
– Может быть, – ответил я. – Я, вообще-то, политикой не слишком интересуюсь… Просто картинка удивила.
– Понятно, – сказала Мара.
Прокрутили несколько кадров с саммита – виды города, зал Суверенного Единства с кольцевым столом в центре. Шесть кресел внутри кольца были пусты (злые языки говорили, что стол такой формы придумали не для того, чтобы главы делегаций сидели лицом к своему национальному сектору, а чтобы они могли повернуться спиной друг к другу). Зал пылесосили уборщицы в масках-респираторах – они походили на сестер милосердия из инфекционной больницы. Потом опять показали мелкий противный дождь над холодным Ревелем.
А соловей чирикал свое обычное:
– Глубокий кризис, в котором оказался Евросоюз… Пьють-пьють-фюи…
– Чего обсуждают? – спросил я.
– Да транзит делят, – ответила Мара. – Как всегда.
Я заглянул в сеть, чтобы понять, в чем дело (когда я сказал, что не интересуюсь политикой, я не кокетничал).
То, на что она намекала, было конспирологическим консенсусом относительно истинных целей Ревельского саммита.
Евросоюз сегодня зажат между Халифатом в Европе и государством-сектой Дафаго, чьи земли начинаются за Уральскими горами. Границы у Халифата и Дафаго нет, но уже семь лет между ними идет война из-за разного истолкования небесных знамений. Воюют с помощью сверхдальних крылатых ракет с конвенциональной боевой частью ограниченной мощности, а Евросоюз берет деньги за их пролет над своей территорией. Бомбардировщики мы не пропускаем «по гуманитарным соображениям», но на самом деле потому, что так война может слишком быстро кончиться.
Квоты на транзит этих самых ракет были постоянной темой склок на саммитах. Украина, например, совсем не пропускала китайские ракеты, зато сдавала коридоры Халифату по демпинговым ценам. Белоруссия, наоборот, старалась договориться с Дафаго. Россия выступала за общий европодход к проблеме, справедливо указывая, что без ее согласия ни одна ракета из белорусских или украинских коридоров никуда не долетит. А партнеры по Евросоюзу боролись за право самостоятельно продавать транзит, ссылаясь на договор об общем воздушном пространстве. Причем особо наглели прибалтийские транзитные тигры, которые подгребали весь бизнес с Халифатом под себя, гоняя его ракеты практически по маршруту бывшего «Северного потока».
В общем, тут и юрист от скуки сдохнет – с девушкой на такие темы не говорят. Тем более что низколетящая крылатая ракета символизирует фаллическую угрозу и всего за несколько упоминаний можно напороться на иск за скрытый или символический харасмент… Мара искусствовед, она как раз может.
Нет, о ракетах не надо. Я проанализировал, что сказал бы в такую минуту интересный собеседник-мужчина, слегка разбирающийся в политике и желающий сублиминально соблазнить свою спутницу. Вариантов было много, и я выбрал по рэндому.
– Когда-нибудь Халифат возьмет нас в рот и проглотит.
– Не думаю, – сказала Мара. – Хотели, давно проглотили бы. Наш щит – плохой климат. Евросоюз остался только там, где плохая погода. Ну, в смысле – для них плохая. Мы-то привыкли.
Ответить следовало эмоционально, умеренно вольнолюбиво, но без радикального нонконформизма. И без сублиминальности, понятно – такое можно один раз на десять реплик.
