Рыцарь нашего времени
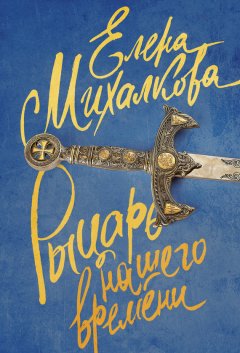
© Михалкова Е., 2014
© ООО «Издательство АСТ», 2014
Глава 1
Нестандартный клиент – так сказал Макар. Но объяснять, в чем именно заключается нестандартность, не пожелал, ограничившись коротким «сам увидишь». И, как обычно, оказался прав, хотя Сергей с недоверием отнесся к его диагнозу, поставленному после короткого телефонного разговора.
Гость наклонил голову, прищурился, и Сергей подумал, что тому не хватает секиры и шлема. «Получился бы гном, настоящий рыжий гном. Один взмах секирой – одна голова долой». Силотский взглянул на него, и Бабкин отогнал дурацкие мысли: нужно работать, а не фантазировать.
На самом деле Дмитрий Арсеньевич походил не на гнома, а на русского богатыря, поскольку был высок и статен. Вместо полагавшейся кольчуги на нем была короткая кожаная куртка-косуха, которую он не снял, даже войдя в квартиру, и кожаные же штаны – старые, с благородными потертостями на коленях. Шлем Ланселот положил на стол, и тот отсвечивал красноватым светом, когда из-за весенних темных туч проглядывало солнце и лучи падали на блестящую поверхность.
Крепко сбитый, широкоплечий, с рыжими волосами, бородой и курчавыми бакенбардами, обрамлявшими его широкое загорелое лицо так, что, казалось, оно выглядывает из рамки, Дмитрий Арсеньевич с порога сообщил, что его можно называть Ланселотом, потому что с пятого класса его по-другому не зовут. Он вообще быстро перехватил инициативу, без подсказок разобрался, кто из двоих Сергей Бабкин, а кто Макар Илюшин, выбрал себе не стул, на который обычно сажали клиентов и который Макар именовал инквизиторским, а удобное кресло, не поленившись передвинуть его от окна к столу. «Непринужденный товарищ», – подумал Бабкин, рассматривая гостя. Пока он еще был гость – не клиент, и неизвестно, перейдет ли во вторую категорию. В этом вопросе все зависело от Илюшина, который внимательно слушал Силотского, время от времени покашливая и морщась – на апрельском ветру он простудил горло, к врачам идти категорически отказался и лечился какими-то пастилками – без малейшего успеха.
Они уже знали, что сидящий перед ними веселый рыжий бородач, прикативший на мотоцикле, – глава компании «Броня».
– Двери я выпускаю, бронированные двери, – говорил Дмитрий, наклонившись к Макару и рисуя для убедительности указательным пальцем прямоугольник в воздухе. – Хорошие, скажу честно. И ставлю разнообразные охранные сигнализации, от незамысловатых до самых сложных. За пять лет с нуля фирму поднял, теперь думаю, что дальше делать. Надоедает на одном месте сидеть, одним делом заниматься. Кем я только не был!
Ланселот начал загибать пальцы, поросшие красноватыми волосками.
– Начал я с того, что в театре «кушать подано» говорил. Хотел актером стать, да быстро раздумал.
– Что вы заканчивали? – поинтересовался Макар.
– Театральное училище в Нижнем. Пока учился, освоил фортепьяно, гитару, тромбон… В общем, на чем угодно могу помаленьку играть. Говорят, неплохо получается. В театре повертелся, принюхался и решил бросать это дело, пока не затянуло. Устроился лабухом в ресторанчике. Ох, и лихо мы тогда играли! – Силотский довольно усмехнулся в бороду. – Деньги начали зарабатывать, а на самом пике я снова не выдержал – бросил группу, устроился – вы не поверите! – грузчиком. Ей-богу, не вру! Захотелось себя попробовать, силу свою, что ли… Ну да идиотское это занятие я бросил через неделю, подался на юга с археологической экспедицией. Им как раз люди нужны были. Интересно до чертиков! А затем вернулся – и официантом в ресторан.
– Эх, как вас пошвыряло, – не удержался Сергей.
– Нет, это не меня швыряло, – покачал головой человек, называвший себя Ланселотом. – Это я сам себя швырял. Я, знаете, с юности чувствовал, что не могу долго на одном месте находиться, душно мне становится, тяжело. Как будто трясина засасывает, стоит осесть где-нибудь. Потихоньку научился всякие подсказки из воздуха ловить. И ведь ни разу они меня не обманули!
– Какие подсказки из воздуха?
Гость задумался, но ненадолго, и поднял на Макара веселые голубые глаза.
– Раз про официанта речь зашла, скажу вот что: трудился я в «Нимфе», это был ресторанчик полубандитского пошиба с соответствующей клиентурой. Если и захаживали туда люди приличные, то исключительно по незнанию, и второй раз возвращаться не торопились. Хотя кухня была отменная, да и нас, официантов, вышколили так, что все по струнке перед клиентами ходили. Сколько я там типажей насмотрелся, каких разговоров наслушался – об этом можно отдельную книгу написать. Может, когда и напишу. Так вот, работал я там, и на чаевых неплохо жил. Откладывал помаленьку – была у меня одна задумка… Ну да сейчас не о том. Я для себя так решил: еще полгода продержусь – и буду что-то новое подыскивать. А в тот вечер несу заказ – как сейчас помню, котлету по-боярски заказали, – и возле одного столика нога у меня – раз! – и едет по полу. Там, оказывается, кто-то случайно плеснул воды, а убрать не успели. Чувствую, сейчас упаду на клиента, и котлетка моя будет у него за шиворотом.
– Упали?
– Удержался! – с гордостью ответил бородач. – И тарелку удержал, как циркач, ей-богу. Так ловко сманеврировал – клиент на меня и внимания не обратил. Я возле него задержался и слышу, он говорит приятелю: хватит баловаться, иначе у нас с тобой могут быть кривые проблемы. Слово-то какое подобрал неподходящее, царапающее – «кривые»! И, знаете, мне показалось, будто он мне это говорит. Даже не по себе стало. Обслуживаю я другие столики и чувствую – колотит меня, руки трясутся. Паршиво-препаршиво, и в голове крутится: «иначе у нас с тобой могут быть кривые проблемы». И так на меня это подействовало, что я не выдержал: остановился возле одного клиента, который собирался стопочку перед салатом опрокинуть, вынул у него рюмку из рук и выпил сам. До того мне паршиво стало.
– Вас должны были расстрелять на месте, – рассмеялся Макар.
– Это точно! Метрдотель потом кричал: «Ты что же, сволочь, до кухни не мог подождать?! Я б тебе там лично налил, раз невтерпеж!» А что я ему объяснил бы? Что у меня в животе словно гирю свинцовую уронили после того, как я слова того мужика услышал? В общем, расстрелять не расстреляли, но вышибли, конечно, пинком под зад.
– Полагаю, вы не очень огорчились? – полюбопытствовал Илюшин, приглядываясь к возможному клиенту. – У меня как-то не вяжется ваш облик с образом официанта. Отчего вдруг вы решили поработать в ресторане? Из интереса, изучать типажи посетителей?
– Так и у меня не вязался! – хохотнул Силотский. – Нет, не для интересу, признаюсь. Это я себя испытывал – смогу через такое испытание пройти или нет. Испытание – потому что мне, признаться, не по вкусу других обслуживать, а в те годы я и вовсе считал это унижением. С возрастом-то поумнел, конечно… А тогда мне пришлось себя заставлять, и я даже некоторое удовольствие стал находить в том, чтобы угождать другим. Что-то вроде игры с самим собой, знаете… Но закончилась моя игра после той выходки с водкой!
– И что же было потом, после того как вас уволили? – спросил Бабкин, с интересом слушавший рассказ.
– А потом вот что, – посерьезнел Силотский. – На следующий вечер, как раз когда моя смена была, остановились три джипа возле «Нимфы». Вышли из них люди с автоматами, зашли в ресторан и постреляли.
– В воздух, попугать, или…?
– Кто в воздух, а кто «или». Восемь трупов вынесли потом из «Нимфы», из них четверо официантов. Вот так-то! Хозяин ресторана кому-то не угодил, я уж в этом не разбирался. С тех пор я к таким подсказочкам ой как серьезно отношусь! Они, можно сказать, всю мою жизнь направляют.
– Вы поэтому обратились к нам? – проницательно спросил Макар.
Силотский бросил на него быстрый взгляд и кивнул.
– Да. Меня многие считают странным – вроде как несолидно бизнесмену косить под байкера и увлекаться фантастикой. – Он улыбнулся во весь рот, пожал плечами. – Ну что ж поделать, вот такой я человек. Мои сотрудники про меня думают, что я слегка чокнутый, а я на них смотрю и не понимаю: как можно такой скучной жизнью жить? Каждый день десять лет подряд одно и то же – ну и кто после этого чокнутый, я или они?
– А почему они так считают? – не понял Сергей. – Из-за мотоцикла? Из-за того, что профессии часто меняли?
– Да нет, – поморщился Силотский. – Объясню: я с детства люблю читать. Раньше все подряд глотал, а лет восемь назад подсел, как сейчас принято выражаться, на фэнтези и фантастику. И в один прекрасный момент вдруг понял: это ж все правда!
– Что – правда? – осторожно уточнил Бабкин.
– Да все, что в книгах описано. В хороших, само собой. Ничего там авторы не выдумывают, а списывают, как говорится, с натуры.
В комнате повисло молчание. Силотский безмятежно смотрел то на одного сыщика, то на другого, ожидая их реакции. Сергей подумал было, что их клиент действительно нестандартен в том смысле, насколько нестандартны могут быть шизофреники, но в следующую секунду признал, что Дмитрий Арсеньевич на сумасшедшего ничуть не похож.
– Вы хотите сказать, что существует мир Дозоров, который описывает Лукьяненко? – совершенно серьезно спросил Макар. – И существует не потому, что его описал хороший фантаст, а изначально, сам по себе?
– Именно! И Тайный Город Вадима Панова – тоже! – обрадованно подхватил Силотский, довольный тем, что его так быстро поняли. – Вот что хотите со мной делайте, а я знаю наверняка: есть он, есть. Некоторым людям дано видеть кое-что… особенное. Если среди таких людей попадается писатель, он начинает описывать то, что увидел или почувствовал. Так и получается фэнтези. Вы же не будете отрицать, что мир Среднеземья существует? Конечно же, Толкиен его не выдумал, а срисовал практически с натуры, но с натуры, видимой лишь ему одному!
«Толкиенутый, – поставил Бабкин свой собственный диагноз. – В свободное от бронированных дверей время бегает по лесам и отлавливает эльфов. Ролевик».
– Вот только не нужно причислять меня к ролевикам, – немедленно попросил рыжебородый, словно прочитав его мысли. – Эти суррогаты мне не интересны. Мне достаточно чистого знания о том, что рядом с нами существуют параллельные миры, и этих миров неисчислимое множество.
– У вас есть какие-то доказательства, кроме голоса интуиции? – заинтересовался Илюшин.
– Как вы думаете, почему Вадим Панов недавно сменил квартиру? – в ответ огорошил его Силотский. – Отличную просторную квартиру в хорошем районе… Почему, а? Да потому, что рассказал то, что не стоило рассказывать. Навы не любят, когда рассекречивают их адреса, а Панов в своих книгах не удержался и был откровенен, слишком откровенен.
– Вы хотите сказать, – медленно спросил Бабкин, – что писателя Вадима Панова преследуют те, кого он описывает? Дмитрий Арсеньевич, вы серьезно?
– А вы знаете, что его машина увешана артефактами? – усмехнулся тот. – Настоящими артефактами, дающими защиту в том числе и от проникновения. Почему, вы думаете, никто не смог ее угнать? Хотя пытались, я знаю точно, пытались неоднократно! Нет, Панов знает, о чем пишет.
Бабкин пригляделся к Силотскому внимательнее, надеясь уловить в его глазах нездоровый блеск или хотя бы намек на одержимость, но перед ним сидел спокойный улыбающийся человек, производивший впечатление вполне здравомыслящего.
– Так, – помолчав, сказал Макар. – Давайте вернемся к причине, по которой вы обратились к нам.
– Жамэ вю. Это – первая причина.
– Что? – не понял Сергей.
Он взглянул на напарника, но тот понимающе кивнул.
– Вы не думаете, что с этим стоит обращаться к психологам, а не в частный розыск? – спросил Илюшин.
– Уверен. – Силотский потеребил бороду, хотел добавить что-то еще, но сдержался. – Вам кажется, что я не в себе? Может быть, это именно та причина, по которой я пришел к вам, а не к врачам. Я не уверен, что это – только у меня в голове.
– Прошу прощения, что такое «жамэвю»[1]? – не выдержал Бабкин.
– Противоположность «дежавю»[2], – объяснил Макар, откашлявшись. – Знакомые ситуации кажутся незнакомыми. Человек может тысячу раз ходить одной дорогой, а на сто первый почувствовать, что он никогда не был в этом месте.
– Вот-вот, вы все правильно объяснили, – обрадовался Дмитрий Арсеньевич. – Это именно то, что происходит со мной. У меня ощущение, что я ставлю мотоцикл на стоянку, но дорога до подъезда – не та, которой я проходил позавчера. Подъезд – не мой, незнакомый. Вроде все то же самое, но я чувствую, что стою в другом месте, где не был раньше.
– Давно у вас это началось?
– Не очень… должно быть, с месяц назад. Я в последнее время размышлял над тем, чтобы продать фирму, – она стала слишком благополучной, катится ровненько по рельсам, которые я для нее проложил, и больше ничего не требует. А мне это скучно. Честно говоря, я ждал, как обычно, чего-то вроде подсказки из тех, о которых я вам рассказывал, но подсказки не было, и я решил, что оно и к лучшему: в конце концов, мне тридцать пять лет, и, возможно, уже стоит остепениться. И тут начались эти фокусы с «жамэ вю».
– А мы-то чем можем вам помочь? – не выдержал Бабкин.
– Вы – независимые люди, – не задумываясь, ответил Силотский. – Не пойдете у меня на поводу, потому что я ваш босс. Не будете мне противоречить, как моя жена или друзья, из одного только принципа.
– Мы не можем подтвердить или опровергнуть то, что у вас в голове.
– Вы можете дать объективную оценку: вот на этой улице, товарищ Ланселот, все в полном порядке. Тогда я решу, что у меня и в самом деле началось расстройство, и пойду ко врачу. Но до этого я хочу проверить все-все! К тому же есть еще кое-что, и это – вторая причина, почему я обратился к вам.
– Что? – насторожился Илюшин.
– Мой заместитель пропал два дня назад. Бесследно исчез. Если меня правильно информировали, вы беретесь за розыск пропавших людей, не так ли?
Сергей Бабкин шел осторожно, сторонясь редких машин, из-под колес которых летела жирная грязь – дорога на этом участке была вся в рытвинах.
– Самому не нравится здесь ходить, – подал голос Силотский, бодро шагавший позади него. – А что делать? Район новый, переехали сюда с женой недавно. Вот и топаю каждый день от стоянки до подъезда, путь срезаю.
Бабкин злился про себя на роль, навязанную ему Макаром, – Илюшин настоял на том, чтобы напарник прошел до дома с потенциальным клиентом и обратил внимание на все необычное, что попадется по пути. Зачем – не объяснил, и Сергей, старательно осматривая окрестности, теперь чувствовал себя глупо.
Кирпичные новостройки – неплохой район, но совершенно безликий, как и десятки ему подобных. Желтый кубик детского сада, вокруг которого толпятся, нависая, дома. Скромные палисадники, где среди начинающей зеленеть травы торчат невысокие кустики с красноватыми ветками и тонкие саженцы березок и рябин. Рекламный щит с девушкой, улыбающейся отбеленной улыбкой. Магазинчик под вывеской «Мини-маркет», а рядом с ним химчистка. Все стандартно, все как обычно, и ничего не привлекает внимания, кроме бездомной дворняги, лежащей на асфальте, разрисованном мелками неумелой детской рукой.
– Каждый день вижу эту собаку – ее подкармливают жильцы и дворник, – глухо сказал сзади Дмитрий Арсеньевич. – И всю последнюю неделю мне кажется, что они кормят другого пса, а не того, первого. Я понимаю, что этого не может быть, но ничего не могу с собой поделать. Он отзывается на кличку… и выглядит так же…
Бабкин бросил изучающий взгляд на пса, но промолчал.
– Может быть, один из тех соседних миров, о которых я вам говорил, приоткрывается и мне? – задумчиво бормотал Силотский в рыжую бороду. – Черт возьми, неужели это и в самом деле та подсказка, которой мне так не хватало? И зря я впутываю вас в это дело…
«Зря, конечно, – подумал Сергей, но благоразумно промолчал. – Тебе бы врача впутывать, а не частных сыщиков».
– Но Вовка… Вовка-то пропал! – продолжал Дмитрий Арсеньевич. – Что прикажете с этим делать?
– Думаете, ушел в параллельный мир? – не сдержался Бабкин.
Бородач в ответ хохотнул, ничуть не обидевшись, покачал головой.
– Вовка не из таких. Такой в параллельный мир не уйдет, даже если перед ним открыть дверь. Он, как и мой хороший друг Дениска Крапивин, – человек без фантазии. Ни капли воображения нет! Пытался я ему что-то объяснить, показать – бесполезно. Но мужик он отличный, просто замечательный.
Сергей остановился, посмотрел на Силотского. Приняв его взгляд за одобрение, тот начал, жестикулируя, рассказывать о своем заместителе и дошел до какой-то забавной истории, приключившейся с ними перед последними праздниками, но тут пес возле подъезда встал, потянулся, далеко вытянув передние лапы, и потрусил к соседнему подъезду. Проследив за ним взглядом, Ланселот оборвал свой рассказ, и улыбка исчезла с его лица.
– Не мог Володька просто так исчезнуть, – сказал он, прямодушно глядя на Бабкина яркими голубыми глазами. – Ей-богу, не мог! Он человек хороший, порядочный, хоть и бука известная. Что-то с ним случилось… Макар Андреевич – дельный специалист, правда ведь?
– Очень, – искренне ответил Сергей, внутренне ухмыльнувшись «дельному специалисту». – Дмитрий Арсеньевич, где ваш подъезд?
– Да вот он, мы почти пришли. – Силотский показал на выкрашенную в ярко-зеленый цвет дверь.
– И у вас по-прежнему есть это ощущение… жамэвю?
– Нет, сейчас исчезло. Возможно, это оттого, что мы с вами разговаривали.
– Возможно. Ну что же, давайте посмотрим на вашу квартиру.
Набирая код на двери, бородач на секунду задумался и неожиданно беспомощно взглянул на Сергея.
– Забыли? – спросил тот.
– Нет-нет, я вспомню! Просто…
Он наугад ткнул в две кнопки, и домофон отозвался сердитым писком. Ланселот выругался.
– Код сменили два дня назад, как по заказу!
– Вы говорили, у вас дома жена?
– Да не хочу я ей звонить, – Силотский поморщился. – И так чувствую, что дураком перед вами выгляжу. Рассуждаю о параллельных мирах, а сам не могу код на двери запомнить.
Он набрал наконец нужный номер и открыл дверь.
– Нет, – покачал головой Сергей, одновременно и сочувствуя и недоумевая, – не выглядите.
Он вошел в подъезд, поздоровался с консьержкой и огляделся. На существование параллельного мира, откуда звали неясными намеками господина Силотского, ничто не указывало. Разве что необычайная чистота – так и это не было удивительным, учитывая хозяйственную старушку-консьержку, в комнатке которой зеленели и цвели растения в горшках.
Сергей вопросительно взглянул на своего спутника, тот пожал плечами. «Ничего. Ну, раз ничего, идем дальше».
Грузовой лифт, открывшийся, как только они подошли, словно ждал их, выпустил двух хихикающих девчонок лет тринадцати и, глуховато и ровно урча, повез Сергея с Ланселотом наверх. Лифт, по мнению Сергея, тоже ничем не отличался от таких же грузовых лифтов в похожих домах, разве что на его стенах еще не успели появиться незатейливые надписи.
– Вы не замечаете ничего странного? – спросил у него Силотский, когда они вышли из лифта и оказались перед дверью с номером сто один.
– Пока нет.
Тот кивнул, будто и не ожидал другого ответа, и три раза коротко позвонил. Стукнул засов, дверь открылась, и невысокая женщина с тюрбаном на голове, накрученным из желтого махрового полотенца, замерла, уставившись на Бабкина.
– Дорогая, не беспокойся, – увидев жену, Силотский заговорил с другими интонациями, в голосе появилась кошачья бархатистость. – Это один из сыщиков – помнишь, я тебе рассказывал?
– Помню, – сказала его жена, не сводя с Сергея зеленых глаз. – Здравствуйте.
– Добрый день, – выдавил Бабкин, думая, что погорячился, сказав Ланселоту, что не видит ничего странного.
Перед ним стояла его бывшая жена, Ольга Репьева.
Сергей Бабкин женился, когда ему было двадцать четыре года, а Ольге – двадцать. Она была миловидной блондинкой с немного заячьими чертами лица: оттопыренная нижняя губа, чуть раскосые зеленоватые глаза и носик пуговкой. Любовь к кокетству, готовность рассмеяться над любой шуткой и живой характер делали ее привлекательной в глазах мужчин, а предусмотрительно выбранный строительный институт гарантированно обеспечивал ее поклонниками – мальчиков на курсе было в два раза больше, чем девочек.
Оля Репьева знала, что женское счастье – в правильном замужестве. С чисто женской расчетливостью она оценивала приятелей, отвергая тех, кто не подходил на роль потенциального жениха. Правилу «к каждому мужчине подходи так, будто собираешься выйти за него замуж» она следовала буквально: сито ее было мелким, и в Олиной группе не осталось ни одного мальчика, на которого не были бы, пусть и кратковременно, примерены черный костюм жениха и торжественный галстук.
Оля вовсе не была стяжательницей, рассчитывавшей удачным замужеством обеспечить себе безбедную жизнь. Ей рисовались счастливые картины: вот она, в клетчатом фартучке, варит суп; вот младенец пускает слюнки в розовой кроватке; вот муж с усредненным лицом американского киногероя возвращается домой и дарит ей букет лилий со словами «ты прекрасна, как они»… Муж должен был стоять стеной между ней, хрупкой светловолосой Олей Репьевой, и окружающим миром, быть защитником, опорой, папой и другом.
Мать Ольги развелась со своим мужем, когда девочке было четыре года, но благоразумно внушила дочери, что отец по-прежнему остается отцом, только жить он будет с другой семьей. С тех пор Оля виделась с ним редко, и визиты его были ей в тягость – незнакомый человек, от которого странно пахло, который кололся щетиной и приносил ей такие подарки, что она терялась: нужно было изображать радость, но как можно радоваться конструктору?! Когда ей исполнилось одиннадцать, отец с новой семьей переехал в другой город, и с тех пор существовал в Олиной жизни в виде открыток под Новый год и маминых воспоминаний о том, при каких обстоятельствах ими был куплен тот или иной предмет. Культа ушедшего из семьи отца в доме не было, но тень его присутствовала постоянно, и оказалось, как ни странно, что жить с этой тенью куда удобнее, чем с настоящим человеком, покупавшим непонятную ерунду вместо правильных девчоночьих подарков.
Оля исподволь приучалась к мысли, что женщина не может жить одна, не должна. Что вовремя не вышедшая замуж девушка – неудачница, и путь ей один – в старые девы. К большой радости ее матери, Олю этот путь не ждал.
К окончанию института ей было из чего выбирать, но девушка колебалась. На горизонте появился новый поклонник – крепкий накачанный мрачноватый парень, с которым она познакомилась, провожая подругу в районный отдел милиции. Она быстро раскусила, что мрачность служит ему панцирем. Но панцирь был незатвердевшим, и под ним обнаружились нежность, которую он плохо умел выражать словами, и доброта, которую он хорошо выражал поступками. Его снисходительно-покровительственное отношение ко всему тому, что было меньше его по размерам, не имело ничего общего с сентиментальностью. Скорее – с ответственностью, которая свойственна некоторым очень сильным людям, полагающим, что они в ответе за все, что творится вокруг них.
Бабкин очень нравился Оле. Правда, он был совсем не ее круга – оперативник!.. Но, здраво поразмыслив, девушка решила, что работа оперативника – это временно, и постепенно ее муж выбьется в люди. Она вовсе не была глупой и к своим двадцати годам примерно представляла, какой карьерный рост может ожидать ее будущего мужа: от начальника отдела до заместителя прокурора, а там, с ее амбициями и его способностями, он сможет стать и главным прокурором города! Значит, будет хорошо зарабатывать и обеспечит ей и их ребенку достойную жизнь. В конце концов, она не требует всего сразу – очевидно, что для карьеры и хороших заработков нужно время. Но Оля и не торопилась никуда, кроме как выйти замуж.
Сергей, которому его родители твердили, что ни одна девушка в здравом уме не свяжет с ним жизнь, пока он работает оперативником, был влюблен и счастлив. С девятнадцати лет – после того, как родители переехали из Москвы в Крым и увезли с собой его младшую сестру, – он чувствовал себя одиноким, хотя никому никогда не признался бы в этом, и заполнял свою жизнь работой, общением с коллегами и спортивным залом. Теперь у него появилась Оля – Оля, которая порхала вокруг него, как бабочка, строила совместные планы на ближайшие десять лет, и в этих планах были поездки на Горьковское водохранилище, палатки, песни у костра и налаженный быт: семья, которую ему всегда хотелось иметь и какой у него никогда не было.
Они расписались, и Сергей увез молодую жену на медовый месяц в Крым, к родителям. Со второго же дня они начали ссориться из-за ерунды, и Бабкин запоздало выяснил, что его жена придает невероятно большое значение ритуальным танцам его родителей вокруг нее, поминутно обижаясь на «неправильное» обращение, выискивая оскорбление в любом, даже самом невинном, замечании.
Вернулись они, вдребезги поссорившиеся, и следующие два месяца припоминали друг другу неудачную поездку. С этого и началась их семейная жизнь.
Сергей любил свою работу. Он был хорошим оперативником, честным, в меру терпимым к людям, привыкшим отдавать работе все свое время. Теща, Марина Викторовна, искренне недоумевала, почему бы зятю не заняться наконец нормальной деятельностью, раз он женился на ее Оленьке. Под нормальной подразумевалась та деятельность, которая позволила бы семье не перебиваться от зарплаты к зарплате, а жить так, как «люди живут».
По стечению обстоятельств все Ольгины подруги вышли замуж удачнее, чем она, с точки зрения Марины Викторовны. Одна была замужем за бизнесменом, летала за границу два раза в год и уже готовилась родить второго ребенка. Вторая – за врачом, трудившимся в частной клинике. Финансовое благополучие третьей обеспечивали тесть с тещей, заодно принимая все важные решения в ее жизни, но подругу это вполне устраивало.
И только Ольга с Сергеем жили «как нищие». Наибольший гнев у Марины Викторовны, а за ней и у Ольги, вызывало то, что сам Бабкин отказывался это замечать: его все устраивало, он был доволен тем, что занимается любимым делом и женат на любимой женщине.
Оля понемногу начала склонять Сергея к тому, что ему необходимо зарабатывать: философскими разговорами, конкретными примерами, намеками. От разговоров муж зевал, примеры его не убеждали, намеков он не понимал. Оля злилась, а Сергей недоумевал, пока в пылу очередной ссоры она не вывалила на него все свои планы и не убежала, вся в слезах.
Бабкина огорошило то, что он услышал от жены, – до сих пор ему казалось, что их жизнь нравится Ольге. Она приходила из своей конторы куда раньше его, варила супы, украсив себя бесполезным клетчатым фартучком, как и мечталось, и ждала уставшего после тяжелого рабочего дня мужа. А муж занимался тем, что он называл «делать дело», и вкладывал в это дело душу. Его ценило начальство и уважали коллеги, он чувствовал удовлетворение от работы, несмотря на все непривлекательные ее стороны, которые Бабкин прекрасно видел. Он был простым – куда проще жены, – но без простоватости, а значит, и без сопутствующей ей обычно хитрости, не имеющей отношения к уму.
Их первая серьезная ссора – намного сильнее размолвок в медовый месяц – случилась, когда Ольга, снова заведя разговор о доходах мужа и находясь в уверенности, что теперь он выслушает ее и задумается, обнаружила, что супруг не собирается отступать ни на йоту.
– Чего ты хочешь? – спросил Сергей прямо, когда ему надоело, что жена ходит по кругу, повторяя одни и те же избитые истины.
– Я хочу, чтобы мы жили как нормальные люди!
– Но мы и живем как нормальные люди!
И вот тут Оля не выдержала. Обведя рукой скудную обстановку их комнаты, спросила с металлом в голосе:
– Ты считаешь, что жить в таком убожестве – это жить как нормальные люди?! То, что мы на телевизор полгода копили, – это нормально?! То, что я дубленку хорошую не могу себе купить, – это нормально?! А?!
Светлые волосы надо лбом растрепались, губы изогнулись не капризно, а зло, и Оля стала похожа не на зайца, как ласково звал ее муж, а на птицу, у которой по недоразумению оказался короткий клюв вместо хищного, заостренного. Сергей, не готовый к такому преображению супруги, на минуту замолчал, пытаясь разобраться в ней и в себе.
– Ты – мой муж! – Ольга поторопилась закрепить успех, которого, как ей казалось, она наконец-то достигла своими бронебойными аргументами. – Ты мужчина, знаешь ли! И жить на ту зарплату, которую ты получаешь… это смешно и унизительно! В первую очередь для тебя самого! Ну… и для меня тоже.
– Не живи, – поразмыслив, сказал Сергей.
– Что?!
– Если жить на мою зарплату для тебя унизительно, начни зарабатывать сама. А со своим унижением я сам как-нибудь разберусь.
Он говорил спокойно, даже мягко, но за его спокойствием Оля почувствовала непреклонность.
– Как? – часто моргая, спросила она. – Ты хочешь… хочешь жить за мой счет?!
– Я хочу заниматься тем, к чему у меня есть способности. Может быть, я не выдающийся оперативник, но мне нравится моя работа. В ближайшие три года я собираюсь работать «на земле», хочешь ты этого или нет.
Несмотря на кажущуюся твердость, Сергей вовсе не был настолько уверен в себе, как казалось Ольге. Она расплакалась бы, если б узнала, как мало он услышал из того, что она пыталась до него донести многочисленными поучениями и рассказами: призыв немедленно изменить что-то в их жизни Бабкин воспринимал только как иллюстрацию к жизни чужой, и не более.
Однако Сергей оценил серьезность намерений жены и смутно ощутил, что их семейная жизнь окажется под угрозой, если он не начнет прислушиваться к Ольге. Жена скандалила, плакала, упрекала его, просила, взывала к его совести, и по всему выходило, что в их стремительно портящихся отношениях виноват именно Бабкин. Обдумав все основательно, он решил, что и в самом деле был эгоистом и руководствовался лишь своими интересами, в то время как Ольга радела об интересах семьи.
– Ты хочешь, чтобы я зарабатывал или чтобы я делал карьеру? – спросил он жену, когда накал ее обиды понемногу снизился.
Оля хотела это совместить, но понимала, что совместить поначалу не получится.
– Заработай хоть что-нибудь! – бросила она в сердцах.
Спустя две недели Бабкин уволился из своего отдела и перешел на работу в службу безопасности крупного банка.
Глава 2
Сергей быстро двигался по кухне Макара – кухня была маленькой, но светлой и очень уютной, – а Илюшин сидел на диванчике, поджав длинные ноги и сочувственно наблюдая за другом. Горло он обвязал серо-зеленым шарфом, травяной оттенок которого гармонировал с цветом его глаз; Бабкин бросил взгляд на шарф, края которого вольготно разлеглись по спинке дивана, но промолчал. Он достал из шкафа турку, открыл коробку с кофе, щелкнул по кнопке чайника, включил горелку.
– Не суетись ты, – успокаивающе сказал Илюшин, хотя Бабкин и не думал суетиться: движения его были быстрыми и точными.
Сергей плавно распахнул дверцу шкафа, наугад вытащил два пакетика, оказавшиеся именно теми, которые и были нужны, отсыпал по щепотке из каждого и сунул пакетики обратно.
– Сколько раз тебе говорил, – буркнул он, не оборачиваясь. – Специи так не хранят.
– Я специи вообще не храню, – напомнил Илюшин. – Это ты их хранишь в моей – заметь, моей! – кухне, потому что варишь с ними кофе. Зачем тебе мускатный орех? Если хочешь успокоиться, лучше выпей валерьянки.
– У тебя нет валерьянки. – Сергей налил в турку воды, поставил на огонь. – Водка – и та закончилась.
– Зато у меня есть хороший кофе!
– Который я тебе привез, прошу не забывать.
– Хорошо, хорошо, мой дотошный друг. Именно ты привез мне этот прекрасный кофе, который сейчас почему-то варишь на себя одного, хотя и я бы не отказался почаевничать. Кстати, как правильно выразиться, если собираешься пить кофе? Покофейничать?
– Покофействовать. Нет уж, кофе – детям и больным.
– Угу. Со временным помрачением рассудка. Серега, я никогда не был женат, и поэтому не могу оценить всю степень твоей озабоченности. Скажи мне, неужели встреча с бывшей супругой так подействовала на тебя, что ты стал похож на человека, укушенного гремучей змеей и вливающего в себя галлоны спирта, то есть кофе, чтобы избавиться от яда? Ты когда-то наступил ей на хвост и теперь боишься мести? С момента твоего возвращения прошло двадцать минут, а ты ни словом не обмолвился о деле. С порога вывалил на меня новость о встрече с любовью твоей юности и умчался на кухню врачевать душевные раны…
Бабкин, ссутулившись над конфоркой, выключил газ, перелил кофе из турки в чашку, и по квартире поплыл крепкий пряный аромат, в котором разборчивый нос угадал бы и душистый перец, и мускатный орех, и не любимую Макаром гвоздику.
– Нет никаких душевных ран. – Сергей отпил чуть-чуть кофе и прикрыл глаза, успокаиваясь. – Просто я выбит из колеи этой встречей. Но ты прав, давай сначала о деле.
– Ты заметил что-нибудь возле дома или в квартире?
– Нет. Совершенно ничего.
– Уверен? – Илюшин наклонился вперед, чуть нахмурившись.
– Уверен, Макар, уверен. Рыцарю Ланселоту нужно обратиться к психологу, как мы с тобой ему и советовали. Не знаю, что он хотел найти с нашей помощью, но я не увидел ничего особенного. Район как район, высотный дом, совсем мало людей. Детский сад недостроенный, собака… Макар, что я тебе рассказываю?! Можно выйти на любой станции где-нибудь подальше от центра, и ты увидишь то же самое.
Илюшин потянулся, казалось, с облегчением, но в глазах у него осталась озабоченность. Поначалу Сергей объяснил эту озабоченность беспокойством за него, Бабкина, но, подумав, признал, что такое объяснение никуда не годится. Макар мог сочувствовать напарнику, окунувшемуся на время в неприятные воспоминания, мог подсмеиваться над ним, но он ни на секунду не озаботился бы этим.
– Что не так? – спросил Бабкин, допивая кофе. – Что тебя смущает? Моя бывшая жена?
Тот отрицательно покачал головой, побарабанил тонкими пальцами по столу.
– Сам не знаю, – признался он наконец. – Понимаешь, самым простым и верным кажется списать выдумки нашего рыжего бизнесмена именно на его неуемную фантазию и забыть о его визите. Занести Ланселота в разряд сумасшедших. Но что-то мне мешает это сделать…
– Мысли о гонораре? – поддел его Бабкин.
– И это тоже, – невозмутимо кивнул Макар. – Правда, я не представляю, как мы будем отчитываться о выполнении задания… Поймаем хитрого барабашку и покажем клиенту? Или дух его бабушки из стеклянной банки, куда мы ее заточим, провозгласит о желании пообщаться с рыжебородым внучком?
– Давай откажемся, – попросил Бабкин, с дрожью вспомнив бывшую супругу с желтым полотенцем на голове – почему-то больше всего его удручало именно это несчастное полотенце. – Сам видишь, мужик не совсем в себе. Точнее, совсем не в себе. Кстати, когда он вез меня на своем «Судзуки», я видел какие-то шаманские связки на руле. Голову даю на отсечение, что он повесил пару артефактов вроде тех, которые описывает Панов. Где только, интересно, Ланселот их достал?
– Ну что ж… Тогда предлагаю потустороннее оставить господину Силотскому, – согласился Илюшин. – Пусть сам ловит барабашек и духов бабушек, защищается артефактами от «жамэ вю» и ищет двери в другие миры. Мы ему ничем помочь не можем.
– Дмитрий Арсеньевич, мы ничем не можем вам помочь, – деликатно, но непреклонно повторил по телефону Макар десятью минутами спустя. – Нет, не потому, что не верим вам, а потому, что мой помощник не нашел ничего, на чем мы могли бы строить свое расследование. Думаю, вы сами понимаете: в таком положении браться за дело было бы непорядочно с нашей стороны.
«Молодец Макар, – думал Бабкин, вслушиваясь в разговор. – „Мой помощник не нашел ничего, что подтверждало бы ваши слова“ – вот что он имеет в виду. А говорит совсем другое, чтобы не оскорбить тонких чувств клиента».
Он вспомнил, каким мягким, кошачьим голосом начал разговаривать Силотский, когда Ольга открыла ему дверь. «Интересно, она держит его в ежовых рукавицах? Рыжий не похож на человека, которого женщина сможет придавить каблуком». Перед глазами его встало лицо бывшей жены – ровное, ухоженное, которое он назвал бы красивым, не будь оно таким заурядным. Выражение ее лица было насмешливо-пренебрежительным, и Бабкину стало неприятно.
Тогда он представил Машу. Представил целиком, охватив ее мысленным взглядом всю сразу – тонкую, слегка загорелую, с вьющимися рыжевато-золотыми волосами, играющими на солнце медовыми оттенками. И как она поднимает на него серые глаза, а под глазами у нее от постоянного сидения перед компьютером проступает бледная синева, которая очень огорчает саму Машу и отчего-то трогает Бабкина. Ресницы у нее росли, как она говорила, «бестолковые», рыжеватые, длинные, но редкие, прямые, как палочки, и у Маши была привычка легко дотрагиваться до них пальцем, словно пересчитывая в опасении потерять нужную ресничку.
Когда она задумывалась, лицо ее неуловимо менялось и вдруг проявлялось в нем что-то, отчего оно становилось похожим на лики с полотен старых мастеров. Сергея почти пугало это превращение молодой и вполне современной женщины в незнакомку, которая смотрела куда-то, чуть улыбаясь не губами даже, а одними глазами, и чудилось, что место ей не в двухкомнатной квартирке в спальном районе Москвы, а на качелях среди цветущего сада с розами, раскидистыми дубами, буйными зарослями одичавшей смородины, во времени таком далеком и незнакомом, что даже представить страшно. Несмотря на эти странные ощущения, Бабкин замирал, боясь спугнуть и свое, и ее состояние, пытаясь угадать, о чем Маша думает, и в такие секунды она казалась ему чужой и очень уязвимой.
Он представил, как она улыбается, как щурит серые глаза, посмеивается над ним – время от времени спохватываясь, что может обидеть его, и тогда взглядывает чуть растерянно и виновато. Иногда Сергей не мог удержаться и секунд десять сохранял на своем лице серьезное выражение, словно и впрямь обиделся. Но дольше не выдерживал, ухмылка расползалась от краешков губ по всей физиономии, и Машка тут же улыбалась облегченно и радостно, ныряла пушистой золотистой головой ему под мышку, бодалась – была у нее привычка к детской возне, которая поначалу удивляла Бабкина, а потом стала нравиться.
«А ведь мог бы остаться… Испугаться гадалки или просто пожалеть Ольгу, и так бы и жил с ней, и Машку бы не встретил…»
Он раздраженно дернул головой. Глупость это все. Как должно было случиться, так и случилось.
Уверенность Бабкина держалась не на фатализме, а, скорее, на страхе перед тем несбывшимся будущим, которое сегодня взглянуло на него зелеными глазами из-под желтого тюрбана. Лицо бывшей жены снова возникло перед мысленным взглядом Сергея, и он вдруг понял, что в нем изменилось.
– Нос! – изумленно сказал он вслух. – Она изменила нос!
Илюшин уже закончил разговор и с одного слова понял, что имеет в виду напарник.
– Пластику сделала? – осведомился он.
– Точно! У нее нос был такой, знаешь, круглый, маленький… и ноздри круглые, аккуратненькие. А стал прямой, точеный, как у актрисы.
– У всех актрис носы разные, – глубокомысленно заметил Макар. – Во всяком случае, поначалу, – добавил он, вспомнив одну из известных артисток, к пятидесяти годам изменившую прекрасный нос с горбинкой на нечто универсальное, прямое, шаблонное.
– Черт с ней, с Ольгой и с ее носом. – Бабкин с облегчением потянулся, запрокинул голову на спинку дивана. – И с ее Ланселотом тоже.
– Э-э-э… – протянул Илюшин, и Сергей тут же насторожился: «экать» было не в привычках Макара.
Он оторвал затылок от дивана и вопросительно посмотрел на друга.
– Разве ты не слышал наш разговор? – осторожно спросил Макар, постукивая ложечкой о пустую чашку из-под кофе и избегая глядеть на Сергея.
– Слышал… но не до конца. Вспомнил про Ольгин нос и задумался. А что?
– Силотский поменял нам задачу.
– Что значит «поменял»?
– Когда он понял, что мы отказываемся браться за его дело, то попросил забыть о «жамэ вю», которое его мучает, и заняться более земным вопросом. Мне кажется, что в данном случае потусторонние силы не замешаны.
– Каким вопросом? – нахмурился Бабкин, приподнимаясь с диванчика.
– Поисками его пропавшего заместителя.
Бабкин выругался и рухнул обратно на диванчик, в котором что-то тихо и печально хрустнуло.
– Я не мог ему отказать, – пожал плечами Илюшин. «И, если честно, не очень-то хотел», – добавил он про себя.
Сергей его понимал. В отличие от многих других частных сыщиков, основной специализацией которых был сбор компромата на неверных жен и мужей, они с Илюшиным этим не занимались. Раскрытие убийств тоже не входило в их компетенцию – оба были уверены, что при возможностях оперативной группы любой следователь раскроет убийство по горячим следам в десять раз быстрее, чем это сделают они сами. «Если дополнить эти возможности грамотной работой», – неизменно добавлял Бабкин, объясняя жене, что гораздо проще сверять полученные отпечатки с базой данных, имея эту самую базу, а не прося каждый раз о помощи кого-то из бывших коллег. Но никакая оперативная группа не могла потратить столько времени на поиск пропавшего человека, сколько могли позволить себе они с Макаром. Здесь преимущество было на их стороне, и, как говорил Илюшин, глупо было бы этим не воспользоваться.
– Значит, Силотский решил-таки найти своего пропавшего заместителя, – обреченно проговорил Бабкин, сам не понимая, отчего так не хочет браться за это дело. – Тогда нам нужна дополнительная информация.
– Он сюда уже едет. Любопытно, поставила ли господина Силотского твоя бывшая, а его нынешняя жена в известность о ваших прежних отношениях.
– Понятия не имею, – угрюмо буркнул Бабкин, огромной лапой сгребая чашку и разглядывая застывающие кристаллики сахара на дне. – Сейчас мы это выясним во избежание недоразумений. Кстати, – спохватился он, обратив наконец внимание на шерстяной шарф, которым Илюшин обмотал шею. – Что ты на себя нацепил? Вытащил с антресолей, отобрав у моли?
– У меня нет антресолей. За моль не ручаюсь. А шарф мне подарила Заря Ростиславовна.
– Ах Заря Ростиславовна! Я мог бы и сам догадаться… – Сергей беззлобно рассмеялся.
Заря Ростиславовна, соседка Макара, въехала в соседнюю с ним квартиру около полугода назад. В первый же вечер после своего переезда она позвонила к нему в дверь и, строго глядя на открывшего ей Илюшина, отрекомендовалась:
– Лепицкая. По мужу – Мейельмахер.
Точно так же она представлялась всегда и всем, как узнали потом Макар с Бабкиным. «Лепицкая. По мужу – Мейельмахер» – и обязательный короткий наклон головы, на которой росли нежно-сиреневые просвечивающие волосы, которые Лепицкая-Мейельмахер слегка подвивала и оставляла в художественном беспорядке, не утруждая себя расчесыванием сиреневых локонов.
Она сразу же предупредила Макара, взяв военно-приказной тон, что не потерпит непорядка рядом со своей квартирой и пьянок после одиннадцати – тоже. Что на лестничной клетке плевать нельзя, курить тоже, хлопать дверями квартиры – не рекомендуется. «И тогда, голубчик, – закончила она, сурово глядя на Илюшина, – возможно, мы с вами подружимся». Обещание дружбы из уст старухи звучало едва ли не более угрожающе, чем все остальное.
Макар заверил ее, что не курит, плевать не будет, а дверь у него бесшумная. Лепицкая погрозила ему пальцем и скрылась.
Вскоре выяснилось, что раньше она жила в Екатеринбурге, однако, похоронив мужа, решила перебраться в Москву, где у нее осталась одна-единственная подруга. Большая квартира, доставшаяся ей по наследству, была продана, и Заря Ростиславовна осела на старости лет в столице.
Характер у нее оказался добрейший. Суровость, проявленная ею при первом знакомстве, на этом же знакомстве и закончилась, и Лепицкая стала обычной, чуть суетливой, немножко не в меру болтливой старухой, всегда готовой помочь. Столкнувшись на лестничной клетке с покашливающим соседом, она тут же заявила, что знает, чем облегчить его страдания, и вручила Илюшину собственноручно связанный шарф. «Его, мой дорогой мальчик, носил еще Мейельмахер!» – провозгласила она, убеждая Макара в удивительном лечебном действии шарфа.
– Если Мейельмахер, тогда не могу отказаться, – сдался Илюшин, покорно принял шарф, рассыпался в благодарностях, уверенный, что снимет шерстяную змею, как только войдет в квартиру. Однако шарф оказался мягким и грел горло, к тому же по странной причуде Макар, не отличавшийся сентиментальностью, подумал, что старая соседка не пожалела для него вещи, которая означала для нее куда больше, чем просто шарф. Он посмотрел на себя в зеркало и представил лицо Бабкина, когда тот увидит его с серо-зеленой тряпкой на шее, хмыкнул, но шарф не снял.
Проработав в банке полгода, Сергей Бабкин не то чтобы озверел, но был близок к этому. Ему не нравилась работа, не нравились люди, окружавшие его, и даже радость жены после того, как он получил первую зарплату, оказалась недостаточной компенсацией. Сергей чувствовал себя бездельником, получающим зарплату непонятно за что. Работа службы безопасности в банке была поставлена из рук вон плохо, но когда Сергей попробовал что-то изменить, его начальник, сам бывший опер – низкорослый мужик с жирными, как у бабы, ляжками, – попросил его умерить пыл и не лезть не в свою вотчину.
По утрам Сергей со страдальческой гримасой надевал костюм, долго возился с галстуком и про себя проклинал дресс-код банка, обязывавший каждого сотрудника выглядеть «прилично». В понимании Сергея приличными были чистые джинсы, которые он не ленился гладить после очередной стирки, майка или демократичная рубашка, короткая свободная куртка, не стеснявшая движений, но скрывавшая кобуру под мышкой. Теперь от любимой одежды пришлось отказаться, и даже в гости к своей маме Ольга просила его приходить в костюме – это подчеркивало, насколько ее муж изменился в лучшую сторону. «Повзрослел».
С новой деятельностью Бабкина немного примиряло то, что Ольга преображалась на глазах. Прежнее устойчивое недовольство уступило место приподнятому настроению, и в свободное от работы время, которого у нее было полно, Ольга декорировала квартиру, сама что-то на ходу выдумывая, готовила из таких продуктов, на которые раньше они только смотрели, увлеклась спортом и регулярно ходила в тренажерный зал по соседству. Теперь ее семья становилась правильной – с мужем-добытчиком и женой, работающей не для заработка, а для общения с коллегами. И хотя Марина Викторовна по-прежнему выражала недовольство медленными карьерными успехами зятя, приводя в пример массу знакомых, которые к его возрасту успели добиться куда большего, Олю это мало трогало. Она чувствовала, что ведет супруга верной дорогой.
Как-то раз Сергей, выйдя из банка и направляясь в ближайшее кафе пообедать, услышал, что его окликают. Обернувшись, он увидел Мишу Кроткого – бывшего коллегу.
Миша Кроткий внешне соответствовал своей фамилии – среднего роста, полноватый и какой-то мягкотелый, всегда с красным лицом, так что казалось, будто он то ли долго бежал и запыхался, то ли обгорел на солнце. Его небольшие голубые глазки прятались за очками, и, снимая их, чтобы протереть, Миша тут же начинал моргать с беспомощным видом. Он редко смеялся в голос, но часто улыбался, и улыбка его была под стать ему самому – чуть нелепая, добрая, слегка извиняющаяся. Миша производил впечатление нескладного, но хорошего человека, который самому себе перед сном может пожаловаться «Меня девушки не любят», но вслух этого никогда не скажет.
Однако профессионалом Миша был превосходным. Он обладал способностью располагать к себе людей – отчасти потому, что внешность его была совершенно безобидна и от него не ждали подвоха. Человека, над которым можно посмеяться, бояться не стоит – вот Мишу и не боялись ни беспризорники, многих из которых в своем районе он хорошо знал, ни вокзальные бомжи. С ним они охотно разговаривали, рассказывали о том, что происходит в районе, и легко становились Мишиными осведомителями, а он их берег, как и полагается хорошему оперативнику.
Сергей уважал Кроткого за профессионализм и за то, что Миша удивительно мало изменился под влиянием своей работы. Бабкин видел, как приходившие в отдел молодые оперативники спустя полгода начинали рассуждать о жизни словно умудренные опытом люди, столкнувшиеся с самыми неприглядными ее сторонами, и ему это не нравилось. Ложная умудренность неизбежно влекла за собой цинизм, цинизм – полное равнодушие к людям, с которыми им приходилось иметь дело, и мало кто из оперативников был умен настолько, чтобы это равнодушие скрывать.
– Привет! – обрадованно сказал Миша. – Сто лет тебя не видел!
– Полгода, – уточнил Бабкин, пожимая красную клешневидную лапу Кроткого. – В спортзал заходил бы почаще, там бы и встречались.
– Где ж я время найду в зал ходить? – с притворным возмущением спросил Миша.
– И силы? – в тон ему заметил Бабкин. – И еще футболку чистую и тренировочный костюм?
Миша рассмеялся.
– Время есть? Хочешь, пойдем перекусим.
Сидя в забегаловке неподалеку от банка, Миша сообщал последние новости. Он почувствовал, что Сергею не хочется ни подробно рассказывать о новой работе, ни тем более хвастаться ею, и тактично увел разговор на проблемы, которые были хорошо знакомы Бабкину.
– В ОБЭП человек нужен, – сказал он, цепляя вилкой макаронину. Макаронина лениво сползла и улеглась на груду остальных, щедро политых кетчупом.
– Кто ушел?
– Все ушли. Ну, не все, но трое уволились. И начальника отдела поставили нового вместо Саранчука.
Сергей хотел спросить, что случилось с Саранчуком, но вместо этого поинтересовался:
– А кто новый? Я его знаю?
– Может, и знаешь. Перелесков – известен тебе такой?
Бабкин кивнул. Он знал Олега Перелескова, и отчего-то обрадовался, узнав, что именно тот стал новым начальником отдела по борьбе с экономическими преступлениями, сокращенно именовавшегося ОБЭП.
– Олег, кстати, недавно тебя вспоминал, – продолжал Миша, жуя макароны. – Хороший он мужик, только очень уж неторопливый.
– На том и стоит, – задумчиво сказал Сергей.
– Ну да, ну да… Кстати, не хочешь к нашим заглянуть? Заодно и Перелескова поздравишь. Он сегодня повышение обмывать будет.
– Где?
– У нас, где же еще.
Бабкин покивал, зная точно, что заходить он, конечно же, не будет, хотя повидаться с Олегом было бы здорово. Они посидели с Мишей еще минут пятнадцать и распрощались.
Но когда рабочий день закончился, Сергей, вместо того, чтобы поехать домой, незаметно для самого себя свернул на улицу, которая и привела его к серому четырехэтажному зданию, в двух крылах которого расположились прокуратура и районный отдел милиции.
Однако нового начальника отдела он нашел вовсе не празднующим повышение, а одиноко сидящим в кабинете и грустно рассматривающим кипу бумаг на столе.
– Не понял, – сказал Бабкин, остановившись в дверях. – А где праздник?
– О, какие люди! Серега, заходи.
Тщедушный Перелесков с залысинами на лбу и вечной сигаретой в зубах бодро выскочил из-за стола и вразвалочку пошел к Бабкину. Он с удовольствием стиснул руку Сергея в крепком рукопожатии, приглашающим жестом указал на стул, плюхнулся сам и, отодвинув документы, без предисловия заявил:
– На ловца и зверь бежит. Ты-то мне и нужен. Пойдешь ко мне в отдел? Ты, как я погляжу, поправляться начал на банковских-то харчах, а у меня станешь поджарый, резвый… Девки заглядываться будут, зуб даю!
– То-то ты сам больно поджарый, – ухмыльнулся Сергей.
– Я начальник! Мне позволено! Вот послушай, что я тебе скажу…
Перелесков на секунду замолчал, выдохнул сигаретный дым, растекшийся над столом едким облаком, и спросил уже с другими интонациями:
– Или не будешь слушать? Ты только скажи, Серега, если тебе неинтересно, я тебя зазря грузить не стану.
Бабкин обвел взглядом прокуренный кабинет, задержавшись на невесть как попавшем сюда цветке в горшке – несчастном «декабристе», тосковавшем на подоконнике. Из горшка торчали сигаретные окурки – каждый куривший считал своим долгом сунуть бычок не в пепельницу, а в горшок, и казалось, что вокруг «декабриста» нырнула в иссушенную землю дюжина маленьких бесхвостых оранжевых рыбок.
– Интересно, – сказал Сергей. – Рассказывай.
Час спустя они вышли из кабинета.
– Пойдем, провожу тебя, – предложил обрадованный Олег. – В общем, Серега, договорились: в понедельник подходи к кадровикам, а потом ко мне. Лады?
– Лады. – Сергей махнул рукой знакомому дежурному и поймал себя на том, что расплылся в довольной улыбке.
Они вышли на улицу, и Бабкин вдохнул вечерний июльский воздух. Возле здания росла липа, начинавшая зацветать, и от нее тянуло медовой сладостью. Почему-то подумалось ему о том, что возле банка не росло ни одного дерева – здание располагалось на шумной улице, где даже саженцы по весне не приживались и чахли.
– Постой, – спохватился Перелесков, когда Сергей уже садился в машину. – Ты, когда зашел, спросил, где праздник. А какой праздник-то?
– Как – какой? Повышение твое. Я специально заехал, хотел тебя поздравить.
– Да нет, – пожал тот плечами. – Проставляться я буду на даче, в субботу. С чего ты решил, что я сегодня собирался?
Бабкин вспомнил честное лицо Миши Кроткого, выругался, но в следующую секунду расхохотался.
– Вот Кроткий, вот прохвост! Ну, попадись ты мне в тренажерном зале…
Подъезжая к дому, Сергей думал, как он объяснит свое решение жене. Но даже эти размышления не могли омрачить его радость и ограничить чувство свободы, внезапно охватившее его, когда он согласился на предложение Олега пойти оперативником к нему в отдел. Бабкин редко задумывался о том, какое удовлетворение приносит ему работа; он полагал само собой разумеющимся, что ему нравится делать то, что у него неплохо получается. Только уволившись, он понял, что потерял полгода назад, пойдя на поводу жены. Время, проведенное им в банке, словно высасывало из него жизненную силу и энергию, и хотя Перелесков пытался поддеть Сергея тем, что он растолстел на непыльной работенке, это было далеко от истины.
Ольга встретила его в собственноручно сшитом кимоно, за материалом для которого она ездила на другой конец города. Кимоно было ярко-красным – она полагала, что смотрится в нем необычайно соблазнительно. Бабкину сразу захотелось переключить цвет сначала на желтый, а затем на зеленый.
– Привет! Посмотри, какой я маникюр сделала, – Ольга кокетливо растопырила тонкие пальчики. – Сиреневый! Красиво?
– Как у трупа, честно говоря, – бухнул Бабкин, не задумываясь, потому что в голове его вертелись совсем другие мысли.
– Что-о-о?
Сергей спохватился, но дело было безнадежно испорчено. Поджав губы, жена прошла в ванную комнату и ожесточенно принялась стирать лак.
– Оль, прости, пожалуйста, – покаялся Бабкин, заходя за ней следом. – Я совсем не это хотел сказать. Красивые ногти, правда. И без лака тоже красивые.
– Знаешь, дорогой мой, у тебя профессиональная деформация сознания, – холодно проговорила Ольга, смыв лак на левой руке и принимаясь за правую. – Ты способен проводить сравнения только с трупами либо с преступниками. Не знаю, сколько времени потребуется, чтобы ты стал думать, как нормальные люди.
Сергей помолчал. Он знал, что, обидевшись или разозлившись, жена выходит из себя на долгое время, находя удовольствие и в своем состоянии, и в наблюдении за тем, каким виноватым себя ощущает муж. Ольга вышла из ванной, подчеркнуто не замечая его, и Сергей не выдержал:
– Я ушел из банка, – негромко сказал он ей вслед. – Возвращаюсь на прежнюю работу, только в другой отдел.
Жена резко повернулась к нему, и широкое кимоно завилось красной волной вокруг ее ног.
– Что ты сказал? – недоверчиво переспросила она.
– Я увольняюсь. Не могу там больше работать. Оля, пойми – в банке я деградирую, тупею.
Он хотел добавить, что понимает, насколько важна для них потеря в зарплате, и потому подумает о возможных подработках. И еще хотел как-то оправдаться перед женой, потому что видел: для нее неубедительны его аргументы. Будучи человеком, не умевшим работать по-настоящему – полностью отдаваясь своему делу и получая от него удовольствие, – Ольга не понимала этого и в других людях. Работают ради денег – это она знала твердо, и любой другой подход был для нее признаком слабого ума.
Но объясниться он не успел. Жена быстро подошла к нему, закусив тонкую верхнюю губу, и изо всей силы ударила по щеке. Сергей сдержал первую молниеносную реакцию и лишь перехватил вновь занесенную для пощечины руку.
– Ты! – зло крикнула Ольга, пытаясь вырвать руку. – Ты дурак! Опять решил стать никем?! По собственной воле?! Идиот! Боже, какой идиот…
– Мне жаль, что я не оправдал твоих ожиданий, – сдержанно сказал Сергей, отпустил ее запястье, закрыл за собой дверь в ванную и включил ледяную воду, чтобы ополоснуть горящую щеку.
Рассказ Силотского не занял много времени. Положив на стол фотографию, с которой неприветливо смотрел насупленный мужик с мешками под глазами, обнимавший за шею такого же неприветливого насупленного боксера, Дмитрий Арсеньевич объяснил:
– Качков, Володька Качков. Отличный мужик, я его с детства знаю! Мы с ним в одном дворе росли, пока их семья не переехала. Как-то раз убежали компанией в овраг – на тарзанке полетать, а надо мной веревка возьми да оборвись. И ветка-то росла невысоко, но шмякнулся я – не дай бог никому! Как творог об землю – хлюп! – и растекся. А нас за тарзанку ругали, Володьку отец и выпороть мог, если бы узнал, а рука у того была тяжелая. Все парни вокруг меня собрались, а я лежу и еле дышу. Тут Качков меня сгреб – он на год старше был, здоро-о-овый! – Силотский руками показал, какой здоровый был Качков, – и потащил на себе к дому. Я ему шепчу: не говори, что ты с нами на тарзанке был. А он только пыхтит в ответ. Дотащил меня до моей квартиры, сдал бабушке и сам ничего скрывать не стал. Ну, я к тому времени отдышался, отделался легким испугом, и никого из нас не наказали… Но Володьке я надолго остался благодарен.
– Когда он исчез? – спросил Макар.
– Два дня назад. Или три?.. Нет, постойте-ка, сегодня среда, а он в понедельник не вышел на работу и мне не позвонил.
– У него есть жена, дети?
– Есть, но они сейчас у родителей гостят, в другом городе, а я их телефона не знаю.
– Качков мог сорваться к ним, не предупредив вас?
– Нет, – решительно покачал головой Силотский. – Вовка – человек ответственный и, главное, мне очень преданный.
– Почему? – заинтересовался Бабкин. – Потому что вы в детстве дружили?
– Да нет, мы и не дружили особенно – так, приятельствовали. Я его встретил много лет спустя, случайно. То есть со стороны кажется, что случайно, а на самом деле ничего случайного в нашей жизни, конечно же, нет. – Силотский весело подмигнул Илюшину и Бабкину, и последний в который раз подумал, что никакой Силотский не сумасшедший, потому что сумасшедшие не улыбаются так открыто и весело, словно подсмеиваясь сами над собой и приглашая других присоединиться к их иронии. – Ладно, не буду вас грузить своими убеждениями. На чем я остановился? А, как я Качкова встретил. Случайно мы с ним увиделись, разговорились, а положение тогда у него было, прямо скажу, бедственное. Он сидел в долгах, как лягушка в грязи, и выкарабкаться у него не получалось. А тут еще жена, ребенок… – Ланселот поморщился, почесал подбородок, отчего борода его встопорщилась. – Короче, я слегка его выручил. А как иначе? Нельзя же было мимо пройти.
– Вы ему денег дали? – догадался Макар.
– Ну да. И с кредиторами его немножко побеседовал. – При этих словах Силотский вытянул вперед розовые руки и несколько раз выразительно сжал и разжал кулаки, словно разминаясь. – На этом от Володьки и отстали, тем более что долг он со всеми процентами вернул, как полагается.
– И после этого вы взяли его к себе заместителем? Он вас об этом попросил?
– Взял, да, – кивнул Силотский. – Но Володька не просил. Он, Володька, гордый такой, что просто страшно за него – как на свете-то живет? Ни попросить ничего, ни поклянчить лишний раз – мол, возьми меня, Ланселотушка, к себе в «Броню». Так что взял я его сам и ни разу об этом не пожалел.
Силотский вкратце рассказал, в чем заключаются обязанности Качкова, но на вопрос, где может быть пропавший заместитель, ответить не смог.
– Не хочется самое плохое думать, – мрачно сказал Дмитрий Арсеньевич, уже собираясь уходить и натягивая на руки черные мотоциклетные перчатки. – Но с Володькой никогда раньше такого не случалось, чтобы два рабочих дня прогулять и никому ничего не сказать. Мобильный его не отвечает, домашний телефон молчит… Вы уж найдите его, а?
– Мы постараемся, – пообещал Илюшин, в кармане которого лежал чек с приличным авансом, выписанный Силотским. – Нам нужно будет еще кое-что у вас узнать, но сначала придется поговорить с вашими сотрудниками.
Ланселот кивнул, коротко попрощался с обоими и вышел из квартиры.
– Не везет мужику, – прокомментировал Сергей, стоя у окна и глядя туда, где в апрельских лучах поблескивал казавшийся игрушечным мотоцикл. – То ему мерещится, что мир вокруг изменился, то заместители пропадают…
– И все это становится вдвойне интересным, если мы вспомним о том, что сказал нам господин Силотский, – добавил Макар, подойдя к окну и усевшись на подоконник. – А он сказал, что ловит подсказки мироздания и, поймав, строит свою жизнь в соответствии с ними. Кстати, тебе это никого не напоминает?
Сергей хотел ответить, что напоминает, и Илюшин прекрасно об этом знает, но тут из подъезда вышел Ланселот.
– «Рыжий, рыжий, конопатый»… – просвистел Макар.
Ланселот неторопливо пересек двор – шлем на его голове сверкнул кровавым бликом – и сел на мотоцикл. Прошло не больше пяти секунд, и вдруг с человеком на мотоцикле что-то случилось – Сергей даже не сразу понял, что именно.
Раздался глухой хлопок, и шлем Силотского раскололся – быстро, словно скорлупу ореха жестоко сжали в тисках. Сначала Бабкину показалось, что вся красная краска встала дыбом, зависла в воздухе, разлетелась мелкими брызгами, но в следующий миг он понял, что это такое. Еще один хлопок, громче предыдущего – и фигурка на мотоцикле стала заваливаться влево, а где-то под окнами раздался истошный, пронзительный крик – такой высокий и странный, что не понять было, мужчина кричит или женщина.
– Серега… – выдохнул побелевший Макар, и тотчас же, словно отзываясь на единственное произнесенное слово, внизу ударил взрыв.
Мотоцикл вместе с заваливавшейся фигуркой взлетел в воздух, будто подброшенная рассерженным ребенком игрушка, тяжело перевернулся и вдруг развалился, посыпался на землю кусками, охваченными огнем. По дому прокатилась дрожь, зазвенели стекла выбитых окон. К первому, неумолкавшему крику присоединился второй, за ним третий, и тут же взвыли машины, словно отзываясь сигнализацией на случившееся.
Илюшин спрыгнул с подоконника, бросился к двери, но Бабкин перехватил его, рявкнул в ухо:
– С ума сошел! Не вздумай! Три взрыва было – ты уверен, что не будет четвертого?!
Макар, лицо которого постепенно приобретало нормальный цвет, перестал вырываться и на негнущихся ногах вернулся к окну.
Даже с двадцать пятого этажа было видно, что на том месте, где стоял мотоцикл, асфальт просел, будто продавленный огромной пяткой, и по нему растеклись потеки, сходившиеся в одной точке. Куски черного, смятого, перекрученного металла, догоравшие, как угли в костре, валялись поодаль, и ни Бабкин, ни Макар не могли различить среди них того, что когда-то было Дмитрием Арсеньевичем Силотским, искавшим выход в другие миры.
Глава 3
Владислав Захарович сам поставил картину на подрамник, отошел на два шага, наклонил голову и зачем-то прищурил левый глаз. «Что ж ты с двух шагов смотришь? – с досадой и горечью подумал Пашка. – Что так можно увидеть, старый ты хрыч?»
Чешкин сурово взглянул на него, словно подслушав его мысли, отошел еще шагов на пять, затем – на десять. Паша стоял молча, ожидая приговора, и старался представить, как бы он нарисовал старикана. Но в голову лезли только мысли о том, что свет в помещении никуда не годится, не даст этот свет возможности увидеть все так, как задумано, а если б и имелся правильный свет, то картина, по совести говоря, особенно не выиграла бы. Бездарность он, Паша Еникеев, и зря полез к Чешкину со своим творчеством. «Акварелист хренов… Тоже мне, талант! Сунулся в галерею, возомнил о себе бог весть что… Черт, до чего же неприятно, что он все молчит».
– Сюжет, значит, брейгелевский… – пробормотал Владислав Захарович, ворочая бровями.
Брови у Чешкина были широкие, косматые и странно выделялись на его морщинистом породистом лице. Со стороны казалось, будто актер решил нанести грим, готовясь играть Брежнева, начал с бровей, приклеил их, но затем почему-то передумал. Так и оставил: тонкий нос со скульптурными ноздрями хорошей лепки, высокий лоб, прорезанный одной-единственной глубокой морщиной, чуть запавшие карие глаза, сохранившие ясность, крепкий подбородок, самый кончик которого заострялся воинственно выдающейся вперед ухоженной бородкой… А между глазами и лбом – две щеточки вроде тех, которыми чистят брюки, но уменьшенных.
Полинка не раз предлагала деду привести брови в порядок, но Чешкин прекрасно понимал, что за аккуратным «привести в порядок» стоит банальное «выщипать», и внучку с пинцетом к себе не подпускал. По правде говоря, бровями он отчасти даже гордился.
– Занятно, занятно…
Владислав Захарович сперва осмотрел картину, затем прошелся взглядом по принесшему ее молодому человеку. Молодой человек был безус, полноват, небрежно одет и вид имел страдальческий, хотя страдание пытался скрыть.
– Кто подсказал вам повтор такого известного сюжета в акварели? – поинтересовался Чешкин, на носках разворачиваясь к Еникееву.
Тот промычал что-то невнятное, дернул головой, выговорил, запинаясь на каждом слове:
– Просто… мне акварелью нравится работать… эффект совсем другой.
И покраснел, как школьник.
– Эффект… – задумчиво повторил Чешкин. – Да, эффект, разумеется…
Сгоравший от стыда Паша уже не хотел ничего, кроме как убежать, пусть даже и без картины, куда-нибудь подальше от испытующего взгляда этого властного старика. Кто там рассказывал, что старик Чешкин до того обаятелен, что работать с ним одно удовольствие? Может быть, с Феклисовым он и обаятелен, а вот его, Пашу, того и гляди размажет по стенке одним ударом кисти. Останется пятно коричневатого цвета, которое на следующее утро будет соскребать уборщица, грязно ругаясь. В том, что в нарисованном им мире уборщица будет ругать не Чешкина, а того, от кого это пятно осталось, Еникеев ни секунды не сомневался.
Хорошо еще, подумал он, что его позора не видит девушка, частенько забегающая в эту галерею. При ней он всегда вжимался в стену, и она не замечала его – здоровалась, но не замечала, мысленно оставалась в другом месте, с другими людьми, и по ней было видно – Паше, во всяком случае, – что при повторной встрече она не узнает никого из посетителей галереи. Рот ее улыбался, губы произносили «здравствуйте», и она проносилась мимо – летящая, похожая на черный огонек. Про черный огонек Паша сам придумал, и ему нравился этот образ. А потом огонек находил старикана, или старикан окликал его из дальнего конца галереи – «Полина!» – и тогда в глазах девушки вспыхивала радость, она тут же становилась здешней, и, нарочно замедляя шаг, шла навстречу деду.
– Вы молодец, мой мальчик, – неожиданно проговорил Владислав Захарович и улыбнулся. – Сколько вам лет, простите за нескромный вопрос?
– Восемнадцать. – Паша не был уверен, что над ним не издеваются, а потому ответил сухо.
– И вы любите Брейгеля?
– Я вообще голландцев люблю. А Брейгель… он так пишет, будто втягивает к себе!
– Да, – согласился Чешкин, – детализация удивительная. А вы, значит, не побоялись пойти путем подражательства… И результат, как ни странно, оказался… М-да.
Голос старикана определенно звучал одобрительно, теперь у Паши не оставалось в этом никаких сомнений. Он вопросительно взглянул на него и снова увидел улыбку на лице Чешкина.
– С вашего позволения, работа пока останется у меня, – мягко попросил тот. – Хочу кое с кем посоветоваться… показать.
– Значит… вам нравится?
– Нравится… не нравится, – пробурчал Владислав Захарович. – Дело не в личных пристрастиях, а в том, что я вполне могу объективно оценить уровень вашей работы. Достойно, я считаю, действительно достойно. И, конечно, идея… «Охотники на снегу», надо же!
Когда осчастливленный парень ушел, Чешкин набрал телефонный номер.
– Ну ты где? – ворчливо спросил он, не здороваясь. – Да. В галерее, конечно, где же мне еще быть! Тебя жду. Кто обещал пообедать вместе? Кстати, можешь заглянуть: сегодня был один мальчик, принес интересную вещицу. Не бог весть что, конечно, но свежая мысль присутствует, а для молодого автора сие необычайно ценно, как ты по себе знаешь. Все, жду через полчаса.
Он убрал телефон в карман и снова посмотрел на картину. Да, мальчик осознанно копировал Брейгеля, повторяя за ним композиционное расположение всех элементов полотна. Но там, где у великого мастера были живые, плотные, почти осязаемые люди, деревья, дома, собаки, у мальчишки неслось нечто размытое, прозрачное, словно всех брейгелевских охотников с собаками взмах его кисти перетащил в призрачный мир, насмешливое зазеркалье, волшебным образом преобразившее грузную зиму в просыпающуюся весну, земное и весомое – в ангельское, воздушное. Охотники не утопали в снегу, а бежали по нему легко и свободно, и собаки, словно почуяв тревожащий запах просыпающейся из-под мартовского снега земли, готовились взмыть в воздух, оставив лишь следы на подтаивающей хрустящей корочке.
Невесомый акварельный снег сиял теплыми оттенками («Мальчик переборщил с охрой, но это простительно»), облака перетекали в крыши домов, словно готовясь нырнуть в трубы. Чешкин постоял, обдумывая, кому из его ребят стоит показать работу, но тут в галерею вошла Полина.
С первой же секунды Владислав Захарович понял, что случилось что-то нехорошее, и пошел ей навстречу, меняясь в лице.
– Что? – начал он. – Что такое?..
Она остановилась, ничуть не удивленная его вопросом.
– Дима погиб, – негромко сказала она, глядя на деда потемневшими глазами. – Я только что в машине услышала новости.
– Дима? – переспросил он, хотя прекрасно понял, о ком идет речь. – Постой, какой Дима?
– Ты знаешь, какой. – Обмануть ее Владиславу Захаровичу было так же непросто, как и Полине его.
– Силотский? Скажи, Силотский?
Девушка молча кивнула, не сводя с него глаз.
– Но… как? Отчего? Разбился в аварии?
– Нет. Под его мотоцикл подложили взрывчатку. Кто – неизвестно.
Полина говорила бесстрастно, но Чешкин видел, знал, какая буря бушует сейчас внутри нее, как сложно ей сдерживаться и не выкрикнуть то, что само просилось с губ. Почувствовав внезапную слабость, он на негнущихся ногах дошел до стула, осторожно сел, словно боялся удариться.
– Слава богу!
То, что вырвалось у него, звучало неуместно и кощунственно, но Чешкину было наплевать.
– Слава богу, – глухо повторил Владислав Захарович, стирая ладонью внезапно выступившие капли холодного пота.
Полина смотрела на него, закусив губу, и думала о том, как бы сдержаться и не рассказать деду правду, не выдать своим лицом, о чем она думает. Но Владислав Захарович был слишком потрясен новостью, чтобы всматриваться в ее лицо.
«Очередной теракт или бандитские разборки? ФСБ не знает ответа».
«Новая жертва московского беспредела. Кто следующий?»
«Страшная смерть предпринимателя».
«Вдова опознала тело по шраму на ягодице».
– Не на ягодице, а на ноге, – с отвращением сказал Бабкин, закрывая на экране компьютера окно новостей. – Будь их воля, написали бы, что вдова по гениталиям его опознала. Кстати, странно, что журналисту не пришла в голову эта мысль. То-то была бы сенсация! Тьфу!
После бессонной ночи, проведенной за дачей показаний, он вернулся домой, успокоил взволнованную Машу, помылся, позавтракал и поехал к Илюшину. В отличие от него, Макар возвратился домой лишь полчаса назад, а потому вид имел помятый и вымотанный, несмотря на принятый душ. Как и всегда, он был похож на студента, но не на беззаботного прогульщика, лентяя и умницу, а на горемыку, завалившего сессию и предчувствующего последующие за этим еще более крупные неприятности.
Вдобавок, когда Макар открывал дверь, его подстерегла Заря Ростиславовна и впилась в Илюшина клещом, выливая на него свои переживания, перемежавшиеся вопросами о самом Макаре.
– Голубчик, как вы? – бормотала Лепицкая-Мейельмахер. – Боже, какой ужас, какой страх! Дом буквально затрясся, я думала, что все оборвется! И я почти почувствовала, что оборвусь и полечу вместе с ним! Ох, голубчик, какие страшные времена настали, не передать словами. Но расскажите же мне, что произошло, как такое могло случиться?!
Макар с трудом отделался от соседки и ввалился в квартиру, думая, что зря согласился взять шарф. Теперь он полулежал в кресле, зевая каждую минуту.
– Одного не могу понять… – голос Илюшина был сонным, медлительным. – Зачем нужно было по двадцать раз заставлять меня повторять одно и то же? Или они надеялись, что на двадцать первом разе я собьюсь и признаюсь, что сам взорвал Силотского по мотивам личной неприязни?
– Макар, что ты хочешь? – возразил Бабкин. – Такое ЧП! Угроза теракта, как-никак. Оцепление нагнали, всех жильцов из подъезда вывели, газеты и телеканалы раструбили первую новость часа… Загляни в Интернет, – он кивнул на ноутбук, – там пережевывается не меньше двадцати версий. Одна из них – ссылаясь, заметь, на достоверные источники, – гласит, что Дмитрий Арсеньевич Силотский приезжал для выяснения отношений с любовником своей жены, известной актрисы.
– Почему актрисы? – без выражения спросил Макар.
– Потому что так интереснее. Если написать «инструктор по шейпингу», это будет скучно и не развлечет людей. А если актриса, это куда заманчивее. А может, – подумав, прибавил он, – журналист просто не знал, чем занимается Ольга, вот и написал первое, что пришло в голову.
Сергей сильно зажмурился, и перед глазами побежали тонкие белые росчерки. Как и Макара, его заставили многократно повторять подробности разговора с Силотским, отслеживать до минуты все, что происходило после того, как Дмитрий Арсеньевич рассказал о заместителе, вытягивали его впечатления от визита к рыжему бородачу. Естественно, и тему отношений Сергея с Ольгой Силотской не обошли вниманием, и некоторое время Бабкин всерьез опасался, что из него вздумают сделать козла отпущения. Однако не сделали – во всяком случае, пока.
– Ты полагаешь, это случайность, что он обратился именно к нам? – спросил Илюшин, закрывая глаза. Светлая прядь упала ему на лоб, и Бабкин снова вспомнил желтый тюрбан на голове бывшей жены.
– Похоже на то. Во-первых, Ольга удивилась, увидев меня. Во-вторых, она вообще не ждала никого из посторонних.
– Это как раз ни о чем не говорит: не забывай, я настоял на том, чтобы ты поехал с Силотским. Его супруга могла и не знать, что ты заявишься к ним в квартиру.
– Согласен. Тогда остается первый пункт – она удивилась. Ей было неприятно меня видеть, но Оля постаралась тщательно это скрыть, и у нее почти получилось. У нее всегда получалось. – Бабкин криво усмехнулся. – И потом, если б я был на месте Ланселота, я бы в последнюю очередь обратился за помощью к бывшему мужу жены.
Макар задумчиво покивал, вспоминая веселого рыжего верзилу. «Разумеется, бабник, – думал он. – И притом собственник. Темпераментный, легко загорающийся, легко остывающий. Свою территорию оберегает на уровне животных инстинктов: нужно применить силу – применит, нужно пометить – пометит. Человек-фейерверк: цветы охапками, лимузин к подъезду, целование ручек. И при том отвечает за свою женщину, а вовсе не прыгает по постелям, бросая баб при первом же осложнении отношений. Да, нужно проверить Силотского на предмет предыдущих браков – не исключено, что Ольга вовсе не первая его жена. Это, конечно, выяснят и без нас, но все-таки…»
– Макар, что дальше будем делать? – прервал его мысли Сергей, втайне надеясь на то, что Илюшин после гибели клиента решит отказаться от дела.
– Расследовать исчезновение господина Качкова, – чуть удивленно отозвался Макар, приподняв бровь и вопросительно глядя на напарника. – Или ты надеялся, что смерть Силотского поставит для нас преждевременную точку в этом деле?
– Надеялся, – честно признался Сергей. – С кем мы будем работать? А главное – зачем? Силотский успел перевести деньги, но это всего лишь аванс. А ты, мой корыстный друг, – передразнил он Илюшина с очень похожими интонациями, – никогда не работаешь бесплатно!
Макар поморщился: Бабкин совершенно прав. Во-первых, они никогда не работают бесплатно, а во-вторых, со смертью клиента все расследование теряет смысл. Зачем искать пропавшего Качкова? Перед кем отчитываться, когда они его найдут, если найдут?
– Бессонница плохо подействовала на мой незаурядный мозг, – нехотя признался Макар. – К тому же в доме вторую неделю работает один лифт из двух, сегодня я так и не смог его дождаться и поднимался пешком на двадцать пятый этаж, что не доставило мне ни малейшего удовольствия и окончательно истощило мои ресурсы. Ты прав, а я сглупил. Аванс возвращаем его жене, о расследовании забываем, ждем другого клиента. Повторения дела Вики Стрежиной не будет.
Сергей удовлетворенно хмыкнул и завалился на диван. Илюшин с кислым выражением смотрел в потолок. Бабкин покосился на него, хотел что-то сказать, но промолчал. Он понимал, что Макар выведен из себя тем фактом, что клиента убили во дворе перед окнами Илюшина, и, вполне вероятно, убийство связано с началом расследования. Однажды в их практике на человека, который очень хотел, чтобы они взялись за расследование, покушались, но тогда клиент выжил, не говоря о том, что деньги за расследование были переведены на их счет после первого же его визита[3]. «Я вовсе не благотворительная организация, которая разыскивает людей, – не раз повторял Илюшин. – Я делаю свою работу и получаю за это деньги. Не вижу ни одной причины делать ее бесплатно, даже из большой симпатии к клиенту».
Раздражение Илюшина было связано не только с тем, что странное дело, так толком и не начавшееся, оборвалось с убийством Силотского. Его раздражало свое отношение к его смерти. Макар много лет приучал себя не привязываться к людям, не проникаться к ним внезапной симпатией, оставаться отстраненным от них по мере возможности. Вкладывать в дело интеллект – но только не душу. Интуицию – но не сердце. И долгое время у него это успешно получалось. Илюшин огородил себя со всех сторон не просто забором – пуленепробиваемой стеклянной стеной, сквозь которую он хорошо видел людей, но никто толком не мог разглядеть его самого. «Люди умирают, и смерть их причиняет такую невероятную боль, что нужно как-то защититься от нее», – вывел для себя когда-то двенадцатилетний Макар Илюшин. Шесть лет спустя – когда он уже решил, что боль осталась в прошлом – девушка, вытащившая его за шкирку из котла страхов, несбывшихся надежд и ночных кошмаров, погибла. А вместе с ней оборвалась и способность Макара привязываться к людям – точнее, он оборвал ее сам, навсегда решив для себя, что жизнь достаточно наигралась с ним.
Начиная работать с Бабкиным, которого он поначалу определил как отличного исполнителя, Макар опасался «покушений на дружбу» со стороны Сергея. Дружба была ему не нужна, и он испытал облегчение, обнаружив, что Бабкин не собирается переходить обозначенную Макаром границу рабочих отношений. Он не рассчитал одного: они общались так тесно, что постепенно Илюшин подпадал под обаяние Сергея и проникался все большей симпатией к напарнику, тщательно скрывая ее под маской иронии. Он прекрасно знал, что умнее Бабкина, но иногда, наблюдая за ним, начинал думать, что доброта и отзывчивость в сочетании с душевной силой приносят их обладателю больше, чем интеллект. Макар чувствовал, что стеклянная стена, построенная им, постепенно истончается, как ледяная корка под слабым зимним солнцем, и отчаянно сопротивлялся этому.
Одной из сохранившихся в неприкосновенности заповедей было «не заботься о клиентах». Нет, о них, безусловно, следовало заботиться в профессиональном плане, но к ним нельзя было проникаться симпатией, чем порой грешил Сергей. Во всяком случае, симпатией настолько сильной, чтобы она могла влиять на ход расследования.
Но рыжий бородатый Силотский был симпатичен Макару, и от этого он злился на себя. Ему следовало перестать думать о смерти этого человека в том эмоциональном ключе, в котором он думал сейчас, но Илюшин не мог. Силотский был полон жизни – жизнь распирала его, электризовала, заставляла носиться на мотоцикле и громко хохотать, тряся бородой, заставляла верить в другие миры, как будто единственного ему было мало. Этому человеку было отпущено столько жизнелюбия, что его смерть казалась несуразностью.
– Должен был дожить лет до восьмидесяти, – пробормотал Илюшин вслух. – Наплодить детей от трех жен и пяти любовниц, рассказывать внукам истории о том, как его чуть не расстреляли в кафе. Вспоминать бандитские девяностые. Мемуары написать, в конце концов.
– Да, чертовски нелепо, – откликнулся Бабкин. – Здоровый мужик… молодой, в конце концов. И кому только… А! – он не закончил фразу, махнул рукой.
– Здоровый… – повторил за ним Илюшин, будто пробуя слово на вкус. – Здоровый… Здоровый, говоришь?
Он вскочил, сонливость и расслабленность слетели с него. Бабкин встрепенулся, вопросительно посмотрел на Макара.
– Собирайся, поедем вместе, – скомандовал тот.
– Куда?
– Туда, где вы с Силотским были вчера.
– Зачем?! Ты хочешь выразить соболезнования его вдове?
– Нет, я хочу осмотреть двор, по которому он ходил каждый день. Не спрашивай, зачем – сам не знаю. Считай это моим капризом.
«Капризом»… Ворча, Сергей встал, доковылял до прихожей, надел куртку.
– Возраст у тебя не тот, чтобы капризничать, – не удержался он, глядя, как Макар заматывает вокруг шеи полосатый щегольской шарф. – И пол, кстати, тоже.
Илюшин, обычно предпочитавший передвигаться по городу на метро, на этот раз согласился ехать на машине Сергея. Основные пробки рассосались, а те, которые остались, Бабкин объезжал переулочками и закоулками, поэтому сорок минут спустя он уже парковал машину, удивляясь на то, как быстро высохла грязь в рытвинах, только вчера залитых коричневой жижей.
Апрель и в самом деле выдался удивительно сухой и чистый. Малоснежная зима, ранняя теплая весна, на редкость солнечная для столицы… «Интересно, чего нам ждать от лета?» – подумал Бабкин, вспомнив тетушкин домик в деревеньке и прикидывая, на сколько месяцев можно будет вывезти туда Машу и Костю, а заодно и выбраться самому. Он неторопливо осмотрелся и убедился, что со вчерашнего дня вокруг ничего не изменилось. Даже пес лежал на том же месте, что и накануне.
Пахло землей и тем особенным запахом недавно закончившейся стройки, который бывает в новых районах. На пригорке вылезло семейство мать-и-мачех, наклоняя за апрельским солнцем желтые головки на серых чешуйчатых стебельках. Сергей уставился на цветы, стараясь отогнать ощущение, что на него смотрят с одного из балконов, и не заметил, как далеко отошел от него Макар.
Очнулся он от созерцания, лишь услышав второй окрик, и поспешил к Илюшину, на ходу отмечая, что лицо у того странное.
– Извини, задумался, – запыхавшись, сказал он. – Что такое?
Несколько секунд Илюшин смотрел на него с непонятным выражением, а затем показал рукой на рекламный щит с улыбающейся девицей.
– Что? – не понял Сергей. – Реклама, да. Ты меня звал, чтобы я оценил белизну ее вставной челюсти?
– Почти. Я тебя позвал, чтобы ты сосчитал количество зубов у нее во рту.
Бабкин недоумевающее взглянул на напарника, готовясь улыбнуться шутке, но Макар был абсолютно серьезен.
– Сосчитай, – повторил он. – Давай, давай.
Чертыхнувшись про себя на новый «каприз» Илюшина, Сергей уставился на зубы девицы. «Ну, зубы… Зубы как зубы. Первый, третий, пятый, седьмой…»
Минуту спустя он нахмурился, пересчитал заново. Затем еще раз, в обратную сторону. Потом в четвертый, начиная с нижнего ряда.
Зубов было сорок.
Приглядевшись, Сергей понял наконец, в чем дело: часть передних зубов на плакате была искусно разделена пополам, так что из одного большого зуба получалось два поменьше. Он видел тонкие линии, но не мог разобрать, нанесены ли они поверх изображения, либо же изначально были на фотографии.
– Заметил, – кивнул Макар. – Отлично. Больше ничего не видишь?
Бабкину стало не по себе. Он отошел подальше от столба, поднял глаза на плакат и снова начал его рассматривать. Ему потребовалось несколько минут, чтобы найти вторую странность. Она была куда менее заметна, чем проделка с зубами, да и понятно: не каждый человек запомнит, какого цвета тюбик в рекламируемой зубной пасте. Однако точно такой же щит с белозубой, как мультипликационная белка, девушкой, стоял возле гаража Бабкина, и, как выяснилось, Сергей, сам того не зная, запомнил его до мелочей.
– Тюбик желтый, – ошеломленно сказал он. – А должен быть красным.
Краска на тюбик был нанесена поверх фотографии. Крошечный потек, заметный только человеку, который стал бы пристально всматриваться в рекламный щит, выдавала того, кто это придумал. «Но никто не вглядывается в рекламные щиты. Во всяком случае, никто не смотрит на тюбик с пастой, если есть девушка».
– Могу предположить, что изменения произошли не сегодня ночью, – суховато проговорил сзади Илюшин. – Они появились примерно месяц назад, хотя не исключаю, что могли и позднее. Давай посмотрим, что еще вчера осталось незамеченным.
Ошарашенный Сергей быстро пошел за ним следом, чувствуя себя школьником, которого ткнули носом в мелкое и бестолковое вранье. «Как я мог накануне не заметить изменений на плакате?!»
В Илюшине появилось что-то от опасной гончей собаки, идущей по следу: он возвращался на то место, где они уже прошли, осматривал молодые деревца, окруженные невысокими деревянными заборчиками, и сами заборчики осматривал тоже. Он разве что не принюхивался к запаху, поднимавшемуся от земли. На Сергея Макар не оборачивался.
Второй раз они остановились возле собаки. Крупная серая дворняга растянулась на асфальте возле подъезда Силотского, прикрыв нос грязной лапой.
– Силотский говорил, что ему кажется, будто соседи подкармливают не того пса, что был раньше, – подал голос Бабкин, рассматривая дворнягу. – И добавил, что пес отзывается на ту же кличку, что и раньше.
– На какую, не сказал?
– Нет.
Макар присел возле насторожившейся дворняги, которая нехотя подняла голову и уставилась на него.
– Хороший пес, хороший, – успокаивающе проговорил Илюшин. Он протянул руку, провел по шерсти пса и осмотрел пальцы. – Грязный только… Погладить-то тебя можно, псина?
Псина не возражала, и Макар погладил ее по спине, по морде, внимательно вглядываясь в короткую светлую шерсть. На руке у него осталось несколько волосков, которые он тоже пристально рассмотрел.
– Нет, на первый взгляд никаких изменений не видно, – вслух подумал он. – Вряд ли стали бы подменять собаку… Скорее уж покрасили бы хорошей краской.
Он подошел к зеленой двери подъезда, зачем-то подергал ее. Отошел назад и обшарил глазами козырек и окна первого этажа. В самом ближнем к двери подъезда окне в горшках на подоконнике цвела густая герань – темно-красные соцветия перемежались розовыми и белыми. На следующем стояли старые детские игрушки: пупсики, куклы в когда-то нарядных, но выцветших платьях, и облезлый синий кот с глазами-пуговицами.
Пока Илюшин изучал окна, Бабкин рассматривал дверь. Что-то с ней было не в порядке, с этой яркой зеленой свежевыкрашенной дверью. Слишком ровно она покрашена, и этот зеленый цвет…
Подобрав валявшийся на асфальте ржавый гвоздь, Сергей подошел к двери и сделал гвоздем глубокую царапину. Наклонился, рассматривая борозду, и присвистнул.
– Что такое? – обернулся Макар. – Что ты нашел?
– Иди, посмотри сам, – мрачно ответил Бабкин. – Здесь два слоя краски.
Под наружным сочным травяным слоем проглядывал второй, отличающийся по оттенку – темнее, насыщеннее.
– Значит, все-таки дверь, а не собака… Интересно, они ограничились перекрашиванием или придумали что-то еще?
Вопрос Макара остался без ответа, потому что в следующую секунду замок негромко пискнул, дверь распахнулась, и из нее выбежали, смеясь, те же самые девчонки, которых Бабкин видел накануне, зайдя в лифт с Силотским. «Теперь у меня дежавю, – подумал он, глядя им вслед. – Да что здесь происходит?»
– Не стой, заходи. – Макар уже был в подъезде, придерживал дверь.
– Молодые люди, вы к кому?
Бдительная консьержка привстала со своего места, рассмотрела обоих через стекло.
– Мы в сто первую, – Бабкин вспомнил номер квартиры Силотского. – К Ольге.
– А-а… Ну-ну.
Женщина, успокоившись, села на стул. По-видимому, она не знала о смерти одного из жильцов, а может, не хотела об этом говорить.
Войдя в лифт, Илюшин с Бабкиным осмотрели его так же внимательно, как и все остальное, но либо здесь не было ничьего вмешательства, либо они не могли найти следов. Когда двери лифта разъехались, Сергей на секунду испугался, что Макар собирается поговорить с Ольгой и им придется выражать соболезнования, утешать ее. От этого ему стало совсем паршиво, и Макар, словно почувствовав его состояние, сказал, не оборачиваясь:
– Не беспокойся, с его женой я не собираюсь встречаться. Я только хочу посмотреть…
Илюшин замер, глядя на номер двери.
– Точное попадание, – удовлетворенно кивнул он. – Я, правда, предполагал, что фишка будет в звонке, но и с номером тоже неплохая идея.
– В чем идея? – вполголоса спросил Сергей, разглядывая номер. – Где здесь фишка?
И вдруг увидел. Накануне он только мельком взглянул на золоченые цифры – две единички и нолик между ними – и отметил про себя, что номер написан не на табличке, а состоит из отдельных цифр, прикрепленных к двери. Цифры были изящные, красивые, и к ним просился маленький молоточек под стать, которым все приходящие могли бы негромко постукивать по двери. После слов Макара Сергей посмотрел на номер другими глазами, и тут же все стало очевидно.
– Среднюю цифру подменили. – Бабкин ощутил желание сесть, прислонившись к стене. – Черт бы их побрал, они подменили нолик!
Илюшин кивнул. Ноль между двумя единицами был чуть меньше и отличался от них, как могут различаться два очень похожих шрифта – разница была почти незаметной. Но она все же была.
– Поехали обратно, – сказал Макар, вызывая лифт. – Я совершенно уверен, что это еще далеко не все фокусы, которые проделывали вокруг Силотского.
Выйдя из подъезда, они не пошли к машине, как ожидал Сергей, а поднялись по лесенке, которая вела в салон-солярий. Им пришлось позвонить, чтобы открыли, и спустя несколько секунд на пороге появилась коротко стриженная девушка с загорелым лицом, точно служившая реклама заведения.
– Доброго дня, – сказал Макар, включив обаяние, что у него всегда хорошо получалось с молодыми девушками. – Не подскажете ли нам кое-что?
– Постараюсь, – улыбнулась девушка, скрывая за приветливостью настороженность.
– Насчет вашей герани. Мы с другом увидели ее с улицы и хотели узнать….
– Вот видишь, – сказал Илюшин двадцать минут спустя, когда они вышли из салона и помахали рукой двум похожим девушкам, обеспокоенно смотревшим в окно им вслед. – А ты говорил!
Бабкин ничего не говорил и в ближайшее время не собирался. Он чувствовал себя так, будто его окунули головой в бочку с противной вязкой холодной слизью, и подержали в ней. Ему было стыдно, что накануне он не увидел того, что заметил сегодня Макар, хотя его отправили именно для проверки рассказа Силотского, и к стыду прибавлялось ошеломление от увиденного и услышанного. Потому что исправленный плакат, перекрашенная дверь, перебитый номер на двери – все это было лишь частью изменений вокруг Дмитрия Арсеньевича Силотского.
– Да, мы переставляем герань, – не скрывая, рассказала девушка, открывшая им дверь. – Почему бы и нет? Деньги-то нелишние, а никому от этого не хуже.
– Вы переставляли герань с одного места на другое? – не понял Илюшин.
– Точно. Вроде как меняли ее, – вступила в разговор вторая, очень похожая на первую, кокетливо стреляя глазками в сторону Бабкина. – Тот мужик-то нам принес одни кусты, а у нас росли другие. Вот мы их и чередовали: день свои поставим, день – его. Он говорил, что девушку свою хочет порадовать.
Бабкин пристально посмотрел на кокетку и по ее лицу понял, что в выдумку с девушкой она не поверила ни на секунду. Но им заплатили, еще и цветов принесли, а просьба казалась такой ерундовой…
– Разные сорта, – заметил Илюшин, рассматривая горшки. – Листья разные, соцветия отличаются оттенками… «Значит, они исходили из того, что Силотский – визуал, – добавил он про себя. – Пока все, что мы видели, основывалось только на изменении облика предметов».
– И еще кое-что… – добавила неожиданно первая девушка, поколебавшись.
– Что? – вскинулся Бабкин.
– Музыку мне пришлось другую ставить. То есть вроде как такую же, а вроде как и нет.
Видя непонимание на лицах гостей, девушка объяснила: каждое утро она включает диск, потому что хозяйка заведения запретила держать в салоне телевизор, а в тишине им скучно. Музыка играет довольно громко, но к этому времени все соседи уже уходят по своим делам, и никто не возражает, тем более что по настоянию хозяйки у них не попса какая-нибудь звучит, а самая что ни на есть классика – Эдвард Григ.
– Приходивший человек дал вам другой диск? – по-прежнему не понимая, спросил Бабкин.
– Другой, точно. Да вы сами посмотрите.
Она сунула Макару один диск, Бабкину – второй. На обоих была записана одна и та же симфония Эдварда Грига – «Пер Гюнт».
– Разные записи, – вполголоса сказал Илюшин. – Берлинский симфонический оркестр – и наш. Исполнение различается, естественно. Большое спасибо. – Он вернул диск и уставился на Сергея.
– Эй, чего отличается? – забеспокоилась вторая, забыв о кокетстве. – Мы ничего такого не задумывали!
– А что случилось-то?
Стриженая, заботливо расставив герань на подоконнике, обернулась к Бабкину и Илюшину.
– К вам, наверное, сегодня из милиции придут, – сказал Макар, не отвечая на ее вопрос. – Вы им расскажите то, что нам сообщили. Тот человек, который к вам приходил, – он такой невысокий, с мешками под глазами и хмурый?
– Такой, такой, – закивала девчонка. – Только почему же хмурый? Не хмурый он был, а очень даже веселый. Девушку свою хотел порадовать… – Она поймала взгляд Бабкина и осеклась: – Подружку…
– Ладно, не расстраивайся, – бросил Макар, когда они сели в машину. – Все это действительно непросто было заметить.
– Ты же заметил, – возразил Сергей. – А я действовал по шаблону! И о герани я никогда в жизни бы не подумал… Как ты узнал, что цветы тоже подменяли?
– Потому что это яркое пятно, на котором останавливается взгляд. Эти люди – или один человек – использовали все обыденное, что окружало Силотского, но оно должно было быть заметным. Герань – заметна. Рекламный плакат тоже заметен. На дверном номере взгляд останавливается сам, как только выходишь из лифта. Про дверь в подъезд и говорить не буду. Полагаю, что всем перечисленным изменения не ограничились, но это то, что мы знаем точно.
Остаток пути они провели в молчании – каждый думал о своем. Сергей переживал вчерашний провал и старательно гнал от себя мысль, что, будь он внимательнее, Силотский мог бы остаться в живых. Макар мысленно повторял маршрут от стоянки до квартиры погибшего, намечая точки, в которых должны были быть дополнительные «изменения реальности», как он их назвал.
К Макару они поднялись, по-прежнему не говоря ни слова.
Год назад Илюшин купил себе самую обычную двухкомнатную квартиру на двадцать пятом этаже в одном из спальных районов Москвы. Офис им с Бабкиным был не нужен, и все клиенты приходили сюда. Окна выходили на парк, и Илюшин не раз говорил, что согласился бы и на вдвое меньшую площадь из-за прекрасного вида.
Кухонька и вправду была маленькая, но в ней помещались круглый стол, диван и куча разных шкафчиков, половиной из которых Макар не пользовался, а приобрел из-за игры света в разноцветных витражных дверцах. Они напоминали ему калейдоскоп – игрушку, которую он обожал с детства. Зато две другие комнаты оказались просторными, и вся квартира была очень светлой, залитой солнцем.
В обстановке проявлялся вкус Илюшина – любовь к беспорядочному чтению, фотографиям и комфорту. Сделанные на заказ вместительные, но не громоздкие шкафы были забиты книгами; на стенах висели фотографии, которые регулярно обновлялись; синие стулья и кресла необычной формы на поверку оказались очень удобными. Впрочем, в последнем клиенты редко могли удостовериться – для них в гостиной-«офисе» стоял «инквизиторский» стул: с высокой спинкой, гнутыми ножками, обманчиво пышной подушкой, предательски проминавшейся под садившимся. Большинство клиентов в первый раз садились именно на него, хотя Илюшин никого не ограничивал в выборе места – в гостиной хватало кресел.
Телевизор был куплен Макаром первый попавшийся, маленький и далеко не новый, и большую часть времени он пылился в углублении шкафа, потому что включали его крайне редко. Зато ноутбук с огромным экраном постоянно работал, показывая всем желающим заставку: белый маяк на зеленом обрыве, под которым бушует море. «Ирландия», – как-то пояснил Макар, заметив, что Бабкин разглядывает заставку. На стене напротив висела фотография того же места, только ракурс был другой, и можно было рассмотреть красную черепичную крышу домика, пристроенного к маяку, и луг с желтыми цветами вокруг него.
Сергей уселся в кресло напротив пейзажа с маяком и уставился на него в ожидании, что, может быть, от созерцания его осенит какая-нибудь дельная мысль. Но мысль не приходила.
– Зачем?! – спросил он, поняв, что уже две минуты созерцает маяк впустую. – Зачем это все было нужно?
– Как – зачем? – Макар размотал шарф и плюхнулся на диван. – Серега, как можно создать у человека эффект «жамэ вю»? Как заставить его поверить в то, что мир вокруг него ощутимо изменился, но никто, кроме него самого, этого не замечает? Как, в конце концов, убедить его в том, что он впервые оказался на той улице, по которой проходил десятки раз? Изменить ее! Изменить мир в деталях. Но изменить совсем немного – так, чтобы человек чувствовал изменения, но не видел их. Грань здесь очень тонкая, но, очевидно, фокусник не перешел ее, раз Силотский явился к нам с рассказом о своих проблемах. Достаточно перекрасить дверь в тот же цвет, но другой оттенок – и человек будет стоять возле нее, не понимая, что изменилось. Сменить одну цифру в номере – виртуозно подобрав очень похожую, но другую, – и он может сколько угодно смотреть на номер, но ничего не увидит. Идея с Григом и вовсе гениальна! Силотский обладал отменным музыкальным слухом – помнишь, он рассказывал, что играл в юности на разных инструментах, – и, конечно, будь источник звука рядом, он распознал бы, в чем дело. Но музыка играла в салоне, и он слышал ее то недолгое время, что выходил из подъезда и проходил мимо окна. Ему не хватало времени на то, чтоб отследить свои ощущения, сосредоточиться… Во всем, на что бы ни падал его взгляд, что-то менялось, но понять, что именно, было совершенно невозможно. Во всяком случае, если не задаться целью найти эти изменения по одному, как это сделали мы.
– Почему ты решил туда поехать? – глухо спросил Сергей, все еще переживавший свой провал.
– Интуиция подсказала. – Макар усмехнулся. – На самом деле я вспомнил собственные впечатления от Силотского и окончательно осознал, что он вовсе не показался мне больным человеком. А «жамэ вю», друг мой, – это симптом болезни. И одно с другим никак не согласовывалось.
– Теперь согласовалось.
– Теперь – да. И мы даже знаем, кто был непосредственным исполнителем этой идеи. Господин Качков, которому Силотский так доверял. Поезжай, кстати, к девушкам с фотографией, убедись, что к ним приходил именно Качков, хорошо?
Бабкин кивнул. Он был уверен, что девушка в солярии описывала именно заместителя Силотского, но нужно было знать наверняка.
– Непонятно только, что нам теперь делать с этой информацией, – задумчиво проговорил Илюшин, зачем-то меняя местами две фотографии на стенах. – И кому, интересно, было выгодно убедить бедного Ланселота в том, что он, того гляди, окажется в совсем другом мире… Вся эта затея с «жамэ вю» – зачем? Для чего? И если Силотский поверил в то, что вокруг него происходит что-то иррациональное, зачем же нужно было его убивать?
– Макар, я должен кое-что тебе рассказать, – медленно произнес Бабкин, не глядя на него.
Илюшин посмотрел на него ясными глазами, в которых отразилась какая-то мысль, и кивнул с заинтересованным видом:
– Если должен, рассказывай.
Сергей вздохнул, потому что говорить об этом ему совершенно не хотелось, несмотря на то, что прошло много лет. И начал рассказывать.
Мария вытерла руки тряпкой, бросила ее на подоконник. Обернулась на скульптуру, прищурившись так сильно, что еле-еле различила контуры фигуры, зажмурилась, отвернулась, и только тогда открыла глаза. Это был ее ритуал, ее волшебное действо, которым Томша заканчивала каждую работу. Нечто суеверно-мистическое, во что она вкладывала глубокий смысл: увидеть скульптуру «полуслепым» взглядом, сохранить ее такой в памяти, запечатав смыканием век, а минуту спустя уже обнаружить готовую работу, в которую она, Мария Томша, вдохнула жизнь. Игра с самой собой: из невнятных контуров получалась безупречная скульптура, к которой она словно бы и не имела отношения.
Гипсовая птица вышла очень удачной. Конечно, ничего серьезного, обыкновенная разминка для пальцев перед новой большой работой – Марию ожидал заказ, к которому она собиралась приступить на следующей неделе, – но Томше она нравилась. Это была сова, все детали которой вышли преувеличенно крупными: слишком огромные даже для совы глаза, похожие на очки, резко изогнутый клюв, как будто птице его сломали, длинные – фалдами сюртука – крылья, сложенные за спиной. Перьев не было, и сова производила впечатление голой.
– Посмотрим, что вы на это скажете… – пробормотала Томша, обращаясь к конкретному человеку.
Но он, Мария знала, ничего не стал бы ей отвечать. Он, этот человек, предпочитал деревянные скульптуры, а ее гипсовые и глиняные творения называл поделками, пряча за снисходительностью презрение и насмешку.
А она не любила дерево. Да, оно предоставляло такие возможности, которые были недоступны ей, работающей с камнем, глиной или гипсом, оно само подталкивало к тому, чтобы использовать выброшенные в разные стороны, словно руки, корни и ветви, позволяло прорезать его глубоко внутрь, забираясь в самую сердцевину. Но это и отталкивало Томшу. Чтобы работать с деревом, нужно изучить его характер, особенности, прислушаться к тому, что живет внутри, и осторожно высвободить это. С глиной и гипсом Мария ощущала себя чистым творцом – из ничего появилось «что-то», с деревом она была сотворцом природы. А делиться лаврами с кем-то, хотя бы и с природой, Мария никогда не любила.
И еще дерево было слишком живым. Любой исходный чурбан, который можно изрезать на куски, распилить, сжечь без остатка, являлся живым материалом, чувствующим ее руки, отзывающимся на прикосновения пальцев. И, как все живое, он диктовал свои правила – куда жестче, чем делал это самый капризный камень. Дерево нельзя было резать против волокна, оно реагировало на погоду и перепады температуры, оно трескалось и отказывалось воплощать ее замыслы. Дерево рвалось вверх – да, бессмысленный чурбан, даже заваливающийся набок, все равно тянулся ввысь, и скульптуры из него получались такие же, устремленные к небу. Работы самой Марии прижимались к земле, она распластывала их, подчиняла силе тяготения, как будто оно было в два раза больше, чем в действительности, усиливала плоскости, горизонтали. Даже ее сова была овалом – но овалом, ориентированным горизонтально.
Томше это не нравилось. Она старалась презирать дерево, как презирала все, что отвергало ее, и лепила из послушного материала, иногда берясь за камень. Мрамор… Она усмехнулась. Там были свои сложности, но сложности другого порядка, преодоление которых ей нравилось, заставляло ощущать себя бойцом. Хорошее чувство, насыщающее.
Она села на табуретку – единственный предмет мебели в комнате, давным-давно превращенной в мастерскую. Альбом с ее набросками валялся на полу, под ногами, и Мария лениво наклонилась, подняла его, перелистнула несколько страниц, пока не остановилась на портрете, нарисованном ею утром.
Не портрет – набросок. Стоило ей услышать утренние новости, как она, придя в себя, схватилась за карандаш по старой студенческой привычке, судорожно набросала знакомое до каждой морщинки лицо – вьющаяся борода, бакенбарды, широкий нос, немного вывернутые губы. Отшвырнула альбом в сторону и, раскачиваясь, принялась мерить широкими шагами мастерскую, лавируя между готовыми скульптурами, заготовками и материалом. В руки просилась красная пластичная глина, из которой пальцы, помнящие его лицо, могли бы слепить фавна, запрокидывающего в похотливом смехе косматую голову. Но она удержалась.
Вместо этого она подобрала альбом и изобразила скупыми штрихами две головы: первую – курчавую, горбоносую, вторую – с типичными, ничем не примечательными европейскими чертами лица и ненавидящим взглядом, устремленным на фавна. Закончив рисовать, Томша вырвала лист из альбома, с наслаждением смяла его, чувствуя ладонями шероховатость бумаги и углы сминаемых поверхностей, швырнула его рядом с печью для обжига. И растянула в довольной улыбке полные губы, так что обнажились короткие острые резцы желтоватого цвета.
Глава 4
Ольга не простила Бабкину ухода из банка. Поступок мужа она расценила как предательство – худшее, чем измена, поскольку самыми страшными последствиями измены считала нехорошие болезни. Болезни были излечимы. А вот отказ Бабкина вписываться в «нормальную жизнь» означал крах ее мечтаний. Семья превращалась не в уютное гнездышко, в котором ей отводилась роль защищенной со всех сторон птички, сидящей на яйцах и время от времени любовно декорирующей стенки гнезда цветными перышками, а во что-то непонятное, где она должна была сама о себе заботиться.
Такая семья Ольге была не нужна. Но все ее воспитание восставало против того, чтобы уйти от мужа. Во-первых, уходить было не к кому. Что бы ни говорила ее мать Марина Викторовна, какие бы примеры ни приводила, на Ольгином горизонте не слишком часто появлялись состоятельные бизнесмены или хотя бы частные врачи, готовые сделать ей предложение руки и сердца. Во-вторых, развод представлялся Ольге безусловным поражением – она оставалась одна, без мужа, без средств к существованию, поскольку сама зарабатывала недостаточно.
Весь следующий год их жизни был наполнен ссорами и скандалами. Ольга попрекала мужа всем: невозможностью купить хорошую еду, заплатить за поездку в Турцию, одеться в приличном магазине. Поначалу цель ее придирок была проста: руководствуясь поговоркой «вода камень точит», Ольга надеялась переубедить мужа и заставить его вернуться на стезю зарабатывания денег.
– Посмотри! – кричала она, тыча ему в лицо фотографию подруги – на снимке подруга нежилась в синем море, на заднем плане возвышались горы. – Мы даже паршивый Египет не можем себе позволить! Ты мужик или нет? Если мужик, так обеспечь семью!
– Оля, если тебе так нужен Египет, попробуй сама на него заработать, – не выдержал Сергей.
– Что-о?! Ты заставляешь меня идти на панель?
– Черт возьми, а другие способы заработать тебе в голову не приходят? В конце концов, у тебя хорошая специальность! Зачем ты тратишь время в своей конторе, если полученных денег тебе хватает только на булавки?
– Потому что это муж должен обеспечивать семью, а не жена! Муж, понимаешь?! А ты вместо этого…
Бабкин качал головой, уходил. Он уже знал, что значит «вместо этого»: выступления жены повторялись раз в две недели и не отличались разнообразием.
Ольга использовала все инструменты в борьбе за право самой распоряжаться судьбой мужа: прогоняла его из постели, лишая секса, не готовила еду и раздраженно швыряла на стол дешевые полуфабрикаты в ответ на просьбу Сергея разогреть ему ужин, надолго замолкала, уходя в себя, после звонка подруги, лишний раз убедившись: все живут хорошо, кроме нее, Оли Бабкиной. Постепенно в ее борьбе цель отступила на задний план, поскольку Ольга поняла, что не сможет ни переубедить, ни заставить мужа подчиниться ее желаниям. Но процесс был запущен, и остановиться она уже не могла. Глухая раздражительность постоянно сидела в ней, время от времени вулканом прорываясь наружу и заливая все вокруг черной лавой.
Очень быстро их семейная жизнь стала рутиной в худшем смысле, с предсказуемыми ссорами, беспричинными обидами, упорным глухим молчанием Сергея. Он постепенно возвращался в ту же броню, которая упала с него под воздействием влюбленности, и Ольга жаловалась подругам, что муж все менее ласков с ней.
Позже Сергей не мог внятно объяснить самому себе, почему он столько лет терпел рядом женщину, быстро ставшую ему чужой. Детей Ольга не хотела рожать, мотивируя это тем, что не собирается растить ребенка в нищете. Жили они в квартире Сергея, оставшейся ему от родителей, и ездили на его же старенькой безотказной «пятерке» (машина – еще один предмет насмешек Ольги, подруги которой давно обзавелись пусть подержанными, но иномарками). При несходстве их взглядов на семейную жизнь они были похожи на лошадей, тянущих одну повозку в разные стороны и время от времени лягающих друг друга копытами.
Ольга не желала слушать о работе мужа, и их редкие разговоры были наполнены бытовыми подробностями либо обсуждением знакомых и друзей. В одно мартовское утро Сергей проснулся и, слушая звук капели за окном, вдруг отчетливо понял, что больше так жить не будет. На второй половине их широченной кровати, как будто специально сделанной такой большой не для комфорта, а для увеличения расстояния между супругами, лежала Ольга, и при взгляде на нее Бабкин не испытал никаких чувств, кроме усталости.
За завтраком он сказал, что хочет развестись. И реакция жены в очередной раз его поразила.
Ольга разрыдалась. Она закатила истерику, грозилась вскрыть себе вены, если он уйдет, вытащила телефон Сергея из сумки и пыталась найти в нем имя любовницы, ради которой он бросает ее. Затем на Бабкина посыпались обвинения. Он даже не пытался оправдываться, не в силах понять, из-за чего она так переживает.
– Оль, – потрясенно сказал он, когда в ее рыданиях наступила пауза. – Ты же меня не любишь! Года три уже не любишь, а может, и все четыре. Вспомни – когда мы с тобой последний раз любовью занимались?
– Если тебе нужен секс, так и скажи, – всхлипнула она.
– Да не в сексе дело! А в том, что мы с тобой не нужны друг другу!
– Ты мне нужен! Я… я не верю, что ты хочешь просто так уйти, похоронив все, что нас связывает.
– Да что нас связывает?! Что?!
– Прошу тебя, дай нам еще один шанс! Хотя бы месяц!
Глядя на ее содрогающиеся плечи, Сергей согласился, ни на секунду не поверив в то, что у них что-то получится. Перегорело.
Ольга, убежденная, что Бабкин никуда от нее не денется, потому что слишком ценит семейную жизнь, перепугалась. Мать внушала ей, что брошенная женщина – это клеймо на всю жизнь, и собственным примером убедительно доказывала, что от такого удара не оправляются. Каким бы неудачливым и никчемным ни был муж, он придает женщине статус и вес.
Боязнь разделить судьбу матери охватила Ольгу до такой степени, что она энергично принялась за восстановление семейного очага, не понимая, до какой нелепости доходит в своих попытках. Горячий ужин, красивое нижнее белье, нежные интонации в голосе и вопросы о том, успел ли муж сегодня пообедать… Если бы Бабкин хотел манипулировать женой, он был бы доволен. Но он не хотел.
Как-то вечером Сергей поставил «пятерку» в гараж и пошел к магазину, вовремя вспомнив, что Ольга просила купить вина к ужину. Пить вино он не собирался, но понимал, что бутылка «Токайского» – обязательная часть вечерней программы «прилежная жена встречает любимого мужа». Когда он вышел из магазина с бутылкой в руках, неподалеку раздался громкий голос, и краснолицая женщина лет пятидесяти направилась к Сергею с явным намерением о чем-то его попросить. На ней была длинная желто-красная юбка в цветах, зеленая шаль с бахромой такой длины, что она свисала ниже юбки, а на голове отчего-то кепка с длинным козырьком. Под козырьком пряталось лицо – отекшее нездоровое лицо пьющей бабы, постаревшей раньше времени.
– Ма-а-аладой человек! – Она подошла почти вплотную, уставилась на Бабкина нагловатыми серыми глазами, небрежно обведенными черной подводкой. – Молодой человек, не откажите даме: одолжите червонец.
Секунду Сергей колебался, затем хмыкнул и полез в карман за купюрой. Он не любил попрошаек, но тем, кто просил для себя, подавал почти всегда.
– Молодой человек, я буду признательна вам до конца жизни!
Попрошайка взяла десятку, но в ту секунду, когда Бабкин собрался уходить, пригляделась и цепко схватила его за руку.
– Постой, красивый, – протянула она. – Давай я тебе хорошее дело сделаю.
– Я тебе сейчас сам хорошее дело сделаю, – пригрозил Сергей, решив, что дама хочет расплатиться натурой.
Но та, не слушая его, быстро перевернула ладонь Сергея и уставилась на нее, беззвучно шевеля губами. Бабкину стало смешно. «Банальный развод, значит. Можно было сразу догадаться».
– Брось, – сказал он. – На цыганку ты похожа так же, как я на папуаса.
Та подняла на него встревоженные глаза.
– Ты меня слушай, – сказала она, и Бабкин с удивлением заметил, что «пьяная» растянутость ее речи куда-то делась. – Цыганка тебе правду никогда не скажет, а я все вижу.
– Руку отпусти, – мирно попросил Сергей.
Вместо того чтобы подчиниться, баба быстро провела толстым жестким пальцем с обкусанным ногтем по краю его ладони.
– Ты что-то серьезное задумал. – Она покачала головой, нахмурилась. – А твое серьезное плохим для тебя может обернуться. Хочешь жизнь свою изменить, только нельзя тебе ее менять, никак нельзя! Да подожди ты, не вырывайся! – Она покрепче перехватила руку Бабкина: хватка у нее оказалась неожиданно сильной. – Что я, цыганка, чтоб голову тебе морочить?! Зайди во двор, тебе любой скажет: баба Люба, может, и непутевая, но врать никому не станет. Меня бабушка учила, как по линиям читать.
– Не выпустишь руку, отведу тебя в отделение, – предупредил Бабкин, которому вовсе не хотелось куда-то вести эту дурную бабенку. На цыганку она и в самом деле не походила, несмотря на свои юбки-шали, – лицо у нее было самое простецкое, курносое.
– Да ты смотри сам! – Она поднесла ладонь Сергея к его лицу. – Видишь две линии? Вот, расходятся, как развилка. По этой линии пойдешь, повалятся на тебя несчастья! Три раза линия пересекается, а на четвертый – смотри! – рвется. Понял, что это значит?! Баба Люба тебе врать не будет!
На Бабкина пахнуло перегаром и еще каким-то странным духом от шали, словно ткань вымачивали в грибном бульоне. Он невольно отвернул лицо в сторону, но выпивоха тут же дернула его за руку.
– Говорю тебе, смотри, потом благодарить меня будешь! Вторая линия у тебя чистая – пойдешь по ней, плохого у тебя не будет. Главное – ничего в своей жизни не меняй, она у тебя сейчас хорошая, хоть ты этого и не понимаешь. И зла никому не делай, не обижай никого, понял?
Бабкин, рассердившись вконец, выдернул у нее руку и быстро пошел прочь, ругая себя за глупость. Баба Люба рванула за ним, увиваясь вокруг.
– Не нужно, ничего мне не нужно! – быстро говорила она, забегая то справа, то слева. – Ты мне денег дал, я тебе за это благодарная, вот и хочу предупредить, хорошего человека от беды огородить! Вижу, что ты кого-то сильно обидеть хочешь! Дети есть у тебя? Жена у тебя есть? Не обижай их, слышишь? Добра тебе желаю, дураку! Если будешь зла им желать, оно к тебе же и вернется! Сначала мелкие неприятности будут, а потом все крупнее и крупнее, и остановить-то ты уже ничего не сможешь… Не беги, послушай! Тьфу!
Она наконец остановилась, но продолжала что-то кричать ему вслед, и Бабкин до самого дома слышал ее надрывающийся голос.
Нелепое происшествие вылетело у него из головы, как только он перешагнул порог квартиры, и он ничего не стал рассказывать Ольге – последние годы их брака отбили у него эту привычку. Следующие два дня он изредка вспоминал пьянчужку, сам себе удивляясь. Запах грибов от шали, казалось, впитался в его куртку, и Сергей, морщась, принюхивался, пытаясь разобраться, так ли это на самом деле или ему только кажется.
На третий день после происшествия, выйдя утром из дома, он направился, как обычно, мимо детской площадки к гаражам. Стая собак – их было семь-восемь – нахально разлеглась в песочнице возле детского домика с облупившейся краской, и Сергей подумал, что давным-давно пора оградить площадку забором. Внезапно грязно-белый пес, самый крупный из стаи, вскочил и залаял, повернув к Бабкину вытянутую морду. Лаял он зло, напористо, и Сергею это не понравилось.
Он осторожно обошел площадку, стараясь не ускорять шаг, но спустя полминуты к лаю вожака присоединились хриплые голоса его товарищей, и, обернувшись, Бабкин увидел, что вся стая вскочила. Он успел подумать: не хватало еще, чтобы собаки бросились на него, – и в следующую секунду именно это и произошло.
Первым сорвался с места грязно-белый вожак. Он бежал быстро, целеустремленно, как бежит собака, которая собирается не испугать, а укусить. Больше пес не лаял. Длинную морду он опустил к земле, словно сгорбившись, и короткая шерсть на его загривке стала дыбом. Остальные мчались за ним, и только самый мелкий пес отстал, будто понимая, что торопиться ему некуда.
Собаки окружили Сергея полукругом, остервенело лая на него. «Вот черт возьми! Как обидно, что я от подъезда отошел так далеко». Бабкин потянулся к кобуре, и вожак тут же прыгнул на него, норовя вцепиться в бедро. Бабкин отпрянул, желтые зубы лязгнули в воздухе, и пес отскочил в сторону, глядя на неожиданно появившийся в руке человека черный предмет.
– Пристрелю, как собаку, – пообещал Сергей, недобро усмехнувшись. – Пшел вон, шавка!
Стая продолжала оглушительно лаять, и Бабкин сделал резкое движение, словно наклоняясь и подбирая что-то с земли. Вожак отпрянул в сторону, за ним шарахнулись и остальные.
«Ага, это тебе знакомо лучше, чем пистолет».
Новый выпад – и собаки разбежались в разные стороны, продолжая гавкать, но без прежнего энтузиазма. Теперь моральный перевес был на стороне Сергея, и он незамедлительно воспользовался им, решительно шагнув к белому подстрекателю.
– А хочешь, собачка, я тебе шею сверну? – предложил он, не отводя глаз от оскаленной морды. – Ты животное дурное, нехорошее… Не дай бог, ребенка покусаешь.
Ярость, звучавшая в голосе человека, заставила вожака отступить. Стараясь не ронять достоинства, пес отбежал на несколько шагов, еще раз облаял Бабкина и наконец неторопливо затрусил прочь. Стая послушно побежала за ним, в одну секунду забыв об объекте несостоявшейся охоты. Сергей сунул пистолет в кобуру, проводил собак долгим взглядом и пошел к гаражу.
Вечером следующего дня, вешая в кухне оторвавшуюся штору, Бабкин немного натянул ее, и она с треском свалилась ему на голову. Не удержав равновесия, Сергей упал со спинки дивана, больно ударился плечом об угол комода и выругался, когда сверху его накрыла пыльная занавеска.
Выбравшись из-под нее, он осмотрел дырки в стене и вспомнил тетку у магазина. Происходящее нравилось ему все меньше и меньше.
Прошла неделя, и он почти выкинул из головы пьяную бабу с ее глупыми разговорами. В воскресенье Ольга вытащила его гулять, хотя Сергей никогда не любил просто так шататься по их району, обоснованно предполагая, что не стоит притягивать к себе неприятности. Он пытался убедить жену съездить куда-нибудь в центр, посидеть в кафе, но та отказалась.
– Хочу просто пройтись с тобой рядышком, – сказала Ольга, заглядывая ему в глаза и робко улыбаясь. – Я, наверное, уже забыла, каково это – гулять, держа тебя под руку.
Они бесцельно шатались между домов, и Сергей изо всех сил пытался поддерживать разговор, внимательно слушая жену. Ольга вспоминала своих подруг, со смехом рассказывала о матери, купившей новый разноцветный чайник и боявшейся его использовать, осторожно делилась мыслями об отпуске. Внешне все выглядело как тогда, когда они только начали встречаться и были очень счастливы. Но в голове у Бабкина против его воли всплыли слова попрошайки: «Хочешь жизнь свою изменить… Только нельзя тебе ее менять, никак нельзя».
– Пойдем-ка домой, – предложил он, беря жену под локоть. – Мне ботинок ногу натер.
Ольга забеспокоилась, предложила присесть и отдохнуть на скамеечке под сиренью, но Бабкин был настойчив. Ощущение, что их мирный вечер закончится вовсе не так, как хотелось бы, гнало его домой, заставляло настороженно оборачиваться через каждые десять шагов, присматриваться к торопившимся прохожим.
Они почти успели. До подъезда оставалось не больше десяти шагов, когда Бабкина догнал гнусавый голос.
– Эй, мужик! Закурить не найдется?
Трое парней, совсем молодых, лет по восемнадцать каждому, торопливо догоняли их с Ольгой.
– Закурить, говорю, есть?
Двое были неуловимо похожи – оба с развитой мускулатурой, которую подчеркивали обтягивающие майки, с короткими стрижками, широкими нижними челюстями, равномерно перетиравшими жвачку. Третий, обладатель гнусавого голоса, в противоположность им казался червяком – тощим, вихляющимся из стороны в сторону, с землистым лицом, покрытым бугорками прыщей. У Сергея не было никаких сомнений, что именно он – главный.
– Не курю, – неторопливо ответил Бабкин, прикидывая, кто из двоих качков вступит в драку первым.
– Что, и кобылка твоя не курит? Врешь!
Сергей успел уйти от первого удара, потому что ждал его, но он все же не думал, что прелюдия к драке будет такой короткой. «Ритуал не выдержан», – мелькнуло у него в голове, потому что по обычному, хорошо знакомому ему сценарию жертва должна возмутиться, чтобы у нападавших было полное моральное право ее избить. Эти трое не стали дожидаться его возмущенной реплики и ударили первыми.
Второй удар оказался неожиданно точным – в солнечное сплетение, и Бабкин охнул, согнувшись пополам. Завизжала Ольга и тут же замолчала, словно крик перерезали. Повалившись на асфальт, Сергей увернулся от ноги в тяжелом ботинке, перекатился, схватил первое, что попалось под руку, и снова вскочил, оценивая ситуацию.
Гнусавый стоял возле Ольги, первый качок готовился ко второму раунду, а второй рассматривал Бабкина чуть удивленно, словно не ожидал, что ему окажут сопротивление. Сергей не ошибся – он и впрямь был удивлен тем, с какой легкостью мужик ушел от первого удара. «Тренированный, сволочь, здоровый и быстрый. Очень быстрый».
– Не трогайте его, у него пистолет! – выкрикнула Ольга каким-то не своим, визгливым голосом.
Пистолета у Сергея, конечно же, не было, но он получил выигрыш на долю секунды – старший из бойцов смерил его оценивающим взглядом, и Бабкин тут же молниеносно прыгнул на него, повалил, приложил кулаком и отскочил, пока на него не успел навалиться второй. Он уже разложил для себя ситуацию и стал совершенно спокоен – ясно, что серьезную угрозу представляет только тот, кому он только что, судя по стонам и ругательствам, сломал нос. Исход драки был вопросом времени, но тут гнусавый, видимо, догадался, что затея потерпела поражение, и, проворно отскочив от Ольги, бросился бежать. За ним исчезли в сгустившейся темноте и двое его приятелей. Сергей прикинул, не стоит ли их догнать, но понял, что не сможет.
– Оль, с тобой все в порядке?
Он наклонился над женой, которая беспомощно опустилась на корточки возле стены и тихо всхлипывала.
– Что ты плачешь? Эта сволочь тебе что-то сделала?
– Нет. – Она всхлипнула последний раз, вытерла слезы. – Я за тебя испугалась!
– Ничего, все в порядке. Пойдем домой.
Ольга не могла успокоиться до полуночи, цеплялась за него, просила прощения за то, что потащила его на улицу, переживала, не сломаны ли у Сергея ребра. Бабкин терпеливо успокаивал ее, но мысленно был далеко и от жены, и от нелепой короткой драки. Ему нужно было хорошенько все обдумать, а жена со своими переживаниями мешала, хотя он изо всех сил старался не дать ей этого понять.
– Ты дождался четвертой неприятности? – спросил Макар, когда Бабкин сделал паузу в рассказе.
– Нет, не стал. Я, знаешь ли, не мазохист.
– Значит, все происходившее с тобой ты отнес к последствиям своего решения развестись с женой, – задумчиво подытожил Илюшин. – Потому что это совпадало с тем, что напророчила тебе попрошайка возле магазина. Я правильно рассуждаю?
– Почти. Вот только я, Макар, реалист. И всю жизнь им был. Поэтому можешь сам догадаться, что я сделал потом.
Сергей Бабкин и впрямь был реалистом до мозга костей. С его точки зрения ситуация выглядела следующим образом: незнакомая женщина предупредила, что его ждут неприятности, если он вздумает изменить что-то в своей жизни. Поскольку решения развестись с Ольгой Бабкин не менял, и это была самая крупная ожидаемая перемена, то логично было бы объяснить последующие гадости сбывающимся пророчеством. Другой человек на его месте внял бы предостережениям судьбы, так решительно демонстрирующей нежелательность выбранного им пути.
Бабкин тоже им внял. Только немного не так, как хотелось судьбе или кому-то, кто действовал от ее имени.
«Бабу Любу» он и впрямь нашел в соседнем дворе, предварительно поговорив с участковым и описав ее. Он ожидал, что она окажется бывшей актрисой, но Люба-Голуба, по паспорту – Любовь Игнатьевна Голишко, не имела отношения к сцене: до того, как ее уволили, она работала поваром при крупной столовой.
Сергею не потребовалось много времени на то, чтобы убедить ее рассказать правду, – удостоверение оперативника и звонок участковому, подтвердившему недоверчивой Голубе слова Бабкина, сделали свое дело.
– Вот дура-то я, – суховато сказала Любовь Игнатьевна, положив трубку и вытирая руки о засаленный цветастый халат. – И впрямь поверила твоей супружнице.
– Что она сказала?
– Сказала, что ты вроде как не из самых бедных людей. Собрался, сказала, уйти к любовнице, а ее с грудным дитем бросить одну. Припугнуть тебя хотела, чтобы ты раскаялся, а не то ей одной с ребенком-то тяжело бы пришлось.
– Ну да. Одну бросить. В бочке, на волю волн, – кивнул Бабкин, который ожидал чего-то в таком духе.
– Что дальше со мной делать будешь? – Неудавшаяся гадалка присела на табуретку и исподлобья посмотрела на оперативника.
– Да ничего не буду делать, – пожал плечами Сергей и, не удержавшись, добавил: – А ты артистка!
Обрадованная Люба приосанилась, запрокинула голову.
– Да-а-ай погадаю тебе, – предложила она, сдерживая усмешку. Голос ее изменился: стал нахальным, зазывным. – Честно тебе говорю, красавец – все хорошо будет у тебя в жизни, счастье будет, деньги будут!
Люба-Голуба обмахнулась воображаемым веером и подмигнула Бабкину хитрым глазом.
– Она призналась, что Ольга ей заплатила, – мрачно закончил Сергей, перекатывая между пальцами резиновый шарик и сжимая его в такт своим словам. – Тех троих идиотов, которые напали на нас вечером, тоже нашла Голишко – один из них оказался ее двоюродным племянником. Я потом с ними поговорил. – Он недобро усмехнулся. – Мальчики, правда, никак не могли взять в толк, чем же я так недоволен: пострадал-то один из них, а не я. Оказывается, Оля их заверила, что серьезной драки не будет, потому что она почти сразу крикнет условную фразу о пистолете, и они убегут – сделают вид, что поверили и испугались. В общем-то, так оно и вышло, только я успел одному из них нос сломать, а они меня саданули под ребра. Про гардину, думаю, мне не нужно тебе объяснять – ослабить шурупы было проще простого. Что еще…
– Мне очень интересно, как был проделан фокус с собаками, – признался Илюшин. – Или это был элемент случайности, который удачно вписался в остальной план?
– Нет, Макар, не был.
– Хм. Дай подумать… Супруга подложила тебе в карман приборчик, который вызывает агрессию у животных?
Бабкин рассмеялся, покачал головой.
– Все куда проще. Если я скажу, что стаю прикармливала все та же Голишко, этого будет достаточно? Кстати, вожак, как я позже убедился, умнейший пес, хорошо понимающий команды.
– А, вот в чем дело! Она подала команду, когда ты вышел из подъезда?
