Тысяча поцелуев, которые невозможно забыть
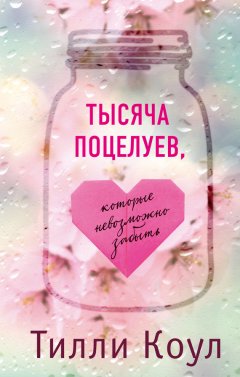
Посвящение
Верующим в истинную, эпическую, всепоглощающую любовь.
Это — для вас.
Пролог
Мою жизнь определили четыре эпизода.
Этот — первый.
Блоссом-Гроув, Джорджия
Соединенные Штаты Америки
Двенадцать лет назад
Возраст — пять лет
— Jeg vil dra! Nе! Jeg vil reise hjem igjen! — крикнул я во весь голос, чтобы мама поняла — я хочу уехать! Прямо сейчас! Хочу вернуться домой!
— Мы не вернемся домой, Руне. И мы никуда не уедем. Теперь наш дом здесь, — ответила мама по-английски и, присев, посмотрела мне в глаза. — Знаю, ты не хотел уезжать из Осло, но твой папа получил новую работу здесь, в Джорджии, — добавила она мягко и погладила меня по руке. Вот только мне лучше от этого не стало. Я не хотел жить здесь, в Америке. Я хотел вернуться домой.
— Slutt е snakke engelsk! — огрызнулся я, потому что терпеть не мог говорить по-английски. С тех пор как мы уехали из Норвегии в Америку, мама и папа обращались ко мне только на английском. Мол, мне надо приучаться.
А я не хотел!
Мама выпрямилась и подняла с пола коробку.
— Мы теперь в Америке, Руне. Здесь говорят на английском. И ты говоришь на английском столько же, сколько и на норвежском. Пришло время воспользоваться им.
Я сердито посмотрел на нее, но с места не сдвинулся. Она обошла меня и направилась к дому. Я огляделся. Улица, на которой мы теперь жили, была маленькая. Всего восемь домов. Все дома большие, но выглядели по-разному. Наш был красный, с белыми окнами и огромной верандой. Моя комната, тоже большая, находилась на первом этаже. Вообще-то, она мне нравилась. Классная комната. Раньше, в Осло, я никогда не спал внизу — только наверху.
Я присмотрелся к домам. Все были окрашены в разные яркие цвета: голубой, желтый, розовый… Я задержал взгляд на соседнем. Так близко… Нас разделяла только полоска травы. Оба дома большие, с большими дворами, и между ними ни стены, ни забора. Мне ничего бы не стоило, при желании, забежать в их двор.
Этот, соседний, дом был весь белый, и веранда как будто опоясывала его целиком. Во дворе, впереди, стояли кресла-качалки и качели. Оконные рамы были черные, и одно окно находилось напротив моего. Ровно напротив! Мне это не понравилось. Не понравилось, что из моей спальни можно смотреть в чужую, а они могут заглядывать в мою.
На земле валялся камешек. Я поддал его ногой, и он выкатился на улицу. Я уже повернулся, чтобы пойти за мамой в дом, но услышал шум. Какие-то звуки, доносившиеся из соседнего дома. Я посмотрел на их переднюю дверь — оттуда никто не выходил — и стал подниматься по ступенькам, но краем глаза заметил движение. Что-то происходило в окне первого этажа. Том самом, что смотрело в окно моей комнаты.
Рука замерла на перилах — в окне появилась девочка в ярком голубом платье. Забравшись на подоконник, она спрыгнула на траву и вытерла ладони о платье. Я знал, что девочка вот-вот поднимет голову, и заранее насупился. Волосы у нее были каштановые и собраны на голове так, что напоминали птичье гнездо. Сбоку висел большой белый бант.
Она подняла голову и посмотрела прямо на меня. А потом улыбнулась. Во весь рот. Помахала, подбежала и, остановившись передо мной, протянула руку.
— Привет, меня зовут Поппи Личфилд. Мне пять лет, и я живу по соседству.
Я уставился на нее с любопытством. Говорила она немножко странно, и ее английские слова звучали не так, как мы учили их дома, в Норвегии. На лице у девочки красовалось грязное пятно, на ногах — ярко-желтые резиновые сапожки с большими красными шарами сбоку.
Вид у нее был чудной.
Я перевел взгляд с ног на руку. Поппи ее так и не опустила. Что делать? Чего она ждет? Что ей нужно?
Девочка вздохнула. Тряхнула головой. А потом взяла мою руку и всунула в свою. Пожала, потрясла два раза.
— Это — рукопожатие. Моя бабуля говорит, что когда встречаешь новых людей, надо пожимать руку, здороваться. — Она показала на наши руки. — Мы поздоровались. Так делают вежливые люди, когда хотят познакомиться.
Я не ответил. Не знаю почему, но голос как будто потерялся. А потом посмотрел вниз и понял — это потому, что мы еще не разжали руки.
Как и лицо, пальцы у нее были в грязи. Она вообще вся перепачкалась.
— А как тебя зовут? — спросила Поппи, склонив голову набок. В волосах у нее застрял прутик. — Эй! — Она потянула меня за руку. — Я спросила, как тебя зовут.
Я откашлялся:
— Меня зовут Руне. Руне Эрик Кристиансен.
Поппи наморщила нос и втянула большие розовые губы. Получилось забавно.
— Ты чудно говоришь, — выпалила она.
— Nei det gjшr jeg ikke! — буркнул я и выдернул руку. Она наморщилась еще больше.
Я повернулся и пошел к дому. Разговаривать с ней мне уже не хотелось.
— Что ты сказал? — спросила Поппи.
— Ничего, — сердито бросил я через плечо и уже на английском добавил: — Это по-норвежски!
Ее большие зеленые глаза сделались еще больше. Поппи подошла ближе, потом еще ближе.
— По-норвежски? Как викинги? — пропищала она. — Бабуля читала мне книжку про викингов. Там говорилось, что они из Норвегии. Руне, а ты — викинг? — Глаза у нее полезли на лоб.
Я с гордостью выпятил грудь. Папа всегда называл меня викингом и говорил, что в нашей семье все мужчины — викинги. Крепкие, смелые и сильные.
— Ja. Мы — настоящие викинги, из Норвегии.
По ее лицу расплылась широкая улыбка. Поппи громко, по-девчоночьи, хихикнула, подняла руку и потянула меня за волосы.
— Вот почему у тебя такие длинные светлые волосы и голубые, чистые, как хрусталь, глаза. Потому что ты — викинг. А мне поначалу показалось, что ты выглядишь как девочка…
— Никакая я не девочка! — возразил я, но Поппи, похоже, не обратила внимания. Я провел по волосам ладонью. Они были у меня до плеч, как носили все мальчишки в Осло.
— …но теперь-то я понимаю, это потому, что ты — настоящий викинг. Как Тор. У него тоже были длинные светлые волосы и голубые глаза! Ты точь-в-точь Тор!
— Ja, — согласился я. — Тор такой. А еще он самый сильный из всех богов.
Поппи кивнула и вдруг положила руки мне на плечи. Лицо у нее сделалось серьезным.
— Руне, — прошептала она. — Я никому не говорю, но тебе скажу — я отправляюсь за приключениями.
Какие приключения? Непонятно. Поппи сделала еще шаг вперед и посмотрела мне в глаза. Сжала мои руки. Наклонила голову чуточку набок. Потом огляделась и, наклонившись, быстро заговорила:
— Вообще-то, я никого с собой за приключениями не беру, но ты викинг, и всем известно, что они хорошие путешественники и искатели, что они ходят в походы, захватывают в плен разных злодеев… и все такое!
Я немного растерялся, но тут Поппи отступила на шаг и снова протянула руку.
— Руне, — произнесла она серьезно и твердо. — Ты живешь по соседству, ты — викинг, а я люблю викингов. Думаю, мы должны быть лучшими друзьями.
— Лучшими друзьями?
Поппи кивнула и протянула руку еще ближе ко мне. Я нерешительно поднял свою, взял ее ладошку, пожал и дважды тряхнул, как она показывала.
Рукопожатие.
— Так что, мы теперь лучшие друзья?
Поппи убрала свою руку.
— Да! Поппи и Руне! — воскликнула она и, поднеся палец к подбородку, посмотрела вверх и втянула губы, как будто о чем-то задумалась. — Звучит хорошо, как ты думаешь? Поппи и Руне, лучшие друзья навеки!
Я кивнул — звучало и вправду хорошо. Поппи снова сунула свою ладошку в мою.
— Покажи свою комнату! Хочу потом рассказать про наше приключение. — Она потащила меня за собой, и мы вместе вбежали в дом.
В спальне, едва только протиснувшись в дверь, Поппи устремилась к окну.
— Твоя комната ровно напротив моей!
Я снова кивнул, и она восторженно запищала, подбежала ко мне и снова схватила за руку.
— Руне! Мы сможем разговаривать по ночам и сделаем уоки-токи из банок и шнура. Мы будем делиться секретами, когда все уснут, сможем строить планы, играть и…
Она болтала и болтала, и я был даже не против. Мне нравился ее голос, нравилось ее слушать. Мне нравился ее смех и большой белый бант у нее в волосах.
Может быть, Джорджия не такое уж и плохое место, подумал я, если у меня будет такой лучший друг, как Поппи Личфилд.
Так с того дня и повелось — мы с Поппи, Поппи и я.
Поппи и Руне.
Лучшие друзья навеки.
По крайней мере, так я думал.
Забавно, как все меняется.
Глава 1
Разбитые сердца и банка с мальчишечьими поцелуями
Девять лет назад
Возраст — восемь лет
— Куда мы едем? — спросила я, когда папа мягко взял меня за руку и повел к машине. Почему меня так рано забирают с уроков? Сейчас ведь еще только перерыв на ланч. Уходить до окончания занятий нам не разрешалось.
Папа не ответил и только крепче сжал мою руку. Я оглянулась и пробежала взглядом по забору. Какое-то странное чувство стянуло живот. Мне нравилось в школе, нравилось учиться. Следующим уроком у нас была история, мой любимый предмет, и я, конечно, не хотела его пропускать.
— Поппи! — Стоявший у забора мой лучший друг, Руне, провожал меня взглядом. Я заметила, как сильно он сжал пальцами металлические прутья. — Куда ты? — В классе мы сидели рядом. Мы всегда были вместе, и когда кто-то один отсутствовал, другому становилось уже не так весело на занятиях.
Я посмотрела на папу, ожидая ответа от него, но он не глядел на меня. Молчал и ничего не говорил. Я снова повернулась к Руне и крикнула:
— Не знаю!
Руне смотрел мне вслед, пока я забиралась в машину. Когда я села на бустер, папа накинул ремень безопасности.
Со школьного двора донесся звонок — перерыв на ланч закончился. Я посмотрела в окно — все дети торопились вернуться в классы, но не Руне. Руне оставался у ограды, и ветер трепал его длинные светлые волосы. «Ты в порядке?» — спросил он одними губами, но тут папа сел в машину и тронулся с места, прежде чем я успела ответить.
Руне побежал вдоль забора, стараясь не отстать от машины, пока миссис Дэвис не окликнула его и заставила пойти на урок.
Школа уже скрылась из вида, когда папа наконец обратился ко мне:
— Поппи?
— Да?
— Ты ведь знаешь, что бабуля уже живет с нами какое-то время?
Я кивнула. Не так давно бабуля перебралась в комнату напротив моей. Моя мама сказала, что ей нужна помощь. Мой дедушка умер, когда я была совсем маленькая. Бабуля несколько лет жила одна, а потом переехала к нам.
— Помнишь, что мы с твоей мамой говорили тогда? Насчет того, почему бабушка больше не может жить одна?
Я вдохнула через нос и прошептала:
— Да. Потому что ей нужна наша помощь. Потому что она больна. — Внутри у меня все сжалось. Бабуля была моим лучшим другом. Она и Руне были самыми-самыми. Бабуля говорила, что я пошла в нее.
До того как она заболела, у нас с ней было много приключений. Каждый вечер бабуля читала мне о знаменитых исследователях и путешественниках. Рассказывала о великих людях и событиях — больше всего мне нравилось слушать об Александре Великом, римлянах и моих самых любимых, японских самураях. У бабули они тоже были самыми любимыми.
Я знала, что бабуля болеет, но она никогда не вела себя как больная. Всегда улыбалась, всегда обнимала меня и смешила. Говорила, у нее в сердце лунный свет, а в улыбке — солнечные лучики. Говорила, это потому, что она счастлива.
С ней и я была счастлива.
Но в последние недели бабуля много спала и почти ничего больше не делала, потому что очень уставала. По вечерам я часто ей читала, а она слушала, гладила меня по волосам и улыбалась. И все было хорошо, потому что бабулины улыбки — самые лучшие улыбки на свете.
— Да, тыквочка, больна. И даже очень, очень больна. Ты понимаешь?
Я нахмурилась, но кивнула и сказала:
— Да.
— Вот потому мы и едем домой пораньше, — объяснил он. — Бабушка ждет тебя. Хочет тебя увидеть. Увидеть свою маленькую подружку.
Я все равно не поняла, почему папа везет меня домой так рано, чтобы повидаться с бабулей, если после уроков я каждый раз первым делом захожу к ней в комнату, и мы разговариваем. Она любит слушать, как прошел мой день в школе.
Мы свернули на нашу улицу и остановились на нашей подъездной дорожке. Папа немного посидел молча, потом повернулся ко мне.
— Знаю, тебе только восемь, тыквочка, но сегодня ты должна быть большой, смелой девочкой. Договорились?
Я снова кивнула. Папа грустно улыбнулся:
— Вот и молодец.
Он вышел из машины, открыл дверцу с моей стороны, помог выйти мне, и мы вместе направились к дому. Машин у дома стояло намного больше, чем обычно. Я уже хотела спросить, чьи они, когда через двор между нашим и соседним домом прошла миссис Кристиансен, мама Руне, с большим подносом, на котором лежала какая-то еда.
— Джеймс! — позвала она, и папа повернулся поздороваться с ней.
— Привет, Аделис. — Мама Руне остановилась перед нами. С длинными, такими же светлыми, как у него, распущенными волосами, она была настоящая красавица. А еще она была добрая и меня называла доченькой. Я ее любила.
— Это я вам приготовила. Пожалуйста, передай Айви, что мы думаем о вас всех.
Папа выпустил мою руку и взял блюдо.
Миссис Кристиансен наклонилась и поцеловала меня в щеку.
— Будь хорошей девочкой, Поппи, ладно?
— Да, мэм, — сказала я.
Миссис Кристиансен повернулась и пошла через лужайку к своему дому.
Папа вздохнул, потом кивнул, и мы направились к передней двери. Едва войдя, я увидела моих тетей и дядей, сидевших на диванах в гостиной, и моих кузенов и кузин, игравших на полу со своими игрушками. Мои сестрички, Саванна и Айда — обе младше меня, одной четыре, другой только два, — сидели с тетей Сильвией. Они помахали мне, но остались у тети Сильвии на коленях.
Никто ничего не говорил, но многие вытирали глаза, а другие плакали.
Я ничего не понимала и потому прижалась к папиной ноге. Кто-то появился у двери в кухню. Я посмотрела — это была еще одна моя тетя, Делла, или Диди. Молодая и веселая, она всегда придумывала что-то забавное. Моя любимая тетя. Мама была старшей сестрой, но они походили друг на дружку — у обеих длинные каштановые волосы и зеленые глаза. Как и у меня. Но все равно Диди была красивее. Хотела бы я когда-нибудь стать такой же.
— Привет, Попс. — Я заметила, что у нее красные глаза и голос звучит как-то странно. Диди посмотрела на моего папу. Потом забрала у него поднос. — Пора и вам, Джеймс, тебе и Поппи. Идите.
Мы пошли, но я оглянулась и уже открыла рот, чтобы позвать Диди, но она вдруг повернулась, поставила блюдо с едой на стол, закрыла лицо руками и разрыдалась.
— Диди? — прошептала я, чувствуя, как внутри что-то стянулось. Папа положил руку мне на плечо и повел из комнаты.
— Все хорошо, тыквочка. Диди просто нужно немножко побыть одной.
Мы подошли к бабулиной комнате, но прежде чем открыть дверь, папа остановился и сказал:
— Здесь мама и Бетти, бабушкина медсестра.
Я недоуменно нахмурилась:
— А почему здесь медсестра?
Папа толкнул дверь в бабулину комнату, и моя мама тут же поднялась со стула у кровати. Глаза у нее покраснели, а волосы растрепались. Волосы у мамы всегда были в порядке.
Медсестра стояла в глубине комнаты и что-то писала на планшете. Когда я вошла, она улыбнулась и помахала мне. Я повернулась к кровати. Бабуля лежала. Из руки у нее торчала игла с прозрачной трубкой, которая вела к пакетику, висевшему на металлической стойке у кровати. У меня дрогнуло сердце.
Я вдруг испугалась и замерла на месте. Мама шагнула ко мне, и бабуля подняла голову. Она так изменилась с прошлого вечера. Лицо бледное, и глаза уже не такие ясные.
— Где моя маленькая подружка? — Голос был тихий и звучал как-то странно, но от ее улыбки мне сразу стало теплее.
Я тихонько хихикнула и подбежала к кровати.
— Здесь! Я сегодня пришла из школы пораньше!
Бабуля подняла руку и постучала мне пальцем по кончику носа.
— Вот и молодец!
Я улыбнулась.
— Мне просто захотелось повидаться с тобой. Я всегда чувствую себя лучше, когда мое солнышко рядом и когда мы можем немножко поболтать.
Я снова улыбнулась, потому что это я — «ее солнышко», «свет ее очей». Она всегда так меня называла. Говорила, по секрету, что я — ее любимица. И еще говорила, что это наш секрет и что мне нужно держать его при себе, чтобы не расстраивать сестренок.
Папа вдруг поднял меня и посадил на кровать. Бабуля взяла мою руку и сжала пальцы, но я только заметила, что они холодные. Дышала она глубоко, но в груди у нее как будто что-то похрустывало.
— Ты хорошо себя чувствуешь? — спросила я и, наклонившись, поцеловала ее в щеку. Обычно от нее пахло табаком, потому что она курила сигареты. Но сегодня никакого запаха дыма не было.
Бабуля улыбнулась.
— Я устала, милая. И я… — Она вздохнула и на секунду зажмурилась. Потом снова открыла глаза, поворочалась. — …Ненадолго уеду.
Я нахмурилась.
— Куда ты уедешь? Можно мне с тобой? — Мы всегда отправлялись за приключениями вместе.
Бабуля слабо улыбнулась и покачала головой:
— Нет, милая. Туда, куда я еду, тебе нельзя. Пока нельзя. Но когда-нибудь, через много-много лет, ты снова меня увидишь.
Рядом всхлипнула мама, но я только растерянно смотрела на бабулю:
— Но куда ты уезжаешь? Не понимаю.
— Домой, милая. Я уезжаю домой.
— Но ты же дома, — возразила я.
— Нет. — Бабуля покачала головой. — Это не настоящий наш дом. Жизнь, милая, это только большое приключение. Приключение, чтобы радоваться и любить всем сердцем, прежде чем отправиться в другое, самое большое приключение из всех.
Я посмотрела на нее с восторгом и изумлением, но и с печалью. Глубокой, настоящей печалью. У меня задрожала нижняя губа.
— Но мы же лучшие подружки. Мы всегда отправляемся за приключениями вместе. Ты не можешь уйти без меня.
Слезы брызнули из глаз и поползли по щекам. Бабуля подняла свободную руку и коснулась моего лица. Эта рука была такая же холодная, как и другая.
— Да, милая, мы всегда отправляемся за приключениями вместе, но не на этот раз.
— Ты не боишься уезжать одна? — спросила я.
Бабуля вздохнула:
— Нет, милая, страха нет. Я совсем не боюсь.
— Но я не хочу, чтобы ты уезжала. — У меня запершило в горле.
Бабуля не стала убирать руку.
— Ты будешь видеть меня во сне. Мы не прощаемся.
Я моргнула. Раз и еще раз.
— Как ты видишь дедушку? Ты же всегда говоришь, что он приходит к тебе во сне. Разговаривает с тобой, целует руку.
— Да, точно так же. — Я вытерла слезы. Бабуля сжала мою руку и посмотрела на стоявшую позади меня маму. — И у меня есть для тебя еще одно приключение.
Я замерла:
— Правда?
За спиной звякнуло о стол стекло. Я хотела обернуться и посмотреть, но тут бабуля спросила:
— Поппи, какое у меня было самое любимое в жизни воспоминание? Я всегда тебе о нем говорила. Что-то, что всегда вызывало у меня улыбку.
— Дедушкины поцелуи. Его сладкие мальчишечьи поцелуи. Воспоминания обо всех его поцелуях. Ты говорила, что это самые любимые твои воспоминания. Не деньги, не вещи, но его поцелуи, потому что они были особенные, и ты чувствовала себя любимой и улыбалась, потому что он был твоей половинкой. Он был твоим навеки.
— Верно, милая. И вот для твоего приключения… — Она снова посмотрела на маму.
Я обернулась и увидела, что мама держит в руках большую стеклянную банку, заполненную до верха розовыми бумажными сердечками.
— Вау! — воскликнула я восторженно. — А что это?
Мама положила ладони мне на плечи, и бабуля постучала пальцем по крышке. — Это — тысяча мальчишечьих поцелуев. Или, по крайней мере, будет, когда ты все их заполнишь.
Вот это да! Я попыталась сосчитать сердечки, но не смогла. Тысяча — это так много!
— Поппи… — Я повернулась к ней и увидела, что ее зеленые глаза сияют. — Это твое приключение. И я хочу, чтобы ты помнила меня, когда я уйду.
Я снова посмотрела на банку:
— Не понимаю…
Бабуля протянула руку к прикроватной тумбочке, взяла ручку и подала мне.
— Я уже давно больна, милая, но мне всегда становится легче, когда я вспоминаю о поцелуях твоего дедушки. Не тех, обычных, но особенных, когда сердце едва не разрывалось в груди. Тех, которые я не забыла. Под дождем. На рассвете. Тех, когда… когда он обнимал меня крепко-крепко и шептал на ушко, что я самая-самая красивая девушка в комнате.
Я слушала и слушала, и мое сердце переполнялось чувствами. Бабуля показала на сердечки в банке.
— Эта банка для тебя, Поппи. Чтобы ты вела счет твоих мальчишечьих поцелуев. Всех поцелуев, от которых твое сердечко будет готово разорваться, самых особенных, тех, которые ты захочешь вспоминать, когда станешь старенькой и седой, как я. Тех, которые ты будешь вспоминать с улыбкой.
Она постучала по банке:
— Однажды ты встретишь мальчика, который станет твоим навеки, и каждый раз, получая от него особенный поцелуй, доставай одно сердечко. Записывай, где и когда тебя поцеловали. Потом, когда ты тоже станешь бабулей, как я, твоя внучка — твоя лучшая подружка — сможет узнать о них все-все, потому что ты расскажешь ей о них, как я рассказывала тебе о своих. У тебя будет банка-сокровищница со всеми драгоценными поцелуями, от которых твое сердце улетало к небесам.
Я посмотрела на банку и выдохнула:
— Тысяча — это так много. Это столько поцелуев!
Бабуля рассмеялась:
— Не так уж и много, милая. Меньше, чем тебе кажется. Особенно когда ты найдешь родную тебе душу, твою половинку. У тебя впереди много-много лет.
Она втянула воздух и скривилась, как будто от боли. А мне вдруг стало очень страшно.
— Бабуль… — тихонько позвала я. Она сжала мою руку, открыла глаза, и по бледной щеке скатилась слезинка. — Бабуль? — прошептала я.
— Мне тяжело, милая. Устала. Скоро пора уходить. Просто хотела повидать тебя в последний раз, дать эту банку. Поцеловать, чтобы вспоминать тебя каждый день на небесах, пока мы не увидимся снова. — У меня снова задрожала нижняя губа. Бабуля покачала головой.
— Не плачь, милая. Не надо слез. Это не конец. Всего лишь пауза в жизни. И я буду смотреть за тобой. Каждый день. Буду в твоем сердце. Буду в той вишневой роще, которую мы так с тобой любим, в солнце и ветре.
Глаза ее дрогнули, и мама снова положила руки мне на плечи:
— Поппи, поцелуй бабулю. Она устала. Ей нужно отдохнуть.
Затаив дыхание, я наклонилась, поцеловала бабулю в щеку и прошептала:
— Люблю тебя.
Она погладила меня по голове:
— Я тоже люблю тебя, милая. Ты — свет моей жизни. Никогда не забывай, что я любила тебя так сильно, как только бабушка может любить внучку.
Я держала ее за руку и не хотела отпускать, но папа поднял меня с кровати, и мои пальцы все-таки выскользнули из ее ладони. Я крепко прижала к себе банку, и слезинки упали на пол. Папа опустил меня, и я повернулась к двери.
— Поппи? — позвала бабуля.
Я оглянулась — она улыбнулась:
— Помни, луна в сердцах — в улыбках солнце…
— Всегда буду помнить, — сказала я, но легче не стало. Меня переполняла печаль. За спиной плакала мама. Проходившая по коридору Диди положила руку мне на плечо. Лицо у нее тоже было печальное.
Мне не хотелось оставаться здесь. Я не хотела больше жить в этом доме и, посмотрев на папу, сказала:
— Можно мне в вишневый сад?
Папа вздохнул:
— Да, малышка. Я потом приду за тобой. Только, пожалуйста, будь осторожна.
Он взял телефон и стал кому-то звонить и просить приглядеть за мной в роще, но я не успела понять кому, потому что уже бежала к двери. Я выскочила из дома, прижимая к груди банку с тысячью мальчишечьих поцелуев. Сначала на веранду, потом на улицу. Я бежала, бежала и ни разу не остановилась.
По лицу текли слезы. Кто-то окликнул меня по имени.
— Поппи! Поппи, подожди!
Я оглянулась и увидела Руне. Он стоял на веранде, а потом побежал ко мне по траве. Но я все равно не остановилась. Даже ради Руне. Мне нужно было в вишневую рощу. Любимое бабулино место. Мне было так грустно оттого, что она уходит. Уходит на небеса.
Туда, где ее настоящий дом.
— Поппи, подожди! Не спеши! — крикнул Руне, когда я свернула за угол, к роще в парке. Сразу за входом стояли большие цветущие деревья, и из них получалось что-то вроде туннеля. Под ногами у меня зеленела трава, над головой голубело небо. Деревья утопали в цветах, розовых и белых. В конце рощи высилось самое большое дерево. Ветви его свисали чуть ли не до земли, ствол был самый толстый во всей роще.
Это было самое любимое наше с Руне место.
И бабулино тоже.
Я запыхалась и, когда добралась до любимого бабулиного дерева, опустилась на землю, прижимая к груди банку. По щекам бежали слезы. Руне подошел и остановился рядом, но я даже не посмотрела на него.
— Поппимин? — Руне так меня называл. На норвежском это значило «моя Поппи». Мне нравилось, когда он разговаривал со мной на своем родном языке.
Но я ничего не могла с собой поделать. Я не хотела, чтобы бабуля уходила, хотя и знала, что так надо. И еще знала, что когда вернусь домой, бабули там уже не будет — ни сегодня, ни завтра… никогда.
— Поппимин, не плачь, — прошептал Руне, садясь рядом и обнимая меня. Я прижалась к его груди и расплакалась. Мне было хорошо в его объятиях — он всегда так крепко меня обнимал.
— Моя бабуля… она больна и… уходит.
— Знаю. Мне мама сказала.
Когда слез уже не осталось, я отстранилась и вытерла щеки. Потом взглянула на Руне — он смотрел на меня — и попыталась улыбнуться. Он взял мою руку и прижал к своей груди. Его футболка нагрелась от солнца.
— Мне жаль, что ты печалишься. Не хочу, чтобы ты грустила. Никогда-никогда. Ты — Поппимин. Ты всегда улыбаешься. Ты всегда счастливая.
Я шмыгнула носом и опустила голову ему на плечо.
— Знаю. Но бабуля — мой лучший друг, а ее у меня больше не будет.
Руне помолчал, а потом сказал:
— Я тоже твой лучший друг. И я никуда не уйду. Обещаю. На веки вечные.
Боль, что сидела у меня в груди, вдруг ослабла. Я кивнула:
— Поппи и Руне — вместе навсегда.
— Вместе навсегда, — повторил он.
Какое-то время мы сидели молча, потом Руне спросил:
— А для чего эта банка? Что там внутри?
Я убрала руку, взяла банку и подняла повыше.
— Новое приключение от моей бабули. Путешествие на всю жизнь.
Брови у Руне поползли вниз, а длинные светлые волосы упали на глаза. Я откинула их назад, и он улыбнулся. В школе все девочки хотели, чтобы он улыбался им так, — они сами мне говорили. А я говорила им, что никто из них ни одной улыбки не получит. Руне — мой лучший друг, и делить его с ними я не собираюсь.
Руне показал на банку:
— Не понимаю.
— Помнишь, какие у бабули были самые любимые воспоминания? Я тебе рассказывала.
Руне задумался, даже лоб наморщил, а потом сказал:
— Поцелуи твоего дедушки?
Я кивнула и сорвала со свисающей низко ветки бледно-розовый вишневый лепесток. Вишневые лепестки бабуля любила больше всего. Любила потому, что они не живут долго. Она говорила, что самое лучшее, самое красивое никогда не задерживается надолго. Говорила, что цветок вишни слишком прекрасен, чтобы продержаться целый год. Что он потому и особенный, что его век недолог. Как самурай — изысканная красота и быстрая смерть. Я не совсем понимала, что это значит, но бабуля говорила, что пойму, когда стану старше.
Наверно, она была права. Бабуля не была старой и уходила молодой — так, по крайней мере, говорил папа. Может быть, поэтому ей так нравился цветок вишни. Потому что она сама была такой же.
— Поппимин?
Я подняла голову.
— Так что? Дедушкины поцелуи были ее самым лучшим воспоминанием?
— Да, — ответила я и разжала пальцы. Лепесток упал на землю. — Все поцелуи, от которых ее сердце почти разрывалось. Бабуля говорила, что его поцелуи — это самое лучшее, что только есть на свете. Потому что вот так сильно он любил ее. Вот так сильно ею дорожил. И она нравилась ему потому, что была именно такой.
Руне сердито посмотрел на банку и фыркнул:
— Все равно не понимаю.
Он вытянул губы и скривился, а я рассмеялась. У него были красивые губы — полные, бантиком. Я открыла банку, достала розовое бумажное сердечко, на котором ничего не было написано, и показала Руне.
— Вот это — пустой поцелуй. — Я указала на банку. — Бабуля сказала мне собрать за всю жизнь тысячу поцелуев. — Я положила сердечко в банку и взяла Руне за руку. — Это новое приключение. Собрать, прежде чем я умру, тысячу поцелуев от моей половинки.
— Что… как… Поппи? Не понимаю! — В его голосе зазвучали злые нотки. Руне мог быть злым, когда хотел.
Я достала из кармана ручку:
— Когда мальчик, которого я люблю, поцелует меня так, что сердце почти что разорвется, я должна буду написать все подробности на одном из сердечек. И потом, когда я стану старенькой и седой и захочу рассказать обо всем своим внукам, я вспомню эти особенные поцелуи. И того, кто подарил их мне.
Меня как будто подбросило.
— Вот чего хотела от меня бабуля! — Охваченная волнением, я вскочила. — Значит, начать нужно уже скоро! Я должна сделать это ради нее.
Руне тоже вскочил. И в то же мгновение сорванные порывом ветра мимо нас пролетели, кружась, розовые лепестки. Я улыбнулась. А вот Руне не улыбался. Нет, он как будто взбесился.
— Так ты будешь целоваться с мальчиком ради своей банки? С кем-то особенным? С тем, кого любишь? — спрашивал он.
Я кивнула:
— Тысяча поцелуев! Тысяча!
Руне покачал головой и надул губы.
— НЕТ! — проревел он.
И мне стало не до улыбок.
— Что? — спросила я.
Он шагнул ко мне, упрямо качая головой.
— Нет! Не хочу, чтобы ты целовала кого-то ради этой своей банки! Нет и нет! Не бывать этому!
— Но…
Руне не дал мне ничего сказать и схватил за руку.
— Ты — мой лучший друг. — Он выпятил грудь и потянул меня к себе. — Не хочу, чтобы ты целовалась с мальчишками!
— Но так надо, — объяснила я, показывая на банку. — Это мое приключение. Тысяча поцелуев — это очень много. Очень-очень! И ты все равно будешь моим лучшим другом. Никто другой не будет столько значить для меня, как ты, глупенький.
Руне посмотрел на меня в упор. Потом перевел взгляд на банку. В груди снова появилась боль — было видно, что ему это не нравится. Он опять мрачнел, хмурился и злился.
Я шагнула к моему лучшему другу. Он смотрел прямо мне в глаза, не отрываясь.
— Поппимин… — произнес он своим жестким, сильным голосом. — Поппимин! Это значит моя Поппи. Вместе навсегда, на веки вечные. Ты — МОЯ ПОППИ!
Я открыла рот. Я хотела крикнуть, возразить, сказать, что мне нужно начать это приключение. Но тут Руне вдруг наклонился и прижал свои губы к моим губам.
И я замерла. Я чувствовала его губы на моих губах и не могла пошевелиться. Они были теплые. От него пахло корицей. Ветер бросил его длинные волосы мне на щеки, и у меня защекотало в носу.
Руне отстранился, но не отступил. Я попыталась дышать, но в груди вдруг стало легко, как будто ее наполнило пухом. И сердце застучало быстро-быстро. Так быстро, что я прижала руку, чтобы почувствовать, как оно трепещет под ладонью.
— Руне, — прошептала я и подняла руку, чтобы дотронуться до его губ. Он не сводил с меня глаз. Моргнул. Раз и еще раз. Мои пальцы коснулись его губ.
— Ты меня поцеловал, — ошеломленно прошептала я. Он сжал мою ладонь. Мы стояли, держась за руки.
— Я дам тебе тысячу поцелуев. Всю тысячу. Никто и никогда не будет целовать тебя, кроме меня.
Я вгляделась в его глаза. Сердце все стучало и стучало.
— Это целая вечность. Чтобы никто другой меня не целовал, мы должны быть вместе. Всегда, на веки вечные!
Руне кивнул, а потом улыбнулся. Улыбался он нечасто. Обычно только ухмылялся или скалился. И зря. Улыбка так его красила.
— Знаю. Потому что мы вместе навсегда. На веки вечные, помнишь?
Я медленно кивнула, а потом, глядя на него исподлобья, спросила:
— Так ты дашь мне все мои поцелуи? Столько, что их хватит, чтобы заполнить целую банку?
Руне снова улыбнулся:
— Все. Мы заполним всю банку и даже больше. Мы соберем намного больше тысячи.
Уф! Чуть не забыла! Я высвободила руку, достала ручку и сняла крышку. Потом вынула чистое бумажное сердечко, села и начала писать. Руне опустился рядом на колени и положил руку мне на локоть.
Я удивленно посмотрела на него. Он сглотнул, убрал за ухо прядь волос.
— Ты… когда… когда я поцеловал тебя… твое сердце… оно едва не разорвалось? Ты ведь сама сказала, что в банку надо складывать только самые-самые, особенные поцелуи. — Щеки его вспыхнули, словно от огня, и он смущенно потупился.
Ни секунды не задумываясь, я подалась вперед и обняла моего лучшего друга за шею. Я прижалась щекой к его груди и затаила дыхание, слушая его сердце.
Оно билось так же быстро, как мое.
— Да, так все и было. Особенней не бывает.
Я почувствовала, как он улыбается, и отстранилась. Села, поджав ноги, положила розовое сердечко на крышку и взяла ручку. Руне уселся рядом в такой же позе.
— Что напишешь? — спросил он. Я постучала ручкой по губе. Задумалась. Потом выпрямилась и, наклонившись вперед, написала:
Поцелуй 1
От Руне
В вишневой роще
Мое сердце едва не разорвалось
Закончив писать, я опустила сердечко в банку и крепко-накрепко закрутила крышку. Потом посмотрела на Руне, все это время наблюдавшего за мной, и с гордостью объявила:
— Ну вот. Мой самый первый мальчишечий поцелуй!
Руне кивнул, но его взгляд скользнул к моим губам.
— Поппимин?
— Да? — прошептала я. Он потянулся к моей руке и кончиком пальца начал вычерчивать узор на тыльной стороне ладони.
— Можно… можно мне поцеловать тебя еще раз?
Я сглотнула подступивший к горлу комок. В животе как будто взмахнули крыльями бабочки.
— Ты снова хочешь поцеловать меня… уже?
Руне кивнул:
— Мне уже давно хочется. Ну, ты же моя, и мне это нравится. И ты вкусная… как сахар.
— Ела печенье на ланч. С пеканом. Бабуля его больше всего любит, — объяснила я.
Руне глубоко вдохнул и наклонился ко мне. Его длинные волосы качнулись вперед.
— Хочу поцеловать тебя снова.
— Ладно.
И он поцеловал.
А потом еще, еще и еще.
К концу дня в банку легли еще четыре поцелуя.
Когда я вернулась, мама сказала, что бабуля ушла на небо. Я сразу побежала наверх, в свою спальню. Мне хотелось поскорее уснуть. Как и обещала, она пришла ко мне во сне, и я рассказала ей все про мои пять мальчишечьих поцелуев.
Бабуля улыбнулась и поцеловала меня в щеку.
Теперь я знала — это приключение будет самым лучшим в моей жизни.
Глава 2
Музыкальные ноты и пламя костра
Два года назад
Возраст — пятнадцать лет
В полной тишине она устроилась на сцене. Хотя нет, не в полной — кровь с грохотом проносилась во мне, громом отдаваясь в ушах. Моя Поппи осторожно села. В черном, без рукавов, платье, с длинными каштановыми волосами, собранными на затылке в узел, и с белым бантом на макушке, она была прекрасна.
Я поднял фотоаппарат, который всегда висел у меня на шее, и посмотрел в видоискатель — Поппи как раз поднесла смычок к струнам виолончели. Мне так нравилось ловить ее именно в этот миг. Миг, когда она закрывала большие зеленые глаза. Миг, когда перед началом исполнения на ее лице проступало самое идеальное, самое совершенное выражение. Выражение чистой страсти, полной устремленности к тем звукам, что должны были последовать.
Я щелкнул в самый подходящий, идеальный момент — и тут же со сцены полилась мелодия. Опустив фотоаппарат, я сосредоточился на ней. Никаких снимков во время исполнения — чтобы ничего не пропустить, чтобы отметить каждую деталь, каждый штрих.
Поппи начала раскачиваться в такт музыке, и мои губы дрогнули в улыбке. Ей нравилась эта вещь, и она исполняла ее, казалось, вечность. Никаких нот — «Гринсливз»[1] изливалась через смычок из самой ее души.
Я смотрел и не мог отвести глаз. Ее губы чуть заметно дергались, и мое сердце стучало, как барабан. На трудных пассажах на щеках у нее появлялись ямочки. Глаза оставались закрытыми, но каждый мог видеть, какие части нравятся ей больше всего. Голова склонялась то в одну, то в другую сторону, и улыбка, открытая и счастливая, растекалась по лицу.
Люди не понимали, что она и теперь, после всего-всего, оставалась моей. Нам было только лишь по пятнадцать, но с того дня, когда я поцеловал ее в цветущей роще, семь лет назад, ни у нее, ни у меня не было никого другого. Я просто не замечал других девушек и видел только Поппи. В моем мире существовала только она одна.
В нашем классе Поппи отличалась от всех остальных. Странная, необычная, не из тех, кого называют классными. Ее не трогало, что думают о ней люди, — так было всегда. Она играла на виолончели, потому что ей это нравилось. Читала книги. Училась увлеченно и с интересом. Вставала на утренней заре, чтобы только полюбоваться рассветом.
Вот почему она была для меня всем. На веки вечные. Потому что другой такой не найти. Потому что она была единственная во всем городе, полном похожих одна на другую, словно сделанных под копирку, красоток. Она не выставлялась, не задиралась, не гонялась за парнями. Поппи знала, что у нее есть я, а я знал, что у меня есть она.
Кроме нас самих, нам никто больше не был нужен.
Виолончель зазвучала мягче — номер подходил к концу. Я сел поудобнее, снова поднял камеру и щелкнул в последний раз — ровно в тот момент, когда Поппи подняла смычок и выпрямилась с довольным выражением на прелестном личике.
Публика разразилась аплодисментами, и я опустил фотоаппарат. Поппи отстранила инструмент, поднялась и, поклонившись, скользнула взглядом по залу. Наши глаза встретились, и она улыбнулась.
Сердце мое колотилось так, словно хотело вырваться из груди.
Я глупо ухмыльнулся в ответ и откинул упавшие на лицо длинные волосы. Щеки Поппи зарделись румянцем. В следующую секунду она сошла со сцены, а в зале включили свет. Номер Поппи был последним. Ее всегда ставили в конце представления, потому что она считалась лучшей исполнительницей в нашей возрастной группе. На мой же взгляд, ей не было равных и в трех старших группах.
Однажды я спросил, как у нее получается играть настолько хорошо. Поппи ответила, что это дается ей так же легко, как дыхание, что мелодии изливаются из нее сами собой. Представить такого рода талант я просто не мог, но Поппи — самая удивительная девушка в мире — случай особенный.
Аплодисменты наконец смолкли, и люди двинулись к выходу. Кто-то тронул меня за плечо. Миссис Личфилд смахнула со щеки слезинку. Она всегда плакала, когда слушала Поппи.
— Руне, дорогой, нам нужно доставить домой этих вот двоих. Ты сможешь проводить Поппи?
— Да, мэм, — ответил я и тихонько рассмеялся, взглянув на девятилетнюю Айду и одиннадцатилетнюю Саванну, сестричек Поппи, мирно спавших на своих местах. В отличие от нее музыка их не особенно трогала.
Мистер Личфилд закатил глаза и помахал мне рукой, после чего повернулся и стал будить девочек, чтобы отвезти их домой. Миссис Личфилд чмокнула меня в лоб, и они, все четверо, ушли.
Проходя между рядами стульев, я услышал справа от себя шепот и негромкое хихиканье. Собравшиеся в уголке девчонки с любопытством смотрели в мою сторону. Я опустил голову и, не обращая на них внимания, прибавил шагу.
Случалось такое часто. Чем объяснить такое их внимание ко мне, я не понимал. Мы с Поппи были вместе столько же времени, сколько они меня знали. Никто другой мне был не нужен. И я бы хотел, чтобы они перестали пытаться оторвать меня от моей девушки, — в любом случае из этого ничего бы не получилось.
Я вышел из зала и направился к задней двери. В теплом влажном воздухе моя черная футболка моментально прилипла к спине. Черные джинсы и черные ботинки, наверно, плохо соответствовали весенней жаре, но такой стиль одежды я выбрал сам в качестве повседневного и оставался верен ему независимо от погоды.
Участники концерта уже выходили через задние двери. Я прислонился к стене и только успел сложить руки на груди, как на глаза упала прядка.
Исполнителей встречали на выходе родственники. Некоторое время я наблюдал за ними, а потом снова увидел тех девчонок, которые таращились на меня в зале, и опустил глаза. Меньше всего мне хотелось, чтобы они осмелели и подошли. Разговаривать нам было не о чем.
Я так и стоял, опустив голову, когда услышал приближающиеся шаги. Поппи бросилась мне на грудь и крепко-крепко обняла. Я уже был под шесть футов и прилично возвышался над Поппи с ее пятью футами. Что мне, однако, нравилось, так это то, как идеально она мне подходила.
Я глубоко вдохнул, втягивая ее сахарно-сладкий запах, и прижался щекой к макушке Поппи. Пообнимавшись еще немного, она отстранилась и с улыбкой посмотрела на меня. Ее зеленые глаза казались огромными под накрашенными ресницами, а розовые губы соблазнительно блестели благодаря вишневому бальзаму.
Я погладил ее плечи, шею и взял в ладони прелестное личико. Тяжелые от туши ресницы затрепетали, что только добавило ей соблазнительности.
Искушение было слишком велико. Я медленно наклонился и с трудом сдержал улыбку, услышав, как у нее перехватило дыхание. Так случалось каждый раз, когда я целовал ее, за мгновение до того, как наши губы встречались.
И вот они встретились, и я втянул в себя ее запах. От нее всегда шел аромат вишни. Она пользовалась вишневым бальзамом для губ, и теперь этот запах заполнял мой рот. Поппи ответила на мой поцелуй и вдобавок вцепилась пальчиками в мою черную футболку.
Медленно и нежно, не отрываясь, пока хватало дыхания…
Прежде чем отстраниться, я оставил на ее распухших губах три коротких, легких поцелуя.
Ресницы Поппи снова затрепетали, глаза открылись. Ее зрачки расширились, она облизала нижнюю губу и наградила сияющей улыбкой.
— Поцелуй триста пятьдесят два. От Руне, у стены концертного зала. — Я затаил дыхание в ожидании продолжения. Судя по тому, как блеснули ее глаза, заветные слова уже ждали своей очереди. Поппи привстала на цыпочки, потянулась вперед и прошептала: — И мое сердце едва не разорвалось. — В счет шли только особенные поцелуи, и каждый раз, когда мы целовались, я ждал этих слов с надеждой и волнением.
Произнеся их, она вдобавок едва не сразила меня улыбкой.
Потом Поппи рассмеялась, и столько счастья зазвенело в этом смехе, что мои губы сами собой растянулись в широкую ухмылку. Я быстренько поцеловал ее еще раз в губы и, отступив, обнял одной рукой за плечи и привлек к себе. Ее макушка оказалась под моей щекой. Поппи обхватила меня руками, и я вдруг почувствовал, как она напряглась.
Те самые девчонки-девятиклассницы, что еще недавно таращились на меня, теперь переключились на Поппи и, указывая на нее, оживленно перешептывались и хихикали. Я стиснул зубы. Большинство девчонок обращались с ней вот так исключительно из ревности, так как не могли простить, что она заполучила то, на что претендовали они. Поппи говорила, что не обращает на них внимания, но я видел — обращает. И то, что она напряглась сейчас в моих объятиях, это подтверждало.
Я встал перед Поппи, подождал, пока она поднимет голову, и строго сказал:
— Не смотри на них.
Она вымученно улыбнулась:
— Я и не смотрю. Мне до них нет никакого дела.
Я вскинул брови и слегка наклонил голову.
— Правда, Руне. Точно тебе говорю, — попыталась соврать она и для убедительности оглянулась и пожала плечами. — Но я их понимаю. Ты сам на себя посмотри. Такой роскошный парень. Высокий, загадочный, экзотический… Норвежец! — Поппи рассмеялась и положила ладонь мне на грудь. — У тебя особый шарм этакого плохого парня, и инди-стиль очень тебе идет. Девочки просто не могут устоять перед таким красавцем. Ты — это ты. Ты — совершенство.
Я придвинулся еще ближе, и ее зеленые глаза расширились.
— А еще я — твой.
Под моими пальцами напряжение понемногу уходило из ее плеч. Я просунул руку под ладонь, все еще лежавшую на моей груди.
— И никакой я не загадочный. Ты, Поппимин, знаешь обо мне все, что только можно знать: никаких загадок, никаких тайн.
— Для меня. — Она посмотрела мне в глаза. — Да, для меня ты не тайна. Но не для остальных девочек в нашей школе. Они все хотят тебя.
Я уже начал злиться.
— А я хочу только тебя. — Поппи прищурилась, как будто выискивала что-то в моем выражении, и это разозлило меня еще больше. Я сплел наши пальцы и прошептал: — Вместе навсегда.
Вот теперь ее губы тронула настоящая, неподдельная улыбка.
Я ткнулся лбом в ее лоб. Сжал ладонями щеки.
— Мне нужна ты, и только ты. С пяти лет, когда ты протянула мне руку. Мне нужна ты, и этого никто не изменит, никакая другая девушка.
— Да? Правда? — с оттенком недоверия спросила Поппи, но за сомнением прозвучали веселые нотки.
— Ja, — ответил я по-норвежски, и у меня в ухе зазвенел ее милый смех. Ей нравилось, когда я разговаривал с ней на своем родном языке. — Твои родители просили передать, что забрали девочек домой.
Поппи кивнула и немного обеспокоенно посмотрела на меня.
— Ну, как прошло сегодня? Что ты думаешь?
Я картинно закатил глаза, поморщился и сухо, строгим тоном произнес:
— Как всегда, ужасно.
Поппи расхохоталась и ткнула кулаком мне в локоть.
— Руне Кристиансен! Не будь таким противным!
— Ладно, не буду, — обиженно проворчал я и, обхватив ее обеими руками, прижал к себе и принялся целовать. Поппи пискнула и попыталась высвободиться. Начав со щеки, я продвигался ниже и ниже, пока не добрался до шеи и услышал, как у нее перехватило дыхание. Теперь ей было уж не до смеха.
— Ты была восхитительна, — прошептал я, захватывая зубами мочку ее уха. — Как всегда. Идеальное исполнение. Ты завладела сценой. Все в зале слушали только тебя.
— Руне… — пробормотала она со счастливой ноткой в голосе.
Я отстранился, но руки размыкать не стал.
— Когда ты на сцене, меня переполняет гордость за тебя.
Поппи покраснела.
— Руне… — смущенно произнесла она и снова попыталась вывернуться, но я не выпускал.
— Карнеги-холл, помнишь? Придет день, и ты будешь выступать в Карнеги-холле, а я — смотреть на тебя из зала.
Поппи все-таки вытащила одну руку и похлопала меня по запястью.
— Ты мне льстишь.
Я покачал головой:
— Никогда. Всегда только правду.
Поппи прижалась губами к моим губам, и ее поцелуй пробрал меня с головы до ног. Потом она отстранилась, и я выпустил ее из кольца рук.
— Пойдем на поляну? — спросила Поппи, когда я повел ее через парковочную площадку, мимо продолжавших толкаться поблизости девятиклассниц.
— Мне, кроме тебя, никто не нужен.
— Джори спрашивала, придем ли мы. Там все собираются. — Поппи посмотрела на меня. Губы ее дрогнули, и я понял, что хмурюсь. — Сегодня же пятница, Руне. Нам пятнадцать, а ты совсем не развлекаешься, только смотришь, как я играю на виолончели. У нас еще есть время, давай повидаемся с друзьями, как нормальные подростки.
— Ладно, — согласился я и, обняв ее за плечи, наклонился к самому уху. — Но завтра делить тебя ни с кем не стану.
Поппи привлекла меня к себе:
— Не возражаю.
Девчонки у нас за спиной снова оживились. Кто-то произнес мое имя. Я раздраженно вздохнул, а Поппи едва заметно напряглась и, не поднимая головы, сказала:
— Это потому что ты другой, не такой, как все. У тебя есть художественный вкус, ты увлекаешься фотографией. Носишь темную одежду. — Она рассмеялась и тряхнула головой. Я отбросил волосы с лица. — А в первую очередь из-за этого.
— Из-за чего? — нахмурился я.
Поппи привстала на цыпочки и потянула меня за длинный локон.
— Когда ты вот так делаешь. Когда откидываешь волосы. — Я удивленно вскинул бровь, а она пожала плечами. — Устоять невозможно.
— Ja? — Я встал перед Поппи и нарочитым жестом отбросил с лица прядь. — Говоришь, устоять невозможно? И к тебе это тоже относится? — Она прыснула со смеху и схватила меня за руку. Мы прошли по дорожке к поляне — участку в парке, где вечерами собирались ребята из нашей школы.
— Вообще-то, Руне, меня не трогает, что на тебя засматриваются другие девчонки. Я знаю, как ты относишься ко мне, что чувствуешь, потому и сама отношусь к тебе так же и чувствую то же. — Поппи втянула нижнюю губу. Это означало, что она нервничает, но почему, я даже не представлял, пока она не продолжила: — Единственная, кто меня беспокоит, это Эвери. Она давно на тебя глаз положила и, даю руку на отсечение, готова на все, чтобы только заполучить желаемое.
Я покачал головой. Эвери мне даже не нравилась, но постоянно кружилась поблизости, потому что была в той же группе, что и большинство наших друзей. Все мои знакомые считали ее первой красоткой, но я их мнения не разделял и с трудом переносил ее отношение ко мне. Да и к Поппи тоже.
— Она ничего для меня не значит. Пустое место, понимаешь, Поппимин?
Поппи прижалась ко мне еще крепче. Мы повернули вправо, к нашим друзьям. Эвери сидела на земле и, завидев нас, выпрямилась.
Я снова наклонился к Поппи и повторил:
— Пустое место.
Вместо ответа она дернула меня за рубашку. Ее лучшая подруга, Джори, вскочила и раскрыла объятия. Взбалмошная, прямодушная, из тех, кто сначала говорит, а потом думает, она любила Поппи, которая отвечала ей тем же. В нашем городишке Джори была одной из тех немногих, кто воспринимал странности Поппи как нечто восхитительное и очаровательное, а не мрачное и подозрительное.
— Ты как, милая? — спросила Джори и, отступив на шаг, окинула подругу, на которой еще было черное концертное платье, оценивающим взглядом. — Чудесно выглядишь! Офигительно!
Поппи благодарно кивнула. Я снова взял ее за руку и повел к небольшому костру, который ребята развели в декоративном очаге. Мы сели на деревянную скамью. Поппи устроилась у меня на коленях, прижалась спиной к моей груди, а щекой к шее.
— Ну что, Попс, как оно? — спросил Джадсон, мой лучший друг, сидевший по другую сторону костра. Другой мой близкий приятель, Дикон, приветственно кивнул, а его подружка, Руби, помахала нам.
Поппи пожала плечами:
— Вроде бы неплохо.
— Как всегда, звезда шоу, — добавил я, крепко обнимая Поппи и улыбаясь моему темноволосому другу.
— Это же всего-навсего виолончель. Ничего особенного, — негромко возразила она.
Я покачал головой:
— Публика была в восторге.
Джори улыбнулась, а Эвери картинно закатила глаза. Не обращая внимания на Эвери, Поппи заговорила с Джори о школьных делах.
— Перестань, Попс. Говорю тебе, мистер Миллен — злобный инопланетянин. Или демон. Короче, откуда-то оттуда, из мира, о котором мы ничего не знаем. И директор вызвал его специально, чтобы мучить нас, слабых юных землян, заумной алгеброй. Для него это способ получения жизненной силы, тут у меня никаких сомнений нет. И, похоже, он нацелился на меня. Потому что я знаю, что он — пришелец. Господи! Он так на меня пялится!
— Джори! — расхохоталась Поппи. Ей было хорошо, и я, глядя на нее, улыбнулся. А потом отключился, прислонился к спинке скамейки и, неспешно рисуя пальцем узоры на запястье Поппи и слушая вполуха разговоры друзей, ушел в свои мысли. Больше всего мне хотелось поскорее свалить отсюда. Я был не прочь потрепаться с ребятами, но предпочитал компанию Поппи. Лишь ее общества мне недоставало; лишь в одном месте я желал быть — рядом с ней.
Джори, наверно, сказала что-то забавное, и Поппи даже подпрыгнула от смеха, задев висевший у меня на шее фотоаппарат. Она тут же виновато улыбнулась, а я наклонился, взял ее за подбородок и поцеловал в губы. Обычный, мимолетный поцелуй, ничего такого, но Поппи вдруг запустила пальцы мне в волосы, потянула к себе и раскрыла губы. Наши языки встретились, и у меня перехватило дыхание.
Ее пальцы запутались в моих волосах. Я положил руку ей на шею, чтобы продлить поцелуй. Если бы не нужно было дышать, я бы, наверно, никогда и не отнял губ.
Отдавшись целиком поцелую, мы опомнились и отстранились только тогда, когда неподалеку кто-то откашлялся. Я поднял голову — по другую сторону костра ухмылялся Джадсон, а когда опустил глаза, увидел полыхающие от смущения щеки Поппи. Наши друзья отворачивались, сдерживая смех. Ничуть не смутившись — она же моя девушка! — я обнял ее еще крепче.
Затихший было разговор возобновился, а я стал проверять, в порядке ли фотоаппарат. Родители купили его мне на тринадцатый день рождения, когда заметили, что фотография становится моей страстью. Это был винтажный «Canon» шестидесятых годов. Я таскал его с собой повсюду и уже нащелкал тысячи фотографий. Не знаю почему, но в этой возможности поймать и сохранить мгновение было что-то магическое. Может быть, потому что иногда жизнь оставляет нам только эти вот моменты. Здесь уже ничего не изменишь, не переделаешь; что случается в тот или иной момент, то и определяет жизнь. Возможно, это и есть сама жизнь. Но сохраняя мгновение на пленке, ты даешь ему вечную жизнь. Для меня фотография — магия.
Я мысленно прокрутил каталог. Снимки с натуры, цветущие вишни в нашей роще занимали едва ли не всю пленку. Сегодня добавились фотографии Поппи на концерте. Ее очаровательное личико в момент полной самоотдачи. Такое выражение появлялось у нее только тогда, когда она смотрела на меня. Для Поппи я был особенным. Таким же особенным, как музыка.
И с музыкой, и со мной ее связывали нерушимые узы.
Я поднял руку с сотовым, вытянул вперед, направил камеру на нас. Поппи уже выключилась из общего разговора и теперь рассеянно водила кончиками пальцев по моей руке. Поймав ее врасплох, я щелкнул ровно в тот момент, когда она посмотрела на меня. В ее глазах промелькнула досада, и я тихонько усмехнулся. Конечно, Поппи не злилась по-настоящему, а только притворялась, что ей надоедают. На самом деле ей нравились все мои фотографии, даже сделанные исподтишка, когда она меньше всего этого ожидала.
Стоило мне только открыть фотографию, как сердце мгновенно заколотилось в груди. Поппи смотрела на меня, и она была, как всегда, прекрасна, но в этот раз меня сразило проступившее на ее лице выражение. То самое выражение в ее зеленых глазах, которое она равно дарила музыке и мне. То самое, которое говорило, что она принадлежит мне, а я принадлежу ей. То, которое говорило, что хотя мы еще молоды, но мы уже нашли друг в друге родную душу, стали половинками целого.
— Можно посмотреть?
Ее тихий голос отвлек меня от экрана. Она улыбнулась, и я опустил руку и повернул телефон так, чтобы ей был виден дисплей.
Взгляд ее смягчился, по губам скользнула тень улыбки.
— Руне, — прошептала Поппи едва слышно и, потянувшись, взяла мою свободную руку.
Я сжал ее пальцы.
— Сделай и мне такую, ладно? Чудесно получилось.
Я кивнул и поцеловал ее.
Вот почему мне так нравится фотография. Она может поймать истинное чувство, даже если оно выглянуло лишь на долю секунды.
Выключая камеру, я обратил внимание на цифры в уголке экрана и, наклонившись, негромко сказал:
— Нам пора домой. Уже поздно.
Поппи кивнула. Я поднялся и помог подняться ей.
— Уже уходите? — спросил Джадсон.
— Да. Увидимся в понедельник. — Я помахал остальным и взял Поппи за руку. По пути домой мы почти не разговаривали, а когда подошли к ее дому, остановились и обнялись. Я прижал ее к груди и положил ладонь ей на шею. Она вскинула голову и посмотрела на меня снизу вверх.
— Ты такая замечательная. Уверен, у тебя не будет проблем с поступлением в Джульярдскую школу. Нисколько не сомневаюсь, что твоя мечта — играть в Карнеги-холле — обязательно исполнится.
Поппи широко улыбнулась и дернула за ремешок висевшей у меня на шее камеры.
— А ты поступишь в Нью-Йоркскую школу искусств Тиш. Мы будем вместе, как и планировали всегда. Как и должно быть.
Я кивнул и коснулся губами ее щеки.
— И тогда никакого комендантского часа[2] уже не будет. — Поппи рассмеялась. Я спустился со щеки к губам, задержался на секунду и отступил.
Как раз в этот момент дверь открылась, и на пороге возник мистер Личфилд. Увидев, что я отстраняюсь от его дочери, и прекрасно понимая, что мы делали, он рассмеялся и сухо добавил:
— Спокойной ночи, Руне.
— Спокойной ночи, мистер Личфилд.
Поппи зарделась и шмыгнула в дом, а я пересек лужайку, открыл дверь и прошел в гостиную. Родители сидели на диване в напряженных, как мне показалось, позах.
— Hei, — сказал я.
Мама вскинула голову:
— Hei, малыш.
— Что случилось? — нахмурился я.
Мама бросила вопросительный взгляд на папу и покачала головой.
— Ничего, малыш. Как Поппи? Хорошо отыграла? Извини, мы не смогли прийти.
Я стоял и смотрел на родителей. Они что-то скрывали, о чем-то умалчивали — это было ясно. Не дождавшись продолжения, я медленно кивнул и ответил на мамин вопрос.
— Как всегда, безупречно.
В ее глазах, похоже, блеснули слезы, но она тут же сморгнула их. Ситуация сложилась неловкая.
— Проявлю пленку, — я постучал по фотоаппарату, — и спать.
Голос отца догнал меня у лестницы.
— Мы уезжаем завтра. Всей семьей.
Я замер:
— Не могу. Мы с Поппи планировали провести день вместе.
Отец покачал головой:
— Только не завтра.
— Но… — попытался возразить я, но папа не дал говорить.
— Я сказал нет. Ты едешь с нами, это решено. С Поппи встретишься, когда вернемся. Мы не на весь день уезжаем.
— Да что тут на самом деле происходит?
Отец подошел и остановился передо мной. Положил руку мне на плечо.
— Ничего, Руне. Просто из-за работы я почти совсем тебя не вижу. Хочу это изменить, поэтому завтра мы проведем день на пляже.
— Ну, тогда ведь Поппи может поехать с нами? Ей нравится на пляже. Это одно из ее любимых мест.
— Не завтра, Руне.
Я стоял молча, недовольный и злой, понимая, что сегодня он не уступит.
— Иди, проявляй свою пленку, — устало вздохнул он. — И ни о чем не тревожься.
Я так и сделал. Спустился в подвал и зашел в узкий закуток, который папа превратил в фотолабораторию. Можно было бы пользоваться цифровой камерой, но я работал по старинке и все еще проявлял пленки. Мне казалось, так получается лучше.
Через двадцать минут передо мной лежала вереница новых фотографий. Отпечатал я и снимок с телефона, тот, на котором были мы с Поппи. Его я взял с собой в спальню, а по пути заглянул в комнату младшего брата, двухлетнего Элтона. Он лежал, свернувшись, прижав к себе плюшевого медвежонка, и его спутанные светлые волосы разметались по подушке.
Я толкнул дверь и включил лампу. Посмотрел на часы — время приближалось к полуночи. Я откинул упавшие на глаза волосы, подошел к окну и невольно улыбнулся, увидев на фоне погрузившегося в темноту дома Личфилдов одно светлое окно — сигнал Поппи, означавший, что берег чист и путь открыт.
Я запер изнутри дверь и выключил лампу. Спальня наполнилась тьмой. Я быстро переоделся в пижамные брюки и куртку, неслышно поднял окно и выбрался наружу. Пробежав через лужайку между нашими двумя домами, я забрался в комнату Поппи и осторожно, стараясь не шуметь, закрыл окно.
Поппи лежала в постели, укрывшись одеялом. Глаза закрыты. Дыхание ровное и спокойное. Ладонь под щекой. Невольно залюбовавшись этой трогательной картиной, я подошел ближе, положил на тумбочку подарок и сам устроился рядом.
Мы лежали рядом, деля одну подушку.
Так продолжалось уже не один год. Первый раз я остался у нее по ошибке. Мне было двенадцать — я забрался в ее спальню просто поговорить и сам не заметил, как уснул. К счастью, проснулся утром рано и домой успел вернуться незамеченным. Но на следующий вечер остался уже умышленно, а потом это стало едва ли не обычным делом. Нам повезло — никто ничего не узнал, и наша тайна осталась тайной. Уж и не знаю, как бы повел себя мистер Личфилд, узнав, что я провожу ночи в постели с его дочерью.
Вот только спать рядом с Поппи становилось все труднее и труднее. Мне уже исполнилось пятнадцать, и мои чувства к ней изменились. Я и смотрел на нее иначе. И с ней происходило то же самое. Мы целовались все больше и больше, и поцелуи уже не были невинными, а наши руки забирались в такие места, куда им забираться не следовало. И нажать на тормоз бывало все труднее. Я хотел большего. Я хотел мою девушку всю, целиком.
Но мы были слишком молоды и знали это.
Вот только легче от этого не становилось.
Поппи пошевелилась.
— Думала, ты уже не придешь сегодня. Ждала-ждала, а ты все не приходил и не приходил, — сонно проворчала она, убирая волосы с моего лица.
Я взял ее руку, приник губами к ладони.
— Долго проявлял пленку. И родители вели себя как-то странно.
— Странно? Это как? — спросила Поппи, придвигаясь ближе и целуя меня в щеку.
Я покачал головой.
— Ну, не знаю… странно. По-моему, что-то происходит, но они не говорят, не хотят, чтобы я беспокоился.
Поппи озабоченно нахмурилась. Я сжал ее ладонь и, вспомнив про подарок, протянул руку и взял с тумбочки фотографию, которую вставил дома в простенькую серебряную рамку. Потом коснулся пальцем иконки фонарика на телефоне и повернул рамку так, чтобы ее было лучше видно.
Поппи тихонько ахнула, и ее лицо осветилось улыбкой. Она взяла фотографию, провела пальцем по стеклу и, полюбовавшись секунду-другую, поставила на тумбочку.
— Мне нравится.
Поппи приподняла одеяло, и я придвинулся поближе, положил руку ей на талию и принялся целовать ее щеки и шею. В какой-то момент мои губы коснулись одного местечка под ухом, и она хихикнула и отстранилась.
— Руне! Щекотно!
Я отодвинулся и просунул ладонь между ее руками.
— Ну? — шепотом спросила она, наматывая на палец длинную прядь моих волос. — Что будем делать завтра?
Я закатил глаза:
— Ничего не получится. Папа объявил семейный день, и мы все отправляемся на пляж.
У нее вспыхнули глаза.
— Правда? — Она села. — Обожаю пляж!
Мне стало не по себе.
— Он сказал, поедем только мы одни. Только семья.
— О… — огорченно протянула Поппи и откинулась на подушку. — Я что-то не так сделала? Чем-то провинилась? Твой папа всегда приглашает меня со всеми вами.
— Да нет, нет, — запротестовал я. — В том-то и дело. Говорю же, они странно себя ведут. Папа сказал, что хочет, чтобы мы провели этот день семьей, но мне кажется, тут что-то еще кроется.
— Ладно, — грустно согласилась Поппи.
Я погладил ее по щеке:
— Обещаю, к обеду вернусь. И завтрашний вечер проведем вместе.
Поппи взяла меня за руку. Ее зеленые глаза в тусклом свете лампы казались необыкновенно большими.
— Хорошо.
Я провел ладонью по ее каштановым волосам:
— Ты такая красивая.
Румянец окрасил ее щеки. Я подался к ней, впился губами в ее рот и раздвинул языком ее губы. Поппи чуть слышно охнула и вцепилась в мои волосы.
Я не мог оторваться. Чем больше мы целовались, тем жарче становился ее рот. Мои руки скользили по ее голым рукам и опускались все ниже и ниже, к талии.
Поппи повернулась на спину, и моя ладонь скользнула по ее ноге. Я прижался еще теснее и потерся о нее. Поппи мотнула головой, со стоном оторвавшись от моих губ. Но я не остановился и продолжал целовать ее все настойчивее — в щеку, шею, плечо. Моя рука забралась под сорочку, и пальцы ритмично поглаживали мягкий низ ее живота. Она потянула меня за волосы и, развернувшись, обвила меня ногой. Я глухо застонал и, потянувшись, захватил ее рот. Наши языки столкнулись, и моя рука двинулась вверх.
Поппи разорвала поцелуй:
— Руне…
Я уронил голову, уткнувшись лицом в ложбинку между шеей и плечом и с трудом переводя дух. Желание было столь велико, что казалось, мне недостанет сил взять его под контроль и остановиться.
Поппи поглаживала меня по спине, и я попытался успокоиться, сосредоточившись на ритме ее пальцев.
Минута шла за минутой. Я лежал неподвижно, распластавшись на Поппи, вдыхая ее аромат, чувствуя под рукой ее мягкий живот.
— Руне? — прошептала она.
Я поднял голову.
Она тут же дотронулась до моей щеки.
— Малыш? — В ее голосе прозвучала тревожная нотка.
— Все в порядке, — прошептал я как можно тише, чтобы не побеспокоить ее родителей, и заглянул в ее глубокие глаза. — Просто чертовски тебя хочу. Когда вот такое случается… когда мы заходим так далеко… я как будто теряю рассудок.
Поппи запустила пальцы мне в волосы, и я закрыл глаза, наслаждаясь ее прикосновениями.
— Прости. Мне так жаль…
— Нет, — решительно перебил я, невольно повысив голос. Получилось слишком громко. Огромные глаза Поппи смотрели на меня. Я отодвинулся. — Не надо. Не извиняйся за то, что остановила меня. Мы не сделаем ничего, о чем тебе придется потом пожалеть.
С ее распухших от поцелуев губ слетел долгий вздох.
— Спасибо, — прошептала она. Моя рука нашла ее руку, и наши пальцы переплелись.
Я сдвинулся к краю и кивнул, приглашая ее в объятия. Поппи положила голову мне на грудь. Я закрыл глаза и постарался выровнять дыхание.
В конце концов сон все же взял верх. Палец Поппи выписывал узоры на моем животе. Я уже проваливался в забытье, когда она вдруг прошептала:
— Ты — мое все, Руне Кристиансен. Надеюсь, тебе это известно.
Глаза распахнулись сами собой. Подсунув палец под подбородок, я повернул ее лицо к себе. Ее приоткрытые губы ждали поцелуя.
Я поцеловал ее — нежно, мягко — и отстранился. Лежа с закрытыми глазами, Поппи улыбнулась. Она выглядела такой счастливой и умиротворенной, что моя грудь разрывалась от нежности.
— Вместе навсегда, — прошептал я.
Она повернулась, устраиваясь поудобнее, и ответила тоже шепотом:
— На веки вечные.
И мы оба уснули.
Глава 3
Песчаные дюны и соленые слезы
— Руне, нам нужно поговорить, — сказал папа, когда мы уже сидели за ланчем в ресторане с видом на пляж.
— Вы что, собрались разводиться?
— Нет, Руне. — Он побледнел и тут же принялся уверять меня в обратном, а для убедительности взял маму за руку. — Господи, конечно, нет. — Мама улыбнулась, но в ее глазах блеснули слезы.
— Тогда о чем? — спросил я.
Папа медленно отклонился на спинку стула.
— Твоя мама недовольна не мной, а моей работой. — Это заявление совершенно сбило меня с толку, но тут он добавил: — Меня переводят в Осло. У компании возникла проблема, и мне поручено ее решить.
— И на сколько ты уезжаешь? Когда вернешься?
Папа провел ладонью по густым коротким волосам — точно так же, как это делал я.
— В том-то и дело, — осторожно сказал он и вздохнул. — Возможно, придется задержаться на несколько лет. Возможно, на несколько месяцев. Если оценивать реалистично, то это продлится от одного года до трех лет.
У меня глаза полезли на лоб.
— И ты оставишь нас здесь, в Джорджии, на такой срок?
Мама накрыла мою руку своей. Я смотрел на нее, ничего не понимая, но потом смысл сказанного отцом стал понемногу до меня доходить.
— Нет, — негромко произнес я, качая головой. Нет, он не мог поступить так со мной. Не мог так со мной обойтись.
Я посмотрел на него, и он виновато отвел глаза.
Все стало ясно.
Так вот почему мы поехали на пляж. Вот почему он хотел, чтобы мы были одни. Вот почему не разрешил взять с собой Поппи.
Сердце как будто пустилось вскачь. Лежавшие на столе руки задрожали. Мысли бросились врассыпную. Нет, они этого не сделают… не могут… Я не хочу!
— Нет! — бросил я. Вышло громко, и сидевшие за соседними столиками посмотрели в нашу сторону. — Я никуда не поеду. Я не оставлю ее.
Я с надеждой повернулся к маме, но она опустила глаза. Я вырвал руку из-под ее ладони.
— Мама? — В ответ на мою мольбу она покачала головой.
— Мы — семья, Руне. Мы не можем расставаться на такой долгий срок. Нам всем нужно поехать с папой. Мы — семья.
— Нет! — крикнул я и, отодвинув стул, вскочил и сжал кулаки. — Я не оставлю ее! Вы меня не заставите! Наш дом — здесь! Вы не заставите меня вернуться в Осло!
— Руне! — Папа тоже поднялся и протянул руки. — Успокойся.
Но я уже не мог находиться с ним рядом и, повернувшись, выбежал из ресторана и повернул к пляжу. Солнце спряталось за темными тучами, холодный ветер гнал по берегу песок. Я бежал к дюнам, и колючие зернышки били в лицо.
Гнев и злость бушевали во мне, норовя вырваться наружу. Как они могли так поступить со мной? Они же знают, что мне не жить без Поппи.
Дрожа от злости, я забрался на самую высокую дюну и упал на вершине. Надо мной расстилалось серое, сумрачное небо. Жить в Норвегии без Поппи? Не быть с ней рядом? Не держать ее руку? Не целовать ее губы? От одной этой мысли меня едва не стошнило. Нет, невозможно.
Горло перехватило — ни вдохнуть, ни выдохнуть.
Мысли метались в поисках выхода. Что можно сделать, чтобы остаться? Но хватаясь то за один, то за другой вариант, я понимал, что отца не переубедить. Если он решил для себя что-то, то уже не отступится. Мне придется поехать с ними — выражение на его лице ясно показывало, что другого варианта нет. Они разлучали меня с моей девушкой, моей половинкой. И я ничего не мог с этим поделать. Будь оно проклято.
Кто-то поднимался на дюну. Конечно, это был он, мой отец. Он сел рядом. Я отвернулся к морю. Не хотел его видеть. Не хотел даже замечать.
Какое-то время мы молчали, потом я спросил:
— Когда мы уезжаем?
Я почувствовал, как он напрягся, и искоса взглянул на него. Отец смотрел на меня с жалостью и сочувствием, и от этого мне сделалось еще хуже.
— Когда?
Он вздохнул и опустил глаза.
— Завтра.
Мир замер.
— Что? — не веря своим ушам, прошептал я. — Как так? Это невозможно.
— Мы с твоей матерью узнали обо всем месяц назад, но решили ничего не говорить до самого последнего дня. Знали, что тебе это не понравится. Мне нужно быть на работе, в Осло, уже в понедельник. Со школой вопросы улажены, документы перешлют в твою новую школу. Твой дядя подготовит дом к нашему возвращению. Моя компания наняла рабочих — они придут к нам уже завтра, — и вещи отправят в Норвегию морем.
Я посмотрел на отца и впервые в жизни почувствовал, что ненавижу его. Меня просто тошнило от злости. Я стиснул зубы и отвернулся.
— Руне, — мягко сказал отец и положил руку мне на плечо.
— Не трогай меня, — прошипел я, отворачиваясь. — Никогда больше не прикасайся ко мне и не заговаривай со мной. Я никогда — никогда! — не прощу тебя за то, что ты разлучил меня с ней.
— Понимаю, но… — начал он, но я не дал ему договорить.
— Нет, не понимаешь. Ты понятия не имеешь, что Поппи значит для меня. Ни малейшего. Потому что, если бы понимал, ты не стал бы увозить меня от нее. Ты сказал бы своей компании, что не хочешь уезжать, что нам нужно остаться.
Он вздохнул:
— Я — инженер технического отдела, и у меня есть обязанности перед компанией. Мне необходимо быть там, где я нужен. В данный момент это Осло.
Я промолчал. Мне было наплевать, что он какой-то там инженер-техник в какой-то там захудалой компании. Меня бесило, что они знали все заранее, но сказали только сейчас. Я не мог смириться с этим переездом.
Не дождавшись ответа, отец сказал:
— Пойду, соберу вещи. Тебе нужно быть у машины через пять минут. Проведи сегодняшний вечер с Поппи. Я хочу, чтобы у тебя по крайней мере была возможность попрощаться с ней.
В глазах защипало. Я отвернулся, чтобы он не видел моих слез. Чертовы слезы. Злость не давала мне справиться с ними. Я почти никогда не плакал — только когда злился, — а теперь не мог продохнуть от гнева.
— Это не навсегда. В крайнем случае на несколько лет, а потом мы вернемся. Моя работа, наша жизнь — здесь, в Джорджии. Но я должен быть там, куда посылает меня компания. А в Осло не так уж плохо — мы ведь сами оттуда. И твоя мама будет счастлива вернуться на родину, там, где ее семья. Мы думали, что, может быть, и ты… тоже…
Я не ответил. Несколько лет без Поппи — это же целая жизнь! А до семьи мне не было никакого дела.
Волны ритмично накатывали на берег. Сломленный и растерянный, я сидел до последнего, потом поднялся и пошел к машине. Мне так хотелось увидеть Поппи. Но что ей сказать? Как объяснить, что мы уезжаем? Я знал, что разобью ей сердце, и эта мысль сводила меня с ума.
Услышав сигнал, я побежал к машине, где уже ждали родители. Мама попыталась улыбнуться мне, но я даже не посмотрел на нее и забрался на заднее сиденье. Машина тронулась, и я уставился в окно.
Кто-то потянул за рукав рубашки. Я повернулся — это был Элтон. Склонив набок голову, он вопросительно смотрел на меня. Я взъерошил его растрепанные светлые волосы. Элтон рассмеялся, но улыбка быстро угасла, и он всю дорогу, до самого дома, смотрел на меня. Удивительно, мой маленький братишка будто чувствовал мою боль так, как не чувствовали родители.
Поездка показалась вечностью. Наконец мы остановились на подъездной дорожке, и я, вылетев из машины, со всех ног бросился к дому Личфилдов.
На стук в дверь через несколько секунд ответила миссис Личфилд. Она взглянула на меня сочувственно, и ее глаза потеплели. Миссис Личфилд посмотрела в сторону нашего дома и помахала моим родителям, забиравшим вещи из машины.
Она тоже все знала.
— Поппи дома? — хрипло спросил я, с трудом выталкивая слова.
Миссис Личфилд обняла меня.
— Поппи в вишневой роще, милый. Сидит там с самого полудня, читает. — Она поцеловала меня в лоб. — Мне так жаль, Руне. Моя бедная дочь… Не представляю, что с ней будет. Ты для нее — все.
«И она для меня все», — хотел добавить я, но не смог выговорить ни слова.
Миссис Личфилд опустила руки, и я, спрыгнув с крыльца, стрелой полетел к роще.
Мне хватило нескольких минут. Искать Поппи не пришлось — она сидела под нашей любимой вишней. Я остановился в сторонке, чтобы не попасться ей на глаза, и с минуту просто смотрел на нее. Отгородившись от мира фиолетовыми наушниками, она читала какую-то книгу. Украсившиеся розовыми цветками ветки нависли над ней защитным куполом, спасая от яркого солнца. На ней было короткое белое платье без рукавов, в каштановых волосах — большой белый бант. Я словно вступил в сказочный мир.
Сердце сжалось от боли. Мы виделись с ней каждый день с тех пор, как мне исполнилось пять лет. С двенадцати мы едва ли не каждую ночь спали вместе, на одной кровати. Мы целовались каждый день с восьми лет. Я любил ее так давно, что уже потерял счет времени.
Как прожить без нее хотя бы день? Как дышать, когда ее нет рядом? Словно почувствовав что-то, Поппи оторвалась от книги и посмотрела в мою сторону. Я вышел на лужайку, и ее лицо осветилось улыбкой. Той особенной улыбкой, что предназначалась только мне.
Ответить тем же мне недостало сил. Я брел по дорожке, так густо усыпанной опавшими лепестками, что казалось, будто под ногами бежит бесшумный бело-розовый ручеек. Поппи не спускала с меня глаз, и ее улыбка постепенно меркла и меркла. Скрыть от нее что-то было невозможно. Она знала меня лучше, чем я сам, и сразу поняла, что я чем-то расстроен.
Я и раньше говорил ей, что во мне нет никакой тайны. По крайней мере для нее. Она была единственным на всем свете человеком, кто знал меня от и до. Поппи стянула с головы наушники, положила на траву книгу, подтянула колени и, обхватив их руками, выжидающе смотрела на меня.
Сглотнув засевший в горле ком, я опустился перед ней на колени и виновато потупился. Грудь сдавило. В конце концов я поднял голову. В глазах Поппи застыла настороженность и тревога, словно она уже чувствовала: то, что я сейчас скажу, изменит все.
Изменит нас.
Изменит жизнь каждого из нас.
Покончит с нашим миром.
— Мы уезжаем, — выдохнул я наконец.
Кровь отхлынула от ее лица, и оно стало белым как мел.
Я отвернулся, перевел дух и добавил:
— Завтра, Поппимин. Мы возвращаемся в Осло. Отец забирает меня у тебя. Он даже не пытается остаться.
— Нет, — прошептала Поппи и подалась вперед. — Но ведь что-то мы можем сделать? — Она разволновалась, ей не хватало воздуха. — А если ты останешься с нами? Переедешь к нам? Мы могли бы…
— Нет, — перебил я. — Ты же сама знаешь, что мой отец никогда этого не позволит. Они узнали обо всем несколько недель назад и уже переслали мои школьные документы. А мне не говорили, потому что знали, каким будет мой ответ. Мне придется уехать — выбора нет.
С цветка на нижней ветке сорвался и, кружась, словно перышко, слетел на землю одинокий лепесток. Я знал, что с этого дня каждый вишневый лепесток будет напоминать мне о Поппи. Здесь, в этой роще, она проводила едва ли не все свободное время. Рядом со мной. Это место она любила больше всего.
Я зажмурился и попытался представить ее здесь послезавтра… одну… Кто составит ей компанию в приключениях? Кто услышит ее смех? Кто подарит поцелуи для банки?
Острая боль пронзила грудь. Я повернулся к Поппи, и мое сердце разорвалось пополам. Она сидела на том же месте под деревом, и по ее милому личику текли молчаливые слезы, а маленькие кулачки дрожали на коленях.
— Поппимин, — прохрипел я, выталкивая засевшую внутри боль, и, метнувшись к ней, заключил в объятия. Поппи с плачем уткнулась мне в грудь. Я закрыл глаза, и ее отчаяние хлынуло в меня.
Наше отчаяние.
Какое-то время мы сидели так молча. Потом Поппи подняла глаза и прижала дрожащую ладонь к моей щеке.
— Руне. — Голос ее дрогнул. — Что… что я буду делать без тебя?
Я качнул головой — не знаю. Слов не было — они комком застряли в горле. Поппи прижалась к моей груди, обхватила руками.
Время шло. Мы молчали. Солнце померкло, опускаясь с оранжево-красного неба. Еще немного — и его место заняли звезды и яркая полная луна. Прохладный ветерок прошуршал по роще, и сорванные лепестки закружили в танце вокруг нас. Поппи поежилась в моих объятиях, и я понял — пора уходить. Я провел ладонью по ее густым волосам и прошептал:
— Нам пора.
Она вцепилась в меня еще крепче.
— Поппи?
— Не хочу никуда идти, — едва слышно произнесла она незнакомым хриплым голосом. Я заглянул в ее зеленые глаза. — Когда ты говоришь, что нам пора идти, это значит, что тебе пора уходить от меня.
Я провел тыльной стороной ладони по ее покрасневшим щекам. Они были холодные.
— Никаких прощаний, помнишь? Ты же сама всегда говоришь, что такой штуки, как прощание, не существует. Потому что мы всегда можем увидеть друг друга в снах. Как с твоей бабулей. — Ее глаза наполнились слезами, и я осторожно вытер их подушечкой большого пальца.
— Ты замерзла. Уже поздно, и мне надо доставить тебя домой, чтобы не было проблем из-за опоздания.
Поппи выжала из себя бледную улыбку:
— Думала, настоящие викинги не играют по правилам.
Я усмехнулся и прижался лбом к ее лбу. Потом нежно поцеловал в уголки рта.
— Я отведу тебя домой, доставлю к дверям, а когда твои родители уснут, заберусь в твою спальню и проведу там последнюю ночь. Разве это не нарушение правил? По-твоему, этого недостаточно, чтобы считаться викингом?
Поппи хихикнула и потянула меня за длинную прядь.
— Ты мой единственный викинг, а других и не надо.
Я взял ее руки, поцеловал кончик каждого пальца и поднялся. Потом помог подняться Поппи и притянул ее к себе. Мы стояли, обнявшись, и я, вдыхая ее сладкий аромат, говорил себе, что сохраню в памяти этот миг и запомню ее именно такой.
Ветер крепчал. Я взял Поппи за руку, и мы молча зашагали по усыпанной лепестками дорожке. Опустив голову на мое плечо, она посмотрела на ночное небо. Я поцеловал ее в макушку и услышал, как она вздохнула.
— Ты замечал когда-нибудь, какое темное небо над этой рощей? По-моему, оно здесь темнее, чем в любом другом месте в городе. Если бы не такая яркая луна и мигающие звезды, оно было бы черным как смоль. И цветущие вишни на его фоне. Это что-то волшебное.
Я тоже задрал голову и посмотрел вверх. Она была права — картина и впрямь получилась сюрреалистическая.
— Такое только ты и замечаешь, — усмехнулся я и опустил голову. — Ты видишь мир иначе, чем другие. Потому, помимо прочего, я и люблю тебя. Ты все та же искательница приключений, которую я встретил, когда мне было пять лет.
Поппи сжала мою руку.
— Бабуля всегда говорила, что небо выглядит таким, каким ты хочешь его видеть. — От прозвучавшей в ее голосе печали у меня перехватило дыхание.
Она вздохнула:
— Любимое бабулино место было под нашей вишней. Когда я сижу там и смотрю на ряды деревьев, а потом на черное-черное небо, я иногда думаю, а не сидит ли она у этого же самого дерева там, на небесах, и не смотрит ли, как я, на черное-черное небо.
— Наверняка так оно и есть. И твоя бабушка сидит под деревом, смотрит на тебя и улыбается, как и обещала.
Поппи привстала на цыпочки и сорвала ярко-розовый цветок.
— А еще бабуля говорила, что все лучшее и красивое умирает быстро, вот как вишневый цветок. — Она вытянула руку с нежными лепестками на ладони. — Потому что прекрасное не может и не должно продолжаться долго. Оно живет лишь краткий миг, напоминая нам, сколь ценна жизнь, а потом, столь же быстро, как пришло, уходит. Бабуля говорила, что своей короткой жизнью прекрасное учит нас много большему, чем то, что постоянно рядом.
От боли в ее голосе мое сердце снова сжалось. Поппи подняла голову и посмотрела на меня.
— Ничто, столь совершенное, не может длиться вечно, ведь так? Взять хотя бы падающие звезды. Обычные звезды мы видим на небе каждую ночь, и большинство людей принимают их как что-то само собой разумеющееся или даже вообще их не замечают. Но когда человек видит падающую звезду, он запоминает этот момент навсегда и даже загадывает в этот миг желание.
Она вздохнула:
— Люди потому и ценят этот миг, что он так короток.
Мы держались за руки, и оба почувствовали, как на них упала слезинка. Я молчал, не зная, что сказать, смущенный ее речами. Почему она говорит о таких грустных вещах?
— Потому что все совершенное и особенное рано или поздно увянет и рассеется на ветру. Как вот этот цветок. — Поппи подняла руку с цветком, и налетевший порыв ветра подхватил его, бросил в небо и понес разлетевшиеся лепестки над деревьями.
Еще миг — и они исчезли из виду.
— Поппи… — начал я, но она меня перебила.
— Может быть, Руне, мы — вот такие же лепестки. Мы — как падающие звезды. Может быть, мы были слишком юны, любили слишком сильно и горели слишком ярко, а потому обречены погаснуть. — Она кивнула в сторону оставшейся за спиной рощи. — Совершенная красота, быстрая смерть. То, что мы так долго любили друг друга, это урок для нас. Урок, показывающий, что мы способны на настоящую любовь.
Сердце как будто провалилось в пропасть. Я взял Поппи за плечи, повернул к себе и замер как вкопанный — на ее прекрасном лице лежало выражение отрешенности и отчаяния.
— Послушай, Поппимин, — стараясь не поддаваться панике, заговорил я. — Я вернусь за тобой. Этот переезд в Осло, он не навсегда. Мы будем разговаривать каждый день. Будем переписываться. Мы останемся собой, Поппи и Руне. Этого ничто не сломает. Ты всегда будешь моей, ты всегда будешь владеть половинкой моей души. Это не конец.
Поппи шмыгнула носом и сморгнула слезы. При мысли, что она ставит крест на нас, мое сердце заколотилось, подстегнутое страхом. Ничего такого мне никогда и в голову не приходило. Мы не ставили точку, нет.
— Ничто не кончено, — с нажимом сказал я. — На веки вечные, Поппимин. Вместе навсегда. Ничто не кончено. Не смей даже думать об этом. С нами ничего этого не будет.
Поппи привстала на цыпочки и, копируя мой жест, взяла мое лицо в ладони.
— Ты обещаешь мне это? — застенчиво и робко спросила она, но за робостью и застенчивостью проступал страх. — Потому что мне еще нужно получить от тебя сотни поцелуев.
Я рассмеялся. Сковывавшее меня напряжение вдруг схлынуло, ему на смену пришло ощущение легкости.
— Обещаю. И поцелуев ты получишь не тысячу, а больше. Две тысячи, три или четыре.
Ее счастливая улыбка развеяла мою тревогу, и поцелуй получился неторопливый и нежный.
— Поцелуй триста пятьдесят четвертый. От моего Руне, в вишневой роще… и мое сердце едва не разорвалось, — объявила Поппи, отстранившись и открыв наконец глаза. А потом добавила: — Все мои поцелуи — от тебя. Никто, кроме тебя, не получит эти губы.
Еще раз коснувшись ее губ, я повторил вслед за ней:
— Все мои поцелуи — от тебя. Никто, кроме тебя, не получит эти губы.
Я взял ее за руку, и мы пошли по домам. В моем во всех окнах еще горел свет. У двери Личфилдов я наклонился и поцеловал ее в кончик носа, а потом прошептал на ухо:
— Приду через час.
— Хорошо, — прошептала Поппи и, шагнув ближе, положила ладонь мне на грудь. Я вздрогнул. Лицо у нее было такое серьезное, что мне вдруг стало не по себе. Она посмотрела на мою руку и медленно прошлась пальцами по моей груди и животу.
Что происходит?
— Поппимин? — неуверенно спросил я.
Не говоря ни слова, Поппи убрала руку, повернулась и шагнула к двери. Я ждал, что она обернется и объяснит, но она просто прошла в открытую дверь, оставив меня на подъездной дорожке — думать и гадать, что бы это все значило?
В кухне Личфилдов загорелся свет, и я побрел домой. Первым, что бросилось в глаза, была гора ящиков и коробок в коридоре. Должно быть, их упаковали заранее и хранили где-то скрытно, чтобы они не попали мне на глаза.
Проходя мимо, я увидел в гостиной родителей. Отец окликнул меня, но я не остановился и сразу направился в свою комнату. Он вошел следом.
Я подошел к тумбочке и начал собирать вещи, которые хотел забрать с собой, и в первую очередь рамку с нашей с Поппи фотографией, которую сделал прошлым вечером. Я посмотрел на нее, и сердце сжали тиски. Не знаю, возможно ли такое, но я уже скучал по ней. Скучал по нашему дому.
Скучал по моей девушке.
Чувствуя за спиной молчаливое присутствие отца, я негромко сказал:
— Ненавижу тебя за то, что ты со мной делаешь.
Позади меня кто-то тихонько охнул. Я обернулся — рядом с отцом стояла мать. Оба выглядели потрясенными до глубины души. Ничего подобного никогда прежде они от меня не слышали. Мне всегда нравились мои папа и мама, и я не понимал тех ребят, которые терпеть не могли своих родителей.
Не понимал до сегодняшнего дня.
Теперь я их ненавидел.
Такой ненависти я еще никогда и ни к кому не испытывал.
— Руне… — начала мама, но я перебил ее.
— Никогда не прощу вас, вас обоих, за то, что вы делаете сейчас со мной. Я так вас ненавижу, что даже быть с вами не могу.
Неожиданно для меня самого это прозвучало резко и грубо. Как будто голос пропитался скопившейся во мне злостью. Никогда не думал, что ее может быть во мне так много. Да, некоторые считали меня угрюмым и замкнутым, но вообще-то злился я редко. Теперь же по моим венам текла только злость, и ничего больше.
Нет, ярость. Гнев.
Мамины глаза наполнились слезами, но мне было наплевать. Пусть им будет плохо. Пусть им будет так же плохо, как и мне.
— Руне, мы… — вступил отец, но я повернулся к нему спиной и, не дав договорить, рявкнул:
— Во сколько мы уезжаем?
— В семь утра, — негромко ответил он.
Я закрыл глаза — у нас с Поппи оставалось совсем мало времени. Всего восемь часов — а потом мы расстанемся, и я уеду, оставив здесь все, кроме злости. Только она будет моей спутницей в этом путешествии.
— Это не навсегда, Руне. Потом станет легче. В конце концов ты встретишь кого-нибудь еще. Жизнь продолжается…
— Не смей! — взревел я и, резко повернувшись, швырнул через комнату стоявшую на тумбочке лампу. Стеклянный абажур разбился, и осколки разлетелись по всей комнате. Я задыхался, сердце колотилось как бешеное. — Никогда больше не говори мне этого! Я не оставлю Поппи. Я люблю ее! Ты это понимаешь? Она для меня все, а вы отрываете нас друг от друга. — Он побледнел. Я шагнул к нему, дрожа от ярости, сжимая кулаки. — Знаю, сейчас мне ничего не остается, как поехать с вами. Я не могу остаться здесь один. Мне только пятнадцать. Но я ненавижу вас и буду ненавидеть вас обоих до того самого дня, когда мы вернемся. Можете думать, что если мне пятнадцать, то я забуду Поппи, как только какая-нибудь шлюшка в Осло начнет со мной заигрывать. Ошибаетесь. Этому не бывать. Но я буду ненавидеть вас до нашего возвращения.
Я перевел дух, а потом добавил:
— И даже потом я буду ненавидеть вас за то, что вы разлучили нас. Вы отнимаете у меня годы, которые я мог провести с моей девушкой. Не думайте, что если мне пятнадцать, то я не понимаю, что у нас с Поппи. Я люблю ее. Люблю так сильно, как вы и представить себе не можете. И вот вы увозите меня, даже не принимая в расчет мои чувства. — Я повернулся к ним спиной, подошел к шкафу и начал снимать одежду. — А раз так, то отныне и мне наплевать на ваши чувства. Я никогда не прощу вас за это. Вас обоих. Особенно тебя, папа.
Я принялся складывать вещи в лежавшие на кровати чемоданы — их, должно быть, приготовила мама. Отец остался на месте, опустив голову и молча глядя в пол. Через какое-то время он все же повернулся и шагнул к двери.
— Поспи, Руне. Нам рано вставать.
Меня аж передернуло от досады — как будто ничего и не слышал! — но тут он негромко добавил:
— Мне очень жаль. Я знаю, что значит для тебя Поппи. Мы ничего не говорили, потому что хотели уберечь тебя от ненужных переживаний. Теперь нам понятно, что это не сработало. Но такова настоящая жизнь, и это моя работа. Когда-нибудь ты поймешь.
Дверь за ним закрылась, и я сел на кровать. Провел ладонью по лицу и, понурившись, уставился на пустой шкаф. Но злость еще не ушла, не остыла, и она жгла меня изнутри. Даже еще сильнее, чем раньше.
И я точно знал — она не уйдет и не остынет.
Запихнув в чемодан последние рубашки — кое-как, не потрудившись сложить, — я подошел к окну. Дом Личфилдов виднелся темным пятном, и только тусклый свет ночника говорил, что горизонт чист.
Заперев дверь спальни, я вылез из окна и пробежал по лужайке между домами. Ставни были слегка приоткрыты. Я проскользнул между ними и плотно закрыл за собой.
Поппи сидела на кровати с распущенными волосами и свежим после ванны лицом. В белой ночной рубашке, с голыми руками и ногами и мягкой, нежной кожей, она была так прекрасна, что у меня ком подступил к горлу. Я подошел к кровати и увидел, что Поппи держит в руках рамку с фотографией. Она подняла голову — на ее щеках еще не высохли слезы.
— Поппимин… — Голос мой дрогнул. Видеть ее такой несчастной было выше моих сил. Она отложила фотографию, опустила голову на подушку и похлопала ладонью по матрасу. Я тут же лег рядом и подвинулся ближе, так что нас разделяли считаные дюймы.
Стоило мне увидеть покрасневшие глаза Поппи, как злость вспыхнула с новой силой. Я накрыл ее руку своей.
— Не плачь, милая. Пожалуйста. Не могу видеть, как ты плачешь.
Поппи шмыгнула носом:
— Мама сказала, что вы уезжаете рано утром.
Я отвел глаза и медленно кивнул.
Поппи пробежала взглядом по моему лбу.
— Значит, у нас осталась только эта ночь, — сказала она, и как будто кинжал пронзил мое сердце.
— Ja. — Я взглянул на нее.
Поппи смотрела на меня как-то странно.
— Что?
Она придвинулась ближе. Теперь мы касались друг друга, и ее губы словно парили над моим ртом. Я даже ощущал мятный запах зубной пасты.
Сердце уже начало набирать ход. Пальцы Поппи спустились с моего лица на шею, с шеи на грудь, с груди скользнули ниже, к краю рубашки. Мне уже недоставало места, но когда я попытался отодвинуться, Поппи прижалась еще теснее, а ее губы нашли мои. Едва ощутив вкус ее губ, я подался к ней, и тогда ее язык проскользнул между моими губами навстречу моему.
Медленный, глубокий, этот поцелуй был не таким, как раньше. Она подняла мою рубашку, и ее ладонь легла на мой голый живот. Я откинул голову назад… выдохнул… Ее дрожащая рука обжигала мою кожу. Я посмотрел ей в глаза, и мое сердце как будто споткнулось.
— Поппимин… — прошептал я, гладя ее голую руку. — Что ты делаешь?
Поппи провела ладонь вверх и оставила ее на моей груди. В горле у меня застрял комок.
— Руне? — прошептала она и, опустив голову, осторожно поцеловала меня в ямочку под горлом. Ее губы были такие теплые, такие мягкие и нежные, что мои глаза закрылись сами собой. — Я… я хочу тебя… — прошептала она.
Время остановилось. Я открыл глаза. Поппи отстранилась и слегка склонила голову набок. Ее зеленые глаза смотрели прямо в мои.
— Нет, нет, — возразил я, качая головой, но она приложила пальцы к моим губам.
— Я не могу… — Она запнулась, потом, собравшись с духом, добавила: — Не могу отпустить тебя, не узнав, каково это… быть с тобой. Я люблю тебя, Руне. Я так сильно тебя люблю. Ты ведь знаешь, да?
Мое сердце как будто переключилось на новый ритм, тот, что соединяет любовью две половинки. Теперь оно стучало четче и быстрее. Сильно, как никогда прежде.
— Поппи… — Я знал, что она любит меня, потому что и я любил ее. Но ее слова совершенно ошеломили меня, потому что впервые один из нас произнес их вслух.
Она любит меня…
Поппи ждала. Молча. Не зная, что сказать и что делать, я ткнулся носом в ее щеку… заглянул в ее глаза.
— Jeg elsker deg.
Она улыбнулась.
И я тоже улыбнулся.
— Я люблю тебя.
Наверно, она поняла меня и без перевода на английский.
Лицо ее посерьезнело. Она отодвинулась и села посредине кровати. Потом взяла меня за руку, потянула, чтобы я сел рядом, и взялась за низ моей рубашки.
Я закрыл глаза. Она прерывисто вздохнула и потянула ее вверх, через голову. Теплые губы прижались к моей груди. Я снова открыл глаза — Поппи смотрела на меня со смущенной улыбкой. Выглядела она такой робкой, такой застенчивой, что мое сердце растаяло как масло.
Никогда она не была такой красивой.
Я и сам разволновался не меньше и, чтобы хоть немного успокоить нервы, погладил ее по щеке.
— Нам не обязательно это делать. Только из-за того, что я уезжаю… Только ради меня… нет, не надо. Я вернусь. Обязательно вернусь. И я хочу подождать, пока ты будешь готова.
— Я готова, Руне, — ясно и твердо сказала она.
— Ты еще слишком…
— Мне скоро шестнадцать.
Я улыбнулся, услышав в ее голосе знакомое упрямство.
— Считается, что это еще рано.
— Ромео и Джульетта были примерно нашего возраста, — возразила она, и я невольно рассмеялся, но тут же замолчал — она придвинулась ближе и провела ладонью по моей груди.
— Руне, я готова уже давно, но не торопилась, потому что нам некуда было спешить. Впереди у нас была целая жизнь. Теперь все изменилось. У нас совсем мало времени. Всего лишь несколько часов. Я люблю тебя. Люблю так сильно, что никто и представить не может. И мне кажется, что и ты чувствуешь то же самое.
— Ja, — не раздумывая отозвался я. — Я люблю тебя.
— На веки вечные, — вздохнула Поппи и отодвинулась. Не сводя с меня глаз, она подняла руку, нащупала бретельку ночной рубашки и потянула вниз. Рубашка бесшумно соскользнула ей на бедра.
Я замер. Не мог шелохнуться — передо мной сидела Поппи… обнаженная.
— Поппимин… — выдохнул я. Нет, такая девушка не для меня. Я знал это точно, как и то, что ничем не заслужил этот миг.
Потом все же придвинулся ближе… и еще ближе. Посмотрел вопросительно в ее глаза.
— Ты уверена?
Она взяла мою руку, поднесла к себе, так что наши ладони вместе легли на ее обнаженную кожу.
— Да, Руне. Я хочу этого.
Сдерживаться не было больше сил, и я уступил и поцеловал ее в губы. У нас оставалось несколько часов. И я хотел провести их с моей девушкой. Так, как только можно.
Не отнимая губ, Поппи прошлась пальчиками по моей груди. Медленно, словно исследуя что-то незнакомое. Я погладил ее по спине, осторожно привлекая к себе. Она задрожала от моего прикосновения. Я провел ладонь вниз, до лежавшей на ее бедрах сорочки, потом вверх и остановился — не зашел ли слишком далеко?
Поппи отстранилась и прижалась лбом к моему плечу.
— Не останавливайся, — выдохнула она. Я подчинился и судорожно вздохнул — сердце трепыхалось под самым горлом.
— Руне, — пробормотала она.
И так сладок был ее голос, что я закрыл глаза. Я так любил Поппи и меньше всего на свете хотел обидеть ее, сделать ей больно, подтолкнуть слишком далеко. Я хотел, чтобы для нее все было по-особенному, чтобы она поняла, как много для меня значит, что она — весь мой мир.
Мы оставались так минуту или больше, застыв в этом мгновении, в этой паузе, в ожидании того, что последует дальше.
Поппи опустила руки к пуговице моих джинсов, и я открыл глаза. Она пристально смотрела на меня.
— Так, да? Ты не?..
Я молча кивнул. Взяв меня за руку, она помогла мне раздеться, и вскоре вся наша одежда лежала на полу.
Притихшая, Поппи сидела возле меня, держа на коленях дрожащие руки. Длинные каштановые волосы рассыпались по плечу, щеки горели.
Я еще никогда не видел, чтобы она так нервничала.
Да и сам никогда так не робел.
Я протянул руку к ее горящей щеке, провел пальцем вниз, и ее ресницы затрепетали и распахнулись, а губы тронула застенчивая улыбка.
— Я люблю тебя, Поппимин.
— Я тоже люблю тебя, Руне, — с легким вздохом прошептала она.
Ее пальцы сомкнулись на моем запястье. Она осторожно откинулась на спину и потянула меня за руку, пока я не вытянулся рядом.
Осыпав ее мягкие щеки и лоб легкими поцелуями, я приник к ее теплому рту, а Поппи, захватив мои длинные волосы, притянула меня к себе.
Казалось, пролетели считаные секунды, когда она задвигалась подо мной и, оборвав поцелуй, прижала ладонь к моей щеке.
— Я готова.
Уткнувшись лицом в ее руку, я перецеловал все ее пальчики. Поппи повернулась на бок, потянулась и достала что-то из ящика ночного столика. При виде маленького пакетика, который она предложила мне, я неожиданно для себя смешался и занервничал.
Наши взгляды встретились, и ее щеки вспыхнули от смущения.
— Я знала, что этот день когда-нибудь придет, и хотела, чтобы мы были к нему готовы.
Я целовал и целовал мою девушку, пока не почувствовал, что и сам готов. Времени это заняло немного, а унять разбушевавшийся внутри шторм помогла своими легкими прикосновениями сама Поппи.
Поппи раскрыла объятия, и в следующую секунду наши губы слились в самом долгом и глубоком поцелуе. Я пил вишневый бальзам ее губ и наслаждался новыми ощущениями, которые дарили наши обнаженные теплые тела. Потом я отстранился — перевести дух. Мы посмотрели друг на друга, и Поппи кивнула. По ее лицу было видно, что она хочет этого так же сильно, как и я. Наши глаза сомкнулись и уже не размыкались.
Ни на мгновение.
Потом мы лежали, обнявшись, под простынями, глядя друг на друга. Она была теплая и мягкая, и ее дыхание уже замедлилось почти до нормального ритма. Сплетя пальцы, мы держались друг за друга, и наши руки еще слегка дрожали.
Никто ничего не говорил. Поппи следила за каждым моим движением, а я, глядя на нее, молился о том, чтобы она никогда не пожалела о случившемся.
Наконец она сглотнула и глубоко и медленно вздохнула. Взгляд ее задержался на наших руках, лежавших на одной подушке. Она повернулась и покрыла поцелуями переплетенные пальцы.
Я замер.
— Поппимин… — Она подняла глаза. Длинная прядь упала ей на щеку, и я осторожно убрал волосы за ухо. Поппи молчала. — Я так тебя люблю. То, что случилось сейчас… быть с тобой… вот так… — Мне хотелось сказать ей, как много это для меня значит, но подходящих слов не находилось.
Она так и не произнесла ни слова, и мне стало не по себе. А вдруг я сделал что-то не так? Не зная, как выразить чувства, я в отчаянии закрыл глаза и ощутил легкое, как крыло бабочки, прикосновение ее губ.
— Эту ночь я буду помнить до конца жизни, — прошептала Поппи, и весь мой страх испарился в одно мгновение.
Я открыл глаза и крепко ее обнял:
— Для меня это было нечто особенное. А для тебя?
Поппи улыбнулась так широко, что у меня захватило дух.
— И для меня тоже. Особеннее не бывает, — повторила она слова, которые произнесла после нашего первого поцелуя, когда нам было по восемь лет. Не придумав ничего лучшего, я поцеловал ее со всей переполнявшей меня любовью и нежностью.
Когда мы отстранились друг от друга, Поппи сжала мою руку, и глаза ее наполнились слезами.
— Поцелуй триста пятьдесят пятый, от моего Руне, в моей спальне… после того, как мы впервые были вместе. — Она взяла мою руку и положила себе на грудь. Ее сердце билось прямо у меня под ладонью, гулко и тяжело. Я улыбнулся, потому что знал, — это слезы не печали, а счастья. — Все было так, что мое сердце едва не разорвалось, — добавила она с улыбкой.
— Поппи… — прошептал я, чувствуя, как сдавливает обручем грудь.
Ее улыбка померкла, и на подушку полились теперь уже горькие слезы.
— Не хочу, чтобы ты уезжал, — сдавленно прошептала она, и меня словно резанула по сердцу ее нестерпимая боль.
— И я тоже.
Мы молчали. А что еще сказать? Мы лежали, прижавшись друг к другу, и я гладил ее по волосам, ее пальчики гуляли вверх и вниз по моей груди. Через какое-то время ее дыхание выровнялось, и рука замерла.
Тихий, размеренный ритм понемногу баюкал и меня. Я старался держаться, не засыпать, чтобы до конца насладиться оставшимся временем, но веки тяжелели и закрывались, и вскоре меня самого затянула в сон растекавшаяся по венам река счастья и печали.
Казалось, прошли секунды, как я сомкнул глаза, когда теплые солнечные лучи тронули мое лицо. Я зажмурился — за окном начинался новый день.
День отъезда.
Я посмотрел на часы, и внутри все сжалось — у меня оставался один час.
Поппи спала, положив голову мне на грудь, и, глядя на нее, я подумал, что никогда еще она не была такой красивой. Кожа ее разрумянилась от жара наших тел, и наши сомкнутые руки все еще покоились на моем животе. Мысль о прошлой ночи пробудила воспоминания, и они вдруг нахлынули, накрывая меня с головой.
Во сне Поппи выглядела такой спокойной и счастливой. Больше всего я боялся, что, проснувшись, она пожалеет о случившемся. А мне хотелось, так отчаянно хотелось, чтобы все случившееся осталось у нее таким же светлым, радостным воспоминанием, как и у меня. Словно почувствовав мой тяжелый взгляд, Поппи медленно открыла глаза. Воспоминания о прошлой ночи тенью пронеслись по ее лицу, зрачки расширились, когда взгляд остановился на наших телах и руках. Тревога сжала мое сердце, но тут ее лицо озарила блаженная улыбка. Я придвинулся ближе, обнял ее, а Поппи уткнулась лицом в мою грудь. Мы лежали так до самого конца, а потом я поднял голову, бросил взгляд на часы, и вчерашняя злость вспыхнула во мне с новой силой.
— Поппимин, — прошептал я, и в моем голосе прозвучали раскатистые нотки этой злости. — Мне… Мне нужно идти.
Поппи напряглась на секунду в моих объятиях, а когда отстранилась, ее щеки были мокрыми от слез.
— Знаю.
Слезы обожгли и мои щеки. Поппи нежно вытерла их. Я взял ее руку и прижался губами к ладони. Минуту я всматривался в ее лицо, запоминая каждую черточку. Потом, сделав над собой усилие, поднялся с кровати, оделся, выскользнул через окно наружу и, не оглядываясь, чувствуя, как разрывается от каждого шага сердце, побежал к дому через лужайку.
Я забрался в комнату. Дверь спальни была открыта снаружи. Возле кровати стоял отец. В первую секунду внутри все похолодело от страха — нас раскрыли, — но уже в следующий момент ярость вытеснила страх, и я, вскинув подбородок, посмотрел на него с вызовом — ну же, скажи что-нибудь.
Я хотел схватки.
Я бы не позволил ему стыдить меня за ночь, проведенную с любимой девушкой. Той, от которой он отрывал меня.
Он повернулся и, не сказав ни слова, вышел.
Тридцать минут пронеслись как одно мгновение. Я в последний раз обвел взглядом комнату. Потом закинул на плечо рюкзак, повесил на шею фотоаппарат и вышел из дому.
Мистер и миссис Личфилд уже стояли на нашей подъездной дорожке с Айдой и Саванной и обнимались с моими родителями. Увидев меня, они подошли к крыльцу и тоже обняли на прощание.
Подбежавшие девочки прижались ко мне, и я потрепал каждую по голове. Стукнула дверь. Я повернулся и увидел бегущую по траве Поппи. Волосы у нее были мокрые — наверно, после душа, — но выглядела она еще прекраснее, чем накануне, и смотрела только на меня.
Добежав до дорожки, она коротко обняла моих родителей и поцеловала Элтона, а потом повернулась ко мне. Мои папа и мама сели в машину, а родители и сестренки Поппи вернулись в дом, дав нам возможность попрощаться наедине. Я распахнул руки, и она влетела в мои объятия. Я сжал ее крепко-крепко и глубоко вдохнул сладкий запах ее волос.
Потом взял ее за подбородок и поцеловал — в последний раз. Поцеловал со всей любовью, что переполняла мое сердце.
— Поцелуй триста пятьдесят шестой. От Руне, на дорожке… когда он оставил меня, — прошептала она сквозь слезы.
Я закрыл глаза, не в силах вынести ее и мою боль.
— Руне? — окликнул меня отец и извиняющимся тоном добавил: — Нам пора.
Поппи вцепилась в рукав моей рубашки. Зеленые глаза блестели от слез, и она как будто пыталась запомнить каждую черточку моего лица. Высвободившись наконец, я поднял камеру и нажал кнопку.
Мне выпала редкая удача — запечатлеть миг, когда разбивается сердце.
Едва волоча ноги — к ним будто подвесили по тонне кирпичей, — я побрел к машине, забрался на заднее сиденье и даже не стал удерживать слезы. Поппи стояла у дорожки, и ветер трепал ее мокрые волосы. Она помахала на прощание.
Отец завел мотор. Я опустил стекло и высунул руку, а Поппи схватилась за нее. Мы посмотрели друг на друга, и она сказала:
— Я буду видеть тебя во снах.
— Я буду видеть тебя во снах, — прошептал я и выпустил ее руку. Машина тронулась. Я повернулся и посмотрел в заднее окно — Поппи стояла на дорожке и махала вслед, пока не скрылась из виду.
Этот прощальный жест остался в моей памяти.
Я поклялся хранить его до тех пор, пока она не встретит меня снова — таким же взмахом руки.
До тех пор, пока он не превратится в «привет».
Глава 4
Молчание
Осло
Норвегия
Днем позже я уже был в Осло, и с Поппи нас разделял океан.
Два месяца мы разговаривали с ней каждый день. Я старался утешать себя тем, что у нас есть хотя бы это. Но с каждым днем, заканчивавшимся без нее, во мне копилась и крепла злость. Ненависть к отцу нарастала, и в конце концов она сломала что-то внутри, оставив только пустоту. Я упорно не заводил друзей в школе и противился всему, что помогло бы снова принять это место как мой дом.
Мой дом был там, в Джорджии.
С Поппи.
О переменах в моем настроении Поппи не говорила ничего, как будто и не замечала их. Я надеялся, что хорошо все скрываю. Не хотел, чтобы она волновалась из-за меня.
А потом однажды Поппи не ответила на звонок. Не ответила на и-мейл. Не ответила на эсэмэску.
То же повторилось и на следующий день. И на следующий.
Она выпала из моей жизни.
Просто-напросто исчезла. Не оставив ни слова, ни следа.
Она ушла из школы. Ее не было в городе.
Ее семья, в полном составе, снялась с места и уехала, никого не уведомив куда.
Два года я оставался совершенно один по другую сторону Атлантики, ломая голову и не находя ответа на вопросы: где же Поппи? Что случилось? Не я ли тому виной? Не я ли в ночь перед отъездом подтолкнул ее за черту?
То был второй момент, определивший мою жизнь.
Жизнь без Поппи.
Без вместе навсегда.
Без на веки вечные.
Просто… пустота.
Глава 5
Было — любили, а теперь чужие
Блоссом-Гроув, Джорджия
Наши дни
Возраст — семнадцать лет
— Он возвращается.
Два слова. Два слова, опрокинувших мою жизнь в хаос. Два слова, повергших меня в ужас.
Он возвращается.
Прижимая к груди учебники, я уставилась на Джори, мою самую близкую подругу. Сердце ухнуло, как пушка, и меня чуть ли не заколотило.
— Что ты сказала? — шепотом спросила я, застыв как вкопанная посредине коридора и не замечая спешащих на урок учеников.
Джори положила руку мне на плечо.
— С тобой все в порядке?
— Да, — едва слышно ответила я.
— Точно? Ты побледнела. И вид нездоровый.
Я кивнула, постаравшись как можно убедительнее показать, что у меня все хорошо.
— Кто… кто тебе сказал, что он возвращается?
— Джадсон и Дикон. Я была с ними в классе и слышала, как они говорили, что компания снова присылает сюда его отца. — Джори пожала плечами. — Теперь уже навсегда.
Я сглотнула застрявший в горле комок.
— И в тот же дом?
Джори поморщилась, но кивнула.
— Извини, Попс.
Я закрыла глаза и постаралась успокоиться. Значит, он снова будет жить по соседству, и его комната будет напротив моей.
— Поппи? — Я открыла глаза. Подруга смотрела на меня полными сочувствия глазами. — Ты точно в порядке? Уверена? Ты ведь всего две недели как вернулась. И я знаю, каково оно, снова увидеть Руне…
Я выдавила из себя улыбку:
— Не волнуйся, Джо. Я больше его не знаю. Два года — срок немалый, и мы почти не разговаривали все это время.
Джори нахмурилась:
— Попс…
— Не волнуйся, — повторила я, не дав ей договорить. — Мне пора на урок.
Но едва сделав пару шагов по коридору, я остановилась и посмотрела на подругу. Единственную подругу, с которой поддерживала связь два последних года. Все остальные думали, что наша семья уехала из города, чтобы позаботиться о маминой больной тете, и только Джори знала правду.
— Когда? — набравшись смелости, спросила я.
Выражение на лице Джори смягчилось, как только она поняла, о чем речь.
— Сегодня, Попс. Он приезжает сегодня. Джадсон и Дикон предлагают ребятам собраться вечером на поляне — поздравить его с возвращением. Все пойдут.
Вот так новость. Как ножом в сердце. А меня и не пригласили. С другой стороны, а с какой стати? Мы уехали из Блоссом-Гроув, не сказав никому ни слова, ни с кем не попрощавшись. Вернувшись в школу, я снова стала тем, кем и была всегда — без Руне рядом, — тихой скромницей, невидимкой для шумных компаний. Чудачкой, которая носит банты и играет на виолончели.
Никому, кроме Джори и Руби, не было до меня никакого дела. Никто и не заметил моего отсутствия.
— Поппи? — окликнула Джори.
Я тряхнула головой и, вернувшись в обычный мир, увидела, что коридоры уже почти пусты.
— Иди на урок, Джо.
Она шагнула ко мне:
— Ты же будешь в порядке, Попс? Мне ведь не надо за тебя волноваться?
Я невесело рассмеялась:
— Ничего. Бывало и хуже.
Чтобы не видеть в глазах подруги сочувствие и жалость, я отвернулась и побежала в класс. Урок математики только-только начинался, и мне еще удалось незамеченной проскользнуть на свое место.
Если бы кто-то спросил потом, о чем говорил учитель, я бы, наверно, не ответила. Все пятьдесят минут я думала только о нашей с Руне последней встрече. О нашем последнем объятии. О нашем последнем поцелуе. Как мы любили друг друга в ту последнюю ночь. Перед глазами снова и снова вставало его прекрасное лицо в окне автомобиля, когда его увозили из моей жизни.
Интересно, какой он сейчас? Как выглядит? Руне всегда был высоким, широкоплечим, хорошо сложенным. Но в наше время за два года любой может сильно измениться. Уж я-то знала это лучше многих.
Мысли снова уносились к нему. Раньше его глаза на ярком солнце казались кристально-голубыми, а теперь? Носит ли он все еще длинные волосы? И осталась ли у него привычка через каждые несколько минут отбрасывать их назад? Этот жест сводил с ума всех девчонок в нашей школе.
Вспоминает ли он еще обо мне, соседской девчонке? Думает ли о том, где я и что делаю? Помнит ли ту ночь? Нашу ночь. Самую восхитительную ночь в моей жизни.
А потом, словно темная туча, самый страшный вопрос. Вопрос, отзывавшийся настоящей, физической болью: целовал ли он кого-то за эти два прошедших года? Отдавал ли кому-то свои губы, навечно обещанные мне?
Или еще хуже: любил ли другую?
Пронзительный школьный звонок ворвался в мои мысли. Я поднялась из-за стола и вышла в коридор. Как хорошо, что сегодня занятий больше не будет.
Я устала и чувствовала себя не слишком хорошо. Но самое главное, болело сердце. Потому что я знала: с сегодняшнего вечера в соседнем доме будет жить Руне, с завтрашнего дня он будет в школе… а я не смогу поговорить с ним. Не смогу ни улыбнуться ему, ни дотронуться до него, как мечтала с того дня, когда перестала отвечать на его звонки.
Не смогу поцеловать его.
Я должна буду держаться в стороне.
Меня чуть не стошнило от одной только мысли, что он, может быть, и не посмотрит на меня больше. После того как я взяла и отрезала его от себя. Без всяких объяснений.
Я толкнула тяжелую дверь, вышла на улицу и вдохнула прохладный, свежий воздух. Глубоко-глубоко. И тут же почувствовала себя легче. Убрала за уши волосы. Теперь у меня была другая стрижка — короткий боб, — к которой я еще не привыкла. Мне было так жаль расставаться с длинными волосами.
Я шла домой и улыбалась — голубому небу и птичкам, порхающим над макушками деревьев. Природа всегда действовала на меня успокаивающе.
В паре сотен ярдов от школы я увидела машину Джадсона, у которой толпились старые друзья Руне. Единственной девчонкой в толпе мальчишек была Эвери. Я опустила голову и попыталась пройти мимо незамеченной, но она окликнула меня. Пришлось остановиться и повернуться. Эвери оттолкнулась от машины и шагнула ко мне. Дикон попытался удержать ее, но она отбросила его руку. Самодовольное выражение на ее лице не обещало ничего хорошего.
— Ты уже слышала? — спросила она с улыбкой на розовых губах. Красивая, ничего не скажешь. Вернувшись в город, я глазам не поверила, когда увидела ее, — надо же так похорошеть! Всегда идеальный макияж, длинные светлые волосы всегда аккуратно и стильно уложены. Любой парень хотел бы видеть такую своей девушкой, и каждая девчонка мечтала быть такой.
Я снова убрала за уши волосы — привычка, выдававшая нервозность, — и притворилась, что не понимаю, о чем речь.
— Слышала что?
— Насчет Руне. Он возвращается в Блоссом-Гроув.
Ее голубые глаза светились радостью. Я отвела взгляд и, приказав себе сохранять спокойствие, покачала головой.
— Нет, не слышала. Сама лишь недавно вернулась.
Краем глаза я заметила идущую к машине Руби, подружку Дикона, и Джори. Увидев нас с Эвери, они прибавили шагу. За это я и любила обеих. О том, где я была последние два года и почему уехала, знала только Джори. Но когда я вернулась, Руби встретила меня так, словно мы и не расставались. Вот что значит настоящие подруги.
— Ну, что у нас тут? — как бы невзначай, но достаточно резко, чтобы дать понять, что в обиду меня не даст, спросила Джори.
— Да вот, интересуюсь у Поппи, знает ли она, что Руне возвращается в Блоссом-Гроув, — с издевкой сказала Эвери.
Руби с любопытством посмотрела на меня.
— В первый раз слышу, — объяснила я. Руби грустно улыбнулась.
Подошедший Дикон обнял свою подружку за плечи и кивнул мне.
— Привет, Попс.
— Привет.
Он повернулся к Эвери:
— Эв, Руне не разговаривал с Поппи два года. Я же тебе говорил. Она ничего о нем не знает. Откуда ей знать, что он приезжает. И с какой стати ему об этом ей сообщать?
Слушая Дикона, я понимала, что у него и мысли нет как-то меня обидеть. Но все равно его слова били в самое сердце. И теперь я знала, что Руне не спрашивал его обо мне. Конечно, все это время они общались. И, конечно, если он ни разу обо мне не упомянул, я не значила для него ничего.
Эвери пожала плечами:
— Просто спросила, вот и все. Они же были неразлучны, пока он не уехал.
Воспользовавшись моментом, я помахала рукой.
— Мне пора. — Я быстро повернулась и направилась домой, решив пройти через парк, который вел к вишневой роще.
Безлюдная и притихшая, с голыми деревьями, которым так не хватало зеленых листочков, роща навевала грусть. Серые ветви выглядели безжизненными, но никакая тоска по тому, что составляло их красу, не могла принести желаемое. Приблизить весну.
Так уж устроен мир.
Мама была в кухне. Айда и Саванна выполняли домашнее задание за столом.
— Привет, малыш, — сказала мама.
Я подошла к ней и обняла, чуть крепче, чем обычно.
Она посмотрела на меня, и в усталых глазах мелькнуло беспокойство.
— Что-то случилось?
— Так, небольшая слабость. Пойду прилягу.
Но мама не отпускала.
— Просто слабость? Ты уверена? — Она потрогала мой лоб, проверила температуру.
— Уверена. — Я отвела ее руку и поцеловала в щеку.
Пройдя в спальню, я посмотрела в окно на дом Кристиансенов. Там ничего не изменилось. Все так же, как и в тот день, когда они уехали. Дом не продали. Миссис Кристиансен сказала маме, что они рассчитывают рано или поздно вернуться, а потому решили оставить его за собой. Им нравился и дом, и район. Каждые несколько недель туда приходила уборщица, так что к их возвращению все было готово.
Сегодня шторы были разведены, а окна открыты — уборщица проветривала комнаты в ожидании жильцов. Они возвращались. И я боялась этого возвращения.
Задернув шторы — папа повесил их, когда мы приехали несколько недель назад, — я легла на кровать и закрыла глаза. Постоянная усталость, слабость — как же мне все это надоело. По натуре я — человек активный, и сон для меня всегда был пустой тратой времени, которое можно было бы использовать с большей пользой — исследуя мир и сохраняя воспоминания.
Но теперь выбирать не приходилось.
Я вызвала из памяти Руне и, держа его лицо перед глазами, погрузилась в сон. Сон, приходивший ко мне едва ли не каждую ночь, — объятия Руне, его поцелуи, его слова о любви.
Не знаю, долго ли я спала, но проснулась от шума подъезжающих грузовиков. Через лужайку доносились громкий стук и знакомые голоса.
Я села, протерла заспанные глаза, и только тогда до меня дошло.
Он здесь.
Сердце подскочило и заколотилось. Билось оно так быстро, что я испугалась — как бы не выскочило из груди.
Он здесь.
Он здесь.
Я поднялась с кровати, подошла к окну и, не раздвигая штор, прислушалась. На фоне шума звучали голоса папы и мамы. Другие голоса тоже были знакомы, и принадлежали они мистеру и миссис Кристиансен.
Улыбнувшись, я протянула руку к шторе и… остановилась. Не хотела, чтобы они меня увидели. Отступив от окна, я выбежала из спальни и торопливо поднялась в папин кабинет. Не считая моей комнаты, эта была единственной, окно которой выходило на соседний дом. И прятаться у этого окна не приходилось благодаря легкой тонировке, защищавшей от яркого солнца.
На всякий случай я подошла к окну с левой стороны и сразу увидела родителей Руне. Они практически не изменились. Миссис Кристиансен — красивая, как всегда. Волосы немного короче, но если не обращать внимания на это, она осталась прежней. У мистера Кристиансена добавилось немного седины и, наверно, несколько фунтов, но разница была почти незаметной.
Светловолосый мальчишка выбежал из передней двери, и моя рука вскинулась к губам, но им оказался малыш Элтон. По моим расчетам, ему уже исполнилось четыре. Как же он вырос! И волосы такие же, как у брата, длинные, прямые. Сердце сжалось — Элтон был копией Руне.
Рабочие расставляли мебель, и дело шло на удивление быстро. Но вот Руне видно не было.
Мои родители наконец вернулись, но я осталась у окна, терпеливо ожидая того, кто так долго был моим миром, что я порой не знала, где начинается один из нас и заканчивается другой.
Прошел час, потянулся другой. Близился вечер. Я уже потеряла надежду увидеть его и собиралась закончить бдение, когда уловила какое-то движение за домом Кристиансенсов.
Все мое тело вдруг напряглось. В темноте вспыхнул крохотный огонек. Над разделявшей наши дома полоской травы в воздухе проплыло облачко белого дыма. Я не сразу поняла, что вижу, но потом из тени выступила высокая, вся в черном, фигура.
Дыхание перехватило. Человек в черном вышел под свет уличного фонаря и остановился. Кожаная байкерская куртка, черная рубашка, черные прямые джинсы, черные замшевые сапоги и… длинные светлые волосы.
Сердце замерло на мгновение. Я знала эту походку. Знала этот волевой подбородок. Знала его самого. Знала так же хорошо, как саму себя.
Руне.
Мой Руне.
Над его ртом снова поднялось белое облачко дыма, но мне понадобилось еще несколько секунд, чтобы понять, что он курит.
Курит!
Но Руне не курил. И никогда бы не взял в руки сигарету. Моя бабуля курила всю жизнь и умерла — как говорили, преждевременно — от рака легких. Мы с Руне даже пообещали друг другу, что и пробовать не станем.
И вот, как оказалось, он свое обещание нарушил.
Руне снова затянулся и в третий раз за несколько минут отбросил волосы. Внутри у меня все провалилось. Он поднял голову, так что свет упал на лицо, и выдохнул струйку дыма в холодный вечерний воздух.
Значит, вернулся. Семнадцатилетний Руне Кристиансен. Высокий, сильный и до невозможности красивый. Кристально-голубые глаза остались такими же ясными, какими и были. Мальчишеское лицо оформилось, черты стали тверже, и от одного взгляда на него захватывало дух. Когда-то я в шутку говорила, что он похож на скандинавского бога. Теперь я бы поставила его выше любого из них.
Докурив сигарету, Руне бросил окурок на землю — крохотный огонек постепенно растаял в черной короткой траве. Затаив дыхание, я ждала. Что он будет делать дальше? Мистер Кристиансен вышел на крыльцо и что-то сказал сыну.
Я видела, как напряглись его плечи, как он резко повернул голову в сторону отца. Слов было не разобрать, но разговор определено проходил на повышенных тонах, и в голосе Руне явственно звучали агрессивные нотки. Нарвавшись на грубость, мистер Кристиансен покорно опустил голову и вернулся в дом. Руне же выставил в спину отцу средний палец и держал его, пока не хлопнула дверь.
Я смотрела, застыв от изумления, и не верила своим глазам. Мальчишка, которого я знала так же хорошо, как себя, превратился в незнакомца у меня на глазах. И когда он направился к дому через дворик между нашими домами, на душе у меня остались разочарование и печаль. Глядя на напряженно застывшие плечи, я почти ощущала идущую от него волну злобы. Мои худшие страхи стали явью: тот мальчик исчез.
В следующую секунду меня словно парализовало — Руне остановился на лужайке и посмотрел на окно моей спальни, находившейся прямо подо мной. Пронесшийся между домами порыв ветра швырнул ему в глаза прядь волос, и в этот миг я увидела в них невероятную боль. Этот образ — напрягшееся лицо, устремленный на мое окно отчаянный взгляд — поразил меня и едва не сбил с ног. В этом потерянном выражении был мой Руне.
Этого парня я узнала.
Руне шагнул к окну, и мне почему-то показалось, что вот сейчас он попытается забраться через него в спальню, как делал на протяжении многих лет. Но нет, он вдруг остановился — сжав кулаки, закрыв глаза и стиснув зубы так сильно, что на скулах проступили желваки.
Потом, по-видимому, передумав, Руне резко повернулся и зашагал к своему дому. Я осталась у окна кабинета, укрывшись в тени, до глубины души потрясенная увиденным.
Через некоторое время в комнате Руне загорелся свет. Я видела, как он прошелся по спальне, остановился у окна и сел на широкий подоконник. Потом достал еще одну сигарету, закурил, выдохнул дым на улицу.
Я покачала головой — нет, такого не может быть.
Скрипнула дверь. Мама вошла в кабинет, встала рядом со мной и посмотрела в окно. Об остальном догадаться было нетрудно.
Щеки вспыхнули, как будто меня поймали за чем-то неприличным.
— Аделис сказала, он уже не тот мальчик, которого мы знали, — заговорила, помолчав, мама. — После возвращения в Осло у них с ним были одни проблемы. Эрик в растерянности и не представляет, что делать. Они очень рады, что вернулись сюда. Дело в том, что в Норвегии Руне связался с дурной компанией.
Между тем Руне выбросил в окно окурок и прислонился головой к стеклу. Взгляд его не отрывался от одной точки, и этой точкой было окно моей спальни.
Перед тем как выйти из кабинета, мама положила руку мне на плечо.
— Может быть, милая, оно и к лучшему, что ты оборвала все контакты. Судя по тому, что сказала его мать, он вряд ли смог бы выдержать все, через что тебе пришлось пройти.
Слезы подступили к глазам. Что могло сделать его таким? Что превратило его в этого незнакомца? В последние два года я нарочно отгородилась от мира, чтобы уберечь его от боли. Чтобы он смог прожить спокойную жизнь. Зная, что в Норвегии есть парень, чье сердце полно света, я легче переносила то испытание, что выпало на мою долю.
И вот теперь, после встречи с двойником Руне, эта моя фантазия оказалась растоптанной.
Свет того Руне изрядно потускнел. Его накрыла тень и поглотила тьма. Как будто тот, кого я любила, сгинул в Норвегии.
На подъездной дорожке к дому Руне появилась машина Дикона. В руке Руне загорелся сотовый. Выйдя из комнаты, он спустился с крыльца и вразвалку направился к выскочившим из машины Дикону и Джадсону. Друзья обнялись и похлопали друг друга по спине.
А потом мое сердце с хрустом разломилось пополам. Соскользнувшая с заднего сиденья Эвери только что не бросилась ему на шею. Короткая юбка и укороченный топ подчеркивали достоинства идеальной фигуры. Правда, Руне не ответил на ее объятия, но легче от этого не стало. Со стороны они выглядели превосходной парой. Оба высокие и светловолосые. Оба красивые.
Потом все забрались в машину. Руне сел последним, и вся компания промчалась по улице и скрылась из виду.
Проводив взглядом исчезающие в ночи огоньки, я вздохнула и еще раз посмотрела на дом Кристиансенов. Отец Руне стоял на краю веранды, держась за перила и глядя туда, куда только что уехал его сын. Потом он повернулся, посмотрел на окно кабинета и грустно улыбнулся.
Он увидел меня.
Мистер Кристиансен поднял руку и помахал мне. Я помахала в ответ, заметив на его лице глубокий оттиск печали.
Он выглядел усталым.
Как человек, потерявший сына.
Я возвратилась в спальню, легла на кровать и достала любимую фотографию в незатейливой рамке. С фотографии на меня смотрели красивый мальчик и счастливая девушка, чья любовь не требовала подтверждений. Что же случилось за эти два года с Руне? Что превратило его в непокорного бунтаря, каким он показался мне теперь.
Я расплакалась.
Я плакала по мальчику, который был моим солнцем.
Я оплакивала мальчика, которого любила всем сердцем.
Я прощалась с Поппи и Руне — образцом идеально красивой и так недолго жившей пары.
Глава 6
Тесные коридоры и пронзенные сердца
— Ты точно в порядке? — спросила мама, гладя меня по руке. Машина остановилась.
Я улыбнулась и кивнула:
— Да, мам, все хорошо.
В ее покрасневших глазах набухали слезы.
— Поппи. Детка. Тебе необязательно идти сегодня в школу, если ты не хочешь.
— Мам, мне нравится в школе. Мне нравится учиться. — Я пожала плечами. — К тому же у нас сегодня история, а ты знаешь, как я люблю историю. Это мой любимый предмет.
Она улыбнулась сквозь слезы и вытерла глаза.
— Вся в бабулю. Упрямая как осел и во всем умеешь находить хорошее. Иногда мне кажется, что это она смотрит на мир твоими глазами.
От этих ее слов у меня потеплело в груди.
— Спасибо, мам, порадовала. Но ты не беспокойся, со мной все в порядке.
Глаза у нее снова заблестели, и она поспешила выпроводить меня из машины, но прежде сунула в руку записку от врача.
— Вот, держи, не забудь отдать.
Я взяла записку, но прежде чем захлопнуть дверцу, сунула голову в салон.
— Люблю тебя, мам. Очень-очень.
Мама вздохнула и улыбнулась, грустно, но счастливо.
— Я тоже тебя люблю, Попс. Очень-очень.
Я захлопнула дверцу и зашагала к школе. Мне всегда казалось странным приходить, когда занятия уже начались. Все притихло и замерло, и в этой тишине, в этом спокойствии было что-то апокалиптическое, некая сущностная противоположность буйству большой перемены или сумасшедшей спешке между уроками.
Первым делом я направилась в школьную канцелярию, где передала записку секретарю, миссис Гринуэй.
— Как дела, дорогая? — участливо спросила она, протягивая мне пропуск. — Ты ведь не вешаешь этот твой симпатичный носик?
Я улыбнулась:
— Нет, мэм.
Если верить часам, урок начался всего лишь пятнадцать минут назад. Я не хотела ничего упускать и, прорвавшись через две пары дверей, поспешила к своему шкафчику, из которого достала целую стопку книг для урока по английской литературе. После чего, толкнув дверцу шкафчика локтем и с трудом справляясь с ношей, направилась в класс. Но не успела сделать и двух шагов…
Ноги приросли к полу. Сердце и легкие остановились. Передо мной, футах в восьми, стоял, словно громом пораженный, Руне. Высокий, вполне уже взрослый Руне. Он стоял и смотрел на меня в упор своими кристально-голубыми глазами, и я, попав в ловушку их чар, не могла бы отвернуться, даже если бы хотела.
Наконец мне удалось сделать вдох и наполнить легкие воздухом, а следом включилось и сердце — заколотилось под взглядом того, кого я, сказать по правде, по-прежнему любила больше всего на свете.
Как всегда, он был весь в черном — черная, в обтяжку, футболка, черные прямые джинсы и черные замшевые сапоги. Только руки стали крепче, а фигура — подтянутой и мускулистой. Мой взгляд добрался до его лица — и внутри похолодело. Я думала, что уже видела его во всей красе, когда он стоял под уличным фонарем, но оказалось, что нет.
Повзрослевший, подтянувшийся, Руне превратился в настоящего красавца. Крепкий подбородок на прекрасно очерченном, типично скандинавском лице. Выступающие, но ничуточки не женственные, скулы. Подбородок и щеки припорошены легкой золотистой щетиной. И русые, немного нахмуренные брови над прищуренными ярко-голубыми глазами.
Глазами, память о которых не стерли ни расстояние в четыре тысячи миль, ни два года разлуки.
Вот только взгляд, буравивший меня сейчас, как будто принадлежал кому-то другому, не тому Руне, которого я так хорошо знала. И в нем я видела упрек и ненависть. В нем горело откровенное презрение.
Царапая когтями, боль поползла по горлу, и я с усилием сглотнула. Его любовь всегда отзывалась пьянящим ощущением тепла. Теперь же, под прицелом этого сурового, обвиняющего взгляда, я почувствовала себя так, будто оказалась на продуваемом арктическим ветром ледяном выступе.
Минута шла за минутой, но никто из нас не сдвинулся ни на дюйм. Казалось, даже воздух потрескивал от напряжения. Его пальцы сжались в кулак, словно он вел какую-то невидимую войну с самим собой. Что он пытался преодолеть? Лицо его еще больше помрачнело. И тут за спиной Руне открылась дверь, и в коридор вышел Уильям, дежурный по школе.
Он посмотрел на Руне, потом на меня, и я наконец выдохнула, получив возможность собраться с мыслями. Напряжение слегка разрядилось.
Уильям откашлялся:
— Можно ваши пропуска?
Я кивнула и, кое-как удерживая книги на полусогнутом колене, протянула руку с пропуском, но Руне еще раньше сунул Уильяму свой.
Я сделала вид, что не заметила столь откровенной грубости.
Уильям проверил сначала его пропуск. Руне приходил на занятия позже, поскольку занимался по индивидуальной программе. Уильям вернул ему пропуск, но Руне не уходил. Уильям взял мой пропуск и, едва взглянув на него, сказал:
— Надеюсь, Поппи, ты скоро поправишься.
Я побледнела — как он узнал? — но потом поняла: в пропуске стояла отметка, что я была на приеме у врача. Конечно, Уильям ничего не знал и просто проявил учтивость.
— Спасибо, — сказала я и, набравшись смелости, взглянула на Руне. Он по-прежнему пристально смотрел на меня, но теперь на лбу у него обозначались морщинки, означавшие, как я знала, беспокойство. Впрочем, беспокойство тут же закрыла сердитая тучка, как только он понял, что я тоже наблюдаю за ним.
Хмурый вид и Руне Кристиансен плохо сочетались друг с другом. Такое прекрасное лицо заслуживало — и требовало — постоянной улыбки.
— Давайте-ка на занятия. — Строгий голос Уильяма отвлек меня от Руне. Протиснувшись между ними в дверь, я поспешила к другому коридору и, лишь достигнув его, обернулась через плечо. Руне смотрел мне вслед через стеклянные панели.
У меня задрожали руки. Но тут он вдруг резко отвернулся, словно усилием воли заставил себя оставить меня в покое.
Немного успокоившись, на что потребовалось несколько секунд, я направилась в класс.
Но и часом позже меня все еще трясло.
Прошла неделя. Все это время я старалась любой ценой избегать Руне. Оставалась в спальне, пока не убеждалась, что его нет дома. Не раздвигала шторы и запирала окно — на случай, если Руне попытается проникнуть в комнату. Несколько раз мы все же сталкивались в школе, и он либо притворялся, что не видит меня, либо смотрел, как на злейшего врага.
И то и другое ранило до боли.
Во время большой перемены, когда все шли на ланч, я держалась от кафетерия подальше и перекусывала в музыкальной комнате, а свободное время уделяла виолончели. Музыка по-прежнему оставалась моей тихой гаванью, единственным убежищем, где я могла укрыться от мира.
Стоило смычку коснуться струн, как меня уносило в море звуков и нот. Боль и печаль последних двух лет забывались. Одиночество, слезы, злость — все уходило, и оставался только покой, найти который не получилось нигде больше.
Всю неделю, после жуткой встречи с Руне в коридоре, я хотела только одного: забыть обо всем. Забыть его взгляд, полный ненависти и презрения. Музыка всегда служила мне лучшим лекарством, и теперь я отдавала ей свое свободное время. И все бы ничего, если бы не одна проблема. Каждый раз, после окончания музыкальной пьесы, как только последняя нота растворялась в воздухе, и я опускала смычок, отчаяние накатывало с удесятеренной силой. Валило с ног и не отпускало. Вот и сегодня, стоило отыграть в перерыве, как тоска вновь овладела мной и не отпускала всю вторую половину дня. Я уже вышла из школы, а она давила и давила.
Как всегда после занятий, в школьном дворе творилось настоящее столпотворение. Опустив голову, я пробилась к выходу, а когда свернула за угол, увидела сидящих на поляне в парке Руне и его друзей. С ними были и Джори с Руби. А еще Эвери.
Я тут же отвела глаза, чтобы не смотреть на Эвери, пристроившуюся к Руне, который как раз закуривал сигарету. Выпустив дым и небрежно положив руку на колено, он прислонился спиной к дереву. Сдерживая трепет внутри, я ускорила шаг, но в какой-то момент наши глаза все-таки встретились.
Я поспешно отвернулась, но Джори уже заметила меня и, вскочив, устремилась следом. Мне вовсе не хотелось, чтобы Руне и его приятели слышали наш разговор, поэтому я постаралась отойти подальше.
— Поппи, — окликнула Джори, остановившись у меня за спиной. Чувствуя на себе неотступный взгляд Руне, но не отвечая на него, я обернулась.
— Ты как? — спросила она.
— Хорошо, — ответила я и сама услышала, как дрогнул мой голос.
Джори вздохнула:
— Ты хотя бы поговорила с ним? Неделя прошла, как он вернулся.
— Нет. — Я почувствовала, как вспыхнули щеки, и покачала головой, но потом собралась с духом и призналась: — Не представляю, о чем говорить. Он изменился и не похож на того парня, которого я знала и любила.
— Знаю, изменился, — кивнула Джори. — Но, похоже, Попс, ты единственная, кто считает, что к худшему.
— Ты о чем? — Я ощутила укол ревности.
Джори кивнула в сторону девчонок, окруживших Руне и изо всех сил старавшихся держаться естественно и непринужденно. Получалось у них откровенно плохо.
— Все только о нем и говорят. Любая девчонка в школе — за исключением тебя, меня и Руби — с радостью продаст душу только за то, чтобы заслужить его внимание. Руне и раньше пользовался популярностью, но тогда у него была ты, и мы знали, что тебя он ни на кого не променяет. Но теперь… — Она не договорила, но у меня как будто камень лег на сердце.
— Но теперь меня у него нет, — закончила за нее я. — Теперь он свободен и может быть с кем угодно, кого только пожелает.
Джори смутилась, поняв, что не в первый уже раз ляпнула лишнее, виновато заморгала и взяла меня за руку. Впрочем, злиться на нее было невозможно, — она всегда сначала говорила и только потом думала. К тому же она сказала правду.
— Какие планы на завтрашний вечер? — спросила Джори после неловкой паузы. — Чем будешь заниматься?
— Ничем. — Мне хотелось поскорее закончить этот разговор и уйти.
— Вот и хорошо! — обрадовалась она. — Дикон устраивает вечеринку у себя дома. Приходи! Нечего сидеть одной в субботний вечер.
Я рассмеялась.
Джори нахмурилась.
— Я не хожу на вечеринки. Меня никто на них не приглашает.
— Считай, что пригласили. Пойдешь со мной. Будешь моей парой.
Настроение упало до нуля.
— Не могу. — Я вздохнула. — Не могу, потому что там будет Руне. После всего случившегося…
Джори наклонилась и, понизив голос, доверительно сообщила:
— Его там не будет. Руне сказал Дикону, что собирается куда-то еще.
— И куда же? — Любопытство все же перевесило сдержанность.
Она пожала плечами.
— Откуда ж мне знать. Руне не из разговорчивых. Думаю, ему это только добавляет привлекательности в глазах поклонниц. — Джори выпятила нижнюю губу и ткнула меня в плечо. — Ну же, Попс, пожалуйста. Тебя так долго не было, я по тебе скучала. Мы мало бываем вместе, а ты постоянно прячешься. Столько надо наверстать. И Руби тоже будет. Ты меня знаешь — я от тебя не отстану.
Я уткнулась взглядом в землю, изо всех сил пытаясь найти повод, чтобы отказаться. Потом посмотрела на Джори и поняла, что если откажусь, то сильно расстрою подругу. И, отогнав сомнения, сдалась.
— Ладно, пойдем вместе.
Джори расплылась в широкой улыбке.
— Вот и отлично! — Она порывисто обняла меня, и я рассмеялась.
— Мне пора. У меня сегодня концерт.
— Хорошо. Я заскочу за тобой завтра в семь, идет?
Мы попрощались, и я пошла домой, но уже через пару минут почувствовала, что кто-то идет за мной через вишневую рощу. Я оглянулась — это был Руне.
Наши взгляды встретились, и мое сердце рвануло, словно на стометровку. Он не отвел глаза — в отличие от меня. А если Руне попытается заговорить? Если потребует объяснений? Или, еще хуже, скажет, что у нас и не было ничего серьезного?
Меня бы это раздавило.
Не поднимая головы, я прибавила шагу и уже не сбавляла до самого дома. Он шел за мной всю дорогу, но догнать не пытался.
Взбежав по ступенькам крыльца, я посмотрела в сторону — Руне стоял возле своего отца, прислонившись к стене дома. Привычным жестом он откинул назад волосы, и мое сердце кувыркнулось. Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы не бросить сумку и не побежать к нему — объяснить, почему я перестала отвечать, почему порвала с ним, почему отдала бы все на свете только за то, чтобы он поцеловал меня, как прежде. Но я заставила себя войти в дом.
В голове снова и снова крутились слова мамы — может быть, оно и к лучшему, что ты оборвала все контакты. Судя по тому, что сказала его мать, он вряд ли смог бы выдержать все, через что тебе пришлось пройти… Я прошла в спальню и легла на кровать. Закрыла глаза. А потом дала себе клятву. Я оставлю его в покое. Я не стану для него бременем. Я защищу его от боли.
Я дала эту клятву, потому что любила его так же сильно, как всегда.
Даже если мальчик, которого я любила, не любил меня больше.
Глава 7
Преданные губы и мучительная правда
Держа смычок и виолончель одной рукой, я размяла другую. Пальцы то и дело немели, так что во время исполнения приходилось делать паузы и ждать, пока чувствительность восстановится. Но сегодня я знала, что как только Майкл Браун закончит свое соло на скрипке, ничто не помешает мне занять место на сцене. Я сыграю свою пьесу. И получу удовольствие от каждой секунды этого чуда — сотворения музыки.
Майкл опустил смычок, и публика разразилась восторженными аплодисментами. Он быстро поклонился и ушел со сцены с другой стороны.
Ведущий взял микрофон и объявил мой номер. Собравшиеся захлопали еще громче, приветствуя мое запоздалое возвращение в музыкальное сообщество.
Сердце забилось от волнения. Пришедшие на концерт родители и друзья встретили мое появление свистом и криками поддержки. Многие мои сверстники из числа музыкантов оркестра подошли со словами поддержки. Кто-то похлопал меня по спине. Я отвернулась, чтобы проглотить подступивший к горлу комок.
Расправив плечи, я отогнала нахлынувшую волну эмоций и, прежде чем сесть, кивком поприветствовала публику. Сверху пролился поток света.
Усевшись поудобнее, я подождала, пока установится тишина, и оглядела зал. Мои родители и сестры гордо восседали в третьем ряду. Мама и папа ободряюще улыбались. Айда и Саванна робко помахали мне.
Я улыбнулась в ответ, показывая, что заметила их, и напряглась от затрепетавшей в груди боли, увидев рядом с ними мистера и миссис Кристиансен. Элтон тоже помахал мне.
Не было только Руне.
Я не выступала два года. До того он не пропустил ни одного концерта с моим участием и, сидя в темном зале, с фотоаппаратом в руке, улыбался своей кривой улыбкой каждый раз, когда встречались наши взгляды.
Откашлявшись, я закрыла глаза, положила пальцы на гриф виолончели и поднесла смычок к струнам. Досчитала мысленно до четырех и начала. Прелюдия к сюитам для виолончели Баха считается технически сложной. Она была одной из моих любимых музыкальных пьес — с изысканной мелодией, быстрым ходом смычка и чудесным звучанием, эхом разносившимся по залу.
Каждый раз, находясь на сцене, я пропускала музыку через себя. Мелодия изливалась из моего сердца, и я представляла, что выступаю в Карнеги-холле. Моя самая заветная мечта. В этой мечте со мной была публика, такие же люди, живущие ради звучания идеальной ноты, с трепетом уносящиеся в путешествие звука. Они чувствовали музыку в своих сердцах и ее магию в своих душах.
Мое тело двигалось в ритме музыки, со всеми переменами в темпе, с взрывом финального крещендо, но, что самое главное, я забыла про онемение в кончиках пальцев.
Последняя нота отзвучала в воздухе. Я отняла смычок от вибрирующей струны и, склонив голову чуть набок, медленно открыла глаза. Свет на мгновение ослепил, но губы уже растягивала улыбка. Этот миг — когда музыка уже умолкла, а аплодисменты еще не начались — я ценила больше всего. Этот сладкий, сладкий миг, когда адреналин музыки разносится в тебе ощущением полноты жизни, словно ты завоевал весь мир, достиг высшего состояния просветления и безмятежности в чистейшей его форме. А потом грянули аплодисменты, и волшебные чары пали. С улыбкой опустив голову, я поднялась со стула и благодарно поклонилась. Держа руку на грифе виолончели, я машинально, по привычке, отыскала взглядом родных, прошлась по ликующим лицам спонсоров, скользнула взглядом вдоль задней стены и в первый момент даже не осознала, что вижу. Но сердце заколотилось, и глаза вернулись к левому углу. Он уже выходил через дверь, высокий, подтянутый парень с длинными светлыми волосами, одетый во все черное. Но прежде чем исчезнуть, он оглянулся в последний раз, и в полумраке блеснули кристально-голубые глаза…
Я даже раскрыла в изумлении рот, но прежде чем успела убедиться, что не ошибаюсь, блондин пропал за медленно закрывшейся дверью.
Неужели?.. Неужели он?..
Нет, твердо сказала я себе. Этого не может быть. С какой стати ему приходить сюда?
Ведь он ненавидит меня.
Тот взгляд в школьном коридоре, холодный и презрительный, сохранился в моей памяти и подтверждал это заключение. Конечно, я просто выдавала желаемое за действительное, воображая то, чего никак не может быть.
Еще раз поклонившись, я сошла со сцены, послушала трех выступавших после меня музыкантов и выскользнула через заднюю дверь. Мои родные и семья Кристиансенов уже ожидали на улице.
Первой меня заметила тринадцатилетняя Саванна.
— Попс! — крикнула она и, подбежав, обхватила обеими руками за талию.
— Привет всем. — Я тоже обняла ее. За Саванной, раскинув руки, подлетела одиннадцатилетняя Айда. Я стиснула обеих. Когда девочки отстранились, глаза у обеих блестели от слез.
— Что такое? — Я с нарочитой укоризной покачала головой. — Мы же договорились — не плакать. Помните?
Саванна рассмеялась. Айда кивнула. Сестренки отступили, а их место заняли папа и мама, сообщившие по очереди, как они гордятся мною.
Потом я повернулась к мистеру и миссис Кристиансен. И вдруг почему-то ужасно смутилась. После их возвращения из Осло мы еще ни разу не разговаривали.
— Поппи, — мягко произнесла миссис Кристиансен и раскрыла объятия. Я шагнула к ней, женщине, бывшей для меня второй матерью, и она приняла меня, прижала крепко к себе и поцеловала в висок. — Я так скучала по тебе, моя дорогая. — За то время, что мы не виделись, ее акцент как будто стал заметнее.
А как же Руне? Интересно, стал ли сильнее его акцент?
Миссис Кристиансен опустила руки, и я отогнала неуместные мысли. Следующим меня обнял мистер Кристиансен, а когда отступил и он, я увидела вцепившегося в отцовские брюки малыша Элтона и наклонилась. Он застенчиво опустил голову, поглядывая на меня сквозь упавшие со лба густые пряди.
— Привет, малыш. — Я пощекотала его бочок. — Помнишь меня?
Элтон долго думал, потом покачал головой.
Я рассмеялась.
— Мы ведь жили по соседству. Иногда ты ходил в парк со мной и Руне, а в хорошую погоду — в вишневую рощу!
Я упомянула Руне совершенно непроизвольно, но напомнив всем, и себе тоже, что когда-то мы были неразлучны. В разговоре возникла неловкая пауза.
Боль в груди, просыпавшаяся каждый раз, когда мне особенно недоставало бабули, заставила выпрямиться, а сочувственные взгляды — отвернуться. Я уже собралась сменить тему, но что-то потянуло за подол платья.
Элтон смотрел на меня снизу вверх большими голубыми глазами.
— Все в порядке? — Я погладила его по мягким волосам.
Он засмущался, покраснел, но все же спросил:
— А вы с Руне друзья?
Та же боль обожгла меня снова. Смешавшись, я бросила растерянный взгляд на взрослых. Мать Руне вздрогнула. Что сказать? Не дождавшись ответа, Элтон опять дернул меня за платье.
— Он был моим самым лучшим другом. — Прижав руку к груди, я со вздохом опустилась на корточки. — Я любила его всем сердцем, каждой своей частичкой. — И, подавшись к нему, прошептала на ухо: — И всегда буду любить.
Внутри у меня все перевернулось.
Слова шли из самого сердца. Что бы ни было между нами сейчас, я знала — Руне останется в моей душе навсегда.
— Руне… — произнес вдруг Элтон. — Руне… разговаривал с тобой?
Я рассмеялась:
— Конечно, милый. Он разговаривал со мной все время. Рассказывал все свои секреты. Мы говорили обо всем на свете.
Элтон посмотрел на своего отца, и его маленькие брови сдвинулись к переносице, отчего милое личико приобрело хмурое выражение.
— Он разговаривал с Поппи? Правда, папа?
Мистер Кристиансен кивнул:
— Да, правда. Поппи была его лучшим другом. Он очень ее любил.
Элтон повернулся и посмотрел на меня большими удивленными глазами. Его нижняя губа дрожала.
— Что такое, малыш? — Я погладила его по руке.
Мальчик шмыгнул носом.
— Руне со мной не разговаривает. — У меня сжалось сердце. Руне обожал младшего брата, всегда заботился о нем, играл с ним. И Элтон любил Руне и восхищался им. — Он меня не замечает. — Голос у Элтона дрогнул, и у меня защемило сердце. Он смотрел на меня так пристально, как не смотрел никто другой, кроме одного-единственного человека — его старшего брата, который теперь обходил меня стороной. Потом тронул за руку. — Ты можешь поговорить с ним? Попросить, чтобы он снова разговаривал со мной? Если ты его лучший друг, то он тебя послушает.
Мое сердце раскололось на кусочки. Я посмотрела через голову Элтона на его маму и отца, потом на своих родителей. Откровения малыша, похоже, потрясли всех.
Я снова повернулась к Элтону — он все еще смотрел на меня умоляющими глазами, ожидая помощи.
— Конечно, дружок, — сказала я ласково, — вот только он и со мной больше не разговаривает.
Надежды Элтона увяли на глазах. Я поцеловала его в лоб, и он отбежал к матери. Видя мое состояние, папа быстро сменил тему и, повернувшись к Кристиансенам, пригласил их к нам — завтра на ужин. Я отошла в сторонку и, глядя в никуда, за парковочную площадку, постаралась перевести дух.
От невеселых мыслей меня оторвал рев мотора. Я повернулась и застыла, пораженная увиденным — высокий светловолосый парень запрыгнул на переднее сиденье черного «Камаро».
Машины, принадлежащей Дикону Джейкобсу, лучшему другу Руне.
Я посмотрела в зеркало — и осталась довольна. На мне было доходящее до середины бедра небесно-голубое платье. Короткие каштановые волосы стянуты белым бантом. На ногах — черные балетки.
Из шкатулки с украшениями я достала свои любимые серебряные сережки в форме восьмерки — символ бесконечности. Их подарил мне Руне — на мой четырнадцатый день рождения. И надевала я их часто, при каждой возможности.
Прихватив короткую джинсовую куртку, я поспешила из комнаты на улицу. Вечер выдался прохладный. Джори уже прислала эсэмэску — сообщила, что ждет у дома. Я забралась на переднее сиденье грузовичка, принадлежавшего ее матери, и повернулась к своей лучшей подруге.
— Выглядишь офигительно клево, — улыбнулась она. Я разгладила платье, поправила юбку и вопросительно посмотрела на Джори.
— Ну как? Нормально? Не знала, что надеть.
Джори свернула с подъездной дорожки и помахала перед собой рукой.
— Порядок.
Я присмотрелась к ее наряду — черное, без рукавов платье и байкерские ботинки. Наряд покруче моего, но, по крайней мере, белой вороной рядом с ней я себя не чувствовала.
— Ну что, как прошло выступление? — спросила она, выехав на улицу.
— Хорошо, — уклончиво ответила я.
Джори настороженно взглянула на меня.
— Как самочувствие?
Я закатила глаза:
— У меня все хорошо. Пожалуйста, не приставай с расспросами. Ты такая же, как моя мама.
Не найдясь — в кои-то веки! — что сказать, она высунула язык. А я рассмеялась.
Пока мы ехали, Джори ввела меня в курс школьных событий, случившихся за то время, что меня не было в городе, и поделилась последними слухами. Я улыбалась там, где она этого ожидала, и кивала в нужных местах, но слушала без особого интереса. Школьные драмы никогда меня особенно не занимали.
Вечеринку мы сначала услышали. Крики и громкая музыка вылетали из дома Дикона и разносились по улице. Его родители взяли короткий отпуск и уехали ненадолго, а в нашем маленьком городке такое событие неизменно отмечалось домашней вечеринкой.
Мы припарковались возле дома, из которого во двор как раз высыпала толпа ребят. Мне сделалось немного не по себе. Стараясь не отстать, я поспешила за Джори через дорогу и схватила ее за руку.
— А что, вечеринки всегда такие сумасшедшие?
— Всегда, — рассмеялась она и, взяв меня под руку, потащила за собой.
Едва переступив порог, я вздрогнула от грохота музыки. По пути в кухню мы пробивались через настоящее столпотворение, то и дело наталкиваясь на бродящих бесцельно пьяных учеников. Я вцепилась в Джори с такой силой, что она даже поморщилась от боли и, оглянувшись, расхохоталась. К счастью, в кухне мы обнаружили Руби и Дикона, и мне сразу же полегчало. Кроме того, там было спокойнее и тише, чем в других комнатах.
— Поппи! — воскликнула Руби и, раскинув руки, побежала ко мне через кухню. — Выпьешь чего-нибудь?
— Только содовой.
— Поппи! — нахмурилась Руби и наставительно добавила: — Тебе надо выпить чего-то настоящего.
— Спасибо, но мне вполне достаточно содовой, — сказала я и рассмеялась, когда она сделала большие глаза.
— Фу! — фыркнула Руби, но тут же обняла меня за плечи и повела к бару.
— Попс! — кивнул Дикон и тут же отвлекся, получив на сотовый эсэмэску.
— Привет, Дик, — ответила я, принимая от Руби стакан с диетической содовой. Потом мы втроем вышли в задний двор, в центре которого пылал огонь в очаге в форме чаши. Компания здесь собралась небольшая, что вполне меня устраивало.
Через какое-то время Дикон утащил Руби в дом, и я осталась с Джори. Какое-то время мы сидели молча, глядя на пламя, потом Джори негромко сказала:
— Ты извини, что я ляпнула вчера насчет Руне. Знаю, тебя это задело. Господи! Со мной так всегда — сначала раскрою варежку, а потом себя ж корю. Папа говорит, что придется мне его запаять! — Джори накрыла рот ладонью и сделала большие глаза, изображая мучительную борьбу со словесным недержанием. — Я этого не выдержу, Попс! Рот, такой вот неслух, это все, что у меня есть.
Я невольно рассмеялась:
— Все в порядке. Ты же не со зла и ничего плохого не желала.
Джори убрала ладонь ото рта и, склонив голову набок, с любопытством посмотрела на меня.
— А если серьезно, Попс, что ты о нем думаешь? О Руне? Он ведь другим вернулся, да?
Я пожала плечами, и она закатила глаза.
— То есть ты хочешь сказать, что у тебя нет своего мнения насчет парня, бывшего любовью всей твоей жизни? А вот по-моему, он просто мегасекси!
От ее слов внутри у меня все перевернулось. Повертев в руках пластиковый стаканчик с содовой, я пожала плечами:
— Он и раньше был симпатичный.
Джори ухмыльнулась, отпила что-то из своего стаканчика и поморщилась — из дома донесся пронзительный голос Эвери.
— Похоже, и эта шлюха сюда добралась.
Я улыбнулась, услышав в ее голосе откровенно неприязненные нотки.
— За что ты ее так? Она и вправду?..
Джори вздохнула:
— Вообще-то, нет. Мне просто не нравится, как откровенно она вешается на парней.
«Вот оно что», — подумала я, прекрасно понимая, о ком идет речь.
— И на кого-то в особенности? — Мне удалось сохранить невинное выражение лица, а вот Джори еще больше насупилась. — Может, на Джадсона?
Джори запустила в меня пустым стаканчиком. Я уклонилась.
— По крайней мере теперь, когда Руне вернулся, от Джада эта дрянь отстала, — сказала она после паузы, и мое веселое настроение мгновенно испарилось. Джори, как всегда с опозданием поняв, что снова сболтнула лишнее, застонала от злости на себя саму и, быстро подвинувшись поближе, взяла меня за руку. — Вот черт, Попс. Извини. Снова вырвалось! Не хотела…
— Все в порядке, не извиняйся, — не выдержала я.
Но Джори только крепче сжала мою руку. Несколько секунд мы молчали.
— Ты жалеешь, Попс? Жалеешь, что порвала с ним?
Я посмотрела на танцующие в чаше языки пламени и ответила искренне и честно:
— Каждый день.
— Ох, Поппи, — сочувственно прошептала Джори.
Я выжала из себя подобие улыбки.
— Мне не хватает его, Джо. Ты даже не представляешь, как сильно. Но я не могу рассказать ему, в чем дело. Не могу объяснить, что происходит. Пусть лучше думает, что он мне безразличен, чем узнает страшную правду. — Джори опустила голову мне на плечо. Я вздохнула. — Если бы он узнал правду, то любой ценой попытался бы вернуться, а это было невозможно. Его отец работал в Осло. А я… — у меня на секунду перехватило дыхание. — Я хотела, чтобы он был счастлив. Я знала, что мое молчание он со временем как-нибудь переживет. Но он обязательно попытался бы что-то предпринять.
Джори подняла голову и чмокнула меня в щеку. Я засмеялась, но она не повеселела, а потом спросила:
— И что теперь? Что ты будешь делать теперь, когда он вернулся? Рано или поздно все всё узнают.
— Надеюсь, что нет, — вздохнула я. — В школе меня особенно не замечают — в отличие от тебя, Руне или Руби. Если в какой-то момент я вдруг исчезну, почти никто и внимания не обратит. Сомневаюсь, что и нынешнему Руне будет до этого какое-то дело. Мы встретились вчера случайно в школьном коридоре, и он посмотрел на меня так, что все стало ясно. Теперь я уже ничего для него не значу.
Снова воцарилось неловкое молчание. Первой его прервала моя лучшая подруга.
— Но ты ведь его любишь, разве не так? — осторожно напомнила она. Я не ответила, но и тишина прозвучала лучшим ответом.
Да, я любила его. Так же, как всегда.
Со стороны переднего двора донесся громкий треск, и я лишь теперь поняла, что прошло уже два часа. Джори поднялась, скорчила гримасу и, пританцовывая на месте, объявила:
— Попс, мне надо в туалет! Ты со мной?
Я со смехом последовала за ней. Оставив меня в коридоре, Джори пробилась в туалет, расположенный в задней части дома. Дожидаясь ее, я прошла по коридору и услышала за дверью одной из комнат голоса Руби и Дикона.
Решив посидеть немного с ними, я уже через три шага пожалела, что присоединилась к этой компании. Небольшое пространство почти полностью занимали три дивана. На одном устроились Дикон и Руби, на втором расположились, тесня друг друга, Джадсон и двое или трое его приятелей из футбольной команды. Но мой взгляд зацепился — и не смог оторваться — за третий диван. Я хотела повернуться и выйти, но ноги не слушались.
На диване, со стаканчиком в руке, сидела Эвери. А на ее плечах лежала рука. Кисть этой руки висела над ее грудью, и пальчики Эвери выводили на тыльной стороне ладони какие-то узоры.
Я знала, о чем говорят эти узоры.
Я знала, как чувствует себя та, кого укрывает и защищает эта рука.
Я перевела взгляд на того, кто сидел рядом с ней, и мое сердце раскололось пополам. Словно ощутив тяжесть моего взгляда, он поднял голову, и другая рука, подносившая к губам стакан, застыла на полпути.
На глаза навернулись слезы.
Понять и принять, что Руне уходит от меня все дальше, было тяжело, но увидеть его в такой вот ситуации было еще тяжелее. Мне и в голову не могло прийти, что боль может быть такой острой, такой сокрушительной.
— Поппи, ты в порядке? — Из дальнего угла комнаты до меня долетел озабоченный голос Руби. Голос, вырвавший меня из транса, как прохожего, ставшего свидетелем дорожной аварии.
С вымученной улыбкой я повернулась к Руби и прошептала:
— Да, в порядке.
Теперь уже все смотрели на меня, и я, чувствуя это нежеланное внимание, как-то ухитрилась отступить к двери на дрожащих ногах. Но отступая, я успела заметить, как Эвери повернулась к Руне.
Повернулась за поцелуем.
Но стать свидетельницей этого поцелуя мне не пришлось — последняя частичка моего расколовшегося сердца разбилась, и я вырвалась в коридор, пробежала к первой попавшейся комнате, отчаянно повернула ручку и оказалась в полутьме прачечной.
Я захлопнула дверь, прислонилась к стиральной машине и согнулась вдвое. Из глаз брызнули слезы, а к горлу поднялся комок тошноты. Затолкав его поглубже, я отчаянно пыталась стереть отпечатавшуюся в голове убийственную картину.
За два последних года я узнала, как мне казалось, все грани боли. Как же я ошибалась. Увидеть любимого в объятиях другой — перенести такое оказалось выше моих сил. Сравниться с предательством целовавших тебя губ не могло ничто на свете.
Обхватив руками живот, я изо всех сил старалась втянуть в себя хоть немного воздуха, когда снаружи начали поворачивать ручку.
— Нет! Уходите! — крикнула я, но не успела ни повернуться, ни запереть дверь, как она распахнулась и ударилась о стену. И тут же кто-то влетел в комнату.
Оказаться с кем-то в прачечной — приключение не из приятных, и сердце сразу же побежало быстрее. Но когда я обернулась и увидела, кто вломился в комнату, кровь отхлынула от лица. С трудом держась на ногах, я отшатнулась, потом сделала еще один шаг назад и наткнулась на стену.
Отблески пламени от горевшего во дворе костра освещали прачечную вполне достаточно, чтобы ясно различить черты того, кто нарушил мое уединение в минуту слабости.
Того, кто и стал причиной этой слабости.
Возле закрытой двери передо мной стоял Руне. Щелкнув замком, он повернулся и посмотрел на меня. На скулах проступили желваки. Ледяной взгляд голубых глаз прижал меня к стене.
Во рту пересохло. Высокий, широкоплечий, Руне шагнул вперед и навис надо мной. Сердце глухо колотилось, гоня кровь по венам, и этот оглушительный стук отдавался у меня в ушах. Он стоял близко, и я видела перед собой почти обнаженные руки — накачанные, с рельефно проступившими канатами мышц и тяжелыми кулаками. Крепкий, подтянутый торс обтягивала черная футболка. Знакомым движением — от одного этого жеста у меня когда-то дрожали колени — он поднял руки и отбросил упавшие на глаза волосы.
Набравшись храбрости, я попыталась пройти мимо него и выскользнуть в коридор. Но Руне подступил еще ближе, и выхода не осталось. Я попала в западню.
Не сводя с меня глаз, он продолжал надвигаться, пока между нами осталось не больше нескольких дюймов. Теперь я уже ощущала жар его тела и запах свежести, тот, что напомнил мне тихие, расслабленные летние деньки в вишневой роще и вызывал в памяти, во всех красках, нашу последнюю ночь. Ночь, когда мы любили друг друга.
Щеки горели от прилившей крови. От его одежды попахивало табаком, а в его теплом дыхании ощущались нотки мяты. На подбородке и скулах проступила щетина. Мне так хотелось протянуть руку и потрогать ее, провести пальцем по лбу, по щекам, спуститься к идеально вылепленным губам.
Но мысль о губах мгновенно отозвалась полоснувшей по сердцу болью. Я отвернулась и закрыла глаза. Этими самыми губами он касался губ Эвери.
Он разбил мне сердце, отдав эти губы, когда-то навечно обещанные мне, другой.
Руне подошел еще на полшага, и теперь его грудь едва не упиралась в мою. Я почувствовала, как он поднял руки над моей головой и уперся ими в стену, еще больше ограничив мое личное пространство, оставив мне считаные дюймы свободного места. И вот уже прядка его длинных волос упала на мою щеку.
Я слышала его шумное дыхание, чувствовала его мятное дыхание на своем лице и еще крепче закрывала глаза. Он был невозможно близко. Но ничего не помогало. Действуя по собственной воле и направляемые сердцем, глаза медленно открылись. Я повернула голову, и наши взгляды столкнулись.
По его лицу пробежали отсветы догорающего во дворе костра. Рука, лежавшая на стене у меня над головой, опустилась и неуверенно коснулась волос. У меня перехватило горло. Его пальцы зацепили и легонько потянули прядку, и в моем животе затрепыхались бабочки.
Я видела — ему не лучше, чем мне. Глубокое, шумное дыхание, напряжение в лицевых мышцах ясно выдавали его состояние. Мы всматривались друг в друга, отмечая случившиеся за два года перемены, но прежде те аспекты, что остались неизменными.
Я уже не знала, выдержит ли это все мое растерявшееся сердце, но тут его рука переместилась с моих волос к лицу, и пальцы легкими, невесомыми шажками-прикосновениями прошлись по моим щекам. А потом, когда они остановились, хрипловатый, надломленный отчаянием голос произнес одно только слово:
— Поппимин…
Слеза сорвалась с ресниц и упала на его ладонь.
Поппимин.
Так Руне всегда называл меня.
Моя Поппи.
Его девочка.
Вместе навсегда.
На веки вечные.
Сладкое слово вплыло в уши и пронзило душу, а вверх по горлу быстро пополз колючий комок. Я попыталась столкнуть его вниз, туда, где скопилась двухлетняя боль, но потерпела в этой схватке полное поражение и не сумела удержать давно рвавшийся наружу всхлип.
Сказать по правде, шансов у меня не было никаких.
И сразу же вслед за этим глаза Руне потеряли холодный блеск, смягчились и засияли непролитыми слезами. Он подался вперед, прислонился лбом к моему лбу и прижал пальцы к моим губам.
Я вздохнула.
Он вздохнул.
И тут, вопреки всем прежним зарокам, я позволила себе притвориться, что последних двух лет просто не было, что ничего за это время не случилось, что он никуда не уезжал. И что мне самой не пришлось уехать. Что не было ни боли, ни страданий. И что бездонная пропасть тьмы в моем сердце заполнилась ярчайшим светом.
Его любовью. Его прикосновениями и поцелуями.
Но в действительности все оказалось не так. Кто-то постучал в дверь прачечной, и настоящая реальность вернулась, ворвалась штормовой волной и нахлынула на прибитый ливнем берег.
— Руне? Ты здесь? — позвал женский голос.
Стук повторился, но уже громче и настойчивее. Руне открыл глаза и сразу же отстранился. Я подняла руку и вытерла слезы.
— Пропусти меня… пожалуйста. Дай мне пройти.
Я постаралась произнести это твердо и уверенно. Я хотела сказать что-то еще. Но во мне ничего не осталось. Не осталось сил притворяться.
Мне было больно.
И эта боль отразилась на моем лице, где ее могли видеть все и каждый.
Я положила ладонь ему на грудь и толкнула, освобождая себе проход. Он отступил, но прежде чем я успела дойти до двери, схватил за руку. Я зажмурилась и постаралась собраться с силами, чтобы снова повернуться к нему. Но когда повернулась, по лицу снова потекли слезы.
Руне смотрел на наши соединенные руки, и его длинные ресницы почти почернели от сдерживаемых слез.
Эвери снова постучала.
— Руне, — умоляюще прошептала я, и веки его дрогнули от звука моего голоса. — Пожалуйста…
Он еще крепче сжал пальцы.
— Руне? — повысила голос Эвери. — Я знаю, что ты здесь.
Я шагнула к нему. Он внимательно и настороженно следил за каждым моим движением. Я подняла голову и не стала вырывать руку из его пальцев. На его лице застыло растерянное выражение.
Я привстала на цыпочки, подняла свободную руку, провела подушечками пальцев по его полной верхней губе, очертила «бантик» и грустно улыбнулась, вспомнив их прикосновения к моим губам.
— Мне было до смерти трудно порвать с тобой, Руне. Мне было до смерти трудно жить, не зная, как ты там, на другой стороне Атлантики. — Я запнулась. — Но ничто не ранило меня так, как твой поцелуй с другой девушкой.
Руне вздрогнул, побледнел, и щеки его сделались пепельно-серыми. Я покачала головой.
— У меня нет никакого права ревновать. Во всем виновата только я. Да, во всем. Но я все равно ревную, мне все равно больно. Так больно, что я могла бы, наверно, умереть от этой боли. — Я отняла руку от его губ. Заглянула просительно в его глаза. И добавила: — Поэтому, пожалуйста… пожалуйста… отпусти меня. Я не могу оставаться здесь сейчас. Не могу.
Руне не сдвинулся с места. На его лице ясно отпечатался шок. Воспользовавшись моментом, я вырвала руку из его пальцев и сразу же повернула защелку, открыла дверь, вырвалась в коридор и, не оглядываясь, не задерживаясь ни на секунду, прошла мимо мечущей громы и молнии Эвери и побежала.
Мимо Руби и Джори. Мимо Дикона и Джадсона. Мимо всех, собравшихся в коридоре посмотреть разворачивающуюся на их глазах драму. Мимо пьяных, едва державшихся на ногах ребят. Я бежала, пока не вырвалась из дому и бросилась в объятия прохладного вечера. И снова побежала. Изо всех сил. Подальше от Руне.
— Руне! — Тишину разрезал пронзительный женский голос, за которым последовал мужской: — Ты куда, дружище? Руне!
Что бы там ни происходило, задерживаться я не стала. Поворот вправо… вход в парк… Вход зиял темнотой, и сам парк освещался не очень хорошо, но, с другой стороны, через парк лежал самый короткий путь домой.
А я отдала бы все на свете, чтобы поскорее туда попасть.
Калитка была открыта. Обсаженная высокими темными деревьями, дорожка уводила меня в глубь парка.
Горели легкие. Болели ноги — бежать в балетках по твердому, жесткому асфальту было нелегко. Я повернула влево, к вишневой роще, и вдруг услышала за спиной шаги.
Страх дохнул в шею. Я оглянулась — за мной бежал Руне. Сердце заколотилось быстрее, но не от напряжения — его подстегнуло решительное выражение на лице Руне. Он быстро нагонял меня. Я пробежала еще немного и поняла — бесполезно. В вишневой роще, месте, которое мы оба знали очень хорошо, я перешла на шаг, а потом и остановилась. Секундой позже в рощу вошел Руне, и до меня донеслось его хриплое дыхание.
Я медленно повернулась и посмотрела на Руне. Он стоял, сжав голову обеими руками, и в его голубых глазах застыла мука. Разгоряченные, мы смотрели друг на друга — тяжело дыша, не говоря ни слова, — и даже воздух, казалось, дрожал от напряжения, как перед грозой.
Впившись взглядом в мои губы, Руне сделал два шага вперед и произнес одно только слово:
— Почему?
Вопрос прозвучал коротко и жестко.
В ожидании ответа Руне сжал зубы. Я потупилась и покачала головой. К глазам уже подступили слезы.
— Не надо… пожалуйста, не надо…
Он погладил меня по лицу. На его лице проступило хорошо мне знакомое упрямое выражение.
— Нет! Господи, Поппи. Зачем? Зачем ты это сделала?
Акцент и впрямь стал заметнее, да и сам голос изменился, погрубел, в нем даже появилась хрипотца. В детстве, за те годы, что Руне прожил здесь, его норвежский акцент сгладился, и теперь мне вспомнился тот день, когда мы встретились впервые возле его дома. Нам было тогда по пять лет.
Но теперь, увидев перед собой потемневшее от гнева лицо, я быстро вспомнила, что сейчас это неважно. Нам давно уже не по пять лет, и мы далеко не невинны. Слишком многое случилось с тех пор.
— Поппи, — не отставал он, подступая еще ближе и повышая голос. — Почему, черт возьми? Почему ты это сделала? Почему перестала отвечать? Почему вы все уезжали? Где вы были? Что, в конце концов, случилось?
Руне не мог стоять спокойно на месте и принялся ходить туда-сюда. Под футболкой взбугрились узлы мышц. Промчавшийся через рощу холодный ветер разметал длинные волосы. Он снова остановился передо мной.
— Ты обещала. Обещала, что дождешься меня. И все шло хорошо, пока однажды я позвонил, а ты не ответила. Потом я звонил еще и еще, но ты не отвечала. И даже строчки не написала.
Он подступил почти вплотную, едва не наступив тяжелым ботинком на мою балетку, навис надо мной и безжалостно повторил:
— Отвечай! Отвечай прямо сейчас! — От злости на его лице проступили красные пятна. — Мне нужно знать! У меня есть на это право!
Я даже вздрогнула от прозвеневшей в голосе агрессии. Сжалась от пропитавшего его гнева. Таким я Руне не знала. Передо мной стоял чужак.
Прежний Руне никогда бы не стал так со мной разговаривать. Но, опять-таки, это был уже не прежний Руне.
— Не м-могу, — чуть слышно, запнувшись, произнесла я и, подняв глаза, наткнулась на его недоверчивый взгляд. — Пожалуйста, Руне, не требуй от меня этого. Не надо. — Я сглотнула и, собравшись с силами, добавила: — Пусть все останется в прошлом. Пусть мы останемся в прошлом. Теперь у каждого свой путь.
Он отшатнулся, словно от удара, а потом рассмеялся. Только смех был не веселый, а злой, горький, дребезжащий от ярости.
Руне отступил еще на шаг, снова рассмеялся, а потом ледяным тоном потребовал:
— Говори.
Я потрясла головой, и он в отчаянии вскинул руки.
— Говори! — Голос прозвучал на октаву ниже и уже с угрозой.
На этот раз я уже не стала ни качать головой, ни трясти ею. Меня охватила печаль. Мне было больно видеть его таким. Он всегда был тихим и замкнутым. Его мама часто говорила, что Руне всегда отличался угрюмостью, и она боялась, что он еще принесет ей немало неприятностей. Срываться, а потом уходить в себя — такое замечалось за ним с детства. Он часто поддавался угрюмому настроению и по натуре склонялся скорее к негативному, чем к позитивному.
Но потом он нашел тебя, часто говорила миссис Кристиансен. Он нашел тебя, и ты научила его, своими словами и поступками, что жизнь не обязательно должна быть всегда такой уж серьезной. Что она — одно большое приключение, и прожить ее нужно в полную силу.
Да, его мать была права.
Глядя на него теперь, видя и чувствуя сочащуюся из него темноту, я вдруг поняла, что это и есть тот Руне, увидеть которого боялась миссис Кристиансен.
То темное, угрюмое, что было в нем от рождения, проявилось, вышло на поверхность теперь.
Склонность к тьме, но не свету.
Надо отвернуться. Оставить Руне наедине с его гневом.
Луна в сердцах — в улыбках солнце. Крепко зажмурившись и собрав силы, чтобы не впустить грозящую нахлынуть боль, я снова и снова повторяла мысленно эту бабулину мантру. Я защищалась от боли в груди, боли, говорившей то, чему не хотелось верить.
Что я сотворила это с Руне.
Система самосохранения наконец включилась; я сделала шаг вперед. И в тот же момент цепкие пальцы сжали мое запястье и дернули, заставив обернуться.
Темные зрачки расширились так, что от кристально-голубых радужек остались лишь тоненькие дужки.
— Нет! Стой здесь. Рассказывай. — Он перевел дыхание и, уже теряя контроль над собой, сорвался на крик. — Говори, почему, черт возьми, ты меня бросила!
На этот раз ярость выплеснулась с полной силой, и жестокие слова словно хлестнули по лицу. Роща задрожала и расплылась, и я не сразу поняла, что это слезы застили глаза.
Слезинка скатилась по щеке. Руне смотрел на меня твердым, мрачным взглядом.
— Кто ты? — прошептала я. Он не ответил, и только едва заметное напряжение в уголке глаза подсказало, что мои слова все же не остались не услышанными. — Кто ты сейчас? — Я посмотрела на его пальцы, все еще сжимавшие мое запястье. Горло сдавило, но мне еще достало смелости поднять голову и посмотреть ему в лицо. — Где тот Руне, которого я любила?
Внезапно, словно обжегшись, он оторвал пальцы от моей руки и, не сводя с меня глаза, рассмеялся — громко, зло, гадко.
— Хочешь знать, куда подевался твой Руне? — Он бережно погладил меня по волосам. Жест получился удивительно мягким в сравнении с той злобой, что звучала в голосе. Взгляд скользнул по моему лицу, но обошел глаза. Он скривил презрительно губы. Как будто мой Руне был кем-то недостойным. Как будто мой Руне не заслуживал моей любви. Потом посмотрел мне в глаза, и от этого взгляда, жестокого и требовательного, у меня мурашки побежали по спине. — Тот Руне умер, когда ты бросила его, — прошептал он.
Я снова попыталась пройти, но Руне опять преградил мне путь. По его глазам было видно, что он не собирается отпускать меня просто так, что у него совсем другие планы и что мне не уклониться от обжигающего жара его жестокости.
— Я ждал тебя. Ждал и ждал, когда же ты позвонишь, объяснишь. Я обзвонил всех, кого знал здесь и кто мог бы помочь найти тебя. Но ты исчезла. Уехала присматривать за какой-то больной тетей, о существовании которой я и не слышал. Твой отец не желал со мной разговаривать. Все мои звонки тебе блокировались. — Руне прикусил губу. Я видела — ему больно. Это чувствовалось в каждом слове, в каждом жесте.
— Я говорил себе, что надо потерпеть, что ты все объяснишь в свое время. Но дни складывались в недели, а недели — в месяцы. И надежда ушла, а пришла боль. Я впустил в себя тьму, вызванную тобой. Прошел год, пришел второй. Звонки и письма оставались без ответа, и постепенно боль охватила меня всего, так что от прежнего Руне не осталось ничего. Я больше не мог смотреть в зеркало и видеть того Руне. Не мог быть прежним Руне. Потому что у того Руне была Поппимин. У того Руне было целое, из двух половинок, сердце. Но твоя половинка ушла от меня. Ушла, оставив с тем темным, что было во мне и что пустило корни без тебя. Тьма. Боль. И вагон злости.
Руне наклонился. Его дыхание коснулось моего лица.
— Ты сделала меня таким. Руне, которого ты знала, умер, когда ты поступила, как стерва, и нарушила все, какие только были, обещания.
Я отшатнулась и попятилась. Слова ударили в сердце, как пули. А Руне наблюдал за мной, ничуть не раскаиваясь, не чувствуя за собой никакой вины. Я не видела в его взгляде ни капельки сочувствия — только холодную, ледяную, жестокую правду.
Он говорил то, что думал.
И тогда, следуя его примеру, уже я дала волю чувствам и уступила поводья гневу. Я бросилась вперед и обеими руками толкнула его в грудь. Как ни странно, он сделал шаг назад, но тут же опомнился и вернулся на прежнюю позицию.
Но и я не остановилась.
Я бросалась на него снова и снова. Горячие слезы текли по лицу, а я опять и опять толкала его в грудь. Руне не отступал, и тогда я ударила его кулаком. Удар пришелся в грудь, и мышцы под футболкой мгновенно отреагировали, приняв его на себя, а с моих губ сорвался всхлип, и вслед за ним хлынуло все, что накопилось внутри.
— Ненавижу! — крикнула я так громко, как только могла. — Я тебя ненавижу! Такого, каким ты стал, — ненавижу! Ненавижу его! Ненавижу тебя!
Задохнувшись собственными криками, обессиленная, я отступила на шаг, споткнулась, отступила еще.
Он продолжал буравить меня злым, неуступчивым взглядом, и тогда я, собрав остатки сил, крикнула:
— Я спасала тебя! — И, отдышавшись, уже негромко добавила: — Я спасала тебя, Руне. Спасала от боли. Не хотела, чтобы ты мучился от бессилия, как все другие, кого я любила.
Его русые брови сдвинулись к переносице, вытянувшись над глазами в одну строгую линию. На прекрасное лицо набежала тучка замешательства.
Я отступила еще на шаг.
— Я не могла… не хотела, чтобы ты знал… что будет со мной… Не хотела, чтобы переживал вдалеке от меня… страдал оттого, что не можешь помочь. — Я снова всхлипнула и, не выдержав, разрыдалась.
Потом, успокоившись и откашлявшись, я подошла к стоявшему неподвижно, словно статуя, Руне и положила ладонь ему на грудь.
— Мне пришлось бороться. Пришлось отдать этому всю себя. Ты не представляешь, как я хотела, чтобы ты был рядом. — Мокрые ресницы быстро высыхали на прохладном ветру. — Ты бы бросил все и попытался попасть ко мне. Ты ненавидел своих родителей, тебе не нравилось жить в Осло — я слышала это каждый раз, когда мы разговаривали. Ты так ожесточился. И что бы ты со всем этим делал?
Голова раскалывалась от боли. Я знала, что должна уйти. Оставить все и уйти. Руне стоял как вкопанный и, по-моему, даже не моргал.
— Мне надо идти. — Я положила руку на грудь, зная заранее, что окончательно разобью себе сердце тем, что скажу сейчас. — Давай поставим точку. Оставим все здесь, в вишневой роще, которую мы оба так любили. Подведем черту под тем, что у нас было… под тем, кем мы были. — Я уже не слышала собственного голоса, но, собрав остатки сил, прошептала: — Будем держаться подальше друг от друга: я — от тебя, ты — от меня. Не будем ворошить прошлое. Сделаем то, что должны. — Я опустила голову, чтобы не видеть боль в его глазах. — Не могу больше так. Пусть будет луна в сердцах — в улыбках солнце. — Я улыбнулась. — Вот что меня поддерживает. Мир прекрасен — я хочу в это верить и не хочу сдаваться. — Мне еще хватило сил посмотреть на него. — И я больше не хочу причинять тебе боль.
Лицо Руне как будто раскололось от боли, но я не стала задерживаться, а повернулась и побежала и уже миновала мое любимое дерево, когда Руне догнал меня, схватил за руку и развернул к себе.
— О чем ты, черт возьми, говоришь? Ты ничего не объяснила! Твердишь, что спасаешь меня. От кого? От чего? — Он шумно выдохнул. — И почему ты думаешь, что я с чем-то не справлюсь?
— Руне, пожалуйста, — взмолилась я и попыталась оттолкнуть его, но он уже положил руки мне на плечи и не дал сдвинуться с места.
— Ответь мне!
Я снова его толкнула.
— Дай пройти! — Сердце дрожало от страха. Руки покрылись гусиной кожей. Я снова и снова отталкивала его, стараясь пробежать мимо дерева, где всегда находила покой и утешение, а он снова и снова вставал на пути.
— Пусти!
— Нет. Сначала ты все мне объяснишь!
— Руне…
Он не дал договорить.
— Объясни, что ты имеешь в виду.
Я трясла головой, быстрее и быстрее, но ничего не помогало.
— Пожалуйста… пожалуйста, позволь мне пройти!
— Поппи!
— НЕТ!
— ОБЪЯСНИ!
— Я УМИРАЮ! — будучи не в силах больше сопротивляться, крикнула я в притихшую рощу. — Я умираю. Умираю…
Я еще пыталась хватать ртом воздух, но тяжесть содеянного уже опускалась на плечи. Сердце гулко ухало в предчувствии наступающей паники и осознании того ужаса, реальность которого я только что допустила и в котором только что призналась.
Я замерла, держась глазами за землю. Руки Руне застыли на моих плечах. От них шло тепло, но еще они дрожали. Я слышала его дыхание, хриплое, затрудненное. Все это воспринималось автоматически, краем сознания.
Я заставила себя поднять голову и посмотреть на Руне, в его расширившиеся от боли зрачки. В этот миг я ненавидела себя. Потому что именно из-за этого отчаявшегося в муках взгляда нарушила клятву, которую сама же и дала ему два года назад.
Поэтому я и отпустила его.
А на самом деле заключила в клетку с решеткой из ярости и злобы.
Лицо его сделалось белее белого.
— Поппи… — прошептал он с режущим слух акцентом.
— У меня лимфома Ходжкина. Она прогрессирует. И это смертельно. — Голос задрожал, но я все ж договорила. — Мне осталось несколько месяцев. Поделать ничего нельзя.
Я ждала. Ждала, что скажет Руне. Он ведь должен был что-то сказать. Но вместо того чтобы что-то сказать, Руне отступил. Взгляд его задержался на моем лице, отыскивая признаки обмана. Не обнаружив их, Руне покачал головой. Беззвучное «нет» сорвалось с его губ. А потом он повернулся ко мне спиной и побежал.
Я не знаю, сколько прошло времени, прежде чем ко мне вернулись силы.
Минут через десять я добрела до дома и вошла в комнату, где мои папа и мама сидели с Кристиансенами.
Едва увидев меня, мама вскочила и бросилась ко мне, а я упала в ее объятия.
Вот так я разбила собственное сердце из-за сердца, которое только что разбила.
Из-за сердца, которое так стремилась спасти.
Глава 8
Дыхание в клочья и истерзанные души
Я УМИРАЮ! Умираю… У меня лимфома Ходжкина. Она прогрессирует. И это смертельно. Мне осталось несколько месяцев. Поделать ничего нельзя…
Я мчался через темный парк, в голове вертелись одни и те же слова Поппи. Я УМИРАЮ! Умираю… У меня лимфома Ходжкина. Она прогрессирует. И это смертельно. Мне осталось несколько месяцев. Поделать ничего нельзя…
Боль, подобной которой я еще не испытывал, пронзила сердце. Она резала, колола и кромсала меня, пока я не остановился и упал на колени. Я попытался вдохнуть, но боль рассекла легкие и разнеслась по телу, подчиняя все, забирая все и не оставляя ничего, кроме себя самой.
Я ошибался. Как же я ошибался.
Когда два года назад Поппи оборвала все связи, я испытал боль, сильнее которой, как мне тогда казалось, и быть не может. Та боль изменила меня. Изменила фундаментально. Та боль сломала меня… выморозила… но эта… эта…
Боль в животе сбила с ног, и я с криком полетел вперед, в темноту пустого парка. Ладони проехали, сдирая кожу, по жесткой, плотно сбитой земле, прутики и камешки царапали пальцы и срывали ногти.
Но этой боли я был только рад — с ней я мог справиться. В отличие от той, что засела внутри…
Перед моим мысленным взором снова встало лицо Поппи. Прекрасное в тот момент, когда она вошла в комнату. Я помнил, как она улыбнулась, заметив Руби и Дикона, и как улыбка увяла на ее губах, когда встретились наши глаза. Я видел, как ее лицо помертвело, когда она увидела сидевшую рядом со мной Эвери и мою руку на ее плечах.
Поппи не знала, что я наблюдал за ней еще раньше, из окна в кухне, когда она сидела с подругой у костра во дворе. Вообще-то, я и не собирался быть на этой вечеринке, но когда Джадсон написал, что Поппи приехала с Джори, удержаться уже не мог.
Она не замечала меня. С той минуты, когда мы столкнулись в коридоре на прошлой неделе, Поппи не сказала мне ни слова.
Меня это убивало.
Я думал, что получу ответы, когда вернусь в Блоссом-Гроув. Думал, что узнаю, почему она оборвала все контакты.
Я стиснул зубы, сдерживая рыдание. Никогда, даже в самых страшных снах, я не мог представить ничего подобного. Такое не могло случиться. Только не с Поппи. Только не с Поппимин.
Она не могла умереть.
Не могла уйти без меня.
Не могла нас бросить.
Без нее все вокруг теряло смысл. Впереди ее ждала целая жизнь. У нас с ней была в запасе целая вечность.
Поппи и Руне — вместе навсегда.
На веки вечные.
Месяцы? Не может быть… не может…
Дикий, неукротимый рев вырвался из горла, выворачивая меня наизнанку. Ощущение было такое, словно меня предали самой страшной казни — с повешением, потрошением и четвертованием.
Слезы текли по щекам и падали на сухую землю. Я лежал без движения, словно парализованный.
Что делать? Что, черт возьми, делать? Как жить, если ты не в состоянии помочь?
Звезды высыпали на ночном небе. Я закрыл глаза.
— Поппи… — На языке появился соленый вкус. — Поппимин… — прошептал я снова, но нежные слова растаяли в воздухе.
Я снова видел перед собой зеленые глаза Поппи. Видел так ясно, словно она сидела сейчас напротив. Мне осталось несколько месяцев. Поделать ничего нельзя…
Я снова разрыдался, но теперь уже во весь голос. Снова и снова меня трясло при мысли о том, через что ей пришлось пройти. Без меня. В самые трудные моменты меня не было рядом. Я не держал ее за руку. Не целовал в щеку. Как она вытерпела всю эту боль с одной только половинкой сердца? Как ей хватило сил бороться с одной только половинкой души?
Без меня.
Не знаю, сколько времени я оставался в парке. Казалось, прошла вечность, прежде чем мне удалось подняться. Я брел по парку, чувствуя себя самозванцем в собственном теле. Как будто попал в какой-то кошмар и вот-вот проснусь, и мне снова будет пятнадцать. Открою глаза под нашим любимым деревом, и Поппимин будет в моих объятиях. И, увидев, что я проснулся, она рассмеется и обнимет меня крепче. Положит голову мне на плечо, а я наклонюсь, чтобы чмокнуть ее в лоб.
И мы поцелуемся.
Мы будем целоваться и целоваться, а когда я отстранюсь, и на ее лице заиграет солнце, она улыбнется мне с закрытыми глазами и шепнет: Поцелуй две тысячи пятьдесят третий. В вишневой роще, под нашим любимым деревом. От моего Руне… и мое сердце едва не разорвалось. А я подниму фотоаппарат и буду ждать того мгновения, когда она откроет глаза. Того волшебного мгновения, когда я увижу в ее глазах, как сильно она меня любит. И я поглажу Поппи нежно по щеке и скажу, как сильно люблю ее. А потом повешу фотографию на стену, чтобы видеть ее каждый-каждый день.
Из оцепенения меня вырвал крик совы. Я встряхнулся, отгоняя иллюзии, и жизнь, настоящая, без фантазий, шарахнула меня дубиной. Боль выскочила из-за угла и огрела беспощадной правдой. Поппи умирает… Я не мог в это поверить.
Свежие слезы собрались в глазах, и я не сразу понял, что сижу у того самого дерева, которое только что видел в мечтах. Того, под которым часто сидели мы вдвоем. Но теперь, в темноте, под холодным ветром, треплющим голые ветки, оно выглядело совсем не так. Голое, замерзшее, тянущее тонкие дрожащие ветки, оно как будто выражало тот миг, когда я узнал, что моя девушка уходит.
Я заставил себя подняться и идти. Ноги понесли меня домой. Но в голове все смешалось, мысли перепутались и разбрелись. Я не знал, что делать, куда идти. Слезы текли по лицу, и боль осваивалась в моем теле как в новом доме, прибирая к рукам то, что еще оставалось свободным.
Я спасала тебя…
Теперь спасти меня не могло уже ничто. Мысль о том, как она, больная, пытается поддержать тот свет, что струился так ярко, не давала покоя.
Подойдя к дому, я остановился и отыскал взглядом окно, бывшее моим маяком целых двенадцать лет. Я знал, что она там. Света не было. Я двинулся было к нему, но замедлил шаг и остановился.
Нет… нет… Как я посмотрю ей в глаза?
Я развернулся, взбежал по ступенькам и толкнул дверь. Печаль и гнев рвали на части, сражаясь между собой.
Я прошел через гостиную.
— Руне! — позвала мама, и голос ее дрогнул.
Я остановился и повернулся к ней. Она поднялась с дивана, и на ее щеках блестели слезы.
Новый удар едва не свалил с ног.
Она знала.
Мама шагнула ко мне с протянутой рукой, но я не мог ответить на ее жест. Не мог принять ее сочувствие.
Я взбежал по ступенькам наверх, влетел в комнату, захлопнул за собой дверь и остановился. Стоял посредине комнаты, оглядывался по сторонам и пытался придумать, что делать дальше.
Пытался и не мог. Я поднял руку, отбросил назад волосы. Меня душили рыдания. Слезы катились ручьем, так что в них можно было утонуть. И все потому, что я не знал, что делать.
Я шагнул вперед… остановился. Двинулся к кровати… остановился. Сердце толкалось медленно, неровно. Дышалось трудно, легкие отказывались качать воздух. Я изо всех сил старался не упасть.
А потом что-то сломалось, и ярость вырвалась наружу, подхватила меня и понесла. Я шагнул к кровати, наклонился, поднял ее с диким ревом и перевернул, сбросив матрас с прочного деревянного каркаса. Повернулся к письменному столу и смел все на пол. Подхватив на лету ноутбук, развернулся и запустил его в стену.
Не помогло.
Ничего не помогало.
Боль не ушла.
Боль, раздиравшая на части душу.
Чертовы слезы.
Я сжал кулаки, закинул голову и закричал. Я кричал и кричал, пока не охрип, пока не сорвал голос. А потом рухнул на колени и отдался отчаянию.
Открылась дверь. Я поднял голову. В комнату вошла мама. Я покачал головой и махнул рукой — уходи. Она не ушла.
— Нет, нет, — хрипел я. — Уходи.
Она опустилась на пол рядом со мной.
— Нет! — рыкнул я, но она обняла меня за шею. — Нет! Нет!
Она притянула меня к себе, и злость схлынула. Я упал ей на руки и расплакался. Я плакал в объятиях женщины, с которой почти не разговаривал два последних года, но которая была нужна мне сейчас. Мне нужен был кто-то, кто смог бы понять.
Понять, что значило для меня потерять Поппи.
Я держался за нее. Вцепился так, что, наверно, оставил синяки. Мама не сдвинулась с места. Она тоже плакала. Плакала тихо, неслышно, поддерживая меня, потому что сам я держаться уже не мог.
Краем глаза я уловил какое-то движение у двери. На пороге — со слезами на глазах и печалью на лице — стоял отец. И пламя вспыхнуло с новой силой. Я не мог видеть его, того, кто увез меня от нее, кто удерживал меня, когда Поппи нуждалась во мне более всего.
Я отстранился от мамы и, повернувшись к нему, прошипел:
— Убирайся.
Мама напряглась, и я отодвинулся от нее еще дальше. Отец поднял руки. Лицо его перекосила гримаса изумления.
— Руне… — произнес он.
И только подлил масла в огонь.
— Я сказал «убирайся»! — Я поднялся кое-как на ноги.
Отец взглянул на маму, потом снова на меня. Я стоял, сжав кулаки, едва сдерживая бурлящий внутри гнев.
— Руне, послушай. У тебя шок, тебе сейчас больно…
— Больно? Больно? Ты же ни черта не понимаешь! — взревел я и сделал шаг к двери. Мама тут же поднялась и попыталась преградить мне путь, но я шел напролом. Отец взял ее за руку и вытолкнул в коридор, после чего прикрыл дверь.
— Убирайся к чертовой матери, — прошипел я со всей ненавистью, скопившейся во мне к этому человеку.
— Мне очень жаль, — прошептал он, и по его щеке покатилась одна-единственная слезинка. Какая наглость! Стоять передо мной и лить слезы!
Да какое он имеет право!
— Не смей! — предупредил я. — Не смей стоять здесь и плакать. Не смей говорить, что тебе жаль. У тебя нет на это никаких прав. Это ты увез меня. Ты оторвал ее от меня. Ты держал меня там, когда она заболела. И теперь… теперь… когда она уми… — Я не смог договорить. Не смог произнести это слово. Я бросился на отца и принялся колотить его по груди.
Он попятился и наткнулся на стену.
— Руне! — крикнула из коридора мама, но мне было не до нее. Я схватил отца за воротник, притянул его к себе и прохрипел прямо ему в лицо:
— Ты увез меня на два года. И, потому что меня не было рядом, она порвала со мной, ради моего же блага. Она спасала меня. Меня. Она оберегала от боли, потому что я был далеко и не мог утешить ее, поддержать, когда ей было больно. Ты сделал так, что я не смог быть с ней, когда ей было плохо. — Горло перехватило, но я все же добавил: — А теперь уже поздно. Ей остались месяцы… — На большее меня не хватило. — Месяцы… — Я опустил руки и отступил, не справившись с болью и слезами.
— Этого не возвратить. — Я повернулся к нему спиной. — И этого я никогда тебе не прощу. Никогда. Не хочу больше тебя знать.
— Руне…
— Уходи, — рявкнул я. — Убирайся из моей комнаты и из моей жизни. Все. Конец. Будь ты проклят.
Я слышал, как закрылась дверь. В доме стало тихо. Но в моих ушах тишина звучала криком, как будто кричал сам дом.
Отбросив назад волосы, я свалился на матрас и прижался спиной к стене. Время шло. Минуты или часы. Я смотрел в никуда. В комнате было темно, если не считать света от маленькой ночной лампы в углу, как-то пережившей устроенный мной погром.
Я перевел взгляд на висевшую на стене фотографию. Нахмурился. Ее ведь там не было. Наверно, фотографию повесила мама, когда прибирала в комнате и раскладывала мои вещи.
Я смотрел и не мог отвести глаз. Смотрел на Поппи, танцующую в вишневой роще, украсившейся ее любимыми цветами. Вытянув к небу руки и закинув голову, она кружилась и смеялась. До моего отъезда оставалось тогда несколько дней.
Сердце сжалось от боли. Поппимин… Девушка, заставлявшая меня улыбаться. Девушка, убегавшая в вишневую рощу, танцуя и смеясь.
Та, которая сказала держаться от нее подальше. Будем держаться подальше друг от друга: я — от тебя, ты — от меня. Не будем ворошить прошлое. Но я не мог. Не мог оставить ее. Она не могла оставить меня. Я нужен ей, и она нужна мне. И плевать, что она там сказала. Я не оставлю ее сражаться с болезнью в одиночку. Не могу.
Не дав себе времени передумать, я вскочил и метнулся к окну. Бросил взгляд на окно напротив и, отключив голову, положился на автопилот. Стараясь не шуметь, я открыл окно и выбрался наружу. Сердце и ноги работали в тандеме. Я пробежал по лужайке между домами. Остановился. Перевел дух. Подсунул руку под створку. Потянул. Створка подалась.
Открыто.
Как будто и не было этих двух лет. Я осторожно забрался в комнату и закрыл за собой окно. Теперь его закрывала штора, которой не было раньше. Я сдвинул ее в сторону, сделал шаг вперед и остановился, обводя взглядом знакомую комнату.
В нос ударил сладковатый аромат духов. Тех, которыми всегда пользовалась Поппи. Я закрыл глаза, отгоняя легшую на грудь тяжесть, а когда открыл, увидел спящую Поппи. Она лежала в постели, в тусклом свете ночника, и до меня доносилось ее ровное, тихое дыхание.
Внутри все обвалилось. Как она могла подумать, что я останусь в стороне? Даже если бы ничего не сказала, не объяснила, почему оборвала все связи, я бы вернулся к ней. Нашел путь. Пусть через боль, обиду и злость, меня влекло к ней, как мошку на свет.
Но в стороне я бы остаться не смог.
Я смотрел на нее и не мог насмотреться — поджатые во сне розовые губы, разрумянившееся лицо, — но потом в грудь как будто воткнули копье. Как напоминание о том, что скоро я ее потеряю.
Потеряю единственное, ради чего живу.
Я пошатнулся, сопротивляясь этой мысли, не желая принимать ее. Слезы упали на щеки. Под ногами скрипнули старые половицы. Я крепко зажмурился, а когда открыл глаза, Поппи смотрела на меня с кровати сонными глазами. Потом, разглядев меня получше — со слезами на щеках и горечью в глазах, — она сморщилась, словно от боли, и раскрыла объятия.
Все произошло само собой. Инстинктивно. Сработала та сила, та неукротимая сила, которой обладала только Поппи. Едва она раскинула руки, как ноги сами понесли меня вперед и подкосились, как только я добрался до кровати. Колени ударились о пол, и голова упала ей на живот. И тут меня прорвало, словно дамбу. Слезы хлынули потоком, и Поппи обняла меня за шею.
Я тоже обнял ее, обхватил что было силы за талию. Она гладила меня по голове, а я ничего не мог с собой поделать. Меня трясло, и слезы скоро промочили ее ночную рубашку на бедрах.
— Ш-ш-ш… — прошептала Поппи, тихонько меня баюкая, и ее шепот прозвучал в моих ушах музыкой рая. — Все хорошо. — Она меня утешала! Но боль не утихала, и горечь оставалась горькой.
Я сжимал ее так сильно, что даже подумал в какой-то момент, что она попросит отпустить. Она не попросила, а я не отпустил. Не мог. Не смел. Боялся, что когда подниму голову, ее уже не будет.
А она нужна была мне здесь.
Со мной.
— Все хорошо, — повторила Поппи. Я поднял голову, и мы наконец посмотрели друг другу в глаза.
— Нет, — прошептал я. — Не хорошо.
Ее глаза блестели, но слез не было. Подсунув пальчик мне под подбородок, она свободной рукой вытерла мою щеку, и в уголках ее губ заиграла улыбка. Я затаил дыхание.
В животе что-то закувыркалось, и это было первое, что ощутило мое тело после того, как там, в парке, его сковала мертвящая бесчувственность.
— Ты здесь, — прошептала она так тихо, что я едва расслышал. — Ты со мной. Мой Руне.
И мое сердце остановилось.
Ее лицо растаяло от счастья. Поппи убрала со лба мои волосы и провела пальчиком по носу и вдоль скулы. Я замер, стараясь отложить этот миг в памяти, как мысленную фотографию. Ее руки на моем лице. Идущий изнутри свет счастья.
— Я много думала, представляла, каким ты стал. Как выглядишь. Постриг ли волосы. Подрос ли еще. Какой теперь у тебя размер. Остались ли прежними глаза. — Уголок нижней губы дрогнул. — Стал ли красивее, хотя это и невозможно. — Улыбка погасла. — И вот теперь вижу — да. Когда на прошлой неделе я встретила тебя в коридоре, то даже не поверила глазам. Ты стоял передо мной, такой красивый… я и представить не могла. — Она потянула меня за прядку. — Те же длинные сияющие волосы. Те же ясные голубые глаза. Такой высокий и широкоплечий. — Наши глаза встретились. — Мой викинг, — тихо добавила она.
К горлу подступил комок, и я зажмурился на секунду, а когда открыл глаза, увидел, что она смотрит на меня, как всегда, с бесконечным обожанием.
Я приподнялся, склонился и осторожно, словно она была фарфоровой куклой, прижался лбом к ее лбу.
— Поппимин…
Теперь слезы полились уже из ее глаз. Я запустил пальцы в ее волосы.
— Не плачь, Поппимин. Я не могу это видеть.
— Ты ошибаешься — я не потому плачу, — прошептала она.
Я слегка отстранился и заглянул ей в глаза. Поппи ответила улыбкой и со счастливым видом пояснила:
— Никогда не думала и не надеялась, что снова услышу, как ты произносишь это слово. — Она запнулась, сглотнула и добавила: — Никогда не думала, что ты снова будешь так близко… что я снова почувствую это.
— Почувствуешь что?
— Это. — Поппи поднесла мою руку к своей груди. Под моей ладонью билось ее сердце. Я замер, прислушиваясь к себе и чувствуя, как что-то шевельнулось в груди, возрождаясь к жизни. — Никогда не думала, что снова почувствую себя не половинкой, а целым. — По ее щеке скатилась и упала на мою руку слезинка. — Никогда не думала, что снова обрету утраченное… — Она не договорила, но мы оба знали, о чем речь. — Поппи и Руне. Две половинки целого. Они снова вместе. Они воссоединились. Когда это — самое главное.
— Поппи… — начал я, но где-то глубоко внутри плетью хлестнула боль.
Она зажмурилась, моргнула, отгоняя слезы, и, чуть склонив голову набок, посмотрела на меня задумчиво, словно разгадывая какую-то трудную загадку.
— Поппи… — Я едва узнал собственный голос, хриплый и глухой. — Позволь мне остаться… хотя бы ненадолго. Я не могу… не могу… Я не знаю, что делать…
Она нежно погладила меня по щеке.
— Не надо ничего делать, Руне. Ничего. Только выдержать шторм.
Все мои слова застряли в горле. Я закрыл и снова открыл глаза. Поппи смотрела на меня.
— Мне не страшно, — доверительно сказала она, и я поверил ей. На все сто процентов. Моя Поппи. Малышка, но сколько же в ней отваги и света.
Никогда еще я не гордился так своей любовью к ней, как в этот миг.
Лишь теперь я обратил внимание, что у нее другая кровать, большая, чем два года назад. И матрас слишком большой для нее. Сидя на нем, она казалась маленькой девочкой.
Заметив, что я смотрю на кровать, Поппи немного отодвинулась, и в ее глазах промелькнула настороженность. Вполне понятная. Я был уже не тем мальчишкой, с которым она попрощалась два года назад. Я изменился.
И я не был уверен, что смогу снова стать ее Руне.
После секундного замешательства она сглотнула и похлопала ладонью по матрасу. Сердце застучало. Поппи позволила мне остаться. После всего, что случилось. После всего, что я натворил, она доверилась мне.
Ноги слушались плохо. Слезы высохли, оставив соленую корку на щеках. Горло словно натерли наждачной бумагой. Нестерпимая мука отложилась оцепенелостью. Я чувствовал себя совершенно разбитым и кое-как заштопанным, с пластырями, наложенными на открытые раны.
Помочь нельзя.
Все бесполезно.
Все бессмысленно.
Я сбросил ботинки и забрался на кровать. Поппи подвинулась на привычную для себя половину, а я неуклюже взгромоздился на свою. Потом мы оба, словно вспомнив старую привычку, повернулись лицом друг к другу. Но не все оказалось так просто. Поппи изменилась. Я изменился. Все изменилось.
И я не знал, как приспособиться к этой ситуации.
Минуты проходили в молчании. Поппи как будто довольствовалась тем, что просто смотрит на меня. Но у меня был вопрос. Вопрос, который я хотел задать с тех пор, как между нами прекратились все контакты. Мысль, вошедшая в меня буравом и обратившаяся мраком из-за отсутствия ответа. Мысль, от которой меня мутило. Вопрос, который и сейчас мог разорвать меня изнутри. Даже теперь, когда мой мир и так лежал в руинах.
— Спрашивай, — сказала вдруг Поппи, понизив голос, чтобы не разбудить родителей. На моем лице, должно быть, отразилось удивление, потому что она с лукавым видом пожала плечами. — Может, я и не знаю того парня, которым ты стал сейчас, но это выражение мне хорошо знакомо. Тебя что-то мучит.
Я провел пальцем по простыне между нами, полностью сосредоточившись на выполняемом движении.
— Ты знаешь меня. — Больше всего мне хотелось и самому в это верить. Потому что Поппи была единственным человеком, знавшим меня настоящего. Даже теперь, после двух лет молчания, она знала, какое сердце бьется под волнами ярости и злости.
Ее пальцы приблизились к моим на нейтральной территории между нами. Той ничьей земле, что разделяла нас. Две руки, ее и моя, вытянулись одна к другой, но остановились перед последним усилием. Мне так хотелось достать фотоаппарат и запечатлеть этот момент — такой потребности я не испытывал давно.
Я хотел сохранить этот миг. Удержать его. Сберечь для вечности.
— Думаю, я знаю, о чем ты хочешь спросить, — сказала Поппи, отвлекая меня от моих мыслей. Щеки ее вспыхнули, краска разлилась по светлой коже. — Скажу честно, после возвращения узнать тебя трудно. Но бывает и так, что иногда тот, кого я любила, проглядывает. И этого достаточно, чтобы поддержать надежду, что он не умер, а только уснул. — На ее лице проступило решительное выражение. — Больше всего я хочу увидеть, как он пробьется из-под наносов. И это самое большое мое желание — увидеть моего Руне до того, как я уйду.
Я отвернулся, не хотел слушать, как она говорит об уходе, о том, какое я разочарование, о том, что ее время истекает. И тут, словно солдат в героическом порыве, ее рука преодолела расстояние между нами, и кончик ее пальца коснулся моего. Я снова повернул голову. Мои пальцы раскрылись под ее прикосновением. Пальчик Поппи пробежал по моей ладони, повторяя узор линий.
Тень улыбки скользнула по ее губам, а я ощутил холодок внутри — сколько еще раз мне суждено увидеть эту улыбку. И где, вообще, она находит силы улыбаться.
Потом ее рука медленно вернулась на прежнее место и там осталась, а Поппи посмотрела на меня, терпеливо ожидая вопрос, который я пока еще так и не задал.
Сердце тревожно затрепетало и побежало быстрее.
— Это твое молчание… только из-за болезни или… или из-за того, что… — В памяти пронеслись образы нашей последней перед расставанием ночи. Поппи и я… спаянные в медленном, нежном поцелуе губы… Она говорит, что готова… мы сбрасываем одежду… Поппи подо мной… ее пристальный взгляд… И потом она лежит в моих объятиях. Я засыпаю рядом с ней. Все сказано, без утайки…
— Из-за чего? — спросила Поппи.
Я собрался с духом.
— Из-за того, что я зашел слишком далеко? Ну, заставил тебя… — Ладно, будь что будет. — Ты жалела, что это случилось?
Поппи напряглась, глаза ее блеснули, и я подумал, что она расплачется и признается в том, чего я боялся все эти два года. Что я перешел черту… сделал ей больно. Что она доверилась мне, а я обманул ее доверие.
Но вместо ответа Поппи встала с кровати, опустилась на колени и как будто принялась искать что-то. Немного погодя она выпрямилась, и я увидел в руках у нее знакомую стеклянную банку с завинчивающейся крышкой. Банку с сотнями розовых бумажных сердечек.
Тысяча мальчишечьих поцелуев.
Опустившись на кровать, Поппи поднесла банку к ночнику, сняла крышку и сунула в банку руку. Пока ее пальцы перебирали сердечки, я успел заметить, что среди них много пустых. Сама банка запылилась — очевидно, ее давно не открывали.
Смешанное чувство печали и надежды всколыхнулось в моей душе.
Надежда на то, что никто другой не касался ее губ.
Печаль оттого, что самое большое, самое главное в ее жизни приключение закончилось так быстро. Поцелуев больше не будет.
А потом печаль повернулась острым краем и полоснула по сердцу.
Месяцы. Не целая жизнь, а считаные месяцы остались у нее, чтобы заполнить эту банку. И уже не напишет она ничего на сердечке в день своей свадьбы, как хотела всегда. Не станет бабушкой, не расскажет об этих поцелуях своим внукам. Даже юность не проживет полностью.
— Руне? — спросила Поппи, заметив на моих щеках свежие слезы. Я смахнул их тыльной стороной ладони, но не решился сразу посмотреть ей в глаза. Не хотел, чтобы она печалилась. А когда все же посмотрел, увидел в них понимание, быстро сменившееся робостью.
Поппи разволновалась.
На ее раскрытой ладони лежало розовое сердечко. Но не пустое, а исписанное с обеих сторон. Чернила были розовые и практически невидимые на розовом фоне.
Поппи протянула руку.
— Возьми.
Я сел. Взял сердечко. Поднес его к свету и, прищурившись, попытался разобрать написанное.
Триста пятьдесят пятый поцелуй. В моей спальне. После нашей ночи любви. Мое сердце едва не разорвалось.
Я перевернул сердечко и прочитал: Лучшая ночь в моей жизни… Особенная… Особеннее не бывает.
Грудь сдавило. Я закрыл глаза, сметенный потоком внезапно нахлынувших чувств. Если бы я стоял, то наверняка упал бы на колени.
Вот оно как.
Та ночь, то, что случилось тогда… Поппи хотела этого. Я не сделал ничего плохого. Какой-то звук вырвался из горла. Она дотронулась до моей руки.
— Я думал, что все испортил, — прошептал я, глядя ей в глаза. — Думал, ты жалеешь, что так получилось.
— Не жалею, — тоже шепотом ответила она и дрожащей рукой убрала с моего лица упавшие волосы. Такой привычный жест, но уже полузабытый из-за долгой паузы. Я закрыл глаза, а когда снова открыл, Поппи продолжила. — Когда все случилось… когда меня пытались лечить… — теперь уже она уронила слезу, — и когда лечение не помогло… я часто думала о той ночи. — Она зажмурилась на секунду, и ее длинные темные ресницы коснулись щек. А потом улыбнулась. — Думала о том, каким нежным ты был со мной. Как это прекрасно, быть с тобой… так близко. Словно мы — две половинки одного сердца, как всегда себя и называли. — Она вздохнула. — Такое чувство, будто мы — дома. Ты и я, вместе… навсегда. Тот миг, когда мы оба задохнулись, когда ты держал меня так крепко… это лучшее в моей жизни.
Поппи открыла глаза:
— Я всегда, когда было плохо, мысленно проигрывала тот миг. Вспоминала ту ночь, когда подступал страх. Это как напоминание, что мне повезло. Потому что тогда я испытала ту самую любовь, искать которую завещала бабуля. То самое приключение с тысячью мальчишечьих поцелуев. Миг, когда знаешь, что тебя любят, что ты — центр мира другого человека, что ты живешь. Это чудесный, восхитительный миг… пусть даже и очень короткий.
Держа в одной руке бумажное сердечко, я потянулся другой к руке Поппи, поднес к губам и приник поцелуем к запястью. К тому месту, где трепетала синяя жилка. Поппи затаила дыхание.
— И никто, кроме меня, не целовал твои губы?
— Нет. Я дала тебе обещание. Пусть даже мы и не разговаривали. Пусть даже я думала, что никогда больше тебя не увижу. Я никогда бы не нарушила обещание. Мои губы — твои. Только твои. Навечно.
Сердце замерло на мгновение. Я выпустил ее руку и прижал пальцы к ее губам. Губам, которые она подарила мне. Ее дыхание замедлилось. Ресницы дрогнули, щеки потеплели. А вот мой пульс зачастил. Эти губы принадлежали мне. Тогда и теперь.
На веки вечные.
— Поппи, — прошептал я и наклонился к ней. Она замерла, но я не стал ее целовать. Видел, что она еще не разобралась во мне. Поппи не знала меня.
Я и сам толком себя не знал.
Прижавшись губами к собственным пальцам, ставшим барьером между нашими ртами, я вдохнул ее запах — сахар и ваниль. И мое тело как будто заряжалось от одной только близости к ней.
Я отстранился.
— Сколько? — поникшим голосом спросила вдруг Поппи, и через мое сердце пробежала трещина.
Я нахмурился. Посмотрел на нее внимательно — о чем речь? Поппи вздохнула и теперь уже сама приложила пальцы к моим губам.
— Сколько?
И тут я понял, что она имеет в виду. Понял, потому что Поппи смотрела на мои губы так, словно они ее предали. Так, словно они были чем-то, что она любила когда-то, потеряла и уже не могла вернуть.
Поппи убрала дрожащую руку, и меня словно окатило ледяной водой. В выражении ее лица и позе появилась настороженность; она даже дыхание задержала, будто готовясь защитить себя от того, что я скажу. Но я промолчал. Не мог ничего сказать, потому что это ее выражение сразило меня наповал.
Поппи наконец выдохнула:
— Об Эвери мне, конечно, известно, но были ли другие? В Осло? В том смысле, что да, я знаю, что были, но сколько?
— А это так важно? — негромко спросил я. Бумажное сердечко все еще лежало у меня на ладони, едва ли не обжигая кожу.
Обещание наших губ.
Обещание наших сердец.
На веки вечные.
Поппи медленно покачала головой, но потом, понурившись, кивнула.
— Да, важно. Хотя и не должно быть. Я сама тебя отпустила. — Она опустила глаза. — Но все равно важно. Ты этого не понимаешь.
Вот тут она ошибалась. Я понимал, почему это так важно для нее. Потому не менее важно оно было и для меня.
— Тебя долго не было рядом. — В эту секунду я понял, что меня снова погоняет гнев. Какая-то отравленная, больная часть меня хотела уязвить ее, сделать ей больно, как она сделала больно мне.
— Да, знаю, — не поднимая головы, согласилась Поппи.
— Мне уже семнадцать, — продолжал я.
Поппи побледнела и взглянула на меня.
— О… — В ее голосе как будто прозвучала вся боль этого крохотного мирка. — Значит, то, чего я боялась, правда. Ты был с другими… так же близко, как со мной. Я… я просто…
Она подвинулась к краю кровати, но я успел схватить ее за руку.
— Почему это важно?
В ее глазах блеснули слезы.
Злость чуть утихла, но полыхнула с прежней силой, стоило лишь подумать о двух потерянных годах. Годах, когда я заглушал боль выпивкой и гулянками, а Поппи боролась с болезнью. При одной лишь мысли об этом меня трясло от бешенства.
— Не знаю. — Поппи покачала головой. — Нет, неправда. Знаю. Потому что ты мой. И потому что, несмотря на то что случилось между нами, я все же тешила себя надеждой, что ты сдержишь обещание. Что для тебя это так же важно. Несмотря ни на что.
Я выпустил ее руку, и Поппи тут же поднялась и направилась к двери. Она уже взялась за ручку, когда я негромко сказал:
— Я тоже.
Поппи остановилась на полушаге.
— Что?
Она не обернулась. И тогда я встал, подошел к ней и для верности, чтобы не пропало ни одно слово признания, наклонился к самому уху. Мое дыхание коснулось ее волос. Тихо, так что и сам едва слышал себя, я прошептал:
— То обещание и для меня значило многое. Ты многое значила для меня. И сейчас значишь не меньше. Там, под всей этой злобой… там только ты. И так будет всегда. — Поппи не пошевелилась, и я наклонился еще ближе. — На веки вечные.
Поппи повернулась, так что мы столкнулись, и недоуменно уставилась на меня зелеными глазами.
— Ты… не понимаю…
Я поднял руку и погладил ее по голове.
Ее ресницы затрепетали, опустились, но уже в следующее мгновение вспорхнули.
— Я сдержал обещание.
Шокированная таким откровением, Поппи изумленно уставилась на меня.
— Но я видела… ты целовал…
— Я сдержал обещание. С того дня как мы расстались, я не целовал больше никого. Мои губы — по-прежнему твои губы. И ничьими еще они не были. И никогда не будут.
Поппи открыла и, не произнеся ни звука, закрыла рот. Потом, помолчав, все же сказала:
— Но ты и Эвери…
Я скрипнул зубами:
— Я знал, что ты близко, и был зол как черт. Хотел задеть тебя чем-нибудь, уколоть, чтобы тебе было так же больно, как мне.
Поппи с сомнением покачала головой.
— Я знала, как ты отреагируешь, увидев меня с Эвери. Поэтому и сел специально рядом с ней и ждал, когда ты появишься. Хотел подстроить так, чтобы ты подумала, будто я целуюсь с ней. Но потом… когда увидел твое лицо… когда ты выбежала из комнаты… Я не мог перенести ту боль, что причинил тебе.
По ее щекам побежали слезы.
— Зачем ты это сделал, Руне? Зачем?
— Хотел и сделал, — коротко ответил я.
— Почему? — чуть слышно спросила она.
— Потому что ты права. — Я невесело усмехнулся. — Я уже не тот мальчишка, которого ты знала. После того как меня увезли, оторвали от тебя, во мне осталось только одно чувство — злость. Когда мы разговаривали, я старался скрывать ее, сопротивлялся ей, знал, что мы вместе, пусть даже и разделены тысячами миль. Но, после того как ты оборвала все связи, мне на все стало наплевать. Я перестал сопротивляться, сдался, позволил злости поглотить меня целиком и полностью. Она стала мною. — Я взял ее руку и прижал к груди. — Я — лишь половинка сердца. Жизнь без тебя — вот что сделало меня таким. Эта тьма, эта злость — они родились потому, что тебя не было рядом. Поппимин. Моей искательницы приключений. Моей девушки. — Снова вернулась боль. Новая реальность забылась ненадолго, лишь на несколько коротких минут. — И вот теперь ты говоришь, — процедил я сквозь стиснутые зубы, — что покидаешь меня навсегда, что… — Слова застряли в горле.
— Руне… — прошептала Поппи и, шагнув в мои объятия, крепко обхватила меня за талию.
И тут же мои руки сжали ее словно тисками. Вбирая тепло ее мягкого тела, я глубоко вдохнул. Впервые за долгое время вдохнул чистоту. А потом грудь перехватило.
— Не могу потерять тебя, Поппимин, — глухо, сдавленно прошептал я. — Не могу. Не могу отпустить тебя. Нам суждено пройти по жизни вместе. Ты нужна мне, и я нужен тебе. Вот и все. — Поппи била дрожь. — Я не могу тебя отпустить. Куда ты, туда и я. Без тебя мне не жить. Пытался — не получилось.
Медленно и осторожно она подняла голову, отступила на полшага и, посмотрев на меня, прошептала:
— Я не могу взять тебя с собой туда, куда иду.
Значение этих слов дошло не сразу, а когда дошло, я опустил руки, отшатнулся и сел на край кровати. Что делать? Как со всем этим справиться?
И откуда только у Поппи силы берутся?
Как ей удается с таким достоинством встречать смертный приговор? Мне хотелось проклясть весь мир, стереть все, что стояло на моем пути.
Я опустил голову и расплакался. Слезы лились и лились, хотя, казалось, их уже не оставалось вовсе. Это был мой последний резерв, последняя волна отчаяния. Слезы признания той истины, принимать которую я не желал.
Истины, заключавшейся в том, что Поппимин умирает.
Умирает по-настоящему.
Скрипнула кровать. Я уловил знакомый сладкий аромат и упал в ее раскрытые объятия. Она гладила меня по волосам, а я плакал и плакал, освобождаясь от всего, что накопилось, обнимая ее и стараясь изо всех сил запомнить этот миг: ее объятия, ее ровный, сильный пульс, тепло ее тела.
Не знаю, сколько прошло времени, но слезы в конце концов высохли. Я не стал вставать, просто лежал, а Поппи гладила и гладила меня по спине.
Горло отложило. Я прокашлялся и спросил:
— Как это случилось, Поппимин? Как ты узнала?
Поппи ответила не сразу, потом вздохнула:
— Это не важно, Руне.
Я сел и заглянул ей в глаза.
— Для меня важно.
Она провела тыльной стороной ладони по моей щеке и кивнула:
— Знаю. Когда-нибудь узнаешь. Но только не сегодня. Сегодня важно другое — вот это. Мы. И ничего больше.
Я смотрел на нее, не отрываясь, и она не отвела глаз. Какое-то оцепенение сковало нас. Воздух сгустился. Я потянулся к ней. Больше всего на свете мне хотелось прижаться губами к ее губам. Почувствовать их прикосновение, их тепло. Добавить в банку еще один поцелуй.
Но в последний момент я поцеловал ее не в губы, а в щеку. Мягко и нежно.
Вот только этого было мало.
Я поцеловал ее еще, чуть выше. И еще. И еще. Мои губы прошли долгий путь снизу вверх. Поппи заворочалась. Я отстранился и по выражению на ее лице понял — она знает, что я не тороплю ее.
Потому что, как бы ни желал я обратного, мы уже не были прежними. Мы уже не были теми мальчиком и девочкой, которые целовались с такой же легкостью, с какой менялся ветер.
Настоящий поцелуй будет потом, когда мы отыщем путь к себе.
Я поцеловал Поппи в кончик носа, и она хихикнула, словно от щекотки. Бушевавшая во мне злоба как будто улеглась, и в моем сердце понемногу расцветала радость.
— Мои губы — твои, — сказал я, прижимаясь лбом к ее лбу. — Только твои и ничьи больше.
Поппи в ответ поцеловала меня в щеку. И эхо этого поцелуя прошло через меня сверху донизу. Я ткнулся носом в ее шею и даже смог улыбнуться, когда она прошептала мне в ухо:
— Мои губы — твои.
Я повернулся и обнял ее. Еще немного, — и ее веки сомкнулись. А потом закрылись и мои глаза. Сон пришел быстро. Уставший, несчастный, эмоционально выжатый, я и сам не заметил, как уснул. Впрочем, так бывало всегда, когда рядом лежала Поппи.
То был третий момент, определивший мою жизнь. В ту ночья узнал, что теряю любимую. И, понимая, что наши дни сочтены, я обнимал ее крепче, чем раньше, отказываясь смириться с приговором, отказываясь отпускать ее. То же чувствовала и она. Мы уснули с одним чувством и одним стремлением…
…как звучное эхо прежних себя.
Меня разбудил шорох.
Я протер заспанные глаза. Неясный силуэт бесшумно сместился к окну.
— Поппимин?
Она остановилась и обернулась. Я с усилием сглотнул — в горле как будто выросли бритвенные лезвия. Поппи подошла к кровати. На ней были тренировочные брюки и свитер, а сверху плотная парка. На полу лежал рюкзак.
Я нахмурился. Рассвет еще не наступил, и за окном было темно.
— Ты куда?
Поппи вернулась к окну, оглянулась и с игривой улыбкой спросила:
— Ты идешь?
У меня защемило сердце — настолько прекрасна она была в этот миг. Ее заразительная радость уже передалась мне, и уголки губ поползли вверх.
— Куда ты собралась?
Поппи отвела штору и показала на небо.
— Встречать рассвет. — Она склонила голову набок. — Да, времени прошло много, но неужели ты забыл?
Теплая волна окатила мое сердце. Нет, не забыл.
Поднимаясь с кровати, я рассмеялся и, тут же смутившись, остановился. Поппи грустно вздохнула, подошла ко мне, посмотрела в глаза и взяла за руку. Пальцы у нее были такие маленькие, такие изящные и такие нежные.
— В этом нет ничего плохого, понимаешь?
— В чем? — спросил я, придвигаясь ближе.
Она подняла свободную руку и, приподнявшись на цыпочках, накрыла мои губы подушечками пальцев.
Сердце застучало чуточку быстрее.
— В том, чтобы смеяться, — легким, как перышко, голосом ответила она. — И улыбаться. И, вообще, радоваться и быть счастливым. Разве не в этом смысл жизни?
Меня как будто оглушило. В том-то и дело, что ничего этого мне не хотелось — ни смеяться, ни улыбаться, ни радоваться. При одной мысли о том, что надо быть счастливым, я чувствовал себя виноватым.
— Руне. — Ее пальцы вспорхнули и опустились сбоку на шею. — Я понимаю, что ты, должно быть, чувствуешь. Мне и самой пришлось со всем этим разбираться. Но если бы ты знал, как тяжело видеть самых близких, самых дорогих людей, тех, кого я люблю всем сердцем, унылыми и несчастными.
В глазах у нее блеснули слезы, и мне сделалось еще хуже.
— Поппи… — Я накрыл ее пальцы своей ладонью.
— Это хуже любой боли. Хуже, чем смотреть в лицо смерти. Видеть, как твоя болезнь высасывает радость из тех, кого любишь больше всего, это самое худшее, что только может быть. — Поппи запнулась, перевела дух и прошептала: — Мое время истекает. Мы все это знаем. И я хочу, чтобы это время было особенным… — Она улыбнулась — широко и открыто. Той улыбкой, что даже такому, как я, помогала увидеть лучик света. — Особеннее не бывает.
И я улыбнулся.
Открыл ей то счастье, что она пробудила во мне. Показал, что эти слова — слова из нашего детства — пробились сквозь тьму.
По крайней мере на мгновение.
— Замри, — сказала вдруг Поппи и тихонько хихикнула.
— Что? — спросил я, не отпуская ее руку.
— Твоя улыбка. — Она разинула рот в притворном изумлении, а потом добавила: — Все еще на месте. А я думала, это миф, какая-то легенда, вроде снежного человека или лох-несского чудовища. Но она здесь! Я видела ее собственными глазами!
Поппи сделала смешное лицо, сжала ладонями щеки и похлопала ресницами.
Я покачал головой и, не удержавшись, рассмеялся уже по-настоящему, а когда успокоился, она все еще мне улыбалась.
— Только ты. — Я поднял воротник парки, и ее улыбка смягчилась. — Только ты можешь меня рассмешить.
Поппи на секунду зажмурилась, а потом посмотрела мне в глаза.
— Постараюсь делать это и дальше, сколько смогу. Хочу, чтобы ты улыбался. — Она привстала на цыпочках, так что ее лицо оказалось почти на одном уровне с моим. — Я не отступлюсь.
За окном чирикнула птичка. Поппи оглянулась.
— Нам пора, а иначе не успеем, — сказала она и отступила, рассеяв очарование момента.
— Ладно, идем. — Я натянул ботинки и последовал за ней, на ходу подхватив и забросив на плечо рюкзак. В последнюю секунду Поппи вдруг метнулась к кровати, а когда вернулась, в руках у нее было сложенное одеяло.
— Утром еще холодно, — объяснила она.
— Одной парки мало? — спросил я.
— Одеяло для тебя. — Поппи ткнула пальцем в мою футболку. — В этом ты в роще точно замерзнешь.
— Ты еще не забыла, что твой парень — норвежец? — сухо спросил я.
— Настоящий викинг, — кивнула она и на мгновение прижалась ко мне. — И, между нами говоря, ты и впрямь хороший напарник.
Я в изумлении покачал головой. Поппи положила руку мне на плечо.
— Но, Руне…
— Что?
— Даже викингам бывает холодно.
Я кивнул в сторону открытого окна.
— Идем или пропустим рассвет.
Поппи с улыбкой выскользнула в окно, и я выбрался следом. Утро выдалось холодное, и ветер дул сильнее, чем накануне вечером.
Опасаясь, что Поппи замерзнет и разболеется еще больше, я поймал ее за руку и притянул к себе. Она удивленно посмотрела на меня, а я надвинул ей на голову капюшон и принялся завязывать тесемки под подбородком. Все это время Поппи смотрела на меня, и под ее пристальным взглядом дело шло не слишком быстро. Затянув наконец бантик, я посмотрел ей в глаза.
— Руне, — сказала она. Несколько секунд прошли в напряженной тишине. В ожидании продолжения я побарабанил пальцами по подбородку. — Твой свет, я вижу его. Он пробивается из-под злобы. Он не погас.
Удивленный ее словами, я сделал шаг назад и посмотрел в небо. Оно уже начало светлеть на востоке.
— Ты идешь? — Я повернулся в сторону парка.
Поппи вздохнула и, не желая отставать, прибавила шагу. Я сунул руки в карманы. Дальше шли молча. По пути к роще Поппи постоянно оглядывалась. Несколько раз я пытался определить, что она высматривает, но ничего особенного, кроме птичек, деревьев и колышущейся под ветром травы, не заметил. Что такое привлекло ее внимание? Впрочем, Поппи всегда танцевала под свою музыку и всегда видела в окружающем мире больше, чем кто-либо еще. Видела пронзающий тьму свет. Видела за плохим хорошее.
Наверно, только этим можно было объяснить, почему она не попросила меня оставить ее в покое. Я стал другим, изменился, и от нее это, конечно, не укрылось. Пусть Поппи и не сказала ничего такого, ее настороженный взгляд в некоторые моменты говорил сам за себя.
Раньше она никогда не смотрела на меня с опаской.
Мы вошли в рощу, и я сразу понял, куда Поппи направляется — к самому большому дереву. Нашему любимому дереву. Подойдя к нему, она развязала рюкзак, достала и расстелила одеяло и села.
Устроившись, Поппи жестом предложила сесть и мне. Я опустился на землю и прислонился спиной к стволу. Ветер как будто стих. Повозившись со шнурками, она развязала узелок, отбросила капюшон и повернулась лицом на восток, к светлеющему горизонту. На сером небе проступали розовые и оранжевые штрихи.
Я сунул руку в карман, достал сигареты, щелкнул зажигалкой и затянулся. Дым мгновенно ударил в легкие. Я медленно выдохнул. Клубящееся облачко закачалось в воздухе. Поппи пристально посмотрела на меня. Я опустил руку на полусогнутое колено и тоже посмотрел на нее.
— Ты куришь.
— Ja.
— А бросить не хочешь?
В вопросе прозвучала просьба, а губы едва заметно дрогнули в улыбке.
Я покачал головой. Сигареты помогали успокоиться, так что в ближайшее время я бросать не собирался.
Некоторое время мы сидели молча. Потом Поппи снова посмотрела туда, откуда начинался восход.
— А в Осло ты хоть раз встречал восход?
Вслед за ней и я повернулся к уже порозовевшему горизонту. Звезды уже начали исчезать в лучах еще не видимого солнца.
— Нет, ни разу.
— Почему? — спросила Поппи.
Я снова затянулся и, откинув голову, выпустил вверх струю дыма. Пожал плечами.
— Не знаю. Мне это даже в голову не приходило.
Поппи вздохнула и снова отвернулась.
— Много потерял. — Она вытянула руку к небу. — Я за границей ни разу не была и ничего, кроме Штатов, не видела. А ты жил в Норвегии и даже не поднялся ни разу пораньше посмотреть, как начинается новый день. Такую возможность упустил.
— Одного раза вполне достаточно. Кто видел один рассвет, тот, считай, видел их все, — возразил я.
Поппи посмотрела на меня с сожалением и покачала головой. И столько печали было в ее глазах, что мне стало не по себе.
— Ты ошибаешься. Похожих дней не бывает. Каждый отличается чем-то от других. Цветами, оттенками, тенями. Настроением. — Она вздохнула. — Каждый день — подарок, Руне. Я поняла это за последние пару лет.
Я промолчал.
Поппи склонила голову набок и закрыла глаза.
— Мне нравится вот этот ветер. Сейчас начало зимы, и он холодный, поэтому люди прячутся от него. Сидят по домам, в тепле. А вот я принимаю его с радостью. Мне приятно ощущать его на лице. Как и солнечное тепло на щеках летом. Я люблю танцевать под дождем. Мечтаю поваляться зимой в снегу, ощутить холод в костях. — Она открыла глаза. Краешек солнца выглянул из-за горизонта. — Когда меня лечили, когда я лежала в больнице и сходила с ума от боли и отчаяния, я просила, чтобы кровать поворачивали к окну. Восход всегда приносил облегчение и покой. Восстанавливал силы. Наполнял новой надеждой.
С кончика сигареты сорвался столбик пепла, и я поймал себя на том, что не сдвинулся с места с тех пор, как Поппи заговорила. Она снова повернулась ко мне.
— Когда мне недоставало тебя, когда становилось плохо, хуже, чем от химиотерапии, я смотрела на восток и думала о тебе. Представляла, что ты встречаешь восход в Норвегии, и от этого мне делалось легче.
Я снова ничего не сказал.
— Ты хоть раз чувствовал себя счастливым? Был ли у тебя за эти два года хоть один день, когда ты не печалился и не злился?
Огонек злости, затаившийся глубоко внутри меня, полыхнул, как уголек от ветра. Я покачал головой и потушил окурок о землю.
— Нет.
— Руне… — прошептала Поппи и виновато посмотрела на меня. — Я думала, ты в конце концов двинешься дальше. — Она опустила глаза, а когда снова их подняла, мое сердце сжалось. — Я сделала то, что сделала, потому что никто не думал, что я продержусь так долго. — Слабая и в то же время на удивление уверенная улыбка осветила ее лицо. — Мне даровано больше времени… — Она глубоко вдохнула. — А теперь, вдобавок к прочим чудесам еще и ты возвратился.
Я отвернулся. Не мог это слушать. Не мог оставаться спокойным, когда Поппи совершенно непринужденно говорила о смерти и так радовалась моему возвращению. Она придвинулась ближе, и я, вдохнув ее запах, закрыл глаза. Ее ладонь легла на мою руку.
Молчание вновь повисло между нами, спустившись густой пеленой. Через какое-то время я ощутил легкое пожатие и открыл глаза. Поппи указала на солнце, быстро поднимавшееся из-за горизонта. Наступал новый день. Я прислонился головой к сухой, жесткой коре. Над серой рощей расплывалась розовая дымка. От холода у меня на руках выступила гусиная кожа. Поппи подтянула край одеяла и набросила на нас обоих.
Плотная шерстяная ткань быстро согрела. Поппи нашла под ним мою руку, и наши пальцы снова сплелись. Мы сидели, прильнув друг к другу, наблюдая за солнцем, пока день не вступил полностью в свои права.
Я чувствовал, что не могу отмалчиваться, что должен высказаться — откровенно и напрямик — и, задвинув подальше гордость, признался:
— Ты сделала мне больно.
Поппи напряглась.
Посмотреть ей в глаза я не смог.
— Ты разбила мне сердце.
Скрывавшие небо густые облака рассеялись, розовое небо поголубело. Утро окончательно победило ночь. Поппи пошевелилась — смахнула со щеки слезу.
У меня сжалось сердце — это ведь я ее обидел. С другой стороны, Поппи хотела знать, что со мной случилось, и отчего я постоянно не в себе. Почему ни разу не встретил этот чертов рассвет. Она хотела знать, почему я изменился. Вот в чем все дело. А еще я понял — на удивление быстро, — что правда бывает порой настоящей стервой.
Поппи шмыгнула носом, и я обнял ее рукой за плечи. Думал, будет сопротивляться, но она молча приникла ко мне.
К глазам подступили слезы. Удерживая их, я крепко, до боли, сжал зубы и уставился в сияющее голубое небо.
— Руне…
Я покачал головой:
— Не обращай внимания. Это не важно.
Поппи подняла голову, повернулась и погладила меня по щеке.
— Разумеется, важно. Я сделала тебе больно. — Она сглотнула слезы. — Невольно. Я не хотела этого. Хотела лишь спасти тебя.
Я посмотрел в ее глаза. И как ни больно мне было, как ни подкосило меня ее молчание, отправив туда, откуда я не знал, как выбраться, я видел — она сделала это, потому что любила. Потому что хотела для меня лучшего.
— Знаю. — Я прижал ее к себе.
— Не получилось.
— Да, не получилось. — Я поцеловал ее в висок, а когда она подняла голову, вытер слезы с ее лица.
— Что теперь?
— А чего бы ты хотела?
Поппи вздохнула и посмотрела на меня решительно и твердо.
— Мне нужен прежний Руне. — Я напрягся, словно от удара, и даже сделал шаг в сторону, но Поппи остановила меня. — Руне…
— Нет. Я уже не прежний Руне. И не уверен, что смогу им стать. — Я опустил голову, но потом все же заставил себя встретить ее взгляд. — Но я хочу тебя все так же, Поппимин, даже если ты не хочешь меня.
— Руне, — прошептала она, — ты только-только вернулся. Я еще не знаю тебя нового. У меня все спуталось. Мне и в голову не приходило, что нам придется пройти через это вместе. Я… я в полном смятении. — Она сжала мою руку. — Но вместе с тем я чувствую в себе новую жизнь. И в этой жизни есть место для нас. Я хочу, чтобы в это, оставшееся мне время, у меня был ты. — Ее слова закружились в воздухе. — Ты со мной?
Я провел пальцем по ее щеке.
— Да, Поппимин. Я с тобой. И всегда буду с тобой. Может быть, я не тот мальчишка, которого ты знала, но я твой. И всегда буду твоим. На веки вечные.
Ее взгляд потеплел. Она положила голову мне на плечо и тихонько прошептала:
— Мне так жаль.
Я крепко ее обнял и прижал к себе.
— Господи, Поппи, это мне жаль. Я не… — договорить не получилось, но Поппи терпеливо ждала. — Не представляю, как ты справляешься со всем этим, как тебе удается держаться, откуда берутся силы.
— Это потому, что я люблю жизнь. — Она пожала плечами. — Всегда любила.
Похоже, мне открывалась новая сторона Поппи. Или, может быть, я заново узнавал девушку, которая успела вырасти.
Поппи посмотрела на небо.
— Я встаю пораньше, чтобы встретить рассвет. Я в каждом хочу видеть только хорошее. Меня может увлечь песня и вдохновить искусство. — Она повернулась ко мне и улыбнулась. — Я готова переждать бурю, чтобы увидеть радугу. Вот я какая, Руне. Зачем страдать, если можно быть счастливым? По-моему, выбор очевиден.
Я поднес ее руку к губам и почувствовал, как участилось дыхание, заторопился пульс. Наклонив голову, она поцеловала мои пальцы, сжимавшие ее ладонь, и пальцем начертала на моем запястье знак вечности — восьмерку. В груди разлилось тепло, и мое сердце растаяло в нем.
— Я не такая уж наивная и знаю, что ждет впереди. Но я верю, что жизнь — это не только то, что у нас есть сейчас, здесь, на земле. Уверена, меня ждут небеса. И когда я испущу последний вздох и закрою глаза в этой жизни, то проснусь уже в следующей, здоровая и умиротворенная. Я верю в это всем сердцем.
— Поппи… — Мысль о том, что я потеряю ее, рвала душу, но ее смелость и крепость духа наполняли меня гордостью.
Она отпустила наши руки и улыбнулась — без малейшего намека на страх на прекрасном лице.
— Все будет хорошо, Руне. Обещаю.
— Не знаю, как я буду без тебя. — Я не хотел портить ей настроение, но такова была моя правда.
— Ты справишься, — твердо сказала она. — Потому что я верю в тебя.
Я не нашелся, что ответить. Да и что тут скажешь?
Поппи обвела взглядом голые деревья.
— Жду не дождусь, когда они снова расцветут. Так хочется увидеть эти чудесные розовые лепестки. Так хочется войти в рощу, словно вступаешь в сказочный сон. — Она подняла руку и провела пальцами по склонившейся ветке и одарила меня восторженной улыбкой. А потом вскочила, и ветер разметал ее каштановые волосы. Поппи ступила на траву, раскинула руки и рассмеялась — счастливо, звонко, самозабвенно.
Завороженный, я будто прирос к месту, не в силах отвести взгляд от кружащейся Поппи. Казалось, и ветер, подхватив ее смех, разнес его по всей роще.
Сказочный сон. Поппи была права. Закутанная в парку, танцующая в утренней роще, она сама словно пришла из сказочного сна.
Свободная и прекрасная, как птица в полете.
— Ты чувствуешь это, Руне? — спросила она, не открывая глаз, подставив лицо теплым солнечным лучам.
— Что? — спросил я, вспомнив, что у меня есть голос.
— Жизнь! — крикнула Поппи и снова рассмеялась, когда ветер, сменив направление, едва не свалил ее с ног. — Жизнь. — Она остановилась, разрумянившаяся от ветра, с горящими щеками, прекрасная, как никогда раньше.
Я вдруг почувствовал, как дернулся палец, и пожалел, что у меня нет с собой фотоаппарата. Желание — нет, потребность — запечатлеть Поппи на пленке напомнило о себе неудержимой дрожью. Эта потребность была для меня столь же естественной, как необходимость дышать. Поппи сказала однажды, что я родился с ней.
— Как бы я хотела, — продолжила Поппи, — чтобы люди проживали с этим чувством каждый день. Почему так получается, что только в конце жизни мы понимаем ценность каждого мгновения. Почему мы так долго ждем и только тогда, когда времени остается совсем мало, начинаем стремиться к тому, о чем мечтали? Почему не делаем этого раньше, когда у нас столько времени? Почему не смотрим на самых любимых так, словно видим их в последний раз? Какой яркой, какой насыщенной была бы жизнь. Жизнь, проживаемая по-настоящему.
Она медленно оглянулась через плечо и одарила меня поразительной, неотразимой улыбкой. Я посмотрел на нее, девушку, которую любил больше всего на свете, так, словно видел ее в последний раз, и вдруг почувствовал себя самым счастливым человеком в мире. Потому что у меня была она. И пусть не все еще прояснилось, пусть многое было слишком свежо и ново, я знал, что у меня есть она.
И что у нее, точно и определенно, есть я.
Позабыв о расстеленном на траве одеяле, подхваченный некоей силой, я поднялся и, не сводя глаз с Поппи, впитывая ее целиком и по частям, двинулся к ней.
Она смотрела на меня молча, а когда я остановился перед ней, уронила голову, и краска смущения растеклась по ее лицу, от шеи до разрумянившихся, словно яблоки, щек.
Ветер снова закружил вокруг нас.
— Чувствуешь, Руне? Правда?
Я знал, что она имеет в виду и ветер на моем лице, и солнечные лучи, падающие сверху.
Пульс жизни.
Я кивнул, отвечая на совсем другой вопрос.
— Да, Поппимин. Правда.
И в этот миг что-то внутри меня сдвинулось. Я не мог больше думать о том, что ей осталось несколько месяцев.
Я понял, что должен сосредоточиться на мгновении.
Должен помочь ей, пока мы вместе, жить в полную силу.
Должен снова завоевать ее доверие. Ее душу. Ее любовь.
Поппи шагнула ко мне, пробежала пальчиками по моей голой руке.
— Ты замерз.
Гипотермия меня не пугала. Я обнял ее за шею и попытался отыскать на ее лице знак того, что жест этот нежелателен. Зеленые глаза вспыхнули, но не запретительными огоньками.
Ее губы раскрылись, ресницы затрепетали. Я наклонился, но, обойдя рот, потерся кончиком носа о ее щеку. Поппи вздохнула, но я проследовал выбранным маршрутом и добрался до пульсирующей на шее жилки. Танец под ветром согрел ее, и кожа была теплая, но при этом Поппи дрожала. Из-за меня.
Пройдя остаток пути, я прижался губами к скачущему пульсу, впитывая ее сладость, чувствуя, как ускоряется мое собственное сердцебиение.
Жить.
В полную силу.
Тихий стон сорвался с ее губ. Я медленно отстранился. Зеленые радужки сияли, розовые губы налились.
— Идем. Тебе нужно поспать.
Поппи выглядела восхитительно растерянной. Оставив ее в таком состоянии, я принялся собирать вещи, а когда закончил, обнаружил, что она так и стоит на том же месте.
Я кивнул в направлении дома, и мы зашагали вместе. Мысли вертелись вокруг последних двенадцати часов. Сколько всего случилось, просто карусель эмоций. И что в итоге? Я вернул половинку разбитого сердца и заодно узнал, что это только временно. Я вспоминал наши поцелуи. Как мы лежали вместе на кровати.
А потом вспомнил о банке. Той самой, полупустой банке для тысячи поцелуев. Не знаю почему, но именно те розовые бумажные сердечки беспокоили меня больше всего. Поппи так дорожила этой банкой. Для нее это было что-то вроде вызова, брошенного ее бабушкой. И если она не смогла на него ответить, то только из-за моего двухгодичного отсутствия.
Я взглянул на нее искоса — Поппи смотрела на сидевшую на ветке птичку, а когда та зачирикала, улыбнулась. Потом, почувствовав мой взгляд, она повернулась.
— Тебе еще нравятся приключения?
Поппи широко и озорно улыбнулась.
— Да. — Она отвела глаза. — В последнее время для меня каждый день — приключение. Знаю, в следующие несколько месяцев придется нелегко, но я готова ко всему. И рассчитываю прожить в полную силу каждый день.
Хотя ответ и резанул болью, в голове у меня уже начал складываться план. Поппи остановилась — мы дошли до лужайки между нашими домами.
Она повернулась ко мне, ожидая, что будет дальше. Я тоже остановился, положил на землю ее рюкзак и одеяло и выпрямился.
— Ну так что? — со скрытой усмешкой спросила Поппи, и глаза ее лукаво блеснули.
— А вот что, — ответил я и, покачиваясь на мысках, невольно улыбнулся. — Послушай. Ты считаешь, что не знаешь, каким я стал, что собой представляю. Ну так дай мне шанс. Позволь показать, что я за парень. Давай начнем новое приключение.
Я смущенно пожал плечами, чувствуя, как тепло разливается по щекам, но тут Поппи вдруг взяла мою руку, сжала обеими своими и дважды тряхнула. Губы ее растянулись в широкой, от уха до уха, улыбке, а на щеках проступили ямочки.
— Я — Поппи Личфилд, а ты — Руне Кристиансен. Это рукопожатие. Моя бабуля говорит, что когда встречаешь новых людей, надо пожимать руку, здороваться. Теперь мы друзья. Лучшие друзья.
Поппи посмотрела на меня сквозь густые ресницы, и я рассмеялся. Рассмеялся, вспомнив тот день, когда впервые увидел ее. День, когда мы познакомились. Нам было по пять лет. Она выбралась из дома через окно. На ней было голубое, заляпанное грязью платье, а в волосах — большой белый бант.
Она попыталась высвободить руку, но я не отпускал.
— Пойдешь со мной сегодня вечером?
Поппи замерла.
— На свидание, — неловко добавил я. — Настоящее свидание.
Она недоверчиво покачала головой:
— Мы же никогда не ходили на свидание. Мы всегда просто… были…
— Так давай начнем сейчас. Еще не поздно. Я зайду за тобой в шесть. Будь готова.
С этими словами я повернулся и направился к своему окну, полагая само собой разумеющимся, что она согласилась. По правде говоря, я просто не оставил ей выбора. Решил все сам, за нее.
Я намеревался во что бы то ни стало сделать ее счастливой.
Завоевать ее и вернуть.
Вернуть уже как нынешний Руне. Тот Руне, которым я стал.
И ничего другого быть не могло.
Мы начинали новое приключение.
Которое даст ей ощущение жизни.
Глава 9
Первые свидания и улыбки с ямочками на щеках
— Ты собираешься на свидание? — поинтересовалась Саванна. Они с Айдой лежали на моей кровати и смотрели на мое отражение в зеркале. Смотрели, как я надеваю сережки-восьмерки в виде знака бесконечности. Как крашу ресницы тушью.
— Да. На свидание.
Саванна и Айда переглянулись и сделали большие глаза. Потом Айда снова повернулась ко мне.
— С Руне? С Руне Кристиансеном?
Теперь уже я повернулась к ним. Лица обеих выражали нескрываемое потрясение.
— Да, с Руне. А почему это так вас удивляет?
Саванна села на матрасе.
— Потому что Руне Кристиансен, о котором все только и говорят, на свидания не ходит. Потому что Руне курит и пьет на поляне. Потому что Руне всегда молчит и никогда не улыбается, а только хмурится. Потому что он вернулся из Норвегии другим человеком, плохим парнем.
В глазах Саванны читалось беспокойство. Говоря о Руне, она, конечно, передавала то, что узнала от других, но слушать ее все равно было неприятно.
— Да, но только все девчонки по нему сохнут, — вставила Айда, посылая мне улыбку. — Они и до того как он уехал, завидовали тебе, потому что ты была с ним, а теперь просто умрут от ревности!
Не успела Айда закончить, как улыбка на ее лице поблекла и растворилась. Она опустила, потом подняла глаза.
— А он знает?
Теперь и Саванна смотрела на меня с таким же несчастным видом. Я даже отвернулась — видеть на их лицах это печальное выражение было выше моих сил.
— Поппи? — подала голос Саванна.
— Да, знает.
— И как он это воспринял? — осторожно поинтересовалась Айда.
Сердце сжалось от боли, но я все же попыталась улыбнуться. Сестры смотрели на меня так, словно я могла исчезнуть в любую секунду и прямо у них на глазах.
— Не очень хорошо.
Глаза у Саванны заблестели от подступивших слез.
— Мне так жаль, Попс.
— Я сама виновата — не надо было с ним порывать. Он потому и злится. Потому и ведет себя так. Я его обидела. Сильно. Когда рассказала обо всем, он сначала жутко расстроился, а потом пригласил меня на свидание. Мой Руне наконец-то зовет меня на свидание. После стольких-то лет.
Айда торопливо вытерла щеки:
— А папа с мамой знают?
Я состроила гримасу и покачала головой. Мои сестренки снова переглянулись, потом уставились на меня, и мы все расхохотались.
Айда завалилась на спину и схватилась за живот.
— Господи, Попс! С папой удар случится! С тех пор как Кристиансены вернулись, он только и твердит, что Руне изменился к худшему, никого не уважает, курит и ругается со своим отцом. — Она снова села. — Он точно тебя не отпустит.
Мне стало не до смеха. Я знала, что папа и мама озабочены поведением Руне, но никогда не думала, что они судят его настолько сурово.
— Он придет за тобой? — спросила Саванна.
Я покачала головой, хотя и сама толком не знала, какие у Руне планы в этом отношении.
В дверь позвонили.
Мы все переглянулись.
— Это точно не Руне, — удивленно воскликнула я и нахмурилась. Он всегда приходил к моему окну и никогда не придерживался формальностей. В этом мы были похожи. Разумеется, Руне не стал бы звонить в дверь.
Саванна посмотрела на часы на моем ночном столике.
— Шесть. Он во сколько должен прийти?
Бросив последний взгляд в зеркало, я схватила куртку и поспешила к двери спальни. Сестры устремились за мной. Мы были уже в прихожей, когда я увидела папу. Он открыл дверь, а когда увидел гостя, лицо его мгновенно омрачилось.
Я замерла.
Саванна и Айда тоже остановились, и Айда даже схватила меня за руку, когда мы услышали знакомый голос.
— Мистер Личфилд.
При звуке этого голоса мое сердце как будто споткнулось на бегу.
— Руне? — растерянно произнес папа. — Что ты здесь делаешь?
Обычно мой папа — образец вежливости, но сейчас в его голосе проступали нотки настороженности и даже тревоги.
— Пришел за Поппи, — ответил Руне.
Папины пальцы на ручке двери напряглись.
— За Поппи? — уточнил он. Я выглянула из-за угла, надеясь хоть краем глаза увидеть Руне. Айда потянула меня за руку.
Я обернулась.
— Боже мой! — прошептала она одними губами.
Я беззвучно рассмеялась и покачала головой, и Айда переключилась на папу. А я задержала взгляд на ее взволнованном лице. Именно такие моменты, когда мы были тремя обычными сестрами, со своими девчоночьими секретами и сплетнями, давались порой тяжелее всего. Ощутив на себе чей-то взгляд, я повернулась к Саванне, которая только кивнула, молча и понимающе.
Сестра сжала мое плечо. Из прихожей донесся голос Руне.
— Я ее пригласил, сэр, — сказал он и после короткой паузы добавил: — На свидание.
Папа побледнел, и я, собравшись с духом, шагнула вперед — спасать Руне.
— Поппи, ты мой новый герой, — шепнула мне на ухо Айда. — Посмотри на папу!
Я закатила глаза и рассмеялась. Саванна оттащила Айду назад, за угол, чтобы та не попалась на глаза, но, конечно, уходить они не стали. Такое зрелище мои сестренки не пропустили бы ни за что на свете.
Я подошла к двери, из последних сил сохраняя самообладание. Папа уже начал качать головой, но в последний момент увидел меня. И не просто увидел, а и заметил, что я одета в платье, накрашена, а в волосах у меня бант.
— Поппи? — Он побледнел еще сильнее.
Я вскинула голову.
— Привет, пап. — Открытая дверь по-прежнему скрывала от меня Руне, но его неясная темная фигура маячила за стеклянной панелью. Я даже уловила свежий запах, занесенный в дом прохладным ветерком.
Сердце заволновалось и прибавило ходу.
Папа кивком указал на Руне.
— Здесь Руне. И он, похоже, считает, что вы идете куда-то. — Сказано это было с недоверием, но за недоверием в его голосе мне послышалось сомнение.
— Да, — подтвердила я.
За спиной у меня зашептались сестры. Краем глаза я увидела маму, наблюдавшую за нами из полутемной гостиной.
— Поппи… — начал папа, но я решительно шагнула вперед и не дала ему закончить.
— Все в порядке. Не беспокойся. — Папа как будто оцепенел. Воспользовавшись его замешательством, я подошла к двери — поздороваться с Руне.
И сама застыла на месте.
Руне был во всем черном: черная футболка, джинсы, замшевые ботинки и черная байкерская куртка. Длинные волосы свешивались свободными прядями. Увидев меня, он поднял руку и отбросил их со лба. Сама его поза — он стоял, небрежно прислонившись к дверному косяку — выдавала самоуверенность и даже дерзость.
Его глаза под сведенными вместе русыми бровями вспыхнули. Взгляд медленно скользнул по мне — по желтому платью с длинными рукавами, по ногам — и вернулся к приколотому сбоку белому банту. Увиденное ему понравилось — ноздри дрогнули, зрачки мгновенно расширились.
Смутившись и покраснев под пристальным и тяжелым взглядом, я попыталась перевести дыхание. Воздух как будто сгустился и пропитался почти физически ощутимым напряжением. Мы виделись всего лишь несколько часов назад, но я вдруг поняла, что ужасно по нему соскучилась. Папа откашлялся. Я вздрогнула и, опомнившись, оглянулась и положила руку ему на плечо.
— Вернусь попозже, ладно, пап?
Не дожидаясь ответа, я поднырнула под руку, которой отец придерживал дверь, и вышла на крыльцо. Руне отклеился от косяка и, молча повернувшись, последовал за мной. Мы уже дошли до конца дорожки, когда я посмотрела на него, ожидая, когда же он заговорит, но он только еще сильнее стиснул зубы.
Я оглянулась — папа все еще стоял в дверном проеме и смотрел на нас с обеспокоенным выражением.
Руне тоже оглянулся, но никакой реакции не проявил и не произнес ни слова. Сунув руку в карман, он достал связку ключей и кивком указал на «Рейндж-Ровер», принадлежащий его матери.
— У меня машина.
И больше ни слова.
С бьющимся сердцем, не отрывая глаз от земли, я последовала за ним к автомобилю. А когда подняла голову, Руне уже открыл правую дверцу. И все мое волнение мгновенно улетучилось.
Он ждал меня, словно темный ангел, а когда я, улыбнувшись на ходу и покраснев от счастья, опустилась на сиденье, осторожно закрыл дверцу и сам сел с другой стороны.
По-прежнему не говоря ни слова, Руне повернул ключ и через ветровое стекло бросил взгляд на мой дом. С крыльца, застыв, как скала, на нас смотрел мой папа.
Руне поиграл желваками.
— Он всего лишь беспокоится обо мне, — объяснила я, первой нарушив молчание. Руне искоса посмотрел на меня, хмуро — на моего папу и вывернул на улицу. Чем дальше мы ехали, тем тягостнее становилось молчание.
Злость, казалось, шла от него волнами. Костяшки сжимавших руль пальцев побелели. Никогда еще мне не приходилось видеть человека, таящего в себе столько гнева. Печальная картина.
Как можно жить, день изо дня, с такими чувствами? С вечным ощущением развернувшейся в животе колючей проволоки. С вечно изнывающим от боли сердцем. Этого я представить не могла.
Собравшись наконец с духом, я повернулась к Руне и осторожно спросила:
— Ты в порядке?
Он сердито фыркнул, потом кивнул и отбросил волосы. Я посмотрела на его байкерскую куртку и улыбнулась.
Руне тут же вскинул правую бровь.
— Что?
Его глубокий, раскатистый голос эхом отозвался в моей груди.
— Ничего, — уклончиво ответила я.
Руне взглянул на дорогу и снова посмотрел на меня. После того как он еще несколько раз повторил свой вопрос, я решила, что смогла пробудить его любопытство.
Я провела ладонью по рукаву его куртки из искусственно состаренной кожи и почувствовала, как напряглись под моими пальцами мышцы.
— Теперь понятно, почему девчонки в городе сходят по тебе с ума. Мне сегодня Айда рассказывала. Мол, они все позеленеют от зависти, когда узнают, что ты пригласил меня на свидание.
Руне насупился, и его брови поползли вниз, а на лбу проступили морщинки. Получилось так забавно, что я рассмеялась. Он пожевал губами, и я снова не удержалась и громко хихикнула. В его глазах проскочили искорки.
Я вытерла глаза. Пальцы Руне сжимали руль уже не так крепко, желваки не бугрились на скулах, и брови вернулись на место.
Решив воспользоваться такой возможностью, я объяснила:
— С тех пор как я заболела, папа старается оградить меня от любых неприятностей. Он вовсе не испытывает к тебе неприязни — просто не знает, каким ты стал. Он даже не знал, что мы снова разговариваем.
Руне промолчал.
Больше разговорить его я не пыталась. Он снова впал в дурное расположение духа, но что с этим делать, я теперь не представляла, а потому уставилась в окно. Мы ехали куда-то, но куда? Усидеть спокойно не получалось, а в какой-то момент и тишина стала невыносимой. Я протянула руку, включила радио и, покрутив ручку настройки, отыскала музыкальный канал. Салон наполнили звуки моей любимой группы.
— Хорошая вещь. — Я откинулась на спинку сиденья, с удовольствием вслушиваясь в знакомую мелодию с неторопливым фортепьянным вступлением. На этот раз ведущий выбрал акустическую версию, и я тихонько запела сама.
Печальные, рвущие душу слова вплывали в уши и, пройдя через душу, срывались с губ. Вступившая струнная секция добавила чувственности своими нежными звуками, и я грустно улыбнулась.
Вот почему я так любила музыку. Только от музыки у меня захватывало дух, и только музыка могла столь глубоко и безупречно передать изложенную в песне историю.
Я открыла глаза и не обнаружила в голубых глазах Руне ни злости, ни гнева. Пальцы по-прежнему сжимали руль, но уже без напряжения, а в выражении лица появилось что-то, чего не было раньше.
Под его бесстрастным взглядом у меня пересохло во рту.
— Эта песня о девушке, которая отчаянно, всем сердцем любит юношу. Им приходится скрывать свою любовь, но ей такое положение не нравится. Она хочет, чтобы об их чувствах знал весь мир.
— Продолжай, — к полному моему изумлению попросил Руне.
Я посмотрела на него и увидела: да, ему нужно меня слышать.
И запела.
Голос у меня не сильный, поэтому я пела негромко, но искренне, с душой, проживая каждое слово, вкладывая в страстную мольбу собственные чувства.
Песня была о нас с Руне. Нашем расставании. Моем глупом плане — не впускать его в мою жизнь, уберечь от боли, — обернувшемся неожиданно болью и потерями для нас обоих. О том, как я любила его отсюда, из Америки, а он меня оттуда, из Осло, и все тайно.
Песня кончилась, и я открыла глаза, еще чувствуя горький вкус рассказанной истории. Заиграла другая, не знакомая мне песня. Я ощущала на себе пристальный, цепкий взгляд Руне, но не могла поднять голову.
Что-то мешало.
Я откинулась на спинку кресла, отвернулась к окну и негромко, почти только для себя, сказала:
— Люблю музыку.
— Знаю, что любишь. — Теперь его голос прозвучал твердо и ясно, но я уловила в нем намек, пусть и слабый, на нежность. На что-то мягкое и доброе. Заботливое. Я повернула голову и, когда наши взгляды встретились, не стала ничего говорить, а просто улыбнулась. Получилось как-то робко, но Руне тоже медленно выдохнул.
«Ровер» свернул налево и еще раз налево и покатил по темной проселочной дороге. Я не сводила глаз с Руне. Думала, какой он по-настоящему красивый. Представляла, каким он будет через десять лет. Конечно, возмужает. Раздастся в плечах. Оставит ли такие же длинные волосы? Чем займется в жизни? Чему себя посвятит?
Хорошо бы чему-то связанному с фотографией.
Раньше фотография была для него примерно тем же, чем для меня игра на виолончели. Она приносила ему душевное успокоение. Но после возвращения я с фотоаппаратом ни разу его не видела. И он сам сказал, что больше этим не занимается.
И вот эта новость опечалила меня больше всего.
Потом я сделала кое-что еще. Нечто такое, что уже давно сама себе запретила. Представила, как бы мы, вместе, выглядели через десять лет. Семейная пара. Апартаменты в нью-йоркском Сохо. Я готовлю в тесной кухоньке, пританцовывая под звучащую где-то на заднем фоне музыку. Руне сидит за столом, смотрит на меня и время от времени фотографирует. Документирует нашу жизнь. Вот он тянется ко мне и проводит пальцем по моей щеке. Я хлопаю его по руке и смеюсь. Ровно в тот момент, когда он нажимает на кнопку. Позже, ложась спать, я увижу эту фотографию на своей подушке.
Идеально схваченный момент во времени.
Любовь в застывшей жизни.
Я попыталась удержать этот образ и не удержала слезу. Несбыточный образ. Прежде чем упрятать его поглубже, я позволила себе ощутить мгновение боли. А потом — мгновение счастья: он удовлетворит свою страсть и станет фотографом. Я буду смотреть на него из своего нового небесного дома и улыбаться вместе с ним.
Руне ничего не заметил, он следил только за дорогой.
— Мне так недоставало тебя, — прошептала я. — Мне так тебя недоставало.
Он замер. Буквально застыл. Потом посигналил поворотником и съехал на обочину дороги. Я выпрямилась и посмотрела на него — что случилось? Мотор еще порыкивал под нами, но Руне убрал руки с руля и положил на колени. Какое-то время он молча смотрел на них, потом повернулся ко мне. Лицо его отражало какие-то внутренние терзания. Но оно смягчилось, как только наши глаза встретились.
— Мне тоже тебя недоставало, — хрипло выговорил он. — И я тоже по тебе скучал. Так скучал…
Он говорил правду. Мое сердце поверило ему и заколотилось так, что закружилась голова. Не зная, что еще сказать, я положила руку на приборную панель — раскрытой ладонью вверх. Несколько секунд Руне молчал, потом накрыл мою ладонь своей. Наши пальцы переплелись, и от этого прикосновения дрожь пробежала у меня по спине.
Вчерашний день смутил нас обоих. Никто не знал, что делать, куда двигаться, как найти путь назад — туда, к нам прежним. Это свидание было нашим новым стартом. Сплетенные руки — напоминанием. Напоминанием о том, что мы — Поппи и Руне. Что под всеми обидами и болью, под всем, что наслоилось за последние два года, остались мы, Поппи и Руне.
Двое влюбленных.
Две половинки одного сердца.
Меня совершенно не трогало, кто и что об этом скажет. Время было важно, но не столько для меня, сколько для Руне. Не разнимая рук, он включил мотор, и мы выехали на дорогу. А через секунду-другую я поняла, куда мы направляемся.
К бухте.
Мы подъехали к старому ресторану, веранду которого украшали гирлянды с голубыми лампочками, а возле расставленных под открытым воздухом столиков стояли большие электронагреватели. Машина остановилась, и я повернулась к Руне.
— Ты привез меня на свидание к бухте? В «Хижину Тони»?
Когда-то, когда мы были еще детьми, бабуля привозила сюда нас с Руне. И тоже, как сегодня, в субботу вечером. Ей страсть как нравились здешние лангусты, ради которых она с удовольствием ехала через весь город.
Руне кивнул. Я попыталась высвободить руку, но он не отпустил и даже нахмурился.
— Рано или поздно из машины нам придется выйти, — с невинным видом сказала я. — А для этого придется разнять руки.
Руне с видимой неохотой подчинился, еще больше при этом насупившись, и я, прихватив парку, выбралась из «Рейндж-Ровера» и захлопнула за собой дверцу. Он уже ждал меня и, не спрашивая разрешения, снова взял за руку.
Теперь я не сомневалась, что со свободой в этот вечер можно попрощаться.
Мы уже направились к входу, когда с воды повеяло зябким ветерком. Руне остановился, не говоря ни слова, снял с моей руки парку и, встряхнув, развернул, чтобы я смогла ее надеть.
Попытка протестовать результата не дала — его лицо накрыла тень, — и мне ничего не осталось, как со вздохом подчиниться. Я повернулась и сунула руки в рукава парки, а Руне, подойдя к делу с полной ответственностью, застегнул «молнию», обезопасив меня от стылого вечернего ветра.
Закончив, он не отступил и не убрал, как я ожидала, руки с моего воротника. Его дыхание, в котором ощущался аромат мяты, коснулось моих щек. В какой-то момент Руне поднял голову, и наши взгляды встретились. В его глазах промелькнула такая робость, что у меня мурашки высыпали на коже. Он наклонился и тихо спросил:
— Я говорил, что ты сегодня отлично выглядишь?
Звук его голоса, густо сдобренного акцентом, отозвался у меня в костях. Руне мог казаться спокойным и бесстрастным, но я хорошо знала его и понимала, что чем заметнее акцент, тем сильнее натянуты у него нервы.
— Нет, — прошептала я и покачала головой.
Он отвел глаза, а потом притянул меня за воротник к себе и, когда наши лица разделяли дюйм-другой, сказал:
— Ну так вот. Зашибись как отлично.
Мое сердце подпрыгнуло и взмыло в небеса. Ответить я смогла только улыбкой, но Руне хватило и этого. Даже более того.
Он наклонился еще немного и коснулся губами моего уха.
— Смотри, Поппимин, не замерзни. Я не могу допустить, чтобы ты разболелась.
Вся его сценка с паркой внезапно обрела смысл. Руне оберегал меня. Заботился обо мне.
— Хорошо, — прошептала я. — Раз уж тебе так хочется.
Он быстро вдохнул и на секунду зажмурился, а потом отступил, взял меня за руку и, не говоря ни слова, провел в «Хижину Тони» и попросил столик на двоих. Хостесс предложила выйти в патио, откуда открывался вид на бухту. Я была здесь несколько лет назад, но за это время ничего не изменилось. Тихая, спокойная вода, тишина — словно кусочек рая, спрятанный среди деревьев.
Хостесс остановилась перед столиком в задней части дворика. Я благодарно улыбнулась и уже собиралась сесть, но тут Руне произнес короткое «нет». Мы обе удивленно посмотрели на него, а он протянул руку, указывая на другой столик, самый дальний, стоявший у воды.
— Вот тот, — коротко, тоном не допускавшим возражений, добавил Руне.
Молоденькая хостесс тут же кивнула и едва заметно смутилась.
— Хорошо, — сказала она и повела нас через дворик.
Держа меня за руку, Руне последовал за ней, петляя между столиками. Девушки замечали его, провожали взглядами, и я, вместо того чтобы расстраиваться, пыталась стать на их место и посмотреть на него свежим глазом. Получалось плохо — уж слишком глубоко он впечатался в мою память, впитался в саму ткань моей личности, — но я старалась и старалась, пока не углядела то, что должно быть видели они.
Загадочный, непостижимый, мрачный.
Мой собственный плохой парень.
Положив на столик меню, хостесс повернулась к Руне.
— Все хорошо, сэр?
Он хмуро кивнул.
Девушка снова зарделась и, заверив нас в том, что официант сейчас подойдет, поспешила откланяться. Я посмотрела на Руне, но его взгляд блуждал по бухте. Прежде чем сесть, я высвободила руку, и он моментально встрепенулся и привычно нахмурился.
Его угрюмость вызвала у меня невольную улыбку. Руне опустился на стул, с которого ему открывался вид на бухту, но как только я села напротив, протянул руку, схватил мой стул за подлокотник и притянул к себе. Я даже вскрикнула от неожиданности.
Теперь мы сидели рядом и оба смотрели в сторону бухты. В груди потеплело от этого простого, но трогательного жеста, однако румянца на моих щеках Руне не заметил. Он вообще как будто ничего не заметил, потому что снова занялся моей рукой. Завладел ею. Сплел наши пальцы. Позаботился о том, чтобы никогда меня не отпускать.
Потом он привстал, установил на максимальную мощность обогреватель и, только когда за железной решеткой загудело пламя, позволил себе немного расслабиться. Медленно, словно гипнотизируя, поднял наши руки, прошелся губами по тыльной стороне моей ладони, и мое сердце растаяло.
Он не отводил глаз от воды. Место было красивое — деревья заботливо обступили бухту, словно укрывая ее защитным коконом, утки скользили по зеркальной глади, и цапли то падали стрелой вниз, то взмывали круто вверх, — но я смотрела только на моего Руне.
Что-то изменилось в нем с прошлой ночи. Но что? Я не знала. Резкость, угрюмость остались при нем. Осталась темная аура, словно предупреждавшая почти каждого держаться подальше.
Но теперь в его отношении ко мне появилось нечто собственническое. И острая грань этого нового отношения проскальзывала в его взгляде и ощущалась в том, как он сжимал мою руку.
И мне это нравилось.
Как ни скучала я по прежнему Руне, тому Руне, которого знала, этот другой, новый, вызывал и восхищение и интерес. Здесь, в месте, которое так много значило для нас обоих, мне было уютно и приятно в компании этого Руне.
Более того.
Я чувствовала, что снова живу.
Подошел официант, парень лет, может быть, двадцати с небольшим. Руне сжал пальцы, и мое сердце затрепетало.
Он ревновал.
— Всем привет. Выпьете что-нибудь для начала? — поинтересовался официант.
— Можно сладкого чаю? — спросила я и почувствовала, как рядом напрягся Руне.
— Рутбир, — рявкнул он, а когда официант отошел подальше, сердито добавил: — Только и пялился на тебя.
Я рассмеялась и покачала головой:
— Ты — сумасшедший.
Теперь пришла его очередь качать головой.
— Ты даже не представляешь.
— И что же сводит тебя с ума? — Я провела пальцами по шрамам на косточках его пальцев. Интересно, откуда они взялись?
Руне судорожно вздохнул.
— Ты такая красивая, — сказал он, следя за моим пальцем. Я остановилась, и Руне поднял глаза.
Я не нашлась, что ответить, и только смотрела на него.
По его губам скользнула знакомая кривая усмешка. Придвинувшись еще ближе, он прошептал:
— Ты, смотрю, так сладкий чай и пьешь?
Не забыл.
Я толкнула его в бок:
— А ты, смотрю, так и не отказался от рутбира.
Руне пожал плечами.
— В Осло его не было, так что теперь наверстываю упущенное. — Я улыбнулась и снова провела пальцем по его руке. — И это касается не только рутбира.
Я замерла, поняв, что он говорит обо мне.
— Руне… — Чувство вины давило, но когда я подняла голову, чтобы снова попытаться извиниться, к столику подошел с напитками официант.
— Вы уже готовы сделать заказ?
— Вареных крабов для двоих, — не сводя глаз с меня, сказал Руне.
Официант замялся, но после короткой напряженной паузы все же кивнул.
— Я передам ваш заказ, — пообещал он и удалился.
Взгляд Руне сместился на мои уши, и в уголке его губ снова заиграла усмешка. «Интересно, — подумала я, — что его так обрадовало?» Руне наклонился и, осторожно убрав с моего лица прядку волос, обвел пальцем контур уха и довольно выдохнул.
— Ты все еще носишь их.
Сережки.
Мои сережки-восьмерки.
— Постоянно, — подтвердила я в ответ на тяжелый взгляд Руне. — На веки вечные.
Руне опустил руку, но задержал пальцы на конце прядки.
— Ты постриглась. — Два слова — констатация факта, но я знала — это вопрос.
— Волосы отросли, — объяснила я и почувствовала, как он напрягся. Разрушать магию вечера разговорами о болезни или лечении не хотелось. Я наклонилась и прижалась лбом к его лбу. — Сначала выпали, потом отросли. — Я отстранилась и шутливо тряхнула бобом. — К тому же мне так нравится. И удобно. Подумать только, сколько лет мучилась с той копной.
Руне глухо усмехнулся. Я поняла, что ответ понравился, и продолжила в том же шутливом тоне:
— К тому же длинные волосы полагается носить только настоящим викингам. Викингам и байкерам. — Я наморщила нос и сделала вид, что разглядываю Руне. — Жаль, у тебя нет мотоцикла… — Он помрачнел, и я, не договорив, прыснула со смеху.
Руне притянул меня к себе и прошептал в самое ухо:
— Мотоцикл достать можно. Если ты так хочешь. И если это нужно, чтобы вернуть твою любовь.
Он так пошутил.
И я знала, что пошутил.
Но смех застрял в горле, и все мое веселье испарилось. Он моментально заметил перемену и хотел что-то сказать, но только сглотнул и промолчал.
Дав волю чувствам, я протянула руку и погладила Руне по щеке, а завладев полностью его вниманием, прошептала:
— Для этого вовсе не нужен мотоцикл.
— Нет? — так же шепотом спросил он.
Я покачала головой.
— Почему? — От волнения у него раскраснелись щеки. Похоже, вопрос стоил ему немалой доли столь ревностно оберегаемой гордости. Мне уже бросилось в глаза, что нынешний Руне вопросов задавать не любит.
— Потому что, — прошептала я едва ли не в самое его ухо, — нельзя вернуть то, что не терял.
Что же он сделает теперь? Затаив дыхание, я ждала ответа, хотя и не ожидала чего-то ласкового и нежного. Чего-то такого, от чего сердце замерло бы на вдохе, а душа затрепетала.
Он подался чуть вперед — ровно настолько, насколько требовалось — и поцеловал меня в щеку. А потом, отстранившись на чуть-чуть, мимолетно коснулся моих губ. Я замерла, надеясь на настоящий поцелуй. Такой, которого желала всем сердцем. Но Руне перешел с одной щеки на другую, наградив их тем, чего не досталось моим губам.
Когда он отстранился, мое сердце колотилось в груди большим басовым барабаном. Руне сел, но его пальцы в какое-то мгновение сжали мою ладонь немножко сильнее. Губы дрогнули, скрывая тайную улыбку.
Долетевший с бухты звук на секунду отвлек мое внимание — утка с криком вспорхнула над водой и устремилась в темное небо. Я заметила, что и Руне смотрит в ту же сторону, а когда он повернулся ко мне, шутливо сказала:
— Ты ведь уже викинг. Викингу мотоцикл ни к чему.
Теперь Руне улыбнулся. Непривычно для него широко — между губ мелькнули зубы. Какое достижение! И повод для гордости.
Официант принес заказанное блюдо, крабов, и поставил ведерки на накрытый бумажной скатертью столик. Руне неохотно выпустил мою руку, и мы приступили к делу — уничтожению горы морепродуктов. Вкус нежнейшего мяса в сочетании с взрывом лимонного сока обжег горло.
Я задохнулась от наслаждения.
Глядя на меня, Руне рассмеялся и покачал головой. Я бросила ему на колени кусочек крабового панциря — он нахмурился — и, вытерев руки о салфетку, посмотрела в высокое ночное небо. На безоблачном черном покрывале ночи зажглись яркие звезды.
— Ты видел что-нибудь столь же прекрасное, как эта бухточка? — спросила я. Руне тоже поднял голову, а потом перевел взгляд на растянувшиеся гирляндами по тихой воде отражения мигающих лампочек.
— Я бы ответил, что да, видел, — сухо ответил он, — но понимаю, что ты имеешь в виду. Живя в Осло, я иногда представлял это место и спрашивал себя, бываешь ли ты здесь без меня.
— Не бывала. Сегодня — в первый раз. Мама с папой небольшие любители крабов… в отличие от бабули. — Я улыбнулась, мысленно посадив бабушку рядом с нами. — Помнишь, она принесла с собой полную фляжку бурбона и подливала его в сладкий чай? — Мне вдруг стало смешно. — А помнишь, как она прижала палец к губам и сказала: — Но никому об этом не говорите. Я сделала доброе дело, когда спасла вас от церкви и привезла сюда. Так что не болтать!
Руне тоже улыбался, но при этом не спускал глаз с меня.
— Ты скучаешь по ней.
— Да, скучаю, — кивнула я. — Вспоминаю ее каждый день. Вспоминаю и спрашиваю себя, смогли бы мы, как собирались, съездить в Испанию — на забег с быками. Или в Италию — посмотреть Ассизи. — Я снова рассмеялась, а потом, успокоившись, добавила: — Но самое лучшее во всем этом то, что мы скоро увидимся. — Я посмотрела Руне в глаза. — Когда я вернусь домой.
Следуя примеру бабули, я никогда не задумывалась о том, что случится со мной после смерти. Конец. И начало чего-то великого. Моя душа вернется в родной дом.
Что мои слова расстроили Руне, я поняла лишь тогда, когда он поднялся со стула и прошел к небольшому пирсу неподалеку от нашего столика, пирсу, уходившему к середине бухты.
Снова появился официант. Руне закурил сигарету и растворился в темноте. Теперь его выдавали лишь поднимавшиеся в воздух облачка сизого дыма.
— Можно убрать? — осведомился официант.
— Да, пожалуйста. — Я улыбнулась и кивнула, поднимаясь из-за стола. Официант, заметив стоящего на пирсе Руне, удивленно посмотрел на меня. — И, будьте добры, принесите счет.
— Да, конечно, мэм.
Держа курс на крошечный огонек сигареты, я направилась навстречу Руне. Он стоял, прислонившись к перилам, и смотрел в никуда.
Мягкая складка на лбу. Напряженная спина. Он напрягся еще больше, когда я остановилась рядом, глубоко затянулся и выпустил струю дыма, которую тут же подхватил легкий ветерок.
— Что случится, то случится — я не могу не признавать этого, — тихо сказала я. Руне промолчал. — Жить в придуманной фантазии невозможно. Я знаю, что меня ждет. Знаю, как это будет.
Руне уронил голову. В тишине слышалось его хриплое, неровное дыхание.
— Это несправедливо, — обреченно пробормотал он.
Мое сердце сжалось от его боли. Боль перекосила его лицо, сковала мышцы. Я вдохнула свежий, прохладный воздух, подождала, пока его дыхание успокоится.
— Было бы по-настоящему несправедливо, если бы мы не получили в подарок несколько драгоценных месяцев.
Руне медленно склонил голову мне на руки.
— Неужели ты не можешь посмотреть на все это с другой точки зрения? Ты вернулся в Блоссом-Гроув всего лишь через несколько недель после того, как я приехала домой дожить оставшееся время. Насладиться теми немногими месяцами, что дало мне лечение. — Я снова посмотрела в небо и почти физически ощутила присутствие там чего-то большего, благосклонного и доброжелательного. — Ты считаешь это несправедливым. У меня противоположное мнение. Мы не просто так вернулись и встретились, а по какой-то причине. Может быть, это урок, который мы можем усвоить, если постараемся и сумеем.
Я повернулась и убрала упавшие на его лицо волосы. В лунном свете, под сияющими звездами по щеке Руне скатилась слеза.
Я вытерла ее поцелуем.
Руне ткнулся лбом в мое плечо. Я обняла его за шею, прижала к себе.
Руне судорожно вздохнул:
— Я привез тебя сюда сегодня, чтобы напомнить, как счастливы мы были когда-то. Как были неразлучны. Лучшие друзья и даже больше. Но…
Он не договорил. Я мягко отстранилась и заглянула ему в глаза:
— Что? В чем дело? Скажи мне. Не бойся.
Руне отвернулся, и его взгляд снова ушел куда-то вдаль, скользнув по тихой воде. Потом снова посмотрел на меня:
— А что, если мы здесь в последний раз?
Я втиснулась между ним и перилами, взяла из его пальцев сигарету и бросила в бухту. Потом приподнялась на цыпочках и сжала его лицо ладонями.
— У нас есть сегодня. — Руне удивленно моргнул. — У нас есть память. Есть этот чудесный миг. — Я ностальгически улыбнулась. — Когда-то я знала одного мальчика, которого любила всем сердцем и который жил одним мгновением. Который говорил мне, что один миг может изменить мир. Может изменить чью-то жизнь. В одну кратчайшую секунду полностью переменить чью-то жизнь к лучшему или худшему.
Руне закрыл глаза, но я продолжала:
— Сегодняшний вечер в этом чудесном месте, у этой бухты… с тобой… — Ощущение мира и покоя наполняло мою душу. — Воспоминания о моей бабушке, которую я так любила… Все это дал мне ты. Ты изменил мою жизнь к лучшему. И я запомню этот вечер навсегда. Я возьму его с собой… куда бы ни пошла.
Руне открыл глаза.
— Ты подарил мне этот вечер. Ты вернулся. Мы не можем изменить то, что есть. Мы не в силах изменить судьбу. Но мы можем жить. Жить в полную силу. Каждый из оставшихся дней. Мы снова можем быть теми, кем были: Поппи и Руне.
Я не думала, что Руне скажет что-нибудь в ответ, но он ответил, не только удивив меня, но и подарив невероятную надежду.
— Наше последнее приключение.
Лучше не скажешь.
— Наше последнее приключение, — прошептала я в ночь, ощутив вдруг прилив невероятной, небывалой радости. Руне обнял меня за талию. — С одной поправкой. — Он нахмурился, но я успокоила его следующей фразой: — Наше последнее приключение в этой жизни. Потому что я знаю и твердо верю — мы снова будем вместе. Даже когда это приключение закончится, другое, более интересное, ждет нас по ту сторону. Нет и не будет никакого рая, если ты не вернешься однажды ко мне.
Руне Кристиансен — шесть футов и четыре дюйма — прислонился ко мне, а я обняла его и держала в объятиях, пока он не успокоился. А когда Руне отстранился, спросила:
— Итак, Руне Кристиансен, норвежский викинг, ты со мной?
Он не удержался и рассмеялся. Рассмеялся, когда я протянула руку для рукопожатия. Руне, мой скандинавский плохой парень с лицом, вылепленным ангелами, сунул руку в мою ладонь, и мы скрепили наше взаимное обещание правильным, как учила меня бабуля, рукопожатием.
— Я с тобой, — сказал он, и эта клятва прошла через меня с головы до пят.
— Мэм, сэр?
Я выглянула из-за плеча Руне и увидела официанта, протягивавшего нам счет.
— Мы закрываемся, — объяснил он.
— Ты в порядке? — спросила я Руне, делая знак официанту, что мы идем.
Руне кивнул. Тяжелые брови сдвинулись к переносице, придавая лицу знакомое мрачное выражение. Я передразнила его, скорчив гримасу, и Руне, не сдержавшись, добродушно ухмыльнулся.
— Только ты. Поппимин, — произнес он, обращаясь больше к себе, чем ко мне, и мы, взявшись за руки, направились к ресторану.
Уже в машине, повернув ключ зажигания, Руне сказал:
— Есть еще одно место, куда надо съездить.
— Еще один памятный момент?
Машина свернула на дорогу, и он взял меня за руку.
— Надеюсь, что так, Поппимин. Надеюсь, что так.
В город возвращались довольно долго и почти не разговаривали. Мне показалось, что Руне держится даже тише, чем обычно. Дело не в том, что его и раньше никто бы не назвал экстравертом. Руне всегда был интровертом, спокойным и немногословным, и идеально воплощал образ мрачного художника, голова которого постоянно занята пейзажами, которые он хотел бы запечатлеть на пленке.
Моментами.
Мы проехали по дороге с милю или около того, когда Руне включил радио и попросил найти станцию, которую мне хотелось бы послушать. А когда я тихонько запела, чуть сильнее сжал мои пальцы.
Когда подъезжали к городу, я уже с трудом справлялась с зевотой, но изо всех сил старалась не уснуть. Хотелось узнать, куда же все-таки он меня везет.
Мы остановились перед театром Диксона, и я сразу ощутила знакомое волнение. Выступать здесь всегда было моей мечтой. Сюда я хотела вернуться когда-нибудь, чтобы играть в здешнем профессиональном оркестре. Вернуться музыкантом в родной дом.
Руне выключил мотор. Я уставилась на внушительное каменное здание.
— Что мы здесь делаем?
Руне отпустил мою руку и открыл дверцу.
— Идем со мной.
Я нахмурилась, но сердце колотилось так гулко, что оставаться в машине было уже невозможно. Открыв дверцу со своей стороны, я последовала за ним. Руне взял меня за руку и повел к главному входу.
Был поздний воскресный вечер, но двери оказались открытыми. Едва мы вошли в полутемное фойе, как откуда-то из глубины донеслись звуки знакомой мелодии Пуччини.
Я невольно сжала руку Руне, который посмотрел на меня сверху вниз с самодовольной ухмылкой.
— Куда мы идем?
Он приложил палец к губам, призывая меня молчать, и повернул к роскошной лестнице. Что еще такое? Пока я ломала голову, мы подошли к еще одной двери, которая вела на бельэтаж.
Руне толкнул ее, и на меня обрушилась волна музыки. Буквально задыхаясь под мощью звука, я прошла за ним к переднему ряду кресел. Внизу располагался оркестр. Мне хватило одного взгляда, чтобы узнать и режиссера, и музыкантов: камерный оркестр Саванны.
Я замерла на месте, всматриваясь в музыкантов, пожирая глазами их инструменты, покачиваясь в такт музыке. Потом повернулась к Руне.
— Как ты все это устроил?
Он пожал плечами:
— Хотел отвести тебя на настоящий концерт, но, к сожалению, они уезжают завтра в заграничное турне. Я объяснил дирижеру, как ты любишь музыку, и он разрешил поприсутствовать на репетиции.
У меня не было слов.
Я как будто лишилась дара речи. Просто онемела от счастья.
Не зная, как выразить в полной мере чувства, бесконечную признательность и благодарность, я опустила голову ему на плечо и уютно устроилась в его объятиях, вдыхая запах кожи и не сводя глаз с расположившихся внизу музыкантов.
Словно завороженная, я следила за тем, как дирижер руководит музыкантами, ведя каждого через лабиринт репетиции: соло, виртуозные пассажи, замысловатые гармонии.
Зачарованная, я опустилась в кресло, и Руне крепко обнял меня. Время от времени я ощущала на себе его взгляд — он наблюдал за тем, как я наблюдаю за ними.
Но оторвать глаза от оркестра оказалось выше моих сил. Особенно меня притягивала виолончельная секция. И когда зазвучали низкие тоны, я мечтательно закрыла глаза.
Это было прекрасно.
Я представила, ясно и отчетливо, как сама сижу среди них, моих товарищей-музыкантов, друзей, и смотрю в зал, заполненный слушателями, людьми, которых я знаю и люблю. И среди них Руне — с фотоаппаратом на шее.
Сбывшаяся мечта.
Я всегда, сколько помню себя, больше всего мечтала об этом.
Дирижер остановил репетицию. Я открыла глаза. Все, кроме первой виолончелистки, опустили инструменты. Женщина лет, наверно, тридцати с лишним выдвинула стул в центр сцены. Публики не было, нам никто не мешал.
Она устроилась на месте и застыла с поднятым смычком в ожидании сигнала, полностью сосредоточившись на дирижере. Он поднял палочку, и я услышала первую ноту. А услышав, замерла, не смея даже дышать. Я хотела слышать только мелодию, совершеннейшую из всех существующих.
Внизу зазвучали и устремились вверх, к нам, звуки «Лебедя» из «Карнавала животных» Сен-Санса. Наблюдая за исполнительницей, я видела, как ее лицо стало зеркалом музыки, как заиграло оно, выдавая чувства, рождавшиеся с каждой новой нотой.
Как же я хотела быть на ее месте. Как хотела быть этой виолончелисткой, идеально исполнявшей восхитительную пьесу. Хотела заслужить доверие, право дать это чудесное представление.
Все отошло на задний план, все растворилось. Я снова закрыла глаза, полностью погрузившись в музыку, целиком отдавшись звукам, позволив им унести меня с собой. Темп нарастал, вибрато отражалось эхом от стен.
Я открыла глаза.
И, как того желала музыка, из них полились слезы.
Руне сжал мою руку. Я ощущала его взгляд, его беспокойство, тревогу за меня. Он боялся, что я расстроилась. Но это было не так. Я не расстроилась — я воспаряла. Воспаряла всем сердцем вместе с этой блаженной мелодией.
Щеки промокли, но я не останавливала слезы. Вот почему музыка была моей страстью. Сотворенная из дерева, струн и смычка, волшебная мелодия пробуждала в душе жизнь.
Я не сдвинулась с места до самого конца, до самой последней, улетевшей к потолку ноты. Виолончелистка подняла смычок и только затем открыла глаза, отправив дух в тот уголок внутри себя, где его ждал покой и отдых. Потому что вот так она себя чувствовала. Я знала. Музыка унесла ее в некую даль, в одной только ей известное место.
На какое-то время музыка даровала ей такую силу.
Дирижер кивнул, и музыканты потянулись за кулисы, оставив опустевшую сцену во власти тишины.
Но я не повернула головы. Пока Руне не сел передо мной и мягко погладил по спине.
— Поппимин? — прошептал он настороженно и неуверенно. — Извини. Я думал, тебе понравится и…
Только тогда я повернулась к нему и взяла его руки в свои.
— Нет. Не извиняйся. Это слезы радости. Чистой радости.
Руне высвободил руку. Стер слезы с моих щек. Я рассмеялась, и смех разбежался эхом по залу.
— Это моя любимая пьеса, — объяснила я, откашлявшись и отогнав избыток эмоций. — «Лебедь» из «Карнавала животных». И та женщина, виолончелистка прекрасно ее исполнила. Идеально.
Я перевела дух.
— Мне всегда хотелось сыграть эту вещь на прослушивании при поступлении в Джульярдскую школу. Я представляла, как когда-нибудь исполню ее в Карнеги-холле. Я знаю ее от и до. Знаю каждую ноту, каждый переход, каждое крещендо… все. — Я шмыгнула носом и вытерла глаза. — Сегодня, слушая ее здесь, с тобой… Моя мечта сбылась.
Не найдя подходящих слов, Руне обнял меня за плечи, привлек к себе и поцеловал в лоб.
— Пообещай, Руне. Пообещай, что когда будешь в Нью-Йорке, когда будешь учиться в Школе искусств Тиш, ты обязательно сходишь на концерт Нью-Йоркского филармонического оркестра. Пообещай, что послушаешь, как они сыграют эту вещь. И пообещай, что, слушая ее, вспомнишь меня. Представишь, будто это я на сцене. Будто моя мечта исполнилась. — Я вздохнула, довольная нарисованной картиной. — Меня это вполне устроит. Просто знать, что я проживу свою мечту, пусть даже через тебя.
— Поппи, — с трудом, словно превозмогая боль, выговорил Руне. — Поппи, малышка… пожалуйста.
Он назвал меня «малышкой»! В моих ушах это слово прозвучало музыкой.
Я подняла голову, взяла его за подбородок и твердо повторила:
— Пообещай мне, Руне.
Он отвел глаза:
— Поппи, если тебя не будет со мной в Нью-Йорке, на кой черт он мне сдался?
— А фотография? Как у меня была моя мечта, так и у тебя — твоя. Ты ведь всегда хотел учиться в Нью-Йоркском университете.
Он стиснул зубы, и меня коснулась тень тревоги.
— Руне?
Не сразу, но он все же повернулся ко мне. Я обеспокоенно заглянула в его прекрасные глаза, и увиденное потрясло меня.
Неприятие.
— Почему ты не фотографируешь больше? — Он отвел глаза. — Пожалуйста, ответь мне.
Руне обреченно вздохнул:
— Потому что без тебя мир не был прежним. Все изменилось. Знаю, мы были едва ли не детьми, но без тебя все потеряло смысл. Я злился. Тонул. И да, я отказался от своей прежней страсти, потому что страсть умерла во мне.
Из всего, что он мог сказать или сделать, вот это опечалило меня сильнее всего. Потому что у него была мечта. И его снимки, даже те, что он делал в пятнадцать лет, отличались от всего, что мне доводилось видеть.
Я смотрела на него — жесткие черты, застывшие в трансе, устремленные на пустую сцену глаза. Напряжение сковало подбородок. Хмурая тень легла на лицо. Он снова отгородился стеной. Я не стала тормошить его, а только ткнулась головой в плечо и улыбнулась. Потому что музыка еще звучала у меня в ушах.
Огни на сцене погасли.
— Спасибо, — прошептала я и стала ждать, когда же он посмотрит на меня. И дождалась.
— Только ты знал про все это… — Я обвела жестом зал. — Знал, что оно для меня значит. Только ты, мой Руне.
Он прижался губами к моей щеке.
— Ты ведь был вчера на моем выступлении, да?
Руне вздохнул и в конце концов кивнул:
— Я не пропустил бы ни одного твоего выступления, Поппимин. Никогда. Ни за что на свете.
Он встал и молча протянул руку. Молча помог подняться. Молча отвел к машине. Потом мы молча поехали домой. Я думала, что, должно быть, задела его чем-то, обидела. Сделала что-то не так.
Когда мы приехали, Руне вылез из машины, обошел ее спереди, открыл дверцу с моей стороны и протянул руку. Я соскочила на землю, и он повел меня к дому, но не к двери, как я ожидала, а к окну. Вид у него был огорченный, и мне это не нравилось.
Но что все-таки не так? Я поднесла руку к его лицу, но едва коснулась щеки, как в нем словно что-то сломалось. Он вдруг прижал меня спиной к стене дома да еще и придавил всем телом.
В одно мгновение Руне оказался так близко, что я едва не задохнулась. Горящий взгляд голубых глаз блуждал по моему лицу.
— Я хотел, чтобы все было, как полагается. Не хотел спешить. Свидание… мы двое… сегодня… — Он покачал головой, и его лоб прорезали морщины, словно в душе его уже кипела битва. — Но я не могу. И не буду.
Я уже открыла рот, чтобы ответить, но он провел большим пальцем по моей нижней губе.
— Ты моя Поппи. Поппимин. Ты знаешь меня. Только ты знаешь меня. — Он взял мою руку и прижал ладонь к своей груди. — Ты знаешь меня даже такого, злого, как сейчас. — Он вздохнул и подступил еще ближе, так что теперь мы даже дышали одним воздухом. — И я знаю тебя. — Его лицо вдруг стало белым как мел. — Если у нас так мало времени, я не хочу тратить его попусту. Ты — моя. Я — твой. И к черту все остальное.
Сердце затрепетало в груди, словно исполняло арпеджио.
— Руне, — только и выдавила я. Мне хотелось крикнуть «да». Сказать, что он — мой, и я — его. И все остальное неважно. Но голос предал меня, и чувства придавили.
— Скажи, Поппимин, — требовал Руне. — Только скажи «да».
Он сделал последний шаг, и я оказалась в ловушке. Его жар смешался с моим жаром, его сердце билось в одном ритме с моим. Я вдохнула, и губы Руне нависли над моими, едва не касаясь их, выжидая, готовые овладеть ими полностью.
Я посмотрела ему в глаза — зрачки потемнели, и голубого в них почти не осталось. И тогда я сдалась и прошептала:
— Да.
Он впился в меня теплыми губами, такими знакомыми, такими решительными и знающими, чего они хотят. Его тепло и мятный запах заволокли все, смыли все ощущения. Вдавив меня грудью в стену, он овладел мною этим поцелуем. Он словно показывал, кому я принадлежу, и не оставлял иного выбора, как только подчиниться, уступить ему.
Его пальцы, проникнув через мои волосы, пригвоздили меня к стене. Я не могла даже пошевельнуться и только застонала, когда его язык, прорвавшись, устремился навстречу моему — горячий, мягкий, желанный. Мои руки скользнули по его широкой спине и утонули в волосах. Руне зарычал, не отрывая губ, углубляя поцелуй, унося меня все дальше от страхов и тревог, не дававших покоя со дня его возвращения. Он целовал меня, пока во мне не осталось даже крохотной частички, которая не знала бы, кому она принадлежит. Он целовал меня до тех пор, пока мое сердце не сплавилось с его сердцем, и они стали двумя половинками одного целого.
Я слабела, теряла силы под его прикосновениями, и Руне, почувствовав мою полную капитуляцию, сбавил и смягчился. И поцелуй уже не обжигал, а томил нежной лаской. Он отстранился, и наше тяжелое дыхание соединило нас дугой напряжения. Распухшие губы скользили по моим щекам, скулам, шее. А потом остались только быстрые и короткие касания дыхания на моем разгоряченном лице. Тиски его рук ослабли.
Он ждал.
Ждал, не сводя с меня пристального взгляда.
Я разлепила губы наконец и прошептала:
— Поцелуй триста пятьдесят седьмой. У стены моего дома… когда Руне завладел моим сердцем. — Он затих, сжав кулаки, а я закончила так: — И оно едва не разорвалось.
И тут оно случилось. Улыбка Руне. Ясная и чистая. Широкая и искренняя.
И мое сердце воспарило от радости.
— Поппимин, — прошептал он.
Я вцепилась в его рубашку:
— Мой Руне.
Веки его опустились, с губ сорвался едва слышный вздох. Он медленно опустил руки и неохотно отступил.
— Мне лучше войти, — прошептала я.
— Ja, — согласился он, но не отвернулся, а снова придавил меня к стене, поцеловал, нежно и коротко, и лишь потом отступил на пару шагов, так что нас разделило приличное расстояние.
Я потрогала губы:
— Если ты и дальше будешь так меня целовать, я и оглянуться не успею, как банка заполнится под самую крышку.
Руне уже направился к дому, но остановился и оглянулся через плечо:
— Хорошая мысль, малышка. Тысяча поцелуев от меня.
И он побежал к дому, а я смотрела ему вслед, и внутри меня, словно быстрый поток, разливалась головокружительная легкость. Мои ноги сдвинулись наконец с места и понесли сначала в дом, а потом прямиком в мою комнату.
В спальне я достала из-под кровати банку и вытерла ее от пыли. Потом отвернула крышку, взяла с ночной тумбочки ручку, достала розовое сердечко и записала сегодняшний поцелуй.
Через час, уже лежа в постели, я услышала, как открылось окно, и села. Шторы сдвинулись в сторону. Руне ступил на пол, и мое сердце едва не выпрыгнуло из груди.
Идя к кровати, он сбросил на ходу рубашку, и мои глаза поползли на лоб при виде его обнаженной груди. Он поднял руку, отбросил назад волосы, и мое сердце едва не разорвалось.
Руне медленно приблизился к кровати и остановился в ожидании. Я подвинулась и подняла край одеяла. Он тут же скользнул под него и обнял меня за талию. Я повернулась к нему спиной и, устроившись поудобнее, со вздохом закрыла глаза. Руне коснулся моей шеи нежным поцелуем и прошептал:
— Спи, малышка. Я с тобой.
Да, он был со мной.
А я с ним.
Глава 10
Сомкнутые руки и пробужденные мечты
Я открыл глаза и тут же встретился с взглядом Поппи.
— Привет. — Она улыбнулась и спрятала лицо у меня на груди. Я перебрал прядки ее каштановых волос, потом подтянул Поппи повыше, пока наши губы не оказались совсем близко.
— С добрым утром, — ответил я и прижался губами к ее губам.
Поппи тихо вздохнула и ответила на поцелуй, а когда я отстранился, посмотрела в окно и заметила:
— Мы пропустили рассвет.
Я кивнул. Тем не менее, когда Поппи снова повернулась ко мне, никакого сожаления в ее глазах не было. Она поцеловала меня в щеку:
— Согласна пропускать все рассветы, лишь бы просыпаться вот так, рядом с тобой.
От этих слов у меня сжалось сердце. Неожиданно для Поппи я опрокинул ее на спину и навис над ней, прижимая руки к подушке. Оказавшись в ловушке, Поппи хихикнула.
Я насупился. Поппи безуспешно пыталась сдержать смех.
Ее щеки порозовели. Поцелуй был нужен мне сильнее воздуха, и я снова прижался к ее губам и отпустил руки. Поппи тут же зарылась пальцами в мои волосы. Поцелуй продолжался, и смех ее звучал все тише. А потом раздался громкий стук в дверь. Так и не разорвав губ, мы оба замерли, испуганно глядя друг на друга.
— Поппи, пора вставать, солнышко! — послышался голос ее отца. Я чувствовал, как колотится ее сердце, эхом отдаваясь в моей груди.
Поппи повернула голову, обрывая поцелуй.
— Я проснулась! — крикнула она. Мы не смели шевельнуться, пока не услышали удаляющиеся шаги.
Она уставилась на меня вытаращенными глазами, прошептала «Боже мой!» и снова захихикала как сумасшедшая.
Тряхнув головой, я сел на край постели и поднял с пола свою черную футболку. Поппи обняла меня сзади за плечи и вздохнула:
— Сегодня мы заспались. И едва не попались.
— Больше такого не случится. — Мне не хотелось, чтобы Поппи придумывала предлог, как покончить с этим. Прошлой ночью я должен был остаться с ней. Должен был. И ничего не случилось. Мы просто целовались, а потом заснули.
И мне этого хватило.
Поппи согласно кивнула, после чего уткнулась подбородком мне в плечо, обвила руками и прошептала:
— А мне понравилось.
Поппи снова рассмеялась. Я чуть повернул голову и посмотрел в ее лучащееся радостью лицо. Она игриво кивнула и, немного отстранившись, прижала мою руку к своей груди. Под моей ладонью билось ее сердце.
— Снова чувствую себя живой.
Теперь уже я засмеялся и покачал головой:
— Ты рехнулась.
Я поднялся и надел ботинки. Поппи села на кровати:
— Знаешь, я никогда раньше не делала чего-то плохого или неправильного. Всегда была хорошей девочкой.
Я нахмурился при мысли, что мог совратить ее. Но Поппи подалась вперед и сказала:
— Было здорово.
Откинув волосы с лица, я наклонился над кроватью, чтобы запечатлеть на ее губах последний поцелуй, мягкий и нежный.
— Руне Кристиансен, возможно, я и полюблю в тебе этого плохого парня. По крайней мере, следующие несколько месяцев с тобой я точно не соскучусь, — Поппи театрально вздохнула: — Сладкие поцелуи и опасные шалости… То, что нужно!
Я шагнул к окну и услышал, как Поппи встала с кровати, и прежде чем выскользнуть на улицу, оглянулся и задержался на секунду. Она заполняла два пустых сердечка из своей банки и чему-то улыбалась.
Такая красивая.
Положив заполненные сердечки в банку, Поппи повернулась ко мне и замерла. Потом поняла, что я наблюдал за ней, и ее взгляд смягчился. Она хотела что-то сказать, но в этот момент ручка на двери начала поворачиваться. Поппи округлила глаза и замахала руками, чтобы я скорее уходил.
Выпрыгнув в окно, я бросился бежать. За спиной звенел ее смех. Лишь что-то столь чистое могло развеять тьму в моем сердце.
Я забрался в комнату через окно и направился в душ — освежиться перед школой. Вскоре ванную наполнили клубы пара.
Положив ладони на гладкий плиточный кафель стены, я наклонился, чтобы тугие струи воды били прямо в затылок. Каждый день, стоило только проснуться, мною овладевала злость. И я ничего не мог с этим поделать — чувствовал ее горький вкус на языке, ее жар струился по венам.
Но сегодняшнее утро было другим.
И все из-за Поппи.
Подняв голову, я выключил воду и потянулся за полотенцем. Надел джинсы. Открыл дверь ванной. В дверях моей комнаты стоял отец. Услышав, как я выхожу из ванной, он обернулся:
— Доброе утро, Руне.
Я прошел мимо него, к шкафу. Достал и надел белую футболку. Потянувшись за ботинками, заметил, что отец все еще стоит на пороге.
— Что? — резко спросил я.
Папа прошел в комнату с кружкой кофе в руке.
— Как твое свидание с Поппи?
Я не ответил. Отец ничего не знал об этом свидании, а значит, о нем ему рассказала мама. Отвечать я не собирался — не заслужил.
Отец откашлялся:
— Руне, вчера вечером после того, как ты ушел, приходил мистер Личфилд.
И она вернулась. Накатила стремительным потоком, закружила. Злость. Я вспомнил лицо мистера Личфилда, когда он открыл дверь вчера. Как смотрел нам вслед, когда мы уезжали. Ему это не нравилось, он не хотел отпускать Поппи со мной. Еще немного — и запер бы ее дома.
Но когда Поппи вышла, я понял, что он готов позволить ей все что угодно. Да и что ему оставалось? Ведь он терял дочь. И только это удержало меня от того, чтобы высказать все, что я думаю по поводу его возражений насчет нас с Поппи.
Отец подошел ближе и остановился передо мной. Я уперся взглядом в пол.
— Мистер Личфилд беспокоится, Руне. Ему не очень нравится, что вы с Поппи снова вместе. Считает, что это не самая лучшая идея.
Я скрипнул зубами:
— Не самая лучшая для кого? Для него?
— Для Поппи. Ты знаешь… ты ведь знаешь, что ей осталось не так уж много…
Я вскинул голову. Внутри полыхнул гнев.
— Да, знаю. Такое не забудешь. Что девушка, которую я люблю, умирает.
Отец побледнел:
— Джеймс просто не хочет неприятностей для нее в последние дни. Пусть все пройдет спокойно. Тихо. Без стресса.
— Дай-ка догадаюсь. Неприятности — это я, да? И стресс — тоже я?
Отец вздохнул:
— Мистер Личфилд просит тебя держаться от нее подальше. Дать ей уйти без ненужных сцен.
— Не дождетесь. — Я подхватил с пола рюкзак, натянул кожаную куртку и, обойдя отца, направился к выходу.
— Руне, подумай о Поппи.
Я замер и резко повернулся:
— Она — все, о чем я думаю. Ты и понятия не имеешь, что между нами происходит, так что почему бы тебе не перестать совать свой нос в мои дела? Это касается и Джеймса Личфилда.
— Поппи — его дочь! — возразил папа, и теперь его голос прозвучал жестче, чем прежде.
— Да. А еще она любовь моей жизни. И я не брошу ее даже на секунду. И вы с Личфилдом ничего с этим не сделаете.
Я бросился прочь из комнаты.
— Ты ей не пара, Руне! — крикнул мне вслед отец. — Не пара! Ты куришь, пьешь. А твое отношение к жизни? Груб, заносчив, из-за всего лезешь на рожон. Девушка тебя боготворит, всегда боготворила. Но она хорошая. Не испорти ей жизнь!
Я остановился и бросил через плечо:
— А вот мне точно известно, что ей в жизни как раз таки и не хватает плохого парня.
Я быстро прошел мимо кухни, бросив беглый взгляд на маму и Элтона, который помахал мне рукой. Хлопнул дверью, спустился с крыльца и торопливо закурил. Прислонился спиной к поручню крыльца. После отцовских слов я весь был как натянутая струна. И мистер Личфилд туда же. Хочет, чтобы я держался подальше от его дочери.
И что, по его мнению, я с ней сделаю?
Я знал, каким все меня считают, что обо мне думают, но никогда в жизни я бы не сделал Поппи ничего плохого. Никогда.
Дверь ее дома открылась. Оттуда выбежали Саванна и Айда, а следом за ними и Поппи. Все трое о чем-то разговаривали между собой. Потом, словно почувствовав на себе мой тяжелый взгляд, Поппи посмотрела в сторону нашего дома и заметила меня.
Сестры проследили за ее взглядом. При виде меня Айда улыбнулась и помахала рукой. Саванна, точно так же как ее папочка, смотрела на меня с молчаливой тревогой.
Я кивнул Поппи, и она медленно направилась ко мне. Айда и Саванна не отставали. Поппи была красива, как и всегда. Красная юбка до середины бедра, черные колготки, замшевые ботинки без каблука. Темно-синее пальто. Под ним виднелась белая блузка и черный галстук.
Просто прелесть.
Поппи остановилась передо мной. Девочки держались чуть поодаль. Я должен был удостовериться. Получить подтверждение, что она моя, что мы вместе. Я оттолкнулся от поручня и бросил сигарету на землю. Взял лицо Поппи в свои ладони, притянул ее к себе и поцеловал. В этом поцелуе не было нежности. Мне он требовался для другого. Я ставил клеймо, помечал Поппи. Давал всем понять, что она — моя.
А я — ее.
Этот поцелуй был средним пальцем, выставленным для всех, кто попытался бы встать у нас на пути. Я отстранился. Щеки Поппи горели румянцем, губы припухли.
— Отправь его в свою банку, — предупредил я.
Сбитая с толку, Поппи растерянно кивнула. Позади послышалось хихиканье. Смеялись сестры. Точнее, Айда. Саванна только глазела на нас, открыв рот.
— Ты готова? — Я сжал руку Поппи в своей.
— Мы так и пойдем в школу? — спросила она.
— Да, — нахмурился я. — А что?
— Но тогда все узнают. Все будут говорить и…
Я снова прижался к ее губам и, отстранившись, сказал:
— Так пусть говорят. Раньше ты о таком не волновалась. И не начинай.
— Они решат, что мы снова вместе.
Это начинало меня злить.
— Так и есть, — твердо произнес я.
Поппи моргнула. Потом моргнула еще раз. А потом улыбнулась, начисто гася мой гнев, взяла меня под руку и прижалась головой к моему плечу.
— Тогда да, я готова, — сказала она и посмотрела на меня снизу вверх.
Я задержал взгляд на ее лице. Пусть наш поцелуй и был вызовом для всех, кто не хотел видеть нас вместе, но ее улыбка показывала средний палец тьме внутри меня.
Саванна и Айда подбежали к нам, и мы всей компанией направились в школу. Перед самым поворотом к вишневой роще я обернулся через плечо. Мистер Личфилд смотрел нам вслед. Лицо его было темнее тучи, и я напрягся, но стиснул зубы. Эту битву ему не выиграть.
Всю дорогу до своей школы Айда трещала без умолку. Поппи смеялась и с нежностью посматривала на младшую сестренку. И я понимал почему. Айда была миниатюрной копией Поппи. Вплоть до ямочек на щечках.
Саванна была совсем другой. Замкнутой, вдумчивой. Готовой ревностно защищать и оберегать старшую сестру.
Помахав нам рукой на прощание, Саванна повернула к своей школе.
— Такая тихая сегодня, — заметила Поппи, провожая ее взглядом.
— Это из-за меня, — сказал я.
Поппи недоуменно покачала головой.
— Нет, — возразила она. — Ты ей нравишься.
Я стиснул зубы, а потом пожал плечами:
— Ей нравился прежний Руне. Понимаю. Она беспокоится, как бы я не разбил тебе сердце.
Поппи потянула меня под дерево рядом с входом в нашу школу. Мы остановились, и я отвел глаза.
— Что случилось? — спросила Поппи.
— Ничего.
— Ты не разобьешь мне сердце, — произнесла она со стопроцентной уверенностью. — Парень, который возил меня в бухту, а потом послушать оркестр, не может его разбить.
Я молчал.
— Кроме того, если мое сердце разобьется, с твоим случится то же самое, помнишь?
Я раздраженно фыркнул. Поппи толкнула меня, прижимая спиной к дереву. Я видел заходящих в школу учеников. Большинство во все глаза пялились на нас. Многие уже начали перешептываться.
— Ты можешь сделать мне больно, Руне? — требовательно спросила Поппи.
Пораженный таким упорством, я заглянул в ее глаза:
— Никогда.
— Тогда к черту всех тех, кто считает иначе.
Я рассмеялся, тронутый ее горячностью. Поппи улыбнулась и, подбоченясь, поинтересовалась:
— Ну, как я тебе? Гожусь в плохие девчонки?
Неожиданно для Поппи я схватил ее за плечи и поменял нас местами, прижав ее к дереву. Прежде чем она успела что-либо сказать, я накрыл ее рот поцелуем. Неторопливым, глубоким. Губы Поппи раскрывались, пропуская мой язык. Я ощутил ее сладкий вкус и отстранился.
Поппи тяжело дышала.
— Я знаю тебя, Руне. Ты не обидишь меня, — сказала она, зарываясь пальцами в мои влажные волосы, после чего сморщила нос и с легкой улыбкой добавила: — Жизнь даю.
В моей груди медленно зарождалась боль.
— Не смешная шутка.
— Смешная. — Поппи вытянула большой и указательный палец, оставив между ними небольшой промежуток. — Немножко.
Я тряхнул головой:
— Ты знаешь меня, Поппимин. Только ты. Знаешь таким, какой я есть для тебя. Только для тебя.
Поппи одарила меня пристальным взглядом.
— Возможно, в этом и заключается проблема, — сказала она наконец. — Если бы ты пустил в свой мир других людей… Если бы показал тем, кто тебе дорог, другого тебя, того, что скрыт за всей этой темной одеждой и мрачным видом, они не стали бы судить тебя так строго. Увидев твою истинную душу, они бы приняли тебя таким, каким ты предпочитаешь быть.
Я молчал, а Поппи продолжала:
— Например, Элтон. Какие у тебя с ним отношения?
— Он еще ребенок, — ответил я, не понимая, что Поппи имеет в виду.
— Он маленький мальчик, который просто обожает тебя. Маленький мальчик, который грустит оттого, что ты не разговариваешь с ним, не проводишь с ним время.
— Откуда ты знаешь?
— Он сам мне это сказал, — ответила Поппи. — Его это очень расстраивает.
Я представил плачущего Элтона и тут же отогнал этот образ. Мне не хотелось об этом думать. Возможно, мы не особо ладили, но я не хотел бы видеть его слезы.
— Знаешь, почему он носит длинные волосы? Почему отбрасывает их точь-в-точь, как ты? У него это здорово получается.
— Элтон носит длинные волосы потому, что он норвежец.
Поппи закатила глаза:
— Не каждый мальчик-норвежец носит длинные волосы. Не говори глупости. Он подражает тебе, хочет быть похожим на тебя. Копирует твои привычки и манеры. Хочет, чтобы ты его заметил. Он тебя обожает.
Я опустил голову, уставившись в землю. Поппи взяла в ладони мое лицо и заставила посмотреть ей в глаза.
— А твой папа? Почему ты…
— Хватит! — грубо оборвал я, не желая говорить еще и об отце. Он увез меня от Поппи, и я знал, что не прощу его никогда. Эта тема была под запретом. Даже для Поппи. Впрочем, моя злобная вспышка нисколько ее не обидела и не задела. На ее лице я видел лишь сочувствие.
И это было выше моих сил.
Взяв Поппи за руку и не говоря ни слова, я потянул ее к школе. На нас не просто смотрели, а таращились, и Поппи крепко сжала мою руку.
— Пусть смотрят, — сказал я, когда мы прошли школьные ворота.
— Хорошо, — ответила она.
В коридоре, у шкафчиков, собралась наша компания — Дикон, Джадсон, Джори, Эвери и Руби. Ни с кем из них я не разговаривал с той самой вечеринки в доме Джадсона.
Никто из них не знал, что мы с Поппи снова вместе.
Первой нас заметила Джори, и глаза ее округлились. Должно быть, она что-то сказала, потому как через пару секунд все повернулись в нашу сторону. На их лицах застыло замешательство.
— Пойдем, — сказал я Поппи, — нам лучше поговорить с ними.
Я уже направился к шкафчикам, когда Поппи потянула меня назад.
— Они не знают о… — прошептала она так, что только я один мог ее услышать. — Знают только наши семьи и учителя. И ты.
Я медленно кивнул.
— И Джори, — добавила Поппи. — Джори тоже знает.
Вот так новость.
— Мне было нужно кому-то рассказать, — объяснила Поппи, должно быть, заметив что-то в моем лице. — После тебя она была моим самым близким другом. Помогала с домашними заданиями… и вообще.
— Но ты рассказала ей, а не мне, — возразил я, борясь с желанием немедленно выйти на свежий воздух.
Поппи крепко держала меня за руку:
— Она не любила меня так, как ты. И я не люблю ее так, как люблю тебя.
Всю мою злость словно рукой сняло… И я не люблю ее, как люблю тебя…
Я обнял ее рукой за плечи:
— Когда-нибудь они все равно узнают.
— Но не сейчас, — твердо возразила Поппи.
— Не сейчас, — согласился я, видя ее решимость.
— Руне? Иди-ка сюда! С тебя объяснение! — прогремел голос Дикона.
— Ты готова? — спросил я у Поппи.
Она кивнула. Я провел ее к нашей компании. Поппи держала руку у меня на поясе.
— Значит, вы снова вместе? — спросил Дикон.
Я кивнул, неприязненно отметив, как исказилось от ревности лицо Эвери. Она заметила это и тут же натянула свою обычную маску циника. Мне было все равно. Эвери никогда ничего для меня не значила.
— Значит, Поппи и Руне снова вместе? — уточнила Руби.
— Да, — ответила Поппи, с улыбкой посмотрев на меня снизу вверх. Я обнял ее крепче и поцеловал в лоб.
— Что ж, похоже, мир снова пришел в равновесие, — объявила Джори и, протянув руку, ободряюще сжала плечо Поппи. — Когда вы расстались, у меня было такое чувство, что это… как-то неправильно. Как будто вселенная… того… перекосилась.
— Спасибо, Джо, — ответила Поппи. Они молча переглянулись, и я заметил в глазах Джори слезы.
— Что ж, — тут же воскликнула она, — мне пора на урок. Пока! Увидимся позже!
Джори убежала, и Поппи направилась к своему шкафчику. Я не обращал внимания на преследовавшие нас взгляды. Поппи достала учебники и захлопнула шкафчик. Я подошел ближе, прижав ее спиной к закрытой дверце.
— Видишь? Все прошло неплохо.
— Неплохо, — эхом отозвалась Поппи. Я увидел, как она смотрит на мои губы, и, наклонившись, поцеловал ее. Поппи тихонько застонала. Когда я отстранился, ее глаза светились, а на щеках горел румянец.
— Поцелуй триста шестидесятый. Возле моего школьного шкафчика. Чтобы показать всему миру, что мы снова вместе… и мое сердце едва не разорвалось.
Я отступил, чтобы она отдышалась, и направился к своему классу математики.
— Руне? — Я обернулся и вскинул подбородок. — Чтобы заполнить банку, мне потребуется еще много таких моментов.
Целовать ее при каждой возможности? От этой мысли меня окатило жаром. Прочитав что-то на моем лице, Поппи и сама зарделась, а когда я отвернулся, снова меня окликнула:
— И еще…
Я усмехнулся:
— Ja?
— Какое твое любимое место здесь, в Джорджии?
Я не совсем понял выражение ее лица, но в ее милой головке явно творилось что-то из ряда вон. Поппи что-то обдумывала. Я это чувствовал.
— Вишневая роща весной. — Одно только воспоминание об этом месте сняло все напряжение.
— А в другое время года? — спросила Поппи.
Я пожал плечами:
— Возможно… пляж. А что?
— Да так, — пропела Поппи и зашагала в противоположном направлении.
— Увидимся за обедом, — крикнул я.
— Мне нужно попрактиковаться в музыкальной, — прокричала она в ответ.
Я остановился:
— Тогда я приду посмотреть.
Лицо Поппи осветила радостная улыбка:
— Тогда приходи посмотреть.
Мы стояли в противоположных концах коридора и просто смотрели друг на друга.
— На веки вечные, — произнесла Поппи одними губами.
— Вместе навсегда, — одними губами произнес я.
Неделя пролетела незаметно.
Раньше я просто не обращал внимания на время — проходит ли оно быстро или медленно. Но не теперь. Теперь мне хотелось, чтобы минута тянулась целый час, а час длился целый день. Но, несмотря на все мои безмолвные молитвы тому, кто там, наверху, время неслось слишком быстро. И вообще все летело слишком быстро.
Спустя несколько дней всеобщий ажиотаж в школе, вызванный нашим с Поппи воссоединением, окончательно угас. Большинство этого не принимало, но я не обращал внимания. Я знал, о чем толкуют в нашем маленьком городке. Главным образом о том, как и почему мы с Поппи снова сошлись.
На это мне тоже было плевать.
Звонок в дверь застал меня на кровати. Скатившись с нее, я поднялся и по пути прихватил со спинки стула куртку. Сегодня Поппи вела меня на свидание.
Она вела меня на свидание.
Утром, когда я встал с ее постели, Поппи попросила меня быть готовым к десяти. Что, почему — объяснений не последовало, но я сделал, как было велено.
Поппи знала, что так и будет.
Выйдя из комнаты и пройдя по коридору, я услышал ее голос:
— Привет, малыш, как поживаешь?
— Хорошо, — застенчиво ответил Элтон.
Повернув за угол, я остановился. Поппи сидела на корточках перед Элтоном, чтобы быть с ним на равных. Длинные волосы закрывали его лицо. Я видел, как братишка нервно откинул их назад… в точности, как это делал я. И в памяти тут же всплыли слова Поппи, сказанные на прошлой неделе…
Он подражает тебе, хочет быть похожим на тебя. Копирует твои привычки и манеры. Хочет, чтобы ты его заметил. Он тебя обожает.
Я смотрел, как мой маленький брат застенчиво перекатывается с пятки на носок, и, едва сдержавшись, криво усмехнулся от умиления. Он был таким же тихим и застенчивым, как и я. Никогда не заговаривал первым.
— Что собираешься сегодня делать? — спросила его Поппи.
— Ничего, — угрюмо ответил Элтон.
Улыбка Поппи тут же угасла.
— Вы с Руне сегодня снова идете гулять? — спросил Элтон.
— Да, малыш, — тихо ответила Поппи.
— Теперь он с тобой разговаривает? — поинтересовался мой брат. И я услышал. Услышал в его тихом голосе ту грусть, о которой говорила Поппи.
— Да, разговаривает, — сказала Поппи и провела пальцем по его щеке, как иногда проводила по моей. Элтон смущенно опустил голову, но я успел заметить тень улыбки в уголке губ.
Поппи подняла глаза и увидела, что я наблюдаю за ними. Она медленно выпрямилась, а я шагнул к ней, взял за руку и притянул к себе.
— Ты готов? — спросила Поппи.
Одарив ее подозрительным взглядом, я кивнул:
— Ты ведь не скажешь мне, куда мы направляемся, верно?
Поппи лукаво поджала губы и помотала головой. Взяв меня за руку, она направилась к двери.
— До свидания, Элтон!
— До свидания, Поппимин, — тихо ответил тот. Услышав, как с губ моего брата слетело это ласковое прозвище, я застыл на месте. Поппи накрыла рот ладошкой. Я видел, как она прямо-таки тает от умиления.
Поппи пристально посмотрела на меня. Она хотела, чтобы я сказал что-нибудь брату, и я нехотя повернулся к нему.
— Пока, Руне, — сказал Элтон.
Поппи стиснула мою руку — ну же, давай.
— Пока, Элт, — неуклюже ответил я. Элтон вскинул голову и широко улыбнулся. Все потому, что я просто попрощался.
Сердце болезненно сжалось. Я повел Поппи вниз по ступеням крыльца и затем к машине ее мамы. Когда мы остановились, Поппи не отпустила мою руку, а дождалась, пока я посмотрю на нее. После чего склонила голову набок и заявила:
— Руне Кристиансен, я чертовски тобой горжусь.
Чувствуя себя неуютно от такой похвалы, я отвел взгляд. Поппи тяжко вздохнула и наконец-то отпустила мою руку и села в машину.
— Может, уже скажешь, куда направляемся? — спросил я.
— Нет, — ответила Поппи, выезжая на дорогу. — Хотя ты и сам скоро догадаешься.
Я включил радиостанцию, которую Поппи обычно слушала, и откинулся на спинку сиденья. Салон заполнил мягкий голос Поппи. Она подпевала очередной не известной мне песенке. Вскоре я уже не обращал внимания на дорогу за окном и смотрел лишь на Поппи. Как и при игре на виолончели, на ее щечках проступили ямочки. Она улыбалась, напевая любимые строки, и качала головой в ритме песни.
У меня закололо в груди.
Этому не было конца. Я видел ее беззаботной и счастливой — и меня переполнял ярчайший свет. Но осознание того, что наше время ограничено, что оно имеет предел, истекает, вызывало тьму.
Непроглядную, кромешную тьму.
И злобу. Никогда не покидавшая меня злоба была словно пружиной, готовой разжаться в любую минуту.
Наверное, Поппи заметила мои страдания, потому как ее рука вдруг легла мне на колено. Я посмотрел вниз. Ее рука лежала ладонью вверх, пальцы были готовы переплестись с моими.
Я глубоко выдохнул и пропустил свои пальцы меж пальцами Поппи. Я не мог смотреть на нее. Не мог так поступить с ней.
Я знал, как Поппи себя чувствует. Хотя рак и выпивал из нее жизнь, убивал ее не он, а боль, которую испытывали члены семьи и те, кто любил ее. Ее ярко-зеленые глаза тускнели, когда я замолкал, когда расстраивался. Позволяя злости и гневу поглотить себя, я видел в лице Поппи усталость.
Усталость от того, что она стала причиной такой сильной боли.
Крепко сжав ее руку, я посмотрел в окно. Пробираясь по лабиринту улочек, мы выезжали из города. Я поднес наши переплетенные руки к губам и запечатлел на мягкой коже поцелуй. А потом мы миновали дорожный знак, и тяжесть в моей груди исчезла. Я повернулся к Поппи.
Она уже улыбалась.
— Ты привезла меня на пляж.
— Да, — кивнула Поппи. — Твое второе любимое место.
Я вспомнил вишневые деревья нашей рощи. Представил их в цвету и нас с Поппи, сидящих под нашим любимым деревом. И, как бы это ни было странным для меня, помолился за то, чтобы Поппи смогла протянуть до весны. Она должна увидеть эти деревья в полном цвету.
Ей просто необходимо продержаться.
— Я смогу, — вдруг прошептала Поппи. Я посмотрел ей в глаза, и она сжала мою руку, словно услышав мою немую мольбу. — Я увижу их. Я приняла решение.
Между нами повисло молчание. Я мысленно посчитал время до начала цветения деревьев, и у меня в горле встал ком. Почти четыре месяца.
Всего ничего.
Рука Поппи напряглась, в лице снова проступила боль. Ей было больно, потому что было больно мне.
Проглотив вставший в горле комок, я сказал:
— Значит, сможешь. Если ты решила, ничто тебе не помешает.
Словно по волшебству от боли не осталось и следа, а лицо озарила светлая радость.
Я откинулся на спинку сиденья и повернулся к окну — мир пролетал смазанным пятном. И, уже погрузившись глубоко в свои мысли, услышал:
— Спасибо.
Это прозвучало едва слышно. Крохой шепота. Почувствовав, как рука Поппи расслабилась, я закрыл глаза.
Промолчал. Поппи этого не хотела.
По радио заиграла другая песня, и ее голос снова зазвучал, словно ни в чем не бывало. И на этот раз ничто не помешало ей петь. Остаток поездки я держал Поппи за руку, пока она пела.
Держал и внимательно впитывал каждую ноту.
Первым, что я увидел, когда мы приехали на пляж, был высокий белый маяк на самом краю скалы. Период холодов, кажется, миновал: день выдался теплым, и небо, на котором не было ни облачка, ласкало взор яркой голубизной.
Солнце стояло высоко, бросая лучи на спокойную водную гладь. Поппи припарковала машину и заглушила двигатель.
— Согласна. Это тоже мое второе любимое место.
Я кивнул. На мягком песчаном пляже расположилось несколько семей. Играли дети, в поисках объедков кружили чайки. Некоторые из взрослых читали, лежа на песке. Другие просто отдыхали, с закрытыми глазами впитывая первое тепло.
— Помнишь, как мы приезжали сюда летом? — спросила Поппи мягким, пропитанным радостью голосом.
— Ja, — хрипло ответил я.
Поппи указала под пристань.
— А там был поцелуй номер семьдесят пять. — Она повернулась ко мне и рассмеялась воспоминаниям. — Мы сбежали от наших семей и спрятались под пристанью, где могли поцеловаться. — Поппи коснулась пальцами своих губ. Взгляд ее подернула мечтательная дымка. — Твои губы были солеными от морской воды. Ты помнишь?
— Ja. Нам было по девять. На тебе был желтый купальник.
— Да! — засмеялась Поппи.
Она открыла дверцу и оглянулась на меня:
— Ты готов?
Я вышел из машины. Теплый бриз трепал волосы, швырял их в лицо. Я стянул с запястья резинку и собрал волосы в пучок, после чего подошел к багажнику, чтобы помочь достать Поппи то, что она привезла с собой.
В багажнике лежали корзина для пикника и рюкзак. Я понятия не имел, что в нем может быть. Поппи попыталась взять все сама, и я поспешил на помощь. Она уступила и вдруг замерла на месте.
Не понимая, в чем дело, я нахмурился. Поппи смотрела на меня изучающее.
— Что? — спросил я.
— Руне, — прошептала Поппи и кончиками пальцев коснулась моего лица. Провела по щекам и лбу. И ее губы вдруг расцвели в улыбке.
— Я могу видеть твое лицо.
Поднявшись на носочках, Поппи шутливо потрепала короткий «хвостик», в который я собрал волосы.
— Мне нравится, — заключила она и снова окинула взглядом мое лицо, после чего вздохнула: — Руне Эрик Кристиансен, ты вообще осознаешь, насколько ты красив?
Я опустил голову. Поппи провела ладонями по моей груди и добавила:
— Ты сознаешь, как сильно я люблю тебя?
Я медленно помотал головой. Мне хотелось, чтобы Поппи сама об этом сказала. Она взяла мою руку и положила себе на сердце. Я ощущал под ладонью ровные удары. Они ускорились, стоило мне заглянуть Поппи в глаза.
— Это как музыка, — сказала Поппи. — Когда я смотрю на тебя, когда ты меня касаешься, когда я вижу твое лицо… когда мы целуемся, мое сердце отбивает ритм этой песни. Песни о том, что ты нужен мне, словно воздух. О том, как сильно я тебя люблю. О том, что я нашла вторую половинку своего сердца.
— Поппимин, — мягко начал я, но Поппи положила палец на мои губы.
— Просто послушай, Руне, — сказала она и закрыла глаза.
Я сделал то же самое. И услышал. Услышал его так громко, словно оно стучало прямо возле моего уха. Ровные удары, наш собственный ритм.
— Рядом с тобой мое сердце не знает печали. Оно парит, — прошептала Поппи, словно не желая мешать мерному стуку. — Думаю, сердца отбивают ритм, как в песне. Это как музыка, и нас притягивает определенная мелодия. Я услышала песню твоего сердца, а ты услышал мою.
Я открыл глаза. Поппи стояла передо мной. На ее щеках снова появились ямочки: она улыбалась и раскачивалась в ритм ударам сердца. Когда Поппи открыла глаза, с ее губ сорвался приятный смех. Я подался вперед и соединил наши губы в поцелуе.
Ее руки легли мне на талию, и пальцы сжали футболку. Целуясь, мы пятились к машине, пока Поппи не прислонилась к ней спиной. Я прижался к ней, и меня охватил жар.
В моей груди эхом отдавалось сердцебиение Поппи. Я ласкал ее язык своим, вырывая у Поппи сладкие вздохи. Она прижималась ко мне все теснее, а когда я отстранился, прошептала:
— Поцелуй четыреста тридцать второй. На пляже с моим Руне. И мое сердце едва не разорвалось.
Сделав глубокий вздох, я попытался собраться с мыслями. У Поппи порозовели щеки, и она тоже не могла отдышаться. Некоторое время мы просто стояли и хватали воздух, а потом Поппи оттолкнулась от багажника и поцеловала меня в щеку.
Взяв рюкзак, она закинула его на плечо. Я хотел забрать, но Поппи возразила:
— Я еще не так слаба, малыш. И кое-что мне по силам.
Ее слова имели двойной смысл. Поппи говорила не только о рюкзаке, но и о тьме в моем сердце.
Той тьме, с которой она непрестанно пыталась бороться.
Поппи отошла в сторону, позволив мне взять из багажника остальное, и направилась в отдаленный конец пляжа, ближе к пристани.
Когда мы остановились, я нашел глазами то место, где целовал Поппи много лет назад. В моей груди родилось странное чувство, и я знал, что прежде чем мы вернемся домой, я поцелую Поппи еще раз на том же самом месте. Поцелую уже как семнадцатилетнюю.
Еще один поцелуй для ее банки.
— Остановимся здесь?
— Ja, — ответил я, раскладывая вещи на песке. Среди них обнаружился зонт. Я тут же воткнул его в песок и раскрыл, опасаясь, чтобы Поппи не получила слишком большой дозы солнца. Установив зонт и расстелив на песке одеяло, я кивнул подбородком, предлагая ей забраться в тень. Поппи тут же послушалась и, проходя мимо, поцеловала мою руку.
И мое сердце перестало печалиться. Оно воспарило.
Океан насылал на берег неспешные волны. Поппи села под зонт. Закрыла глаза и глубоко вдохнула.
В этот момент она выглядела как человек, молитвы которого наконец услышаны. Радость на ее лице казалась бесконечной, и вся она излучала кроткое умиротворение.
Я опустился на песок, положил локти на колени и устремил взгляд в море. Смотрел на видневшиеся вдалеке корабли и думал, куда же они плывут.
— Как думаешь, какое у них приключение? — спросила Поппи, прочитав мои мысли.
— Не знаю, — честно признался я.
Поппи закатила глаза и заговорила сама.
— Думаю, они решили оставить прошлое позади. Однажды утром проснулись и поняли, что в жизни много неизведанного. Им — это влюбленная парочка, парень и девушка — захотелось увидеть мир. Они продали все, что у них было, и купили яхту. — Поппи улыбнулась и, упершись локтями в согнутые в коленях ноги, положила подбородок на ладони. — Ей нравится музицировать, а ему — фотографировать.
Я тряхнул головой и искоса посмотрел на Поппи.
Она не обратила на это внимания и продолжила:
— И мир кажется им прекрасным. Они заглянут в его самые отдаленные места. Будут писать музыку, картины и сделают кучу фотографий. И все время будут целоваться. Целоваться и любить друг друга. Они будут счастливы.
Под тенью зонта пролетел нежный бриз, и Поппи прикрыла глаза. А потом повернулась ко мне и спросила:
— Не правда ли, это самое лучшее из приключений?
Я лишь кивнул. Просто не мог говорить.
Поппи посмотрела на мои ноги и, помотав головой, прошла по одеялу, пока не остановилась рядом с ними. Я вопросительно поднял бровь.
— На тебе ботинки, Руне! Такой замечательный солнечный день, а на тебе ботинки. — Поппи расстегнула «молнии» моих ботинок и стянула их один за другим. Потом закатала мои джинсы по щиколотки и кивнула.
— Вот так, — гордо сказала она. — Небольшое усовершенствование.
Не стерпев забавного самодовольства, я притянул ее к себе и опустился на спину, чтобы Поппи оказалась на мне.
— Вот так, — передразнил я ее. — Небольшое усовершенствование.
Поппи рассмеялась и наградила меня торопливым поцелуем.
— А сейчас?
— Значительное усовершенствование, — пошутил я. — Колоссальное. Масштаба астероида.
Поппи засмеялась громче. Я перекатился на бок, чтобы она легла рядом со мной. Ее рука осталась на моей талии, и я провел пальцами по ее шелковистой коже.
Я просто лежал и смотрел в небо. Поппи тоже молчала, а спустя какое-то время вдруг заговорила:
— Вскоре после того, как ты уехал, я начала чувствовать усталость. Такую сильную усталость, что даже не могла порой подняться с постели.
Я застыл. Она наконец решила рассказать. Рассказать, что произошло. Рассказать мне все.
— Мама отвезла меня к врачу, и он сделал несколько анализов. — Поппи тряхнула головой. — Если честно, все думали, что я просто переживаю из-за твоего отъезда. — Я закрыл глаза и глубоко вдохнул. — Я тоже так думала, — обнимая меня, добавила Поппи. — Первые несколько дней мне удавалось делать вид, что ты просто уехал на каникулы. Но спустя пару недель тот вакуум, что образовался у меня внутри, стал причинять слишком сильную боль. Сердце разбилось на кусочки. Кроме того, у меня начали болеть мышцы. Из-за нехватки энергии я много спала.
Поппи помолчала. Затем продолжила:
— В конце концов нам пришлось поехать в Атланту, чтобы я могла сдать там анализы. Пока врачи пытались выяснить, в чем дело, мы жили у тети Диди.
Поппи коснулась рукой моей щеки и заставила посмотреть ей в глаза.
— Я не говорила тебе о своей болезни, Руне, и притворялась, что со мной все в порядке потому, что не хотела делать тебе еще больнее. Я видела, как тебе плохо. Каждый раз, когда мы разговаривали по видеосвязи, я замечала, что из-за необходимости жить в Осло ты злишься все больше и больше. Ты говорил иногда такое… Это было непохоже на тебя.
— Значит, вы поехали к тете Диди, — решил прояснить я, — из-за твоей болезни. Вы поехали не просто в гости, как ты мне тогда сказала?
Поппи кивнула, и я заметил тень вины в ее зеленых глазах.
— Я знала тебя, Руне. Знала, что ты вот-вот сорвешься. Ты всегда был мрачным. Всегда был угрюмее остальных. Но со мной ты становился другим. Я могла лишь представить, что станет с тобой, если ты узнаешь о моей болезни.
Поппи мягко опустила голову мне на грудь.
— Вскоре мне поставили диагноз: прогрессирующая злокачественная гранулема, лимфома Ходжкина. Новость выбила из колеи всю мою семью. И в первую очередь она выбила из колеи меня. Как же иначе? — Я притянул Поппи ближе к себе, но она осторожно отстранилась. — Знаю, что всегда смотрела на мир не так, как смотрят другие. Всегда стремилась прожить каждый день по максимуму. Меня влекли те аспекты мира, которые не нравились другим. Думаю, отчасти потому, что я знала: у меня не так много времени на познание мира, как у других. Наверно, в глубине души я всегда это сознавала. Поэтому, когда доктор сказал, что даже после пройденного лечения у меня останется всего пара лет, я встретила эту новость спокойно.
Глаза Поппи наполнились слезами. Как и мои.
— Мы все оставались в Атланте и жили с тетей Диди. Айда и Саванна стали ходить в новую школу. Папа ездил на работу. Я училась на дому или в больнице. Мама и папа молились, надеясь на чудо. Но я знала, что никакого чуда не случится. И мне было спокойно. Я не падала духом. Хотя химиотерапия далась нелегко. Было ужасно, когда начали выпадать волосы. — Поппи моргнула. — Но разрыв с тобой меня почти убил. Это был мой выбор, и вина лежит на мне. Я просто хотела спасти тебя, Руне. Чтобы ты не увидел меня такой. Я видела, как смотрят на меня родители и сестры. Как им тяжело. Но я все еще могла защитить тебя. Могла дать тебе то, что не могла дать моей семье. Жизнь. Свободу. Возможность продолжать жить без боли.
— Это не сработало, — выдавил я.
Поппи потупила взгляд:
— Теперь я это знаю. Но поверь, Руне. Каждый божий день я думала о тебе. Я рисовала тебя в мыслях, молилась за тебя. Надеялась, что тьма, прорастающая внутри тебя, исчезнет, если меня не будет рядом.
Поппи снова опустила подбородок мне на грудь.
— Расскажи мне, Руне. Расскажи, что было с тобой.
Я стиснул зубы. У меня не было ни малейшего желания снова переживать то, что тогда происходило. Но я не мог отказывать моей девушке. Это было невозможно.
— Я злился, — заговорил я, убирая волосы с ее прекрасного лица. — Никто не мог толком сказать, где ты находишься. И почему перестала со мной общаться. Родители не оставляли меня в покое. Отец раздражал двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю. Я винил его во всем. И все еще виню.
Поппи хотела мне что-то сказать, но я помотал головой:
— Нет. Не надо.
Поппи послушалась. Я закрыл глаза и заставил себя продолжать:
— Я ходил в школу, но вскоре связался с компанией таких же, обозленных на весь мир. Стал гулять. Пить, курить… Делать все наперекор отцу.
— Руне, — грустно вздохнула Поппи и больше ничего не сказала.
— Вот так и жил. Забросил фотоаппарат. Убрал все, что напоминало о тебе. — У меня вырвался горький смешок. — Жалел, что я не могу вырвать сердце и тоже убрать его подальше. Потому что оно, это чертово сердце, не давало забыть тебя, как я ни старался. А потом мы вернулись. Вернулись сюда. И когда я увидел тебя в коридоре, вся злость, что текла по моим венам, отступила, словно вода во время отлива. В тот момент, когда я увидел эти каштановые волосы, эти зеленые глаза, которые смотрели прямо на меня, я понял, что все двухлетние попытки забыть тебя пошли прахом. Один твой взгляд смыл все.
Я сглотнул:
— А потом ты рассказала мне о… — Я замолчал, подбирая слова, но Поппи замотала головой.
— Нет. Пока хватит. Ты сказал достаточно.
— А ты? — спросил я. — Почему ты вернулась?
— Потому, что мне надоело, — вздохнула Поппи. — Все было впустую. Мне назначали очередной курс лечения, и каждый оказывался бесполезным. Онколог сказал напрямую: мне не поможет ничто. Услышав это, я тут же приняла решение. Вернуться домой. Прожить свои последние дни дома, на лекарствах. Среди тех, кого люблю больше всего на свете.
Поппи прижалась, поцеловала меня в щеку, в лоб и, наконец, в губы.
— И теперь у меня есть ты. Теперь я знаю, что так и было предначертано. Вот где нам предначертано быть в этот момент. Дома.
Я почувствовал, как по щеке катится слеза. Поппи тут же стерла ее большим пальцем и легла поперек моей груди.
— Я пришла к пониманию, что для больного вынести все не так уж и трудно. В конечном счете боль уходит, мы отправляемся в лучший мир. Но боль тех, кто остается, только возрастает.
Поппи прижала мою ладонь к своей щеке:
— Я действительно верю, что истории, подобные моей, не обязательно заканчиваются печально. Мне хотелось бы, чтобы мою жизнь запомнили как чудесное приключение, которому я шла навстречу с открытой душой. Потому как нельзя растрачивать попусту ни единый вдох. Нельзя растрачивать попусту нечто столь ценное. Вместо этого мы должны позаботиться о том, чтобы втиснуть в короткое время, отведенное нам на Земле, как можно больше ценных моментов. Вот какое послание мне хотелось бы оставить после себя. Оставить тем, кого люблю, этот красивый завет.
Если сердце, как верила Поппи, звучало песней, то мое в тот миг пело от гордости… и восхищения моей любимой девушкой. Восхищения ее взглядом на жизнь. Тем, что она старалась убедить меня… заставить меня поверить, что я смогу жить без нее.
Уверен, дело было в другом, но я видел решимость Поппи. Решимость никогда ее не подводила.
— Теперь ты все знаешь, — заключила Поппи и положила голову мне на грудь. — Больше не будем об этом. У нас впереди будущее. Мы не станем рабами своего прошлого. — Я закрыл глаза. — Обещай мне, Руне.
— Обещаю, — нашел я силы прошептать.
Я боролся с раздирающими меня эмоциями. Я не хотел показывать Поппи свою печаль. Пусть хотя бы сегодня она видит меня только счастливым.
Я перебирал ее волосы, и дыхание постепенно выровнялось. Нас обдувал, снимая тяжесть с наших душ, теплый бриз.
Полагая, что Поппи уснула, я позволил себе задремать, но она вдруг тихо спросила:
— Как думаешь, Руне, на что похож рай?
Я напрягся. Но Поппи начала вырисовывать пальцами круги на моей груди, и напряжение ушло.
— Не знаю.
Поппи молчала. Я обнял ее чуть крепче и сказал:
— Думаю, это какое-то красивое место. Спокойное. Место, где однажды я снова тебя увижу.
Я почувствовал, как Поппи улыбнулась.
— Я тоже таким его представляю, — согласилась она и, повернув голову, поцеловала меня в грудь.
Потом Поппи действительно уснула. Окинув взглядом пляж, я увидел расположившуюся неподалеку пожилую пару. Они крепко держались за руки. Мужчина расстелил на песке одеяло, поцеловал женщину в щеку, а потом помог ей сесть.
Я почувствовал укол ревности. Потому что у нас с Поппи никогда такого не будет.
Мы никогда вместе не состаримся. У нас никогда не будет детей. Не будет свадьбы. Не будет ничего. Однако, опустив взгляд на густые каштановые волосы Поппи, на ее хрупкие изящные руки, что лежали у меня на груди, я ощутил благодарность за то, что мы вместе хотя бы сейчас. Я не знал, что ждало нас впереди. Но сейчас мы были вместе.
Были вместе с тех пор, как мне исполнилось пять.
Ко мне вдруг пришло осознание: я любил ее, начиная с таких малых лет, что мы, можно сказать, были вместе с самого детства. В глубине души Поппи чувствовала, что умрет рано. Возможно, в глубине души это знал и я.
Прошло больше часа. Поппи все еще спала. Я осторожно приподнял ее и сел. Солнце сменило свое место на небе. Волны плескались о берег.
Почувствовав жажду, я открыл корзину и достал одну из бутылок с водой, которые упаковала Поппи. Пока я пил, мой взгляд остановился на рюкзаке, который она принесла из багажника.
Мне стало интересно — что же там внутри. Я осторожно расстегнул «молнию» и увидел черную сумку. В ней что-то лежало. Я вытащил сумку из рюкзака, и сердце бросилось в галоп.
Со вздохом я закрыл глаза.
Опустил сумку на одеяло. Растер ладонями лицо.
Когда я открыл глаза и поднял голову, мой пустой взгляд обратился к воде. Я смотрел на корабли вдали, и в моей голове снова звучали слова Поппи.
Думаю, они решили оставить прошлое позади. Однажды утром проснулись и поняли, что в жизни много неизведанного. Им — это влюбленная парочка, парень и девушка — захотелось увидеть мир. Они продали все, что у них было, и купили яхту. Ей нравится музицировать, а ему — фотографировать.
Я отвел взгляд от такой знакомой сумки. Теперь мне стало понятно, откуда взялась эта история о кораблях.
Ему нравится фотографировать…
Я попытался разозлиться на нее. Ведь я бросил фотографию два года назад. Больше она меня не интересовала. Не была моей мечтой. Я больше не собирался поступать в Нью-Йоркский университет. Не хотел ничего возвращать. Но у меня вдруг зачесались руки и, злясь на себя, я все же расстегнул сумку и заглянул внутрь.
На меня смотрел черный старенький «Canon», которым я когда-то очень дорожил. Кровь отхлынула от лица и устремилась к бьющемуся о ребра сердцу. Я ведь выбросил его. Его и все, что он для меня значил.
Я понятия не имел, как он мог попасть к Поппи. Возможно, она сумела отыскать такой же и купила. Я достал фотоаппарат из сумки и перевернул. Там, на задней крышке, было нацарапано мое имя. Я сам нацарапал его в свой тринадцатый день рождения, когда мама с папой сделали мне этот подарок.
Это был тот же фотоаппарат.
Поппи нашла его.
Пленка на месте. В сумке лежали объективы. Те, хорошо мне знакомые. Несмотря на эти два года, я все еще инстинктивно чувствовал, какой из них лучше всего подходит для ландшафта, портрета, ночной съемки, дневного света, студии…
Услышав тихий шорох за спиной, я обернулся через плечо. Поппи уже сидела и смотрела на меня. Ее взгляд упал на фотоаппарат. Нервно подвинувшись чуть ближе ко мне, она сказала:
— Я спрашивала о нем твоего папу. Поинтересовалась, куда делся фотоаппарат. Он ответил, что ты его выбросил. — Поппи склонила голову набок. — Ты не знал, а он тебе не сказал, что нашел камеру. Что-то разбилось, что-то поломалось.
Я до боли стиснул зубы.
Поппи провела пальцем по тыльной стороне моей ладони, что лежала на одеяле.
— Ничего тебе не говоря, твой папа починил фотоаппарат и хранил его последние два года. Он продолжал верить, что когда-нибудь ты вернешься к фотографии. Он знает, как сильно ты ее любишь. И винит себя в том, что ты ее забросил.
Я хотел по привычке прошипеть, что это и впрямь его вина. Все это. Но не стал. Желудок почему-то скрутило, и я не смог раскрыть рот.
Глаза у Поппи блеснули.
— Ты бы видел своего папу, когда я вчера спросила о фотоаппарате. Он так разволновался. Даже твоя мама не знала, что он сохранил для тебя фотоаппарат. Твой папа запасся пленкой. Все на случай, если когда-нибудь ты снова захочешь взять его в руки.
Я отвел взгляд от Поппи и посмотрел на камеру. Я не понимал, какие чувства испытываю. Попробовал разозлиться — но, к моему удивлению, гнев так и не появился. Из головы почему-то никак не выходила картина: папа оттирает мой фотоаппарат от грязи и сам его чинит.
— А еще он переделал одну из комнат в вашем доме под темную. Она ждет тебя.
Я прикрыл глаза и только молчал. Только молчал и ничего не мог ответить. В голове проносилось слишком много мыслей, слишком много образов. Внутри меня все бушевало. Ведь я поклялся никогда больше не фотографировать.
Но дело было не только в клятве. Теперь, когда я держал в руках объект своего давнего пристрастия, я уже не чувствовал в себе сил бороться с тем, с чем обещал. Против чего бунтовал. С тем, что отбросил прочь точно так же, как поступил с моими чувствами отец, когда принял решение вернуться в Осло. Пылающий внутри пожар начал расти. Тот самый гнев, который я предвидел. Огненный взрыв, которого ждал.
Я глубоко вдохнул, раскрыв объятия тьме, позволяя ей затопить меня, и в этот момент Поппи вдруг объявила:
— Я иду к воде. — Она поднялась и прошла мимо меня, не говоря больше ни слова. Я смотрел ей вслед. Смотрел, как ее ноги утопают в мягком песке и как ветерок играет ее короткими волосами. Словно зачарованный, я смотрел, как Поппи прыгает по воде, позволяя волнам лизать ее ноги. Чтобы брызги не намочили платье, она подобрала его повыше.
Запрокинув голову, Поппи подставила лицо солнечным лучам. А потом оглянулась на меня. Оглянулась и рассмеялась. Свободно и непринужденно, словно не ведая никаких забот.
Я не мог пошевелиться, будто меня пригвоздили к месту. А потом от морской воды отразился солнечный луч и бросил отблеск на лицо Поппи. И в этом новом свете ее зеленые глаза сделались изумрудными.
От этой неземной красоты у меня перехватило дух. Прежде чем я смог осмыслить происходящее, в моих руках оказался фотоаппарат. Ощутив в руках его тяжесть, я закрыл глаза и сдался, уступил проснувшемуся требовательному голосу.
Я снял крышку и сквозь объектив посмотрел на свою девушку, танцующую на фоне волн.
Дождался лучшего ракурса и щелкнул.
Я щелкал и щелкал. Сердце замирало при каждом спуске затвора. Я снимал Поппи. Счастливую Поппи.
Я представил, как буду проявлять пленку, и в кровь ударил адреналин. Вот почему я пользовался именно старым фотоаппаратом. Ожидая в темной комнате, ты можешь насладиться заснятым чудом далеко не сразу. И хороший кадр требует мастерства.
Секунды безмятежности.
Волшебства момента.
Погруженная в свой собственный мир, Поппи бежала по берегу. От жаркого солнца щеки ее порозовели. Поднимая руки вверх, она отпустила платье, и подол тут же намок от водяных брызг.
А потом она повернулась ко мне. Повернулась и замерла. Как и мое сердце. Я ждал, держа палец на кнопке, волшебного мгновения. И оно пришло. На лице Поппи проступило выражение чистейшего блаженства. Закрыв глаза, она закинула голову, словно ею овладело вдруг ощущение безмерного счастья.
Я опустил фотоаппарат. Поппи протянула руку. Опьяненный чувствами, я вскочил и ступил на песок.
Я взял ее за руку, и она притянула меня к себе и прижалась к моим губам. И я покорился ей. Дал ей возможность показать, что значит для нее этот миг. Этот момент. Я отпустил и себя. На какой-то миг я позволил себе отбросить тяжесть, которой всегда прикрывался, словно щитом. Я позволил себе забыться в поцелуе и поднял фотоаппарат. Даже с закрытыми глазами, не видя направления объектива, я был уверен, что снял лучший кадр за весь день.
Поппи отстранилась и молча повела меня обратно к одеялу. Когда мы сели, она положила голову мне на плечо. Я обнял ее обласканные солнцем плечи и притянул ближе. Поппи посмотрела на меня снизу вверх, и я поцеловал ее в макушку. Встретившись с ее глазами, я вздохнул и прислонился лбом к ее лбу.
— Всегда пожалуйста, — прошептала Поппи, глядя на раскинувшееся перед нами море.
Такого я не испытывал уже очень давно. Я не чувствовал этого внутреннего покоя с тех пор, как мы расстались. И я был благодарен Поппи.
Более чем благодарен.
Внезапно Поппи тихо и восхищенно выдохнула.
— Смотри, Руне, — прошептала она, протягивая руку. Я не понимал, что должен увидеть, но Поппи объяснила: — Наши следы на песке[3]. — Она опустила голову и широко улыбнулась. — Две цепочки следов. Прямо как в том стихотворении.
Я растерянно нахмурился. Поппи положила руку мне на колено. Уютно устроившись у меня под мышкой, она пояснила:
— Это мое любимое стихотворение, Руне. Моя мама тоже его любит.
— О чем оно? — спросил я и улыбнулся, глядя на маленький след Поппи рядом с моим.
— Стихотворение очень красивое. Но оно религиозное, так что не знаю, понравится ли тебе, — подразнила меня Поппи.
— Все равно расскажи, — настаивал я, потому что мне хотелось слушать и слушать ее голос. Мне хотелось услышать в ее голосе тот трепет, который всегда появлялся, когда она говорила о своих любимых вещах.
— Вообще, это больше притча. Человеку снится сон. И в том сне тоже есть берег. Только рядом с человеком идет Господь.
Я прищурился, и Поппи закатила глаза.
— Я же говорила, что оно религиозное! — засмеялась она.
— Точно. — Я легонько толкнул подбородком макушку Поппи. — Продолжай.
Поппи вздохнула и пальцем принялась вырисовывать на песке узоры. Когда я увидел очередной знак бесконечности, мое сердце чуть не разорвалось.
— Они идут по песку, а в темном небе у них над головой разыгрываются сцены из жизни этого человека. Кадр за кадром они мелькают, подобно фильму, и после каждой сцены человек замечает за собой две цепочки следов. Они с Господом все идут и идут, и следы все тянутся за ними.
Поппи вновь посмотрела на наши следы:
— Сцены из жизни заканчиваются, и человек оборачивается и замечает нечто странное. Он понимает, что в самые печальные и темные дни его жизни за ним тянулась только одна цепочка следов. Тогда как в счастливые времена их всегда было две.
Я нахмурил брови, гадая, к чему же ведет эта история. Поппи подняла подбородок и зажмурилась от яркого солнца, а потом посмотрела на меня блестящими от слез глазами.
— Человек забеспокоился. Ведь Господь сказал, что в любую минуту поддержит того, кто посвятил Ему свою жизнь. И человек спрашивает Господа: «Почему в худшие моменты моей жизни Ты покидал меня?»
На лице Поппи проступило выражение глубокого умиротворения.
— И что? — подтолкнул я. — Что ответил Господь?
По ее щеке скатилась слеза.
— Он ответил, что никогда не покидал человека и шел с ним бок о бок всю жизнь. Он объяснил, что в те моменты, когда была только одна цепочка следов, Он нес человека на руках.
Поппи шмыгнула носом:
— Неважно, что ты не веришь в бога, Руне. Это стихотворение не только для верующих. У нас всех есть те, кто проносит нас на руках через тяжелые и печальные дни. Дни, когда кажется, что ты не справишься. Так или иначе, Господь ли или близкий человек, но кто-то приходит на помощь, когда нам кажется, что мы больше не можем идти… Кто-то несет нас на руках.
Она прижалась к моей груди.
Я смотрел на отпечатки наших ног на песке, и мой взор застилали слезы. В тот момент я уже не был уверен, кто кому помогает. Поппи намекала, будто я помогаю ей прожить оставшиеся месяцы, однако я начинал верить, что это она каким-то образом спасает меня.
Цепочка следов на моей душе.
Поппи посмотрела на меня. Лицо ее было мокрым от слез. Слез счастья.
— Разве не прекрасно, Руне? Разве это не самая прекрасная вещь, которую ты когда-либо слышал?
Я ограничился кивком. Говорить не хотелось — время было не самое подходящее для слов. Выдать что-то подобное тому, что рассказала она, я не мог, а раз так, то какой смысл стараться?
Я скользнул взглядом по берегу и вдруг подумал… А слышал ли кто-нибудь нечто столь трогательное, что оно потрясло его до глубины души? Случалось ли у кого-то так, что тот, кого любили более всего на свете, открывался с такой чистотой и искренностью?
— Руне? — негромко окликнула меня Поппи.
— Да, малышка? — отозвался я. Она повернулась ко мне своим прелестным личиком и попыталась улыбнуться. — Ты в порядке? — Я погладил ее по щеке.
— Устаю, — неохотно призналась она, и мое сердце дрогнуло. В течение последней недели мне уже не раз приходилось замечать, как тень усталости ложится на ее лицо после каких-то работ или занятий.
Что еще хуже, я видел, как сильно ей это не нравится. Ведь любая слабость не позволяла ей наслаждаться жизнью, получать удовольствие от приключений.
— Усталость — это нормально, Поппимин. Это не слабость.
Поппи печально вздохнула и опустила глаза:
— Просто мне это не по душе. Ты же знаешь, я всегда считала сон бесполезной тратой времени.
Она так забавно надула губки, что я невольно рассмеялся. Поппи терпеливо ждала ответа. Отсмеявшись, я сказал:
— По-моему, если ты спишь, когда тебе хочется, когда в этом есть потребность, значит, сможешь сделать больше, когда наберешься сил. — Я потерся кончиком носа о ее нос. — И тогда наши приключения будут еще интереснее. Кроме того, как тебе известно, мне нравится, когда ты засыпаешь в моих объятиях. Это идеальное для тебя место.
Поппи вздохнула и, в последний раз взглянув на море, прошептала:
— Только ты, Руне Кристиансен. Только ты можешь так прекрасно мотивировать самое ненавистное.
Я поцеловал ее теплую щеку, поднялся и принялся собирать вещи. Закончив, я оглянулся через плечо на пирс, потом снова повернулся к Поппи и протянул руку.
— Идем, соня. Как в старые времена?
Поппи посмотрела на пирс и неожиданно громко рассмеялась. Я помог ей подняться, и мы, взявшись за руки, неторопливо побрели под пирс. Мягкие волны, накатывая в гипнотизирующем ритме, бились о старые деревянные опоры. Мы остановились у столба, и я, не тратя времени зря, взял ее лицо в свои ладони и наклонился. Наши губы соединились в тягучем, глубоком поцелуе, и налетевший прохладный ветерок взъерошил ее волосы.
Я отстранился и облизал губы, на которых остался восхитительный вкус солнца и вишен.
Ее веки затрепетали. Поппи открыла глаза, и я, видя, как она устала, наклонился и прошептал:
— Поцелуй четыреста тридцать третий. С Поппимин, под пирсом. — Поппи смущенно улыбнулась, ожидая продолжения. — И мое сердце едва не разорвалось. — Оно и вправду едва не разорвалось, когда за приоткрывшимися в улыбке губами показались зубы. — Потому что я ее люблю. Люблю так сильно, что не могу объяснить. Моя цепочка следов на песке.
Ее прекрасные зеленые глаза удивленно расширились и тут же блеснули, наполнившись слезами. Сердце глухо застучало в груди. Я попытался вытереть слезы, но Поппи сжала мою руку и прижалась щекой к ладони.
— Я тоже люблю тебя, Руне Кристиансен, — прошептала она, глядя на меня снизу вверх. — И никогда, никогда не переставала любить. — Она привстала на цыпочки, так что наши глаза оказались на одном уровне. — Моя половинка. Моя душа…
Волнение ушло. На меня снизошло спокойствие. Поппи замерла в моих объятиях, и ее легкое дыхание просачивалось сквозь ткань рубашки.
Я держал ее, крепко прижимая к себе, впитывая новое чувство и наслаждаясь им. Поппи зевнула. Я наклонил голову.
— Давай доставим тебя домой.
Поппи кивнула и приникла ко мне. Мы вернулись к тому месту, где остались наши вещи, а потом прошли к машине. Я достал ключи из кармашка ее сумочки и открыл пассажирскую дверцу.
Обняв Поппи за талию, я поднял ее, опустил на сиденье и, наклонившись, накинул и застегнул ремень безопасности. Она на секунду замерла, когда, выпрямляясь, я поцеловал ее в лоб, а потом взяла меня за руку.
— Мне жаль, Руне, — прошептала Поппи, заливаясь слезами. — Мне так жаль. Прости меня.
— За что, малышка? — спросил я дрожащим голосом, глубоко тронутый ее невыразимой печалью.
— За то, что оттолкнула тебя.
Моя душа как будто провалилась в пустоту. Я убрал волосы со лба Поппи. Ее глаза отчаянно искали что-то в моих, но лицо уже исказилось от боли. По бледным щекам покатились крупные слезинки, и грудь судорожно всколыхнулась — Поппи попыталась успокоить сбившееся вдруг дыхание.
— Эй… — Я сжал ее лицо обеими ладонями.
Она посмотрела на меня.
— Мы не потеряли бы столько времени, если бы я не сглупила. Придумали бы что-нибудь, и ты вернулся бы раньше. Ты мог бы быть рядом все это время. Мог бы быть со мной. Поддерживать… любить… Мы бы так любили друг друга… — Она запнулась, но все же нашла силы договорить. — Я — воришка. Украла у нас два драгоценных года. А чего ради?
Словно боясь, что я уйду, Поппи еще крепче сжала мою руку. Ее слезы рвали мне сердце. Неужели так и не поняла, что теперь уже ничто не сможет оторвать меня от нее?
— Ш-ш-ш… Дыши, малышка, — прошептал я и, поймав взгляд Поппи, положил ее ладонь себе на грудь и ободряюще улыбнулся. — Дыши. — Чувствуя под ладонью ритм моего сердца, она понемногу успокоилась.
Я вытер ее мокрые щеки. Она шмыгнула носом. Ее грудь еще содрогалась от рыданий.
— Извинения не принимаются, — сказал я, завладев наконец ее вниманием. — Тебе совершенно не за что извиняться. Ты же сама говорила, что прошлое не имеет значения. Теперь важно настоящее. То, что есть. Эти мгновения. — Усилием воли я сдержал порыв чувств. — Наше последнее приключение. За мной еще много поцелуев для твоей банки. А ты… ты просто будь со мной. Люби меня, как я люблю тебя. Вместе навсегда… — Договорить не получилось.
Я смотрел в ее глаза и терпеливо ждал, а когда дождался, улыбнулся.
— На веки вечные, — прошептала она.
Я закрыл глаза, чувствуя в себе ее сокрушительную боль.
Поппи хрипло рассмеялась.
— Вот и молодец. — Я поцеловал яблочки на ее щеках.
— Молодец, — эхом повторила она, — потому что люблю тебя.
Поппи подняла голову и поцеловала меня. А потом откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза. Секунду-другую я смотрел на нее, потом выпрямился и уже закрывал дверцу, когда Поппи прошептала:
— Поцелуй четыреста тридцать четвертый, от моего Руне, на пляже… когда его любовь вернулась домой.
Через стекло было видно, что она уже уснула. Щеки ее раскраснелись от слез, но губы, даже во сне, сложились в подобие улыбки.
Любоваться ею можно было бесконечно как совершенным созданием, равного которому, возможно, и не существовало.
Обойдя машину спереди, я вытащил из заднего кармана джинсов пачку сигарет и щелкнул зажигалкой. Глубоко затянулся и, почувствовав успокоительный прилив никотина, закрыл на секунду глаза.
На горизонте, оставляя за собой розовые и оранжевые отблески, бледнело и таяло закатное солнце. Берег почти опустел, задержалась только пожилая пара, которую я видел раньше.
Только теперь, наблюдая за ними, сохранившими любовь через столько лет, я не позволил себе поддаться печали. Оглянувшись на спящую в машине Поппи, я почувствовал себя счастливым человеком. Несмотря на всю боль, через которую мне пришлось пройти. Потому что… я здесь… и я так люблю тебя…
Она любила меня.
Поппимин. Моя девушка. Она любила меня.
— А большего мне и не надо, — сказал я ветру. — Сейчас мне большего не надо.
Бросив окурок на землю, я осторожно сел на свое место и повернул ключ зажигания. Мотор ожил мгновенно. Уезжая с пляжа, я говорил себе, что мы обязательно сюда вернемся.
А если не вернемся, как сказала Поппи, то все равно этот миг останется с нами. И ее поцелуй останется с ней.
А со мной останется ее любовь.
Мы свернули на подъездную дорожку, когда уже наступили сумерки, и в небе начали просыпаться звезды. Поппи проспала всю дорогу до дома. Проезжая по темным улицам, я слышал ее легкое, ровное дыхание и чувствовал себя спокойнее.
Припарковавшись у дома, я вышел, открыл дверцу с ее стороны, расстегнул ремень безопасности и взял Поппи на руки.
Легкая как пушинка, она инстинктивно прижалась к моей груди. Теплое дыхание коснулось моей шеи. Я подошел к передней двери и уже поднялся на верхнюю ступеньку, когда дверь открылась. В прихожей стоял мистер Личфилд.
Я переступил порог, и он посторонился, позволив мне отнести Поппи в ее спальню. В гостиной, перед телевизором, сидели миссис Личфилд и девочки.
Мама Поппи тут же поднялась и, подойдя ко мне, шепотом спросила:
— Как она? Все хорошо?
Я кивнул:
— Просто устала.
Миссис Личфилд наклонилась и поцеловала Поппи в лоб.
— Спокойной ночи, милая.
У меня защипало в глазах. Миссис Личфилд кивнула.
Я прошел по коридору и тихонько открыл дверь спальни. Осторожно, как только мог, опустил Поппи на кровать и улыбнулся, когда она, не просыпаясь, провела рукой по той половине, на которой обычно спал я.
Подождав, пока ее дыхание выровняется, я сел на край кровати и погладил Поппи по щеке. Потом наклонился, нежно поцеловал и тихонько прошептал:
— Я люблю тебя, Поппимин. На веки вечные.
Уже поднявшись, я заметил стоящего у двери мистера Личфилда, молча наблюдавшего за всем происходившим.
Наткнувшись на его взгляд, я стиснул зубы, медленно вдохнул и, не сказав ни слова, прошел мимо него в коридор. Поскольку фотоаппарат остался в машине, мне пришлось сходить за ним.
Потом я вернулся в дом, чтобы оставить ключи от машины на столике в прихожей. Как раз в этот момент из гостиной вышел мистер Личфилд. Я остановился, а он протянул руку за ключами. Я опустил их на его ладонь и уже повернулся к выходу, когда он спросил:
— Хорошо провели время?
Я невольно напрягся, но все же заставил себя ответить и, посмотрев ему в глаза, кивнул. Потом помахал миссис Личфилд, Айде и Саванне, вышел на крыльцо и спустился по ступенькам. На нижней меня догнал мужской голос.
— Знаешь, она тоже тебя любит.
— Знаю. — Я остановился на секунду, но оборачиваться не стал. А потом пересек лужайку между нашими домами, прошел в свою комнату и бросил фотоаппарат на кровать. Поначалу я планировал подождать несколько часов, а потом пойти к Поппи, но чем больше смотрел на сумку с камерой, тем сильнее мне хотелось посмотреть, какими получились фотографии.
Фотографии танцующей в море Поппи.
Понимая, что могу передумать, я схватил фотоаппарат и, не включая света, в темноте, пробрался в темную комнату в подвале. Найдя дверь, я повернул ручку, переступил порог, включил свет и остановился. Странное чувство овладело мной.
Поппи была права — мой отец подготовил комнату для меня. Все оборудование стояло там же, где и два года назад. Прищепки и шнуры только и ждали, когда их используют по прямому назначению.
Сам процесс проявления шел легко, как будто никакого перерыва и не было. Ничто не забылось, и узнавание, приходившее последовательно на каждом шаге, доставляло приятное удовольствие. Казалось, я и родился с умением это делать.
Наверное, это и было тем, что называют даром. Поппи как-то поняла, без чего мне не обойтись в жизни, а вот меня прошлое ослепило так, что я прошел мимо.
В нос ударил запах химикатов…
Работу я закончил примерно через час. Развешенные на шнурах фотографии одна за другой являли запечатленные на них мгновения. Красный свет не мешал рассмотреть пойманные, выхваченные из жизни чудеса. Я проходил вдоль прищепленных снимков, чувствуя, как разгорается в груди огонек волнения. Губы сами собой расползлись в улыбке.
И тут я остановился.
Взгляд зацепился за фотографию с танцующей на мелководье Поппи. Ветер разметал волосы, на лице играла беззаботная улыбка, глаза сияли, и кожа пылала, а она, подхватив подол платья, счастливо смеялась. Камера поймала ее в тот момент, когда она, обернувшись через плечо, посмотрела прямо на меня. Солнечный свет падал под каким-то особенным углом, словно привлеченный ее магнетической радостью и счастьем.
Я поднял руку и, не дотрагиваясь до бумаги, обвел пальцем контур сияющего лица, мягкие губы и розовые щеки. И оно пришло. Ощущение всесокрушающей страсти к этому искусству, страсти, позабытой и ожившей, вспыхнувшей снова в глубине моей души.
Фотография. Одна-единственная, но скрепившая все, что я знал давно, но предпочел забыть.
Это было оно. Мое предназначение. Цель и смысл моей жизни.
И к этому открытию, к осознанию этой истины меня подвела фотография, снимок девушки, бывшей моим всем.
В дверь постучали.
— Ja? — отозвался я, не сводя глаз с Поппи.
Дверь медленно открылась, и я, даже не оборачиваясь, понял, кто это. В темную комнату вошел и остановился, сделав лишь пару шагов, мой отец. Я посмотрел на него и тут же отвел глаза, увидев, с каким выражением он уставился на развешенные фотографии.
Внутри росло чувство, сопротивляться которому у меня не было ни малейшего желания. Пока не было.
В молчании прошло несколько минут.
— Она прекрасна, — негромко сказал отец. Взгляд его остановился на той самой фотографии, которая привлекла и мое внимание. Грудь сдавило, но я не ответил. Он постоял еще немного, явно чувствуя себя неловко, а потом, ничего не говоря, повернулся и шагнул к выходу.
— Спасибо… за камеру, — выжал я из себя, прежде чем дверь закрылась. Отец задержался. Медленно и тяжело вздохнул.
— Тебе не за что меня благодарить. Совершенно не за что.
С этими словами он вышел из темной комнаты.
Обдумывая ответ отца, я задержался дольше, чем намеревался. Потом, взяв с собой две фотографии, поднялся по ступенькам из подвала и направился к себе. Проходя по коридору, я заглянул в спальню Элтона. Мой младший брат сидел на кровати и смотрел телевизор.
Он меня не заметил, и я двинулся дальше, но, сделав несколько шагов, услышал донесшийся из комнаты смех и остановился. А потом вернулся.
Элтон повернулся ко мне, и по его симпатичному детскому личику разлилась широкая, непринужденная улыбка.
— Hei, Руне, — тихонько сказал он и сел повыше.
— Hei, — ответил я и, пройдя в комнату, кивком указал на телевизор. — Что смотришь?
Элтон взглянул на телевизор, потом снова на меня.
— «Болотных монстров». — Он мотнул головой, отбросив упавшие на глаза длинные волосы. У меня защемило в груди. — Не хочешь посмотреть со мной? Немножко? — робко спросил он и опустил голову.
Было видно — он ждет, что я откажусь.
— Конечно, — сказал я, удивив и его, и еще больше себя самого.
Голубые глаза Элтона полезли на лоб. Он вытянулся на кровати, сдвинувшись к краю узкого матраса.
Я лег рядом. Брат прислонился ко мне бочком и притих. Мы молча смотрели фильм, но в какой-то момент я поймал его взгляд.
Наши глаза встретились, и его щеки мгновенно вспыхнули.
— Мне нравится смотреть телевизор с тобой.
Его слова отозвались во мне каким-то незнакомым чувством.
— Мне тоже, Элт. Мне тоже нравится.
Брат придвинулся ко мне поближе и лежал так, пока не уснул. Таймер выключил телевизор, и комната погрузилась в темноту.
Поднявшись в кровати, я кивнул маме, молча смотревшей на нас из коридора, прошел в свою комнату, закрыл за собой и запер дверь. Потом положил на стол одну из фотографий, вылез через окно и побежал к соседнему дому.
Когда я забрался в комнату, Поппи спала. Я снял футболку, обошел кровать и положил на подушку ту фотографию, на которой мы целовались в воде, чтобы она увидела ее сразу, как только проснется. Потом лег рядом с ней, и Поппи машинально, найдя меня в темноте, положила голову мне на грудь и обняла одной рукой.
Цепочки следов на песке.
Глава 11
Парящие крылья и блекнущие звезды
Три месяца спустя
— Где моя Поппи? Где моя девочка?
Я протерла сонные глаза и села в постели, едва услышав голос, который так любила всегда.
— Тетя Диди? — прошептала я про себя и прислушалась — не ошиблась ли. В коридоре действительно звучали приглушенные голоса, а потом дверь вдруг распахнулась. Я приподнялась, проклиная свои слабеющие руки, и снова легла, когда на пороге появилась тетя Диди — в форме бортпроводницы и собранными в пучок темными волосами. Макияж, как всегда, был на месте, как и неизменная заразительная улыбка.
Ее зеленые глаза, встретившись с моими, мгновенно потеплели.
— Вот ты где? — тихо сказала тетя и подошла к кровати. Опустившись на край матраса, она наклонилась и обняла меня.
— Что ты здесь делаешь, Диди?
Тетя пригладила мои растрепавшиеся волосы и заговорщически прошептала:
— Увожу тебя отсюда.
Я растерянно посмотрела на нее. Тетя Диди встретила с нами Рождество и Новый год, а потом, всего лишь в прошлом месяце, провела у нас еще целую неделю. Я знала, что в следующем месяце у нее очень напряженный график.
Вот почему ее появление здесь сегодня стало для меня полной неожиданностью.
— Не понимаю. — Я свесила ноги с кровати, на которой и пролежала едва ли не все последние дни. В начале недели у меня взяли анализы, по которым врачи заключили, что уровень белых кровяных телец слишком низок. Мне сделали переливание крови и назначили курс лечения. Все это немного помогло, но слабость ощущалась еще несколько дней. Меня держали в палате, чтобы я не подхватила какую-нибудь инфекцию. Доктора хотели продлить пребывание в больнице, но я наотрез отказалась. Терять драгоценное время, лежа в палате? Нет уж. Тем более что рак перешел в наступление, и ценность каждой секунды возрастала день ото дня.
Мне было хорошо дома.
Рядом с Руне, который целовал меня так сладко, я чувствовала себя в полной безопасности.
Ничего больше мне было не надо.
Часы показывали почти четыре пополудни. Скоро должен был прийти Руне. Я все же убедила его походить в школу в эти последние дни. Без меня он не хотел, но мы оканчивали школу, и Руне предстояло поступать в колледж. Пусть даже он и твердил, что сейчас ему не до учебы.
Так было надо. Я думала о нас обоих и не могла допустить, чтобы из-за меня он забыл о том, что у него есть и своя жизнь.
Тетя Диди вскочила на ноги.
— Вот что, Поппи, бегом в душ. Времени до отъезда у нас мало — всего-то час. — Она посмотрела на мои волосы. — Их можешь не мыть — у меня есть девочка, которая обо всем этом позаботится на месте.
Я было открыла рот, но вопросы так и остались при мне — тетя уже вышла из комнаты. Пришлось подниматься. Я встала. Потянулась. Сделала глубокий вдох, закрыла глаза и улыбнулась. Сегодня я чувствовала себя лучше, чем в последние дни. И даже сил как будто прибавилось.
Настолько прибавилось, что я могла выйти из дома.
Прихватив полотенца, я отправилась в ванную и приняла душ. Потом привела в порядок лицо. Собрала в пучок немытые волосы. Затянула их белым бантом. Надела темно-зеленое платье и белый свитерок сверху. Я как раз надевала сережки-восьмерки, когда дверь снова распахнулась. До меня донеслись громкие голоса и, в частности, папин.
Войдя в комнату, Руне прежде всего пробежал по ней взглядом, ищущим, цепким, а когда увидел меня, в его кристально-голубых глазах мелькнуло облегчение. Я посмотрела на него и улыбнулась.
Не говоря ни слова, он пересек комнату, обнял меня за плечи и привлек к себе. Я тоже обняла его. Как всегда, от Руне пахло свежестью.
— Выглядишь лучше.
— Я и чувствую себя лучше.
Он отступил на полшага, взял мое лицо в ладони, посмотрел пристально в глаза и, наклонившись, нежно поцеловал в губы.
— Я рад. Боялся, что мы не сможем поехать.
— Куда? — спросила я, уже чувствуя, как сердце набирает ход.
Теперь улыбнулся уже Руне.
— Нас ждет еще одно приключение, — прошептал он мне на ухо.
Сердце уже колотилось.
— Еще одно?
Не вдаваясь в объяснения, Руне вывел меня из спальни. В последние дни ему пришлось нелегко, но сейчас о недавних заботах напоминало лишь то, что он чуточку крепче сжимал мою руку.
Но я, конечно, все знала. Я видела страх, вспыхивавший в его глазах каждый раз, когда я ворочалась в постели, а он спрашивал, все ли в порядке. Каждый раз, когда мы сидели вместе после школы, он смотрел на меня, наблюдал за мной так, словно боялся что-то увидеть. Увидеть и понять, что это все.
В такие моменты он как будто замирал.
Меня наступление рака не пугало. Ни боль, ни то, что несла болезнь, меня не страшило. Но я не могла видеть Руне таким — с отчаянием и безнадежностью в глазах. Я любила его и знала, как сильно, безмерно он любит меня. Но теперь эта же самая любовь, эта опаляющая душу связь становилась якорем для сердца, которое я уже отпустила.
Я никогда не боялась смерти, и моя вера оставалась крепкой. Я знала, что жизнь после есть. Но теперь в мою душу закрадывался страх. Как оставить Руне. Страх перед его отсутствием. Страх остаться без его объятий и поцелуев.
Словно почувствовав тревогу моего сердца, Руне оглянулся. Я кивнула. Не знаю, насколько получилось убедительно, потому что беспокойство в его лице не исчезло полностью.
— Она не поедет! — разлетелся по коридору папин голос.
Руне привлек меня к себе и для надежности укрыл рукой. Выйдя из комнаты в коридор, мы увидели у входа в гостиную моих родителей и тетю Диди.
Лицо у папы раскраснелось. Тетя стояла, скрестив руки на груди. Мама поглаживала папу по спине, стараясь его успокоить.
Папа поднял голову и выдавил из себя улыбку.
— Поппи, — сказал он и подошел ближе. Руне обнял меня крепче. Заметив это, папа наградил его убийственным взглядом.
Руне даже не дрогнул.
— Что случилось? — спросила я, трогая папу за руку. Но мое прикосновение, похоже, лишило его дара речи.
Я посмотрела на маму:
— Мам?
Она шагнула ко мне:
— Все планировалось давно, когда твоя тетя приезжала к нам несколько недель назад.
Я взглянула на тетю Диди, и та лукаво улыбнулась в ответ.
— Руне хотел свозить тебя кое-куда и попросил твою тетю помочь с организацией. — Мама вздохнула. — Кто же знал, что уровень упадет так скоро. — Она положила руку папе на плечо. — Твой отец считает, что тебе не следует ехать.
— Ехать куда? — снова спросила я.
— Это сюрприз, — подал голос Руне.
Папа сделал полшага назад и посмотрел мне в глаза:
— Поппи, у тебя понизился уровень белых кровяных телец. Это повышает риск инфекции. При твоей ослабленной иммунной системе опасность слишком велика. Не думаю, что путешествие на самолете…
— На самолете? — вмешалась я и посмотрела на Руне. — На самолете?
Он коротко кивнул, но от дополнительных объяснений воздержался.
Мама взяла меня за руку.
— Я консультировалась с твоим врачом, и он сказал… — она прокашлялась, — что на данной стадии болезни ты должна лететь, если сама этого желаешь.
От меня не укрылся скрытый за ее словами смысл: поспеши, если хочешь куда-то успеть.
— Хочу поехать, — с непоколебимой твердостью произнесла я, обнимая Руне. Пусть знает, что я действительно хочу. — С тобой. — Я посмотрела на него снизу вверх и улыбнулась.
Вместо ответа он наклонился и поцеловал меня в губы. Решительно и коротко. На глазах у всей моей семьи. Преподнес сюрприз — всем, кроме меня. В следующий момент Руне шагнул к моей тете, взял стоявший у ее ног чемодан и, не произнеся ни слова, понес его к машине.
Мое сердце билось в волнительном ритме стаккато.
Папа сжал мою руку, и это прикосновение напомнило мне о его опасениях и страхах.
— Поппи, — строго предупредил он.
Продолжить ему не дала я — наклонилась, поцеловала в щеку и посмотрела в глаза.
— Папочка, я все понимаю. Понимаю риск. Я ведь уже давно живу с этим и борюсь. Знаю, что ты беспокоишься. Знаю, что не хочешь, чтобы мне стало хуже. Но оставаться в комнате, как птица в клетке… вот что хуже всего. Я ведь никогда не была домоседкой. Я хочу поехать, папа. Мне это нужно. — Я тряхнула головой, чувствуя, как наполняются слезами глаза. — Не могу отсиживаться взаперти из страха, что что-то случится. Я хочу жить… хочу приключений.
Он прерывисто вздохнул, но после небольшой паузы все-таки кивнул. И у меня даже закружилась от радости голова. Еду!
Я бросилась ему на шею, и он обнял меня.
Потом я поцеловала маму и повернулась к тете. Она протянула мне руку.
— Позаботься о ней, Диди, — сказал папа. — Я полагаюсь на тебя.
Тетя вздохнула:
— Ты же знаешь, Джеймс, я люблю ее всем сердцем. Неужели ты думаешь, что я допущу, чтобы с ней что-то случилось?
— И чтобы у них были разные комнаты!
Я закатила глаза.
Папа заговорил с тетей, но я уже не слышала. Не слышала и не слушала, потому что смотрела в открытую дверь на парня во всем черном, стоявшего у перил на нашем крыльце. На парня в кожаной куртке, с сигаретой в руке, не сводившего с меня кристально-голубых глаз.
Руне выдохнул облачко дыма, небрежно отбросил окурок и протянул руку.
Я выпустила руку тети Диди и на секунду закрыла глаза, запоминая это мгновение.
Мой викинг. Мой плохой парень.
Мое сердце.
Открыв глаза, я выскочила в дверь и, добежав до крыльца, прямо с верхней ступеньки прыгнула ему в объятия. Он подхватил меня, и я рассмеялась, ощутив на лице прохладное дыханье ветерка.
— Ты готова к приключению, Поппимин? — спросил Руне, держа меня на руках и не давая ступить на землю.
— Да, — выдохнула я.
Руне прижался лбом к моему лбу и закрыл глаза.
— Люблю тебя, — прошептал он после долгой паузы.
— Я тебя тоже, — тихо ответила я.
И получила редкую награду — улыбку.
Он осторожно опустил меня на землю, взял за руку и еще раз спросил:
— Ты готова?
Я кивнула, потом повернулась к вышедшим на крыльцо родителям и помахала.
— Вперед, детишки, — поторопила нас тетя Диди. — Нам еще нужно успеть на рейс.
Держа, как всегда, за руку, Руне отвел меня к машине. Мы расположились на заднем сиденье, и я посмотрела в окно, на высокие облака, зная, что совсем скоро буду лететь над ними.
Приключение.
С моим Руне.
— Нью-Йорк! — восторженно выдохнула я, прочитав надпись на экране у нашего выхода.
Руне усмехнулся:
— Мы ведь всегда планировали. Просто получится короче, чем думали.
Онемев от счастья, я обняла его и прижалась головой к груди. Тетя Диди, поговорив с женщиной за столиком, повернулась к нам.
— Эй вы, двое, идемте. — Она махнула рукой в направлении самолета. — Вперед, на посадку.
Мы проследовали за тетей, и я в изумлении открыла рот, когда она показала нам два места в первом классе. В ответ на мой немой вопрос Диди пожала плечами.
— Какой смысл обслуживать салон первого класса, если нельзя воспользоваться положением и побаловать любимую племянницу?
Я обняла ее. И она обняла меня чуть крепче, чем обычно, а потом подтолкнула к креслу:
— Ну все. Иди.
Диди быстро исчезла за шторкой служебного отсека, а я так и осталась стоять, провожая ее взглядом. Руне взял меня за руку.
— За нее не волнуйся, — сказал он и указал на место у окна. — Твое. — Хихикая как дурочка от переполнявшего меня возбуждения, я села и тут же повернулась к окну. Внизу суетились рабочие. Я наблюдала за ними, пока продолжалась посадка, и самолет не тронулся с места, а потом со счастливой улыбкой повернулась к Руне. Он, как обычно, не сводил с меня глаз.
Я взяла его руку:
— Спасибо.
Он пожал плечами:
— Всегда хотел, чтобы ты увидела Нью-Йорк. И сам хотел увидеть его вместе с тобой.
Руне наклонился, чтобы поцеловать меня, но я приложила пальцы к его губам.
— Поцелуешь на высоте тридцать девять тысяч футов. В небе. За облаками.
На меня повеяло запахом мяты. Не проронив ни слова, он выпрямился, а я рассмеялась. Самолет вдруг резко набрал скорость, и мы оторвались от земли.
Через какое-то время лайнер выровнялся, набрав высоту, и я вдруг увидела прямо перед собой губы Руне. Чтобы не улететь, я вцепилась в его рубашку и только успела выдохнуть, как его язык уже вступил в нежную схватку с моим.
— Поцелуй восемьсот восьмой, — прошептала я, когда он, отдуваясь, отстранился. — На высоте в тридцать девять тысяч футов. От моего Руне… и мое сердце едва не разорвалось.
К концу полета я собрала еще несколько поцелуев для моей копилки.
— Это нам? — недоверчиво спросила я, оглядывая пентхаус невозможно дорогого отеля на Манхэттене, куда привела нас моя тетя. Я посмотрела на Руне, за невозмутимым, как всегда, выражением которого проступало тем не менее изумление.
Диди подошла ко мне.
— Поппи, твоя мама ничего об этом пока не знает, но я уже некоторое время встречаюсь с одним человеком. — По ее губам скользнула мечтательная улыбка. — Скажем так, этот номер — его подарок вам обоим.
Совершенно ошарашенная, я уставилась на нее, а потом почувствовала, как внутри растекается тепло. Я всегда переживала за тетю Диди. Она часто оставалась одна. И теперь по ее лицу было видно, какое счастье в ее жизнь принес этот человек.
— Он заплатил за это? За нас? За меня?
Диди помолчала, потом объяснила:
— Строго говоря, платить не пришлось, поскольку этот закуток ему и принадлежит.
Челюсть у меня отвисла еще больше, если такое вообще было возможно, но тут Руне поддел ее пальцем и вернул на место. Я посмотрела на своего бойфренда:
— Ты знал?
Он пожал плечами:
— Диди помогла мне все спланировать.
— Значит, ты знал? — повторила я.
Руне покачал головой и, подхватив чемоданы, понес их в спальню справа. Похоже, указанию моего отца насчет раздельных спален он следовать не собирался.
— Знаешь, Попс, — сказала тетя, глядя ему вслед, — этот парень ради тебя и по битому стеклу пройдет.
Мое сердце омыла теплая волна света.
— Знаю, — прошептала я, чувствуя, как в душу снова просачивается тот самый, недавно появившийся страх.
Диди обняла меня, и я обняла ее:
— Спасибо.
Она поцеловала меня в висок.
— Не за что, Попс. Я и не сделала-то ничего. Все Руне. — Она помолчала. — Не думаю, что я когда-либо видела двух подростков, которые любили бы друг друга так сильно. Цени это время, Попс. Он любит тебя. И ты слепая, если не видишь этого.
— Я вижу.
Диди шагнула к двери:
— Мы здесь на двое суток. Я буду с Тристаном в его апартаментах. Если что-то понадобится, позвони на мой сотовый. Я неподалеку — всего в нескольких минутах.
— Хорошо.
Я еще раз обвела взглядом комнату, упиваясь ее великолепием. Потолок был такой высокий, что мне пришлось задрать голову, чтобы рассмотреть белую лепнину. Подобных огромных жилых помещений я еще не видывала, и большинство гостиных выглядели бы в сравнении с ней какими-то каморками. Я подошла к окну, и мне открылся панорамный вид Нью-Йорка.
У меня перехватило дух.
Взгляд находил и цеплялся за знакомые места, которые я видела только на картинках или в кино: Эмпайр-стейт-билдинг, Центральный парк, статуя Свободы, Флэтайрон-билдинг, Фридом-тауэр…
Столько всего надо увидеть! Сердце забилось в предвкушении чуда. Побывать здесь я мечтала всю жизнь. Я мечтала жить здесь. Мечтала устроить здесь свой дом. Блоссом-Гроув был моими корнями, Нью-Йорку предстояло стать моими крыльями.
А Руне Кристинсену быть моей вечной любовью. Пройти вместе со мной весь путь.
Заметив дверь слева, я подошла к ней, повернула ручку и охнула — в лицо ударил холодный ветер.
Сад.
Открытая терраса — с зимними цветами, скамеечками и, самое главное, великолепным видом. Застегнув парку, чтобы не замерзнуть, я переступила порог. На мои волосы тут же опустились белые снежинки. Я закинула голову, чтобы почувствовать их на лице, и они сели на ресницы, щекоча глаза.
Капельки воды потекли по лицу, и я рассмеялась и прошла дальше, трогая блестящие зеленые листочки. Дойдя до стены, я остановилась — передо мной, как на блюдечке, лежал Манхэттен.
Я вдохнула, и холодный воздух пробрал меня до костей. И тут меня обняли теплые руки, а подбородок уткнулся в плечо.
— Нравится? — мягко спросил Руне, понизив голос почти до шепота, чтобы не нарушить покой этого маленького рая.
Все еще не веря своим глазам, я покачала головой и повернулась — ровно настолько, чтобы видеть его лицо.
— Поверить не могу, что ты устроил это все. Что ты сделал мне такой подарок — подарил Нью-Йорк.
Руне поцеловал меня в щеку:
— Сегодня уже поздно, а у нас завтра много дел. Тебе нужно как следует отдохнуть, чтобы увидеть завтра все, что я запланировал.
В голове у меня выскочила неожиданная мысль:
— Руне?
— Ja?
— Можно я тоже отведу тебя в одно место?
Он нахмурил лоб, но все же согласился:
— Конечно.
Руне пытливо заглянул в мои глаза, стараясь угадать, что я задумала, но спрашивать не стал. Что и устроило меня как нельзя лучше, потому как узнай он заранее, я бы точно нарвалась на отказ.
— Хорошо, — улыбнулась я, до крайности собой довольная. Да, он подарил мне это путешествие. Да, он все спланировал. Но и я хотела показать ему кое-что, напомнить о его мечте. Мечте, достичь которую он мог и после моего ухода.
— Тебе надо выспаться, Поппимин. — Руне наклонился и поцеловал меня в шею.
Я взяла его за руку:
— Только вместе с тобой.
Он кивнул и поцеловал меня еще раз.
— Я приготовил ванну и заказал поесть. Искупаешься, поедим и спать.
Я повернулась, привстала на цыпочки и погладила его по щеке. Она была холодная.
— Люблю тебя. — Я говорила это часто и всегда искренне, от всей души. Я всегда хотела, чтобы он знал это.
— И я люблю тебя, Поппимин.
Мы вернулись в номер. Я приняла ванну. Потом мы поели. И отправились спать.
Я лежала в его объятиях посередине огромной кровати. Теплое дыхание касалось моего лица. Ясные голубые глаза отслеживали каждое мое движение.
В его объятиях я и уснула — с улыбкой в душе и на губах.
Глава 12
Песни сердца и обретенная красота
Я думала, что уже знаю, как ветер гуляет в волосах. Но оказалась совершенно не готова к тому ветру, который разметал мои пряди на вершине Эмпайр-стейт-билдинг.
Я думала, что меня целовали всяк, как только можно. Но оказалась совершенно не готова к поцелую, который подарил мне Руне в сказочном замке в Центральном парке. К поцелую на площадке статуи Свободы. В центре Таймс-сквер в окружении сияющих огней и людей, спешащих так, словно миру осталось жить считаные секунды.
Люди спешат всегда, даже если у них куча времени. У меня его оставалось мало, но я все делала медленно. Взвешенно. Со значением. Я смаковала каждое новое впечатление. Делала глубокий вдох и впитывала каждый новый вид, запах и звук.
Все просто. Остановись. Вдохни. Прими.
Разными были поцелуи Руне. Неторопливые и мягкие, нежные и легкие. Крепкие, быстрые, жадные. И от тех и от других захватывало дух. И те и другие отправлялись в копилку.
А еще больше оставались в сердце.
После ланча в «Стардаст-дайнер», которому досталось почетное третье место в списке моих любимых мест на земле, я вытащила Руне на улицу и отвела за угол.
— Ну что, теперь моя очередь? — спросила я.
Руне подтянул мой воротник и плотно застегнул на горле. Потом посмотрел на часы. Интересно, почему он постоянно проверяет время, подумала я. Перехватив мой недоверчивый взгляд, Руне взял меня за руку.
— У тебя два часа, а потом снова переходим на мой график.
В знак протеста против таких строгостей я наморщила нос и показала ему язык. Глаза у него вспыхнули, и уже в следующую секунду Руне прилепился к моим губам, а его язык атаковал мой. Я пискнула и вцепилась в него, чтобы не упасть под таким натиском.
— Не дразни меня, — шутливо предупредил Руне, оборвав поцелуй. Но я видела — огонь в глазах не погас. Сердце екнуло и сбилось на ходу. С тех пор как он вернулся в мою жизнь, мы только и делали что целовались. Целовались и разговаривали. Ничего другого Руне не требовал, но время шло, и во мне крепло желание дать ему больше.
Я помнила его ласки, помнила, как моего лица касались его губы и волосы, но прежде всего помнила то невыразимое обожание, с которым он смотрел на меня потом. То выражение, которое убедило меня, что случившееся навсегда изменило нас обоих. Соединило душой, телом и мыслями.
По-настоящему навсегда.
На веки вечные.
— Куда идем, Поппимин? — осведомился Руне, отрывая меня от раздумий и касаясь моей горящей щеки тыльной стороной ладони. — У тебя жар. — Сильный акцент, прозвучавший в его словах, встряхнул меня, как порыв холодного ветра.
— Все хорошо. — Я взяла его за руку и попыталась увлечь за собой, но Руне заставил меня остановиться и повернул лицом к себе.
— Поппи…
— Все хорошо, — повторила я и поджала губы, показывая, что говорю совершенно серьезно.
Руне раздраженно фыркнул и обнял меня за плечи. Мы двинулись дальше. Отыскав нужную улицу и квартал, я попыталась определить, как попасть к цели.
— Ты скажешь, наконец, куда мы идем?! — спросил Руне.
Убедившись, что мы взяли верное направление, я покачала головой. Руне поцеловал меня в висок и достал сигарету. Пока он курил, я воспользовалась паузой и огляделась. Я полюбила Нью-Йорк. Мне нравилось в нем все. Самые разные люди — художники, чиновники, мечтатели — все оказались вплетены в пестрый мозаичный ковер жизни. Шумные улицы, гудки машин, крики создавали прекрасный симфонический саундтрек для города, который никогда не спит.
Я вдохнула свежий запах снега в холодном хрустящем воздухе и теснее прижалась к Руне.
— Мы хотели это делать, — сказала я и улыбнулась, на мгновение закрыв глаза.
— Что? — спросил Руне. Знакомый запах сигаретного дыма улетел вперед.
— Это. Ходить по Бродвею. Гулять по городу, встречаться с друзьями, спешить домой. — Я потянула его за руку, лежавшую на моем плече. — Ты обнимал бы меня вот так, и мы бы разговаривали. Ты рассказывал бы мне, как провел день, а я рассказывала о своем. — Я улыбнулась — какая обычная, нормальная картина. Я никогда не хотела чего-то великого, сказочного — только нормальной жизни с тем, кого люблю. И большего не надо.
Даже сейчас, в этот момент.
Руне ничего не сказал. Я уже знала, что когда говорю вот так, откровенно, о том, чего никогда не будет, он предпочитает отмалчиваться. Ну и пусть. Я понимала, почему ему приходится защищать свое разбитое сердце.
Будь это в моих силах, я бы и сама сделала это за него, но, увы, я была причиной.
Мне оставалось только молиться о том, что я смогу стать и лекарством. Увидев афишу на старом здании, я посмотрела на Руне.
— Почти пришли.
Руне растерянно — к моему удовольствию — огляделся. Я не хотела, чтобы он понял, где мы. Не хотела, чтобы он сердился на меня за этот, задуманный с лучшими побуждениями, жест. Не хотела причинять ему боль, заставляя увидеть будущее, которое могло бы быть и его будущим.
Я повернула Руне налево, к зданию. Он бросил на землю окурок и взял меня за руку. Подойдя к кассе, я попросила билеты и потянулась за кошельком, но Руне остановил меня и расплатился сам, еще не зная за что. Я поднялась на цыпочки и чмокнула его в щеку.
— Какой джентльмен!
Он закатил глаза:
— Не уверен, что с тобой согласился бы твой отец.
Меня это так рассмешило, что я не удержалась и расхохоталась. Руне остановился, подождал, пока я успокоюсь, и протянул руку. А потом, наклонившись, прошептал мне на ухо:
— Почему, когда ты так смеешься, мне жуть как хочется тебя сфотографировать?
Я посмотрела на него, и смех угас сам собой.
— Потому что ты снимаешь все аспекты человеческого состояния — хорошее, плохое, правду. — Я пожала плечами и добавила: — Потому что при всех твоих протестах и ауре тьмы ты стремишься к счастью, хочешь быть счастливым.
— Поппи… — Руне отвернулся. Как всегда, признавать правду он не хотел, но она сидела в глубине его сердца. Все, что было ему нужно, это быть счастливым — он и я. Я же хотела, чтобы он научился быть счастливым без меня. Пусть даже я и оставалась бы с ним в его сердце.
— Руне, — мягко, но требовательно сказала я. — Пожалуйста, пойдем со мной.
Он посмотрел на мою протянутую руку и все же уступил, хотя за настороженным взглядом и промелькнула боль.
Я поднесла наши сомкнутые руки к губам, поцеловала тыльную сторону его ладони и прижала ее к щеке. Руне фыркнул, но все же обнял меня, и я провела его через двойные двери, за которыми и помещалась выставка.
Мы оказались в просторном, открытом зале с развешанными по высоким стенам знаменитым фотографиям. Взглянув на него краем взгляда, я успела заметить его удивленную, но совсем не бесстрастную реакцию на выставленную перед ним мечту. Фотографии, определившие наше время.
Фотографии, изменившие мир.
Фотографии, сохранившие момент во времени.
Руне глубоко вздохнул и со сдержанным спокойствием выдохнул. Посмотрел на меня. Открыл рот. И — ни звука. Ни слова.
— Я узнала о выставке прошлым вечером и подумала, что тебе надо ее увидеть. Она продлится еще год, но мне хотелось побывать здесь с тобой… разделить это с тобой.
Руне моргнул, но лицо его сохранило нейтральное выражение. Только желваки проступили на скулах. Я так и не могла решить — хорошо сделала или плохо.
Взяв его за руку и проконсультировавшись с путеводителем, я направилась к первой фотографии — моряка, целующего медсестру в центре Таймс-сквер. Подпись гласила: «Нью-Йорк. 14 августа 1945. День Победы над Японией. Альфред Эйзенштадт». Глядя на снимок, я ощутила легкость и возбуждение праздника. Я и сама как будто оказалась там, деля этот миг с другими людьми.
Руне тоже рассматривал фотографию. Выражение его не изменилось, но напряжение в лице ослабло, и он даже голову склонил чуточку набок.
Его пальцы задергались в моей руке.
И я снова улыбнулась.
Нет, он не остался равнодушным. И как бы ни сопротивлялся, ему это нравилось. Я чувствовала это так же явственно, как снег на лице на улице. Мы подошли ко второй фотографии, и его зрачки расширились. Снимок запечатлел движущиеся колонной танки и стоящего на их пути мужчину. Я быстро пробежала глазами по подписи, и сердце побежало быстрее. «Площадь Тяньаньмэнь, Пекин. 5 июня 1989. На фотографии попытка одиночки остановить силовое подавление протестов против китайского правительства».
Я подошла ближе. Сглотнула.
— Печально.
Руне кивнул.
Фотографии вызывали разные эмоции. Рассматривая снимки, я понимала, почему Руне так увлекся фотографией. Выставка демонстрировала, как выхваченные из жизни образы влияют на общество. Фотографии показывали человечество — в лучших и худших его проявлениях. Высвечивали жизнь во всей ее наготе и в чистейшей ее форме.
Мы остановились у следующей фотографии, и я сразу отвела глаза — не могла смотреть. Стервятник, терпеливо парящий над изнуренным ребенком.
Я двинулась дальше, а вот Руне задержался. Я остановилась и стала наблюдать за ним. Он изучал снимок внимательно, по частям, и глаза его вспыхивали, а пальцы сжимались в кулаки.
Страсть прорвалась наружу.
Наконец.
— Одна из самых противоречивых фотографий всех времен, — заговорил негромко Руне, не сводя глаз со снимка. — Репортер рассказывал о голоде в Африке и однажды увидел идущего за помощью мальчика и ждущего, чующего смерть стервятника. — Он перевел дыхание. — Эта фотография лучше всех письменных репортажей показала масштаб голода. Она заставляла людей смотреть, привлекала их внимание, демонстрировала со всей жестокостью, как голод стал стихийным бедствием. — Руне снова указал на припавшего к земле мальчика. — Благодаря ей возросла продовольственная помощь, пресса стала больше писать о страданиях людей. Она изменила мир.
Не сговариваясь, захваченные общим желанием, мы перешли к следующей фотографии.
— Знаешь, о чем она?
Большинство снимков передавали боль и страдание, и я с трудом заставляла себя смотреть на них. Но даже в самых графических и тяжелых фотограф находил определенную поэтическую грацию. Заключенные в рамку, они несли глубокое и бесконечное послание.
— Это протест против вьетнамской войны. Самосожжение буддийского монаха. — Руне наклонился, выпрямился, рассматривая снимок под разными углами. — Он даже не дрогнул. Принял боль, чтобы заявить главное: нужен мир. Война — ужасна и бессмысленна.
Время шло. Руне останавливался едва ли не у каждой фотографии. Объяснял. Рассказывал. Так мы добрались до последней, черно-белой фотографии молодой женщины. Снимок был старый, судя по прическе и макияжу — из шестидесятых. Женщине было, наверно, лет двадцать пять. И она улыбалась.
Я тоже улыбнулась. И посмотрела на Руне. Он пожал плечами, показывая, что не знает эту работу. Подпись — одно слово. «Эстер». Я поискала информацию в путеводителе, и на глаза навернулись слезы.
— Что? — с тревогой в голосе спросил Руне.
— «Эстер Рубинштейн. Покойная супруга спонсора выставки». — Я сморгнула слезы и, собравшись с силами, дочитала: «Умерла от рака в двадцать шесть лет».
Я сглотнула подступивший к горлу комок и подошла ближе к портрету.
— «Представлена ее супругом, который никогда больше не женился. Он взял портрет и повесил его здесь, на выставке. И еще тут написано, что хотя эта фотография не изменила мира, сама Эстер изменила его мир.
Слезы струились по щекам. Какое прекрасное чувство. Какая потрясающая честь.
Я вытерла слезы и посмотрела на Руне, но он отвернулся от портрета. Мое сердце сжалось. Я подошла к нему сзади. Он стоял, опустив голову. Я убрала волосы, скрывшие его лицо, и застывшее на нем страдальческое выражение резануло острой болью.
— Почему ты привела меня сюда? — сдавленным голосом спросил Руне.
— Потому что это то, что ты любишь. — Я обвела зал широким жестом. — Это школа искусств Тиш Нью-Йоркского университета. Здесь ты мечтал учиться. Я хотела, чтобы ты увидел, чего можешь достичь. Я хотела, чтобы ты увидел, что может быть у тебя в будущем.
Руне закрыл глаза, а когда открыл, увидел, что я подавляю зевок.
— Ты устала.
— Нет, не устала, — возразила я, хотя и понимала, что устала и что мне нужно хотя бы немного отдохнуть, чтобы увидеть что-то еще.
Он взял меня под руку:
— Пойдем. Ты полежишь до вечера.
— Руне… — Я попыталась спорить. Мне хотелось поговорить с ним еще, продолжить начатую тему, но Руне повернулся и негромко сказал:
— Поппимин, пожалуйста. Не надо. — Я услышала напряжение в его голосе. — Нью-Йорк был нашей мечтой. Без тебя никакого Нью-Йорка нет. Так что, пожалуйста… — Он вздохнул, а потом добавил грустным шепотом: — Перестань.
Я кивнула — не хотела видеть его таким, сломленным. Он поцеловал меня в лоб. Нежно. Как будто благодарил.
Мы вышли из выставочного зала. Руне остановил такси, и через несколько минут мы уже ехали к отелю. В апартаментах он лег вместе со мной и молча ждал, пока я усну.
Засыпая, я мысленно держала перед собой портрет Эстер и спрашивала себя, в чем ее муж нашел исцеление после того, как она вернулась домой.
Да и нашел ли он это исцеление.
— Поппимин?
Мягкий голос Руне вызвал меня из сна. В комнате было темно, и я ничего не видела, только чувствовала, как скользит по щеке палец Руне.
— Привет, малышка, — сказал он, когда я повернулась к нему. Повернулась, протянула руку, включила лампу на прикроватном столике. И, моргнув от света, посмотрела на Руне.
Посмотрела и улыбнулась. Облегающая белая футболка под коричневым блейзером, черные узкие джинсы, черные замшевые ботинки. Я потянула за лацканы блейзера.
— Классно выглядишь, малыш.
Руне довольно ухмыльнулся, наклонился и поцеловал меня в губы. Я заметила, что он уже успел вымыть и высушить волосы. Мало того, вопреки обыкновению, даже познакомил их с расческой, и золотистые пряди приобрели шелковистую мягкость.
— Как самочувствие? — спросил он.
Я вытянула ноги и руки:
— Немножко устала после всей этой ходьбы, но, в общем, в порядке.
Руне озабоченно нахмурился:
— Точно? В порядке? Если чувствуешь недомогание, то лучше никуда сегодня не ходить.
— Вот уж нет. Здесь меня ничто не удержит. — Я провела ладонью по мягкой ткани блейзера. — Тем более что ты так нарядился. Понятия не имею, что у тебя на уме, но если ты вылез наконец из кожаной куртки, то это несомненно нечто особенное.
— Я тоже так думаю, — согласился Руне после многозначительной паузы.
— Ну, тогда я определенно в полном порядке, — сказала я, добавив уверенности.
Руне помог мне сесть. Даже столь простая задача оказалась не вполне по силам.
Опустившись на корточки перед кроватью, он заглянул мне в глаза:
— Я люблю тебя, Поппимин.
— И я люблю тебя, малыш. — Сказав это, я невольно покраснела. Руне хорошел с каждым днем, но сегодня выглядел так, что от одного лишь взгляда на него сердце пустилось вскачь.
— Что бы мне надеть? — задумчиво спросила я, поднявшись с помощью Руне. Он провел меня из спальни в жилую зону, где нас ждала женщина, перед которой на столике лежали инструменты визажиста-парикмахера.
Я недоуменно взглянула на Руне, который в ответ нервно откинул волосы и пожал плечами.
— Это все твоя тетя. Чтобы довести тебя до совершенства. Хотя, по-моему, ты и без того прекрасна.
Женщина помахала мне и показала на стул перед ней. Руне поцеловал мою руку и кивнул.
— Начинайте. Нам надо выйти через час.
— Так что мне надеть? — забеспокоилась я.
— Об этом мы тоже позаботились. — Руне подвел меня к стулу, и я села, коротко представившись стилисту.
Руне устроился на диване у дальней стены и — что меня порадовало — достал из стоявшей на столике сумки фотоаппарат. Джейн — так звали мастера — взялась за работу. За то время, что она занималась моими волосами, Руне успел сделать несколько снимков.
Я была совершенно счастлива.
Джейн наклонилась, прошлась внимательным взглядом по моему лицу, еще раз коснулась кистью щеки, отступила и улыбнулась.
— Вот так, подружка. Готово. — Она отошла к столику и начала собирать инструменты, а закончив, чмокнула меня в щеку. — Удачного вечера, леди.
— Спасибо. — Я поднялась и проводила ее к выходу, а когда повернулась, рядом уже стоял Руне. Подняв руку, он осторожно дотронулся до моих только что завитых волос.
— Поппимин, — восхищенно произнес он. — Ты — прекрасна.
— Правда?
Он поднял фотоаппарат, несколько раз щелкнул кнопкой и снова кивнул.
— Идеально.
Не теряя времени, Руне взял меня за руку и потащил в спальню. На дверном крючке висело черное, с высокой талией, платье. На застеленном толстым ковром полу стояли туфельки на низком каблуке.
— Какое милое, — прошептала я, поглаживая мягкую ткань.
Руне снял платье с вешалки и аккуратно положил на кровать.
— Одевайся, малышка, и нам уже надо ехать.
Ошеломленная всем происходящим, я только кивнула. Руне вышел из комнаты и закрыл дверь. На то, чтобы надеть платье и туфельки, мне понадобилось несколько минут. Я подошла к зеркалу в ванной и ахнула. Идеально завитые волосы — ни одной «гуляющей» прядки. Стильный макияж «smokey-eyes». И сияющие сережки-восьмерки.
В дверь постучали.
— Входи! — крикнула я, не оборачиваясь, — оторваться от отражения в зеркале не было сил.
Руне встал у меня за спиной, и мое сердце растаяло, когда я увидела в зеркале его реакцию — потрясенное выражение на красивом, обычно бесстрастном лице.
Положив одну руку мне на плечо, он другой приподнял волосы на шее и прижался губами к местечку под ухом. Наши взгляды в зеркале встретились, и с моих губ сорвался вздох.
Мое черное платье слегка соскользнуло, обнажив шею и верх груди, и Руне покрыл их поцелуями, после чего перешел к подбородку и губам. Я застонала от наслаждения.
Руне протянул руку к столику, на котором лежал мой большой белый бант. Закрепив его на месте, он застенчиво улыбнулся:
— Вот теперь идеально. Теперь ты моя Поппи!
Хриплая нотка в его голосе тронула какую-то туго натянутую струну. Руне взял меня за руку и вывел из комнаты. Как истинный джентльмен он снял с вешалки мое пальто, развернул и помог вдеть руки в рукава.
— Готова? — Руне повернул меня лицом к себе.
Я кивнула. Он помог мне дойти до лифта, мы спустились и вышли на улицу, где нас уже ждал лимузин. Шофер в форме открыл дверцу. Мы сели. Я повернулась к Руне — спросить, как ему удалось все устроить, — но не успела даже открыть рот, как уже получила короткий и ясный ответ:
— Диди.
Водитель закрыл дверцу. Я взяла Руне за руки, и мы покатили по шумным улицам. За окном проносился Манхэттен.
Лимузин остановился, и я увидела его еще до того, как мы вышли. Увидела — и сердце встрепенулось от волнения. Я повернулась к Руне, но его рядом уже не было. Он возник снаружи, открыл дверцу и протянул руку.
Я ступила на тротуар и замерла, уставившись на огромное здание перед нами.
— Руне, это же Карнеги-холл.
Руне захлопнул дверцу, и лимузин отъехал. Он притянул меня к себе.
— Идем.
Пока мы шли к входу, я пыталась читать афиши, чтобы понять, какое представление нас ждет, но, как ни старалась, никакой информации относительно вечерней программы не обнаружила.
У больших дверей нас приветствовал смотритель, указавший, куда идти дальше. Мы миновали фойе и вошли в главную аудиторию. Все впечатления, уже переполнившие меня к этому моменту, померкли в сравнении с тем, что я испытала в этот миг, оказавшись в зале, о котором мечтала с самого детства.
Насладившись видом огромного, грандиозного помещения — золотые балконы, обитые красным плюшем кресла, ковры, — я нахмурилась. Мы были одни. Совершенно одни. Ни публики. Ни оркестра.
— Руне?
Он нервно переступил с ноги на ногу и указал на сцену. Я повернулась. В центре ее стоял один-единственный стул с прислоненной к нему виолончелью и смычком на сиденье.
Я попыталась угадать смысл происходящего, но так ничего и не поняла. Карнеги-холл. Один из самых знаменитых концертных залов во всем мире.
Ничего не объяснив и вообще не произнеся ни слова, Руне провел меня по проходу к сцене и остановился перед приставными ступеньками. Я повернулась к нему с немым вопросом, и он посмотрел мне в глаза.
— Поппимин, будь все по-другому… — Он вздохнул, но все же смог собраться и продолжить. — Будь все по-другому, ты обязательно сыграла бы здесь однажды как профессионал, в составе оркестра, быть частью которого всегда мечтала. — Руне сжал мою руку. — Ты исполнила бы соло, исполнить которое всегда хотела на этой сцене.
С ресниц сорвалась и потекла по щеке слезинка.
— Но поскольку жизнь так чертовски несправедлива… поскольку этому не бывать… В общем, я хотел, чтобы ты попробовала. Чтобы узнала… почувствовала, как это могло бы быть. Я хотел, чтобы ты получила шанс, который заслужила, не только как девушка, которую я люблю больше всех на свете, но и как самая лучшая виолончелистка. Самая талантливая исполнительница.
Постепенно до меня начало доходить. Весь масштаб, всю значимость того, что он сделал, медленно впитало мое обнаженное сердце. Чувствуя, как наполняются слезами глаза, я шагнула к нему, положила ладони ему на грудь и, так и не сумев сдержать эмоции, попыталась задать вопрос.
— Ты… как… Как ты…
Руне повернул меня к ступенькам и помог подняться на сцену, бывшую много лет пределом моих мечтаний.
— Сегодня, Поппимин, эта сцена твоя. Жаль, что свидетелем твоего выступления будет единственный зритель, но мне хотелось, чтобы ты сыграла здесь, чтобы твоя музыка наполнила этот зал и впечаталась в эти стены.
Он взял мое лицо в ладони, вытер слезы подушечками пальцев и прижался лбом к моему лбу.
— Ты заслужила это, Поппи. Ты должна была выступить здесь не раз, но… но…
Закончить у него не получилось, и я стиснула его запястья и крепко зажмурилась, отгоняя оставшиеся слезы.
— Все хорошо, малыш. — Я коснулась губами пульсирующей синей жилки и прижала его руку к груди. Глубоко вдохнула и невольно улыбнулась сквозь слезы, ощутив запах дерева. Закрыв глаза, я бы, наверно, услышала эхо всех тех музыкантов, которые поднимались на эту деревянную сцену, мастеров, прославивших этот зал своей страстью и гением.
— Вот мы и здесь. — Я отстранилась от Руне, открыла глаза и замерла, увидев с возвышения весь огромный зал. Я представила, что он заполнен пришедшими на концерт зрителями, мужчинами и женщинами, желающими ощутить музыку в своих сердцах. Картина получилась столь яркая и живая, что я улыбнулась.
А потом повернулась к тому, кто организовал это для меня. Слов не было. Я не знала, как выразить в полной мере благодарность за то, что он сделал. Такой восхитительный, такой сентиментальный подарок… исполнение мечты.
Я не нашлась, что сказать. И вместо этого повернулась и шагнула к одинокому, ожидающему меня стулу. Я провела ладонью по черной коже, ощутив под пальцами его мягкую текстуру. Подошла к инструменту, который всегда воспринимала как продолжение своего тела. Инструменту, рождавшему во мне радость, объяснить которую невозможно, пока не испытаешь ее сам. Радость, несущую в себе высшую форму мира, покоя, ясности и любви.
Я расстегнула пальто, стряхнула его с плеч на знакомые руки и оглянулась на Руне. Он наклонился, запечатлел поцелуй на моем обнаженном плече и, не сказав ни слова, спустился со сцены.
Где он сел, я не видела, потому что прожектор надо мной вспыхнул в полную силу, а свет в зале переключился на минимум. Я смотрела на ярко освещенный стул с пьянящей смесью волнения и беспокойства.
Шаг вперед отозвался разлетевшимся по всему залу эхом, и этот звук потряс меня до костей, натянул ослабевшие мышцы, наполнил их живительной силой. Я наклонилась, подняла виолончель, потрогала гриф. Потом взяла смычок. Легкий, изящный, он как будто прирос к пальцам.
Я опустилась на стул, подстроила шпиль под мой рост. Инструмент был чудесный, самый лучший из всех, что мне встречались. Я закрыла глаза и поднесла руку к струнам — проверить настройку.
Разумеется, все было идеально.
Я сдвинулась к краю сиденья, поставила поудобнее ноги, поерзала и наконец почувствовала, что готова.
И только тогда позволила себе поднять голову. Прожектор над головой сиял словно солнце. Я набрала воздуха в легкие, закрыла глаза, коснулась смычком струн…
И заиграла.
Первые ноты «Прелюдии» Баха передались от смычка струне и устремились в зал, заполнив все огромное пространство божественными звуками. Музыка приняла меня в свои объятия, овладела мной и полилась из меня, обнажая мою душу перед каждым, способным слышать.
В моем воображении зал был полон, забит до отказа любителями музыки, пришедшими послушать меня, услышать музыку, которая требовала быть услышанной. Услышать мелодии, не оставляющие в зале сухих глаз. Сыгранные с такой страстью, которая наполнит все сердца и тронет все души.
Падающий сверху жаркий свет грел мышцы и гасил боль, и я улыбалась ему. Пьеса подошла к концу. Я начала другую. Я играла и играла, не ведя счет времени, пока не заболели пальцы, и только тогда подняла смычок. Тишина окутала зал. Что еще сыграть? Я знала. Знала, что хочу и что должна сыграть.
Я всегда мечтала, что когда-нибудь исполню эту пьесу на престижной сцене. Пьесу, которая, как никакая другая, была созвучна моей душе. Пьесу, которая еще долго после моего ухода будет оставаться на этой сцене. Ту, которой я попрощаюсь с моей страстью. Услышав ее чистейшее эхо в этом величественном зале, я уже никогда не захочу и не смогу исполнить ее еще раз. Никакой виолончели больше не будет.
Здесь я оставлю эту частичку сердца. Здесь попрощаюсь со страстью, дававшей мне силы, бывшей моей спасительницей в самые трудные времена отчаяния и одиночества.
Здесь я оставлю ноты, которые будут вечно танцевать в воздухе.
Руки немного дрожали, и, прежде чем начать, я взяла небольшую паузу. Слезы текли быстрее и быстрее, но вызвала их не печаль. Они были прощанием двух близких друзей — музыки и породившей ее жизни, — говорящих одна другой, что им нужно расстаться, но что когда-нибудь они снова будут вместе.
Я положила смычок на струны и выпустила «Лебедя» из «Карнавала животных». Дрожь в руках унялась, но едва я услышала любимую музыку, как к горлу подступил комок. Каждая нота звучала тихой молитвой, каждое крещендо — громогласным гимном Богу, наградившему меня этим даром. Даром исполнять музыку и чувствовать ее в своей душе.
А еще эти ноты были благодарностью инструменту, позволившему славить его с таким восхитительным изяществом. Позволившему любить его так, что он стал частью меня, самой тканью моего естества.
И, наконец, вплывая мягко в зал, эти нежные звуки несли мою вечную благодарность парню, молча сидящему в темном зале. Парню, чей талант фотографа не уступал моему таланту музыканта. Он был моим сердцем. Сердцем, отданным мне еще в детстве. Сердцем, ставшим половинкой моего собственного. Я благодарила того, кто, страдая сам, подарил мне это прощание. Подарил, в настоящем, мечту, которая уже никогда не осуществится в будущем.
Отзвучала последняя нота. Рука дрогнула, и слезы упали на дерево. Я не опустила смычок, я держала его до тех пор, пока последнее эхо верхней ноты не улетело в небеса, чтобы занять там место среди звезд.
Только тогда я тихонько поднялась и, улыбнувшись, представила публику и аплодисменты. Я склонила голову, опустила на пол виолончель и положила сверху смычок. Как все и было.
В последний раз поклонившись зрителям, я вышла из туннеля света и ступила в темноту. Стук каблуков прозвучал вялым барабанным ритмом. Я была уже на последней ступеньке, когда в зале, сметая останки мечты, зажегся свет.
Переведя дух, я прошла взглядом по пустым красным креслам, потом еще раз посмотрела на виолончель, лежавшую на сцене в том же положении и терпеливо дожидавшуюся следующего юного музыканта, чтобы благословить его милостью.
Все закончилось.
Руне медленно поднялся со стула. Следы пережитых эмоций остались на щеках красными пятнами, но сердце замерло на полушаге, когда я увидела застывшее на его прекрасном лице выражение.
Он понял меня. Понял, что это было. Понял, что я играла в последний раз.
И в его глазах я видела печаль и гордость.
Руне не стал вытирать мои слезы, а я оставила нетронутыми его. Закрыв глаза, он поцеловал меня, и я ощутила любовь, принять которую мне посчастливилось в семнадцать лет.
Любовь, не знающую границ.
Любовь, вдохновляющую на создание музыки, которая живет веками.
Любовь, которую должно чувствовать и ценить.
Когда Руне отстранился, я уже знала, что этот поцелуй будет записан на розовом бумажном сердечке и отправится в стеклянную банку на особых правах.
Поцелуй восемьсот девятнадцатый был тем поцелуем, который изменил все. Он доказал, что хмурый длинноволосый мальчишка из Норвегии и чудная девчонка из Глубокого Юга могут встретить любовь, достойную встать в ряд самых великих.
— У меня нет слов, — прошептал он со вздохом. — Ни на одном, ни на другом языке.
Я невесело улыбнулась. Потому что и сама не знала их.
Молчание было лучше всяких слов.
Взяв Руне за руку, я повела его по проходу, потом через фойе на улицу. Порыв холодного февральского ветра приятно освежил лицо. Лимузин ждал нас у тротуара; должно быть, Руне позвонил водителю по телефону.
Мы снова сели сзади. Машина тронулась с места и влилась в поток движения. Руне привлек меня к себе, и я охотно приняла приглашение, вдохнув его свежий запах на блейзере. На каждом повороте сердце резко ускоряло бег. Выйдя из лимузина, я взяла Руне за руку. Мы вошли в отель и молча, не обменявшись ни словом, поднялись в лифте на последний этаж. Писк карты, открывшей электронный замок, громом прозвучал в притихшем коридоре. Я открыла дверь и вошла в гостиную, печатая каждый шаг на деревянном полу. Не останавливаясь, проследовала к спальне. И только у двери оглянулась, чтобы убедиться, что Руне не отстал.
Наши взгляды не встретились — столкнулись, и я поняла, что он нужен мне даже больше, чем воздух. Я хотела его.
Хотела быть с ним.
Любить его.
Он шумно перевел дух и шагнул ко мне, а когда взял меня за руку, под кожей как будто пробежали огненные змейки света и любви.
Темные, почти черные, зрачки расширились, так что от голубых радужек остался только тонкий ободок. Он хотел меня не меньше, чем я его.
Невероятное спокойствие прошло через меня неторопливой рекой. Впустив Руне в спальню, я закрыла дверь. Атмосфера в комнате сгустилась. Пристально, как будто даже оценивающе, Руне следил за каждым моим движением.
Заручившись вниманием, я отпустила его руку, отступила и принялась расстегивать пуговицы пальто дрожащими пальцами. При этом ни он, ни я не спускали друг с друга глаз. Справившись наконец с пуговицами, я сбросила пальто с плеч, и оно медленно соскользнуло на пол.
Его взгляд напрягся, пальцы висевших по бокам рук то сжимались в кулаки, то разжимались.
Я сняла туфли, и босые ноги утонули в глубоком ковре. Вдохнув для верности, я шагнула к Руне, остановилась перед ним и подняла глаза. Веки как будто налились свинцом. Грудь Руне вздымалась под белой футболкой. Чувствуя, как теплеют щеки, я положила обе ладони ему на грудь, и он замер от этого прикосновения. Продолжая смотреть в глаза, я сдвинула руки вверх, к плечам, и освободила его от блейзера, который упал на пол.
В какой-то момент нервы вдруг разыгрались, и я сделала три глубоких вдоха, стараясь удержать их под контролем. Руне не двигался и стоял совершенно неподвижно, позволяя мне полную свободу действий. Я провела ладонью по его животу, взяла руку и переплела пальцы, а потом, что уже стало у нас привычкой, поцеловала сплетенные пальцы и, глядя на них, прошептала:
— Вот так и должно быть всегда.
Руне сглотнул и молча кивнул в знак согласия.
Я сделала шаг назад, потом отступила еще. Я вела нас к кровати. Горничная уже приготовила постель и отвернула одеяло. И чем ближе к ней, тем спокойнее становилось у меня на душе. Потому что это было правильно. Никто, никто на свете не мог, не имел права сказать мне, что это неправильно.
У края кровати я остановилась, разжала пальцы и, подгоняемая желанием, взялась за низ футболки и потянула вверх, через голову. Руне и сам помог мне стащить ее и бросил на пол. Теперь он стоял передо мной с голым торсом.
Вообще-то, он спал так каждую ночь, но сегодня — то ли из-за особой, заряженной атмосферы, то ли из-за моего настроя, вызванного его сюрпризом, — эта нагота воспринималась иначе.
По-другому.
По-особенному.
Я пробежала кончиками пальцев по холмам и долинам его живота, оставляя после них «гусиную кожу». Руне стиснул зубы и задышал коротко и шумно.
Перейдя к его широкой груди, я подалась вперед и прижалась губами к тому месту, где билось сердце. Оно не просто билось, а трепетало почти с такой же частотой, что и крылья колибри.
— Ты — совершенство, Руне Кристиансен, — прошептала я и, подняв глаза, встретила его влажный взгляд.
— Jeg elsker deg, — прошептали полные губы.
Он любил меня.
Я кивнула — да, слышала, — потому что вдруг голос пропал, и сделала еще шаг назад. Руне не сводил с меня глаз.
Я подняла руку, сдвинула с плеча бретельку. Потом проделала то же самое с другой. Руне затаил дыхание. Шелковое платье, шурша, соскользнуло к ногам, и я опустила руки, открыв почти всю себя тому, кого любила больше всех в мире.
Открыв шрамы, полученные за последние два года. Боевые шрамы, заработанные в схватке, которую я неустанно вела все это время.
Взгляд Руне скользнул вниз, потом опять вверх, но в глазах не было отвращения — только чистота любви, только желание и, прежде всего, обнаженное сердце.
Открытое только для моих глаз.
Как всегда.
Медленно, шаг за шагом, Руне все же приблизился ко мне, и его теплая грудь коснулась моей. Он протянул руку, убрал за ухо прядку волос, прошел пальцами по моей голой шее и спустился ниже…
По спине пробежали мурашки. Затрепетали веки. Я уловила знакомый мятный запах. Нежные губы коснулись обнаженной кожи.
Боясь упасть, я положила руки на рельефные плечи.
— Поппимин, — хрипло прошептал он мне в ухо.
— Люби меня, Руне, — выдохнула я.
Руне замер на секунду, поймал мой взгляд и прижался губами к моим губам. Поцелуй был нежным, как и прикосновение, и сладким, как этот вечер. И еще он был другим, в нем крылось обещание того, что ждало впереди. Обещание любить меня так же нежно, как я любила его.
Руне целовал меня, не отрываясь, пока я не стала задыхаться, и только тогда подхватил на руки и бережно положил на кровать.
Лежа на мягком матрасе, посередине кровати, я смотрела, как он избавляется от остатков одежды. Сняв все, Руне забрался в постель и лег рядом со мной.
Мое сердце переключилось в ритм стаккато. Повернувшись на бок, я погладила его по щеке.
— Я тоже люблю тебя.
Руне закрыл глаза, словно слышать эти слова ему было важнее, чем собственное дыхание, потом придвинулся ближе и навис надо мной. Мы посмотрели друг на друга, и я замерла, когда он спросил:
— Ты уверена, Поппимин?
Я не удержалась от улыбки.
— Больше, чем в чем-либо в жизни.
Глаза закрылись сами. Он снова поцеловал меня, а его руки уже принялись заново исследовать мое тело. И мои тоже пустились в такое же познавательное путешествие. С каждой лаской, с каждым поцелуем узлы слабели и распускались, пока мы снова не стали Поппи и Руне.
Воздух сгущался и теплел, и наконец это случилось. Две половинки соединились, став единым целым, и в мое тело хлынули свет и жизнь. Сердце переполнилось любовью, и я даже испугалась, что оно не вместит все доставшееся ему счастье.
Сжимая друг друга в объятиях, мы рухнули с небес на землю, и Руне, жаркий и мокрый, уткнулся лицом в мое плечо.
Продлевая чудный миг, я не открывала глаза. Наконец Руне поднял голову, и я мягко и бережно поцеловала его. Так же мягко и бережно, как он взял меня. Так же мягко и бережно, как он обращался с моим хрупким сердцем.
Он обнял меня, прижал к себе, и я, отстранившись наконец и встретив его исполненный любви взгляд, прошептала:
— Поцелуй восемьсот двадцатый. От моего Руне. В самый восхитительный день моей жизни. После того, как мы занимались любовью. И мое сердце едва не разорвалось.
Вытянувшись рядом, Руне коротко поцеловал меня еще раз, обнял и закрыл глаза.
Я тоже закрыла глаза и погрузилась в легкий сон. Сквозь этот сон я чувствовала, как он поцеловал меня в висок и встал с кровати. Дверь за ним закрылась, но открылась другая, та, что вела на террасу.
Отбросив одеяло, я сняла висевший на крючке халат, набросила его на плечи и сунула ноги в шлепанцы. Проходя по комнате, я улыбнулась, уловив знакомый запах Руне.
Я вошла в гостиную и повернула к другой двери, но замерла на полушаге, увидев за широким окном Руне. Стоящего на коленях. Совершенно разбитого.
Глядя на него, сидящего на холодном ветру в одних только джинсах, я чувствовала, как сердце рвется пополам. Слезы катились по его лицу, и спина сотрясалась от рыданий.
Мой Руне. Несчастный и одинокий. Мерзнущий под падающим снегом.
— Руне. Малыш, — прошептала я, и ноги понесли меня к двери, а рука повернула ручку. Под ногами хрустнул легший тонким, свежим слоем снег. Руне как будто не слышал. Но я слышала его. Слышала его сбивчивое дыхание, но, что еще хуже, слышала рвущие душу рыдания. Его переполняла боль — я видела это в его позе.
Не удержав в себе всколыхнувшиеся эмоции, я метнулась к нему и обхватила обеими руками. Он замерз, но как будто не чувствовал холода и теперь упал мне на колени, ища утешения в моих объятиях.
Упал, сломавшись окончательно. Слезы текли по щекам, дыхание срывалось с губ белыми облачками, тающими в морозном воздухе.
— Ш-ш-ш, — шептала я, баюкая его, прижимая к себе и пытаясь успокоить Руне через собственную боль. Видеть любимого человека в таком состоянии было нестерпимо. Я знала, что скоро уйду, но всем сердцем сопротивлялась зову дома.
Свет моей жизни меркнул, и мне нужно было смириться с этим, но теперь я больше всего хотела сражаться вместе с Руне и за Руне, даже зная, что это бесполезно.
Не я контролировала мою судьбу.
— Малыш… — Мои слезы терялись в его длинных волосах у меня на коленях.
Руне взглянул на меня несчастными глазами и прохрипел:
— Почему? Почему я должен потерять тебя? — Он покачал головой, и его лицо исказила боль. — Я не могу, Поппимин. Не могу смотреть, как ты уходишь. Не могу мириться с мыслью, что тебя не будет рядом до конца жизни. — Он всхлипнул, но сумел сдержаться. — Как можно сломать такую любовь? Как можно отнять жизнь у такой юной девушки?
— Не знаю, малыш, — прошептала я, отворачиваясь, чтобы не сорваться самой. Передо мной мерцали огни Нью-Йорка, и я постаралась отогнать вызванную этими вопросами печаль.
— Что есть, то есть, Руне, — грустно сказала я. — Никакой причины, почему так случилось со мной, нет. А разве я какая-то особенная? Такого не заслуживает никто, но мне… — Я не смогла договорить сразу, но все же добавила: — Мне ничего не остается, как верить, что есть некая большая причина, а иначе я бы просто рухнула от боли. Оставить все, что я люблю… оставить тебя… особенно после всего сегодняшнего…
Руне посмотрел в мои глаза и, собравшись с силами, встал и поднял меня на руки. Сама я, наверно, не смогла бы подняться с холодной, влажной земли из-за слабости.
Обхватив Руне за шею, я положила голову ему на грудь и закрыла глаза. Он внес меня в спальню, опустил на кровать и накрыл одеялом. А потом лег рядом и обнял.
Глаза у него покраснели, волосы намокли от снега. Я погладила его по лицу, и он ткнулся в мою ладонь.
— Я знал, что ты попрощаешься. И я… — Он сбился, но откашлялся и закончил: — Там, на сцене, все получилось слишком реально. — В его глазах снова блеснули слезы. — Я понял — да, все это происходит на самом деле. — Он взял мою руку и прижал к груди. — Не могу дышать. Не могу дышать, когда пытаюсь представить жизнь без тебя. Ничего не получается. И скоро… скоро… — Снова слезы. Он отвернулся. — Ты боишься, Поппимин? Я — да. Мне страшно. Страшно даже думать о том, каким адом будет жизнь без тебя.
Я думала об этом и теперь позволила себе говорить откровенно.
— Нет, я не боюсь умирать. — Боль, какой не случалось раньше, внезапно пронзила меня, каждую клеточку тела. Я опустила голову и прошептала: — Но после твоего возвращения, после того, как мое сердце обрело свой ритм, я стала чувствовать то, чего не чувствовала раньше. Я прошу дать мне больше времени, чтобы получить от тебя больше поцелуев. Но хуже всего то, что я начинаю ощущать страх.
Руне подвинулся ближе и обнял меня крепче. Я поднесла дрожащую руку к его щеке.
— Боюсь оставить тебя. Мне не страшно умирать, но мне страшно оказаться где-то без тебя. — Руне зажмурился и застонал, как будто от боли.
— Не представляю себя без тебя, — сказала я негромко. — Даже когда ты был в Осло, я рисовала твое лицо, вспоминала твои руки. Я могла слушать твои любимые песни и читать поцелуи в банке. Как раньше делала бабуля. Я закрывала глаза и чувствовала твои губы. Вспоминала ту ночь, когда мы впервые были вместе… какой покой снизошел на меня в тот миг.
Я шмыгнула носом и быстро вытерла мокрые щеки.
— Тебя не было со мной, но ты был в моем сердце, и я могла держаться за это. Не то, что нужно для счастья, но хотя бы что-то. — Я поцеловала Руне в губы — так захотелось насладиться его вкусом. — Но теперь, после всего случившегося, мне становится страшно. Потому что кто мы такие друг без друга?
— Поппи…
Удержаться не получилось, и слезы хлынули свободно.
— Я слишком сильно любила и сделала только хуже тебе. А теперь и меня ожидает приключение в одиночку. И мне невыносимо больно оттого, как страдаешь ты. Не могу оставить тебя одного и с такой болью.
Руне прижал меня к груди. Я плакала. Он плакал. Наши слезы смешались. Слезы любви и потери.
Наконец Руне мягко отстранил меня и посмотрел в глаза, словно искал там ответа на какой-то свой вопрос.
— Поппи, а на что, по-твоему, похожи небеса?
Я видела по выражению его лица, что он действительно хочет знать, и, собравшись с силами, прошептала:
— Небеса — это мечта.
— Мечта, — эхом отозвался Руне, и уголок его губ дрогнул в улыбке.
— Я читала где-то, что наши сны — это на самом деле посещение дома. Дома, понимаешь? Того, что на небесах. — Внутри меня по телу начало растекаться тепло. — Мой небесный дом — с тобой, в вишневой роще. И мы в нем такие, какими были в семнадцать лет.
Я потянула прядку его волос, пропустила, любуясь золотистым оттенком, между пальцами.
— У тебя было такое, что просыпаясь, ты ощущал сон как нечто реальное?
— Ja, — тихо ответил Руне.
— Это потому, что в каком-то смысле так оно и есть. И когда ты ночью закроешь глаза, я буду там, ждать тебя в вишневой роще.
Прижавшись к нему теснее, я добавила:
— А потом, когда придет твое время вернуться домой, ты придешь туда же, и я встречу тебя. Ни боли, ни страха, ни тревог. Только любовь, — мечтательно вздохнула я и, закрыв глаза, улыбнулась. — Представь только. Место, где нет боли и страданий. Когда я думаю об этом, мне нисколько не страшно.
— Прекрасно, — с сильным акцентом произнес он. — Я бы хотел, чтобы так оно и было.
Я открыла глаза и увидела в его лице желание принять мою веру.
— Так будет, — с полной уверенностью сказала я. — Это не конец. Конца не будет.
Руне подтянул меня так, чтобы моя голова оказалась на его груди, и я закрыла глаза, убаюканная гипнотизирующим ритмом его глубокого дыхания. Я уже засыпала, когда он шепнул:
— Поппимин?
— Да?
— Чего ты хочешь от оставшегося времени?
Я подумала, но вспомнить смогла немногое.
— Хочу еще раз увидеть, как расцветает вишневая роща. Хочу потанцевать с тобой на школьном балу. — Я улыбнулась ему. — Чтобы ты был в смокинге и с зачесанными назад волосами.
Руне с улыбкой покачал головой.
Объятая снизошедшим на нас покоем, я сказала:
— Хочу увидеть красивый рассвет. — Я приподнялась и посмотрела на Руне. — Но больше всего хочу вернуться домой с твоим поцелуем на губах.
Я снова свернулась у его груди, закрыла глаза и прошептала:
— Вот об этом я и молюсь больше всего. Протянуть столько, чтобы все это успеть.
— Прекрасные желания, малышка, — прошептал Руне, поглаживая меня по волосам.
С этим я и уснула.
Мечтая о том, как сбудутся все мои желания.
Счастливая.
Глава 13
Темные тучи и голубые небеса
Учитель бубнил что-то о химических соединениях, а я от нечего делать выводил кружочки на бумажке. Мысли вертелись вокруг Поппи. Так было всегда, но сегодня — по-особенному. После возвращения из Нью-Йорка прошло четыре дня, и с каждым днем она становилась все тише и молчаливее.
Снова и снова я спрашивал ее, в чем дело, что случилось. И каждый раз она отвечала одинаково — ничего. Но я понимал — что-то не так. А в это утро получилось еще хуже.
Ее рука в моей, когда мы шли в школу, была слабой, безвольной и горячей. Я спросил, не заболела ли она, но Поппи только покачала головой и улыбнулась.
Думала, что мне и этого достаточно, что улыбнется — и я отстану. Обычно так и бывало, но не сегодня.
Ей определенно нездоровилось. Мысли снова и снова возвращались к ланчу, когда мы сидели с ребятами, и в какой-то момент Поппи прильнула ко мне и притихла. Она ничего не сказала и только водила пальцем по моей руке. Каждый раз, когда я думал об этом, сердце сжималось от боли.
День тянулся невыносимо долго, и каждая минута добавляла беспокойства и уверенности в том, что с ней не все в порядке. Что отведенное ей время истекает. Я быстро выпрямился и попытался не поддаться волне паники, вызванной нарисованной воображением картины. Не получилось.
С последним звонком, известившим об окончании занятий, я сорвался с места, выскочил в коридор и подбежал к ее шкафчику. Там уже стояла Джори.
— Где она? — отрывисто спросил я.
Удивленная моим тоном, Джори отступила и указала на заднюю дверь, а когда я поспешил к выходу, крикнула мне в спину:
— Она не очень хорошо сегодня выглядела. Что-то мне за нее неспокойно.
Мурашки побежали у меня по спине. Я выскочил на улицу, пробежал взглядом по дворику и увидел Поппи у дерева в парке напротив. Пробившись через толпу, я помчался к ней.
Она стояла, словно в трансе, глядя прямо перед собой куда-то вдаль, и заметила меня не сразу. Было тепло, и лицо ее поблескивало от пота, а кожа на руках и ногах казалась неестественно бледной.
Я встал прямо перед ней. Поппи среагировала не сразу, а сначала моргнула и лишь потом сфокусировала взгляд на мне и вымученно улыбнулась.
— Руне, — медленно прошептала она.
Я потрогал ее лоб. Нахмурился.
— Что случилось? Что с тобой?
— Ничего, — безразлично ответила Поппи. — Просто устала.
В груди глухо застучало — она точно лгала. Мне было нужно побыстрее доставить ее домой. Я обнял Поппи и едва не обжег руку, коснувшись ее шеи.
— Пойдем домой, малышка, — как можно мягче сказал я, сдержав проклятие. Поппи обхватила меня обеими руками. Сил у нее, похоже, осталось немного, и она воспользовалась мной, чтобы удержаться на ногах. Я бы взял ее на руки, но знал, что ей это не понравится.
Мы вышли на парковую дорожку, и я на секунду закрыл глаза. В груди растекался страх. Страх перед ее болезнью. Страх перед тем, что это… Я пытался подавить его, но получалось плохо.
Поппи молчала, но дышать ей становилось все труднее. Когда мы добрались до вишневой рощи, она уже едва передвигала ноги. Я чувствовал, как слабеет ее тело, как уходит из него сила.
— Поппи! — Она начала падать, но я успел ее подхватить. Убрал с лица влажные волосы. Заглянул в глаза. — Поппи? Поппи, малышка? Что с тобой?
Глаза у нее начали закатываться, но пальцы ухватили мою руку и сжали со всей силой, на какую она только оказалась способна. Я почувствовал лишь легкое пожатие.
— Руне, — выговорила она. Дыхание ее участилось. Поппи пыталась сказать что-то еще, но ей недоставало воздуха.
Я сунул руку в карман, достал сотовый и набрал 911. Потом, дождавшись ответа оператора, продиктовал домашний адрес Поппи и коротко рассказал о ее болезни.
Подхватив ее на руки, я уже сделал несколько шагов, когда она коснулась ладонью моего лица. По ее щеке ползла одна-единственная слезинка.
— Я… я… не готова… — собрав все силы, прошептала Поппи и, теряя сознание, уронила голову.
Страх рванул сердце. Болезнь сломила ее дух и тело. И я побежал. Побежал быстрее, чем когда-либо раньше.
Возле нашего дома гуляла с Элтоном мама.
— Руне? — окликнула она и, увидев у меня на руках Поппи, охнула: — Нет!
Издалека донесся пронзительный вой сирены. Не теряя времени, я пинком распахнул дверь Личфилдов и вбежал в гостиную. Там никого не было.
— Помогите! — крикнул я во весь голос и тут же услышал чьи-то быстрые шаги.
— Поппи! — Миссис Личфилд ворвалась в комнату, когда я укладывал мою девушку на диван. — О боже! Поппи! — Она упала на колени перед диваном и положила ладонь на лоб дочери. — Что с ней? Что случилось?
Я покачал головой:
— Не знаю. Она просто обмякла и потеряла сознание. Я позвонил… вызвал «Скорую».
С улицы долетел звук подъезжающей машины. Миссис Личфилд выбежала из дома. Я проводил ее взглядом, чувствуя, как застывает все внутри, и рассеянно провел ладонью по волосам. Что делать? Что делать?
Что-то холодное коснулось моего запястья.
Я посмотрел на Поппи — она задыхалась. У меня как будто заледенело лицо.
— Все будет хорошо, Поппимин. Обещаю. — Я наклонился к ней, взял ее руку и поцеловал.
Хватая ртом воздух, она все же дотянулась до моего лица и чуть слышно пробормотала:
— Домой… еще рано…
Я кивнул и, сжав ее руку, снова поцеловал.
По коридору уже бежали врачи «Скорой». Я поднялся и отступил в сторону, чтобы они могли подойти к дивану, но Поппи вцепилась в мою руку. Из ее глаз снова выкатились слезы.
— Я здесь, малышка. — Мой голос сорвался на шепот. — Я не оставлю тебя.
Она с благодарностью посмотрела на меня. За спиной кто-то всхлипнул. Я повернулся. В сторонке, обнявшись и плача, стояли Саванна и Айда. Миссис Личфилд тоже подошла к дивану и поцеловала Поппи в щеку.
— Все будет хорошо, доченька, — прошептала она, но посмотрела на меня, и я понял, что ей самой плохо в это верится.
Миссис Личфилд тоже думала, что время истекло.
Один из врачей надел на лицо Поппи кислородную маску и перенес с дивана на носилки. Она не отпускала мою руку и не сводила с меня глаз, из последних сил борясь со слабостью.
Миссис Личфилд догнала нас уже на улице, но, увидев, что Поппи держит меня за руку, шепнула:
— Поезжай с ней, Руне. Я приеду с девочками.
Я видел, как ей тяжело и как хочется быть с дочерью.
— Отправляйся с Поппи и Руне, а Саванну и Айду предоставь мне. Мы подъедем чуть позже, — сказала моя мама.
Я уже забрался в машину, и миссис Личфилд последовала за мной.
По пути в больницу глаза Поппи все же закрылись, но мою руку она так и не выпустила. А когда миссис Личфилд не выдержала и разрыдалась, я взял за руку и ее.
Я проводил Поппи до самой онкологической палаты. Сердце колотилось так быстро, что все — доктора и медсестры — смешались в одно размытое пятно.
К горлу подступил комок. Внутри разрасталось оцепенение. Поппи проходила процедуры — у нее брали кровь, ей измеряли температуру, снимали какие-то показатели. Моя девочка держалась. Дыхание сбилось, и грудь трепетала в каком-то рваном ритме, но она сохраняла спокойствие. Сопротивляясь слабости, Поппи старалась не закрывать глаза, цеплялась взглядом за меня и в самые трудные моменты, почти соскальзывая в бесчувственность, шептала мое имя.
Я тоже держался — ради нее. Не мог позволить, чтобы она видела, как я сдамся.
Для нее было важно, чтобы я оставался сильным.
Рядом со мной, держа за руку, сидела миссис Личфилд. Позднее прибежал мистер Личфилд — с кейсом в руке и сбившемся галстуке.
— Айви, — выдохнул он, — что случилось?
Миссис Личфилд смахнула со щек слезы и взяла мужа за руку.
— Упала в обморок по дороге из школы. Хорошо, что Руне был рядом. Доктора говорят, дело в какой-то инфекции. Иммунная система ослабла, и она уже не в состоянии сопротивляться.
Мистер Личфилд посмотрел на меня, а миссис Личфилд добавила:
— Руне принес ее домой. На руках. И вызвал «Скорую». Он спас ее, Джеймс. Руне спас нашу девочку.
От слов миссис Личфилд у меня защипало в глазах. Мистер Личфилд кивнул, вероятно, в знак благодарности, и поспешил к дочери. Но не успел он коснуться ее руки, как доктора заставили его отойти.
К нам врач вышел минут через пять.
— Мистер и миссис Личфилд, — произнес он с непроницаемым лицом. — Организм Поппи пытается бороться с инфекцией. Как вы понимаете, ее иммунитет в значительной степени ослаблен.
— Это все? — спросила миссис Личфилд сдавленным голосом.
Значение сказанного доктором дошло до меня не сразу. Я отвернулся, почувствовав на себе чей-то взгляд.
Врачи отошли от кровати, и я увидел Поппи — с кислородной маской на лице и трубками капельниц в обеих руках. Но ее глаза, чудесные зеленые глаза, смотрели на меня.
— Мы сделаем все, что можем, — добавил доктор.
Слушая его, я понял, что Поппи введут в состояние искусственной, медикаментозной комы, чтобы помочь ей бороться с инфекцией. Понял, что перед этим нам будет позволено посетить ее. Дальше я не слушал — ноги уже несли меня к ней. Она протянула руку — звала меня.
Взяв ее за руку, я увидел, что Поппи ищет меня глазами. Найдя, она едва заметно качнула головой. Я на секунду зажмурился, а когда открыл глаза, не смог удержать выкатившуюся слезинку. Поппи прохрипела под маской что-то неразборчивое, но я знал, что она хочет сказать. Это еще не прощание. Она не покидает меня. Я видел обещание в ее глазах.
— Руне, сынок, — сказал мистер Личфилд. — Позволь нам побыть с Поппи, поговорить немного.
Я кивнул и отступил в сторонку, но Поппи опять издала какой-то звук и качнула головой. Ее пальцы снова сжали мою руку. Она не отпускала меня, не хотела, чтобы я уходил.
Наклонившись, я поцеловал ее в лоб. Вдохнул ее сладкий запах. Ощутил на губах ее тепло.
— Я не ухожу, Поппимин. Буду здесь, обещаю.
Мистер и миссис Личфилд заняли мое место. Они говорили ей что-то, целовали, пожимали руку.
Поппи проводила меня глазами.
Палата была небольшая. Я отошел на пару шагов и прислонился к стене, сжимая кулаки, стараясь держаться и повторяя себе, что нужно быть сильным — ради нее. Она терпеть не могла слезы. Не хотела обременять семью еще и этим.
Нет, сломленным она меня не увидит.
Миссис Личфилд вышла в коридор и быстро вернулась с девочками, Айдой и Саванной. В глазах Поппи проступила боль, и мне пришлось отвернуться. Она обожала сестер и не хотела, чтобы они видели ее в таком состоянии.
— Поппи, — вскрикнула Айда, бросаясь к кровати. Поппи протянула младшей сестре слабую руку. Айда поцеловала ее в щеку и отступила в объятия матери. Потом подошла Саванна. Увидев старшую сестру, своего кумира, в таком состоянии, девочка разрыдалась и прошептала:
— Я люблю тебя, Попс. Пожалуйста… пожалуйста, не уходи…
Поппи покачала головой, а потом посмотрела в мою сторону и попыталась поднять руку. Я подошел. Каждый шаг казался едва ли не милей. В моей душе бушевала темная буря, но она утихла, как только мои пальцы коснулись ее руки. Поппи моргнула, и ее длинные черные ресницы опустились трепещущими лепестками на щеку. Я присел на край кровати. Наклонился. Убрал прядку с ее лица.
— Hei, Поппимин… — сказал я негромко, собрав все силы, какие только мог. Ее глаза закрылись. Я знал — она улыбается под маской. — Тебя усыпят на время, чтобы ты смогла справиться с инфекцией. — Поппи понимающе кивнула. — Тебе надо поспать. — Я выдавил улыбку. — А пока будешь набираться сил для возвращения, навести бабулю. — Поппи вздохнула. — У нас еще есть кое-какие дела, помнишь?
Поппи кивнула, и я поцеловал ее в щеку, а отстранившись, прошептал:
— Спи, малышка. Я останусь здесь. Буду ждать, когда ты вернешься ко мне.
Я погладил ее по волосам, и она закрыла глаза, перестав бороться со сном.
Почти сразу же в палату пошел доктор.
— Пожалуйста, пройдите в комнату для посетителей. Я сообщу вам, когда мы подготовим ее.
Родители и сестры Поппи вышли из палаты, а я смотрел на ее руку в моей и не хотел уходить. Доктор положил руку на мое плечо.
— Мы позаботимся о ней, сынок. Это я тебе обещаю.
Прижавшись в последний раз к ее руке, я заставил себя подняться и выйти из комнаты. Дверь закрылась. Оглядевшись, я увидел, что вся семья собралась в комнате для посетителей напротив, но входить не стал. Мне нужен был воздух. Воздух…
Я пробежал по коридору, толкнул дверь и вырвался в небольшой сад. Теплый ветер дохнул в лицо. Заметив в центре сада скамейку, я доковылял до нее, устало опустился на сиденье и наконец отдался печали.
Голова упала на руки. Слезы покатились по лицу. Хлопнула дверь. Я повернулся и увидел застывшего у входа отца.
Странно, но при виде его меня вовсе не накрыла, как обычно, волна гнева. И гнев, и злость, должно быть, погребла под собой обрушившаяся лавина горя. Отец ничего не сказал, но подошел и молча сел рядом. Не попытался утешить. Знал, что я не позволю ему даже дотронуться до меня. Он просто сидел рядом.
Отчасти я был даже рад, хотя и ни за что бы не признался в этом. И как бы ни было тяжело признать за собой такую слабость, мне не хотелось быть одному.
Не знаю, сколько прошло времени, но в конце концов я поднялся, убрал волосы.
— Руне, она…
— С ней все будет в порядке, — отрезал я, не дав ему договорить, и вдруг увидел его лежащую на колене руку. Пальцы сжимались и разжимались, как будто он вел сам с собой какой-то спор.
Я стиснул зубы. Не хватало мне только его утешений.
Наше с Поппи время истекало, и только он был виноват, что оно сократилось на два года. Мысль пришла и ушла. Сколько ей осталось, этого не знал никто.
Прежде чем что-то случилось, дверь снова открылась, и на улицу вышел мистер Личфилд. Мой отец поднялся и подошел к нему поздороваться.
— Мне очень жаль, Джеймс.
Мистер Личфилд похлопал его по плечу.
— Мне надо поговорить с Руне. Ты не против?
Я напрягся, готовясь встретить его гнев. Мой отец посмотрел на меня, но кивнул.
— Поговорите.
Он вышел из сада, а мистер Личфилд медленно подошел к скамейке и сел рядом со мной. Я затаил дыхание, ожидая, когда он заговорит, но так и не дождался, а потому начал первым:
— Я не оставлю ее. Даже не просите, потому что я никуда не уйду. — Заявление прозвучало сердито и агрессивно, но по-другому не получилось — сердце начинало колотиться о ребра при одной только мысли, что он скажет мне убираться. Без Поппи мне и пойти-то было некуда.
Мистер Личфилд тоже напрягся, потом спросил:
— Почему?
Вопрос показался мне странным. Я повернулся и попытался прочесть что-нибудь в его лице. Он смотрел на меня в упор. Ему действительно нужно было знать.
— Потому что люблю ее больше всего на свете, — твердо ответил я, не отводя глаз. Горло перехватило, и мне пришлось перевести дыхание. — Я пообещал, что никогда не оставлю ее. Но дело не в обещании — я в любом случае ее бы не бросил. Мы связаны душой и сердцем. Сейчас Поппи нуждается во мне больше всего, и я не уйду, пока она не сожмет мою руку.
Мистер Личфилд вздохнул, провел ладонью по лицу и прислонился к спинке скамьи.
— Когда вы вернулись в Блоссом-Гроув, я посмотрел на тебя и не поверил, что ты мог так измениться. Признаюсь, я был разочарован. — Грудь сдавило, словно от удара. Мистер Личфилд покачал головой. — Я увидел, что ты куришь, увидел, как ты ведешь себя, и пришел к выводу, что не имеешь ничего общего с тем мальчиком, каким был когда-то. С тем мальчиком, который любил мою дочь так же сильно, как и она любила его. С тем мальчиком, который ради моей девочки прошел бы огонь и воду. Но я никогда не ждал, что ты нынешний сможешь полюбить мою дочь так, как она того заслуживает. — В голосе мистера Личфилда зазвучали хриплые нотки боли. — Я был против тебя. Когда я узнал, что вы снова общаетесь, я попытался предупредить ее. Но вас тянуло друг к другу, как два магнита. — Он глухо рассмеялся. — Бабушка Поппи сказала как-то, что судьба свела вас не просто так, а с неким особым умыслом. Постичь который нам не дано, пока он не откроется сам. А еще она сказала, что две великие любви всегда сходятся для некоей великой цели. — Он помолчал, а потом повернувшись ко мне, подвел итог: — Теперь я знаю.
Мы посмотрели друг на друга, и мистер Личфилд положил руку мне на плечо.
— Вы были созданы друг для друга, чтобы ты был ее путеводной звездой, чтобы вел через все эти испытания. Ты подходил моей дочери идеально, и благодаря тебе это время стало для нее особенным, и оставшиеся дни были заполнены тем, что ни ее мама, ни я никогда не смогли бы дать ей.
Боль резанула по сердцу, и я на секунду закрыл глаза, а когда открыл их, мистер Личфилд убрал руку, но все так же смотрел на меня.
— Руне, я был против тебя, но видел, как сильно она любит тебя. Я просто не был уверен, что и ты любишь ее так же сильно.
— Люблю, — с трудом выговорил я. — И никогда не переставал.
Он кивнул.
— Я не знал этого до поездки в Нью-Йорк. Признаюсь, не хотел, чтобы она ехала туда с тобой. Но после возвращения я увидел, что ее душа обрела покой. Потом она рассказала нам, что ты сделал для нее. Карнеги-холл… — Он покачал головой. — Ты исполнил ее самую большую мечту по одной лишь причине — ты хотел, чтобы эта мечта сбылась. Ты сделал ее счастливой, потому что любил ее.
— Поппи дает мне больше, всего лишь будучи самой собой. — Я склонил голову. — Неизмеримо больше.
— Руне, если Поппи поправится…
— Когда, — вмешался я. — Когда Поппи поправится.
Я поднял голову и увидел, что мистер Личфилд смотрит на меня.
— Когда, — с надеждой повторил он. — Я не встану у вас на пути. — Он со вздохом опустил голову. — После твоего отъезда она уже не была прежней. Знаю, тебе пришлось нелегко без нее. И я был бы слепцом, если бы не видел, что ты винишь во всем своего отца. В том, что вам пришлось уехать. Но иногда жизнь идет не так, как тебе хотелось бы. Мне и в голову не приходило, что моя дочь уйдет раньше меня самого. Но Поппи показала, что злиться нельзя. Потому что… — мистер Личфилд снова посмотрел мне в глаза, — если Поппи не злится на судьбу за короткую жизнь, то какое право злиться имеем мы?
Я промолчал. От его слов сердце забилось быстрее. Перед глазами побежали картины: Поппи, кружащаяся с улыбкой в вишневой роще… Поппи с такой же улыбкой на пляже… танец на мелководье… вскинутые радостно руки и солнце на лице…
Поппи была счастлива. Даже с этим диагнозом, после болезненного и неудачного лечения, она была счастлива.
— Я рад, что ты вернулся. Благодаря тебе последние дни Поппи будут, говоря ее собственными словами, особеннее не бывает.
Мистер Личфилд поднялся. Движением, которое я видел только у его дочери, подставил лицо лучам заходящего солнца и закрыл глаза. А перед тем как вернуться в больницу, повернулся ко мне.
— Ты можешь быть здесь столько, сколько тебе захочется. Думаю, твое присутствие поможет Поппи подняться. Подняться и провести с тобой еще несколько дней. Я видел по ее глазам, здесь, в палате, что она не собирается уходить. Ты не хуже меня знаешь, что если она настроилась на что-то, то своего добьется и пройдет через все.
Я невольно улыбнулся. Мистер Личфилд ушел, и в садике никого больше не было. Я опустил руку в карман, достал пачку, сунул в рот сигарету и уже собирался закурить, но что-то остановило. Каждый раз, когда я курил, Поппи неодобрительно морщила носик и качала головой.
— Все, хватит, — сказал я вслух и швырнул сигарету на землю. — Больше этого не будет.
Глотнув свежего воздуха, я поднялся и направился в больницу. Все собрались в комнате для посетителей: семья Поппи у одной стены, мои родители и Элтон — у другой. Увидев меня, братишка вскинул голову и помахал.
Я знал, чего хотела бы от меня Поппи, и поэтому сел рядом с Элтоном.
— Hei, приятель.
В следующую секунду он забрался ко мне на колени и крепко обнял за шею. У меня перехватило дыхание. Его буквально трясло. Прижавшись ко мне мокрой от слез щекой, он спросил:
— Поппимин заболела?
Я откашлялся, но сказать ничего не смог и только кивнул.
— Но ты же любишь ее, — прошептал Элтон и отстранился. Его нижняя губа предательски дрожала.
Меня опять хватило только на то, чтобы кивнуть.
— Не хочу, чтобы Поппимин уходила. Это она сделала так, что ты снова со мной разговариваешь, и мы с тобой снова лучшие друзья. — Он шмыгнул носом. — Не хочу, чтобы ты снова злился.
Каждое его слово впивалось в меня кинжалом, но и несло облегчение — ведь это Поппи повернула меня к брату. Как бы она огорчилась, если бы я снова не обратил на него внимания.
— Не бойся, дружок, — шепнул я ему на ухо. — Обещаю, этого больше не будет.
Элтон поднял голову, вытер глаза и откинул со лба волосы. Тут уж я не удержался и улыбнулся. Он тоже улыбнулся и обнял меня еще крепче, а потом не отпускал, пока в комнату не вошел доктор. Нам разрешили повидать больную, но не всем сразу, а заходя в палату по двое.
Первыми пошли миссис и мистер Личфилд, потом наступила моя очередь. Я открыл дверь и замер на месте.
Поппи лежала на кровати посреди палаты, подключенная к окружавшим ее аппаратам. Мне показалось, что сердце пошло трещинами. Сломленная, притихшая, ни улыбки, ни смеха на лице и в глазах.
Я подошел ближе и сел на стул у кровати. Взял ее руку, поднес к губам.
Тишина была непереносимой, поэтому я начал рассказывать Поппи о нашем первом поцелуе, а потом и о других, которые помнил с восьми лет, — как принимал их, что чувствовал. Я говорил и говорил, зная, что если она слышит, то ей это понравится.
Я вспомнил и пережил каждый из сохраненных ею поцелуев.
Все девятьсот два — этого рубежа мы достигли.
И те девяносто восемь, которые еще остались.
Когда она проснется.
Потому что она хотела и должна была проснуться.
Потому что за нами еще осталось неисполненное обещание.
Глава 14
Сад в цвету и восстановленный покой
Неделей позже
— Привет, Руне.
Я поднял голову, оторвав глаза от листка, на котором писал, — у двери в палату стояла Джори. За спиной у нее, в коридоре, виднелись Джадсон, Дикон и Руби. Я кивнул, и они все вошли.
Поппи все еще лежала на кровати, в коме. По прошествии нескольких дней врачи сказали, что худшее позади, и в палату стали впускать других посетителей.
Все вышло, как она и обещала. Поппи справилась с инфекцией, не позволив болезни сломить ее. Я знал, что так оно и будет. Давая обещание, она смотрела мне в глаза и держала меня за руку. Сказано — сделано.
Теперь доктора планировали в течение нескольких следующих дней постепенно вывести ее из комы. Начиная с сегодняшнего вечера дозу обезболивающего предполагалось понемногу уменьшать. И больше всех этого ждал я. Прошедшая без Поппи неделя показалась мне вечностью, все шло не так, и ничего не получалось. В ее отсутствие в моем мире случилось так много перемен. И в то же время в другом, внешнем, едва ли не все осталось по-прежнему.
Правда, теперь вся школа знала, что времени у Поппи совсем мало. Как и следовало ожидать, новость шокировала и опечалила многих. Большинство наших сверстников знали друг друга с детсадовских времен. И хотя не все были так же близки с Поппи, как члены нашей небольшой группы, потрясенный город так и не пришел в себя. Верующие, желая показать свою любовь, молились за ее здоровье. Узнай об этом Поппи, она, несомненно, была бы тронута.
В чем доктора не сходились, так это в оценке ее состояния после выхода из комы. Прогнозы относительно того, сколько еще осталось больной, они давали с большой неохотой, неизменно указывая, что организм значительно ослаблен инфекцией. Лечащий врач предупредил, чтобы мы приготовились: после вывода из комы рассчитывать на большее, чем несколько недель, не стоит.
Как ни тяжел был удар, как ни терзала сердце боль, я все же старался находить радость в маленьких победах. Для исполнения последних желаний Поппи в моем распоряжении оставалось еще несколько недель. Несколько недель, чтобы проститься по-настоящему, услышать ее смех, увидеть улыбку, поцеловать мягкие губы.
Вошедшие первыми Джори и Руби встали по другую сторону кровати, на которой лежала Поппи. Дикон и Джадсон присоединились ко мне. Джадсон положил руку мне на плечо.
Как только известие о случившемся с Поппи распространилось по школе, мои друзья сорвались с занятий и нагрянули в больницу. Увидев их в коридоре, я понял — теперь все знают. С тех пор они постоянно поддерживали меня и были рядом.
Некоторые обижались, что мы с Поппи никому ничего не сказали, кроме Джори. Но в конце и они поняли, почему Поппи не захотела привлекать к себе внимания. Думаю, за это ее полюбили еще больше, потому что увидели ее истинную силу и крепость духа. Всю последнюю неделю ребята приносили мне полученные от преподавателей задания. Как я заботился о Поппи, так и они заботились обо мне. Дикон и Джадсон сказали, что сделают все, чтобы я не оказался на финише школы за бортом. Лично я о школе думал в последнюю очередь, но был признателен им за внимание.
Вообще, эта неделя показала, как много они для меня значили. И пусть Поппи была смыслом всей моей жизни, я понял, что могу найти сочувствие и поддержку везде и повсюду. Я понял, что у меня есть друзья, готовые пойти в огонь и воду. Каждый день в больницу приходила моя мама. Каждый день приходил, как будто не замечая, что я игнорирую его, отец. Мы молча сидели вместе, и он, похоже, ничего не имел против. Казалось, для него имеет значение только то, что он здесь, со мной.
Как быть в такой ситуации, я пока еще не решил.
Джори подняла голову и, поймав мой взгляд, спросила:
— Как она сегодня?
Я встал со стула и сел на краешек кровати. Взял ее руку. Крепко сжал пальцы. Потом осторожно убрал волосы с лица и поцеловал в лоб.
— Набирается сил, — негромко ответил я и, наклонившись к уху, прошептал: — Здесь наши друзья, малышка. Пришли навестить тебя.
В какой-то момент сердце встрепенулось — ее ресницы как будто дрогнули, — но больше это не повторилось, и я решил, что меня, должно быть, подвело воображение. Невозможно передать, как мне хотелось снова увидеть ее. Успокоив себя тем, что ждать осталось не так уж и долго, я немного расслабился.
Ребята уселись на диване у большого окна.
— Врачи сказали, что выводить ее из комы начнут сегодня, — сообщил я. — На это понадобится какое-то время, так что полностью она придет в сознание лишь через пару дней. Говорят, спешка тут не нужна. Они также полагают, что ее иммунная система значительно окрепла. Инфекция побеждена. Поппи готова вернуться к нам. — Я вздохнул и негромко добавил: — И я смогу наконец снова увидеть ее глаза.
— Хорошо, — улыбнулась Джори.
В палате наступило неловкое молчание. Ребята переглядывались, но никто ничего не говорил.
— Что? — спросил я, всматриваясь в их лица, чтобы найти ответ.
Ответила Руби:
— Какой она будет, когда придет в себя?
В животе как будто затянулся узел.
— Слабой, — прошептал я и, повернувшись к Поппи, погладил ее по щеке. — Но главное — она вернется. Пусть даже мне придется носить ее на руках. Я просто хочу видеть ее улыбку. Хочу, чтобы она была со мной, там, где ей хорошо… даже если осталось недолго.
Руби шмыгнула носом и расплакалась. Джори обняла подругу и прижала к себе.
Я сочувственно вздохнул, но счел за должное предупредить.
— Знаю, Руби, ты любишь ее. Но когда Поппи проснется, когда поймет, что все всё знают, веди себя естественно. Ей будет неприятно видеть, что вы расстроены. Для Поппи именно это хуже всего. — Я сжал ее пальцы. — Надо, когда она проснется, сделать так, чтобы ей было хорошо. Нельзя показывать, что мы печалимся.
Руби кивнула, потом спросила:
— Она ведь уже не будет ходить в школу, да?
Я покачал головой.
— Нет. И я тоже. До тех пор пока… — Произнести последние слова не повернулся язык. Я был не готов произнести их. Не готов посмотреть в лицо тому, что стояло за ними.
— Руне, что ты намерен делать в следующем году? — спросил Дикон. — Пойдешь в колледж? А ты уже выбрал что-то? Подал куда-то заявление? — Он сложил руки. — Знаешь, мне за тебя тревожно. Мы все уходим. А ты о своих планах ни слова не сказал. Нет, серьезно…
— Так далеко я не загадываю. Моя жизнь — здесь и сейчас, этот миг, настоящее. Все остальное — потом. Сейчас самое главное — Поппи. Она всегда была для меня главным. А что там будет через год, чем я стану заниматься — на это мне, сказать по правде, наплевать.
В палате опять стало тихо. По лицу Дикона было видно, что он хочет сказать что-то еще, но не решается.
— Она пойдет на школьный бал?
Джори с грустью посмотрела на свою лучшую подругу, и у меня от этого взгляда заныло сердце.
— Не знаю. Она хотела. Очень хотела. Но до бала еще шесть недель. Врачи не говорят ничего определенного. — Я пожал плечами и посмотрел на Джори. — Это было одним из ее последних желаний — попасть на школьный бал. Это все, о чем она просит. Ничего особенного, ничего грандиозного… только вот это. И чтобы я был с ней.
Джори и Руби расплакались, но я не позволил себе сломаться. Я лишь молча отсчитывал часы до ее возвращения. Представлял тот миг, когда снова увижу ее улыбку. Когда она снова взглянет на меня. Сожмет мою руку.
Посидев час или чуть больше, ребята поднялись. Джадсон положил какие-то бумаги на прикроватную тумбочку, которую я использовал в качестве письменного стола.
— Здесь математика и география. Все задания учителя написали. И сроки сдачи проставили.
Я тоже встал. Попрощался со всеми. Поблагодарил за то, что пришли. А проводив, сел за стол — поработать с домашним заданием. Закончив, я взял фотоаппарат, с которым не расставался в последние недели и который успел стать частью меня самого, и вышел из палаты.
Я провел на улице несколько часов, время от времени заглядывая в палату и проверяя, все ли в порядке. Позднее, ближе к вечеру, в палате собралась вся семья Поппи, а следом за ними появилась и медицинская бригада. Я поднялся со стула и потер усталые глаза. Врачи пришли, чтобы вывести Поппи из состояния искусственной комы.
— Руне… — Мистер Личфилд подошел и обнял меня. С того дня как все случилось, мы как бы придерживались некоего молчаливого перемирия. Он понимал меня, а я понимал его. Благодаря этой негласной договоренности даже Саванна начала понемногу доверять мне и уже не боялась, что я разобью сердце ее любимой старшей сестре.
Сыграло свою роль и то, что я ни разу за все то время, что Поппи находилась в больнице, не оставил ее одну. Где была она, там был и я. Моя верность должно быть убедила их всех, что я люблю Поппи так сильно, как они себе и не представляли.
Айда, подойдя, обхватила меня руками. Миссис Личфилд поцеловала в щеку.
Потом мы все молча ждали, пока врач проводил обследование. Закончив, он повернулся к нам:
— Уровень белых кровяных клеток у Поппи соответствует нашим ожиданиям на этой стадии заболевания. Мы постепенно уменьшим дозу анестетика и приведем ее в чувство. А когда она достаточно окрепнет, сможем отключить от некоторых из этих аппаратов.
Я почувствовал, как побежало сердце, и пальцы сами сжались в кулаки.
— Обращаю ваше внимание вот на что, — продолжал доктор. — Поначалу Поппи будет то приходить в сознание, то терять его. В первом случае у нее может наблюдаться бредовое состояние, расстройства. Причина этого — сохранение в организме остатков лекарств. Но затем периоды бодрствования начнут увеличиваться, и, если все пойдет хорошо, через пару дней мы увидим ее прежней. — Он поднял руку. — Но Поппи будет слаба. Ответить на вопрос, насколько подточила ее борьба с инфекцией, мы сумеем дать только после обследования в обычном состоянии. Все покажет только время. Но вполне возможно, что ее двигательные возможности будут ограниченны. Полное физическое выздоровление маловероятно.
Я закрыл глаза и обратился к Богу с молитвой — сделать так, чтобы с Поппи все было хорошо. А еще я пообещал, что в любом случае помогу ей пройти через все, чего бы это ни потребовало.
Следующие дни тянулись в томительном ожидании. В первую очередь у Поппи зашевелились руки и затрепетали ресницы, а на второй день открылись глаза. Открылись поначалу лишь на несколько секунд, но и этот успех отозвался приливом волнения и надежды.
На третий день в палате появилась целая группа врачей и медсестер. Поппи начали отключать от аппаратов. С замиранием сердца я наблюдал за тем, как из горла убирают дыхательную трубку, как один за другим откатывают отключенные машины. И вот наконец…
Сердцу вдруг стало тесно в груди.
Бледная кожа. Сухие, как будто обветренные, губы. Но для меня, привыкшего за последнее время видеть ее в плену аппаратов, она никогда не выглядела лучше.
Я сидел на стуле у кровати, держал Поппи за руку и терпеливо ждал, глядя в потолок, когда ощутил вдруг слабое пожатие. Воздух застрял в горле. Легкие остановились на вдохе. Взгляд метнулся к лежащей на кровати Поппи. Пальцы ее другой, свободной, руки едва заметно подергивались.
Я привстал и нажал настенную кнопку вызова, а когда пришла медсестра, указал на Поппи.
— По-моему, она просыпается.
В последние двадцать четыре часа какие-то движения наблюдались, но не так много и не так долго.
— Позову доктора, — сказала медсестра и вышла из палаты. И почти тут же появились родители Поппи, приехавшие в обычное для дневного визита время.
Пришедший буквально вслед за ними врач поспешил к кровати. Я поднялся со стула и отступил в сторонку, чтобы не мешать медсестре проверить жизненные показатели.
Между тем под веками у Поппи пришли в движение зрачки, потом дрогнули ресницы, и, наконец, открылись глаза. Сонные, зеленые, они рассеянно оглядели палату.
— Поппи? Поппи, ты в порядке? — спросил доктор. Поппи попыталась повернуть голову в его направлении, но не смогла сфокусировать взгляд и протянула руку. Она искала меня. Даже в состоянии спутанного сознания она прежде всего искала мою руку.
— Поппи, ты немного поспала. У тебя все хорошо, но ты почувствуешь усталость. Не беспокойся, так и должно быть.
Поппи издала звук, как будто хотела что-то сказать. Врач повернулся к медсестре.
— Принесите лед для губ.
Я больше не мог наблюдать за всем этим со стороны и шагнул к кровати, не слушая мистера Личфилда, пытавшегося меня остановить. Наклонившись, я взял Поппи за руку. Она мгновенно успокоилась и медленно повернула голову в мою сторону. Глаза ее снова открылись. Поппи посмотрела на меня.
Горло сжалось.
— Hei, Поппимин, — с трудом проталкивая слова, прошептал я.
Поппи улыбнулась. Едва-едва заметно, но улыбнулась. Ее тонкие пальцы сжали мою ладонь с силой мухи, а потом она снова уснула.
Я облегченно выдохнул, но остался на месте — Поппи не отпускала мою руку, так что мне снова пришлось опуститься на стул.
На следующий день она несколько раз ненадолго просыпалась и, пусть и не достигая полной ясности сознания, улыбалась, когда замечала меня. Я знал, какая-то часть ее понимает, что я здесь, с ней. И ее улыбки подтверждали это.
Позже в тот же день, когда в палату для проведения ежедневных процедур вошла медсестра, я обратился к ней с вопросом:
— А нельзя ли передвинуть кровать?
Медсестра остановилась как вкопанная и, удивленно вскинув бровь, спросила:
— Куда, дорогой?
Я подошел к окну.
— Вот сюда. Чтобы Поппи, когда полностью придет в себя, увидела мир. Ей всегда нравилось встречать рассвет. Сейчас она подключена к одной только капельнице, и сделать это будет нетрудно, ведь так?
Медсестра уставилась на меня, и в ее глазах я увидел сочувствие. Но мне не нужно было сочувствие, мне требовалась помощь. Я хотел, чтобы она помогла мне сделать Поппи подарок.
— Конечно, — сказала наконец медсестра. — Не вижу здесь никакой проблемы.
Мне сразу же стало легче. Мы взялись за кровать — я с одной стороны, медсестра с другой — и перекатили ее ближе к окну, из которого открывался вид на садик, разбитый по соседству с отделением детской онкологии, и раскинувшееся над ним ясное голубое небо.
— Так хорошо? — спросила медсестра, опуская блокираторы.
— Отлично, — улыбнулся я.
Когда через некоторое время в палату вошли родители Поппи, ее мать сразу же огляделась и обняла меня.
— Ей понравится.
Мы расселись вокруг кровати, и, пока сидели, Поппи несколько раз пошевелилась, но ее пробуждения не затягивались больше чем на несколько минут.
В последние дни ее родители попеременно — но чаще это была мать — оставались на ночь в комнате для посетителей, расположенной через коридор от палаты. Отец обычно возвращался домой, чтобы присмотреть за девочками.
Я же всегда спал в палате. Ложился рядом с Поппи на узкую кровать, обнимал ее и засыпал, ожидая того момента, когда она наконец проснется.
Скорее всего, ее родителям такой вариант не очень нравился, но они не возражали — почему бы и нет? — и запрещать не хотели. Да и обстоятельства к этому не располагали.
В любом случае я бы не ушел.
Сидя у кровати, миссис Личфилд рассказывала Поппи о ее сестрах — самые обычные вещи, ничего особенного. Я вполуха слушал ее рассказ, когда в дверь осторожно постучали.
— Руне? — Я поднял голову и увидел моего отца. Он кивком поздоровался с миссис Личфилд и снова посмотрел на меня. — Можно тебя на секунду?
Я нахмурился. Отец не уходил — ждал у двери, не сводя с меня глаз. Я поднялся со стула, прошел мимо него в коридор и лишь тогда увидел, что он держит что-то в руке.
Заметно нервничая, отец переступил с ноги на ногу.
— Знаю, ты не просил меня об этом, но я проявил твои пленки.
Я замер на месте.
— Да, ты просил меня отнести их домой. Но я видел тебя, когда ты фотографировал, и знаю, что они для Поппи. — Он пожал плечами. — Она теперь чаще приходит в сознание, и я подумал, что, может быть, ты захочешь показать их ей.
Не говоря больше ни слова, отец протянул мне фотоальбом, заполненный снимками, которые я делал, пока Поппи спала. Заполненный теми мгновениями, которые она пропустила.
Горло как будто пересохло. Меня не было дома, и я не смог бы вовремя сделать всю эту работу… если бы не он.
— Спасибо, — буркнул я и опустил голову.
Краем глаза я заметил, как он расслабился и даже поднял руку, словно хотел похлопать меня по плечу. На мгновение рука застыла в нерешительности, но потом все же легла на мое плечо.
Я закрыл глаза и почувствовал легкое пожатие. Впервые за неделю с груди как будто сняли камень. Впервые за неделю я смог вдохнуть свободно, полными легкими.
Но чем дольше мы стояли, тем яснее я понимал, что не знаю, как быть. Мы не общались так долго. Я так долго не подпускал его к себе.
Между тем мне нужно было идти. Так и не найдя решения проблемы, я кивнул и вернулся в палату. Закрыл за собой дверь, сел и положил на колени фотоальбом. Миссис Личфилд ни о чем не спросила, а я ничего не стал говорить. Она еще долго рассказывала что-то дочери и ушла, когда уже стемнело.
Как только дверь за ней закрылась, я разулся, раздвинул занавески и, как делал каждый вечер, устроился на кровати рядом с Поппи.
Помню, что смотрел на звезды, а потом — уж не знаю, сколько прошло времени — почувствовал, что кто-то гладит меня по руке. Не сразу сообразив, что к чему, я моргнул и открыл глаза — за окном начинался новый день, и в палату просачивались его первые лучи.
Я тряхнул головой, стараясь разогнать оставшийся от сна туман. Волосок щекотал у меня в носу, теплое дыхание стлалось по лицу. Я поднял наконец голову, и клочья сна моментально вылетели из головы — на меня смотрела прекраснейшая в мире пара зеленых глаз.
Сердце сбилось на бегу, и губы Поппи растянулись в улыбке, а на бледных щеках проступили глубокие ямочки. Пораженный увиденным, я приподнялся, взял ее за руку и прошептал:
— Поппимин?
Она моргнула, моргнула еще раз и медленно обвела взглядом палату. Сглотнула. Прищурилась. Заметив, что у нее сухие губы, я дотянулся до стакана с водой на прикроватной тумбочке и предложил ей. Поппи сделала несколько глоточков через соломинку, отвела стакан в сторону и с облегчением выдохнула. Я нашел в тумбочке ее любимый вишневый бальзам для губ и нанес тонким слоем на губы. Поппи медленно потерла губой о губу и снова улыбнулась.
Чувствуя, что наполняюсь утренним светом, я наклонился и поцеловал ее. Поцелуй был короткий, его и поцелуем-то трудно было назвать, но Поппи сглотнула и хрипло прошептала:
— Поцелуй… — Она наморщила лоб, пытаясь вспомнить.
— Девятьсот третий, — подсказал я.
Поппи кивнула.
— Когда я вернулась к Руне, — добавила она и, поймав мой взгляд, сжала пальцы. — Как и обещала.
— Поппи. — Я опустил голову, уткнувшись лицом в изгиб ее шеи. Хотелось обнять что есть сил, прижать к себе крепко-крепко, но она выглядела как хрупкая кукла, которую так легко сломать неосторожным движением.
Жестом, знакомым как дыхание, она запустила пальцы в мои волосы. Легкое дыхание волной омыло лицо. Я смотрел на нее и не мог насмотреться, впитывал каждую черточку милого лица, смаковал этот чудесный миг.
Миг, когда она вернулась ко мне.
— Сколько? — спросила Поппи.
Я убрал ей за ухо упавшую на глаза прядку.
— Ты пролежала в коме неделю. Последние несколько дней постепенно приходила в себя.
Поппи на секунду зажмурилась:
— И сколько… осталось?
Я покачал головой и ответил честно — она это заслужила.
— Не знаю.
Поппи почти незаметно кивнула. Теплые лучи пригрели затылок. Я повернулся, выглянул в окно и улыбнулся.
— Ты встала с солнышком, малышка.
Поппи нахмурилась. Я сдвинулся в сторону, и она охнула. Закрыла и снова открыла глаза. Подставила лицо нежным оранжевым лучам.
— Как красиво…
Я прилег рядом с ней, опустил голову на ее подушку. Небо постепенно светлело. Солнце карабкалось вверх по голубому небу, заливая палату светом и теплом.
Она пожала мою руку:
— Я устала.
У меня засосало под ложечкой.
— Тебя очень ослабила инфекция. Вот оно и сказывается.
Поппи понимающе кивнула и снова повернулась к окну.
— Я так соскучилась по всему этому.
— Многое помнишь?
— Нет, — тихо ответила Поппи. — Но я знаю, что мне этого недоставало. — Она посмотрела на свою руку. — Помню твою руку в моей… хотя… Странно. Я помню это и почти ничего еще.
— Ja? — спросил я.
— Да. Наверно я всегда буду помнить это ощущение.
Я протянул руку к тумбочке, нашел фотоальбом, положил на колени и открыл. Первый снимок — солнце, поднимающееся за плотными облаками. Лучи рассеялись, проходя сквозь крону, и придали листьям чудесный розовый оттенок.
— Руне, — прошептала Поппи, проводя ладонью по фотографии.
— Твое первое утро здесь. — Я пожал плечами. — Не хотел, чтобы ты пропустила свой рассвет.
Поппи опустила голову мне на плечо, и я понял, что сделал все правильно. Это прикосновение значило больше любых слов.
Я листал альбом. Показывал ей расцветающие деревья в саду. Капли на окне в тот день, когда шел дождь. Звезды на небе, полную луну, гнездящихся на деревьях птиц.
Когда я закончил альбом, Поппи склонила голову набок и посмотрела мне в глаза.
— Ты сохранил все, чего мне не хватало.
Чувствуя, что краснею, я опустил голову:
— Конечно. И всегда буду.
Она вздохнула:
— Даже когда меня не станет… ты… Ты должен продолжать… собирать такие моменты. — Я напрягся, но прежде чем успел что-то сказать, Поппи погладила меня по щеке. Прикосновение было таким легким, что я едва его почувствовал. — Пообещай мне. — Я промолчал, и она повторила, настойчиво и требовательно: — Пообещай, Руне. Эти снимки слишком ценны. Подумай, что ты сможешь сделать в будущем. Просто подумай о тех возможностях, что ждут тебя впереди.
— Обещаю, — негромко сказал я. — Обещаю, Поппимин.
Она вздохнула:
— Спасибо.
Я наклонился и поцеловал ее в щеку.
— Мне так не хватало тебя.
— А мне тебя, — с улыбкой прошептала она.
— Когда ты выйдешь отсюда, нас с тобой ждет куча дел.
В ее глазах вспыхнули огоньки.
— Да. — Она пожевала губами. — Сколько до первого цветения?
Я понял, о чем она думает. Поппи пыталась определить, сколько времени ей осталось. И сумеет ли она дотянуть. Проживет ли достаточно долго, чтобы осуществить оставшиеся желания.
— Полагаю, где-то неделя.
Ее лицо осветила широкая счастливая улыбка. Поппи закрыла глаза.
— Это мне по силам, — уверенно заявила она и чуть сильнее сжала мою руку.
— Ты протянешь дольше, — заверил ее я.
— До тысячи мальчишечьих поцелуев.
Теперь уже я погладил ее по щеке:
— Вместе со мной.
— Да, — улыбнулась Поппи. — На веки вечные.
Из больницы Поппи выписали спустя неделю. Последствия инфекции в полной мере проявились через несколько дней. Она не могла ходить. Ноги просто не держали ее. Доктор сказал, что если бы рак удалось победить, ноги со временем вернули бы прежнюю силу, но в данных обстоятельствах вывод был один: самостоятельно Поппи ходить не сможет.
Ее посадили в инвалидную коляску. И, конечно, она встретила такую перемену в своей жизни с поднятой головой.
— Пока я могу выходить на улицу и чувствовать солнце на лице, ничто не помешает мне быть счастливой, — сказала она, когда доктор принес плохие новости. А потом посмотрела на меня и добавила: — И пока Руне держит меня за руку, мне все равно, могу я ходить или нет.
Как всегда, ее слова растопили мое сердце.
Захватив новые фотографии, я пробежал через лужайку между нашими домами, забрался через окно в комнату Поппи и увидел, что она спит на кровати.
Домой ее привезли лишь несколько часов назад, и, конечно, Поппи устала, но я должен был показать ей это. Мой сюрприз. Мое «добро пожаловать».
Одно из ее исполненных желаний.
Едва я вошел в комнату, как Поппи открыла глаза, и ее губы дрогнули в улыбке.
— Кровать холодная без тебя, — сказала она и провела ладонью по той стороне матраса, на которой обычно лежал я.
— У меня кое-что для тебя есть. — Я опустился на кровать, наклонился, поцеловал ее в губы — так, что она вся зарделась — и улыбнулся. Поппи свесилась с кровати, достала стеклянную банку с крышкой, вытянула пустое розовое сердечко и написала что-то на нем.
А потом опустила сердечко в банку.
Осталось совсем немного.
Убрав банку, Поппи села и повернулась ко мне.
— Что у тебя в руке? — полюбопытствовала она.
— Фотографии, — ответил я, и ее лицо счастливо вспыхнуло.
— Мой любимый подарок, — сказала она совершенно серьезно. — Твои волшебные мгновения.
Я протянул конверт, и Поппи открыла его, а когда увидела, что там, тихонько охнула. Потом радостно перебрала все снимки и с надеждой посмотрела на меня.
— Цветение?
Я улыбнулся и кивнул. Поппи накрыла ладошкой рот, и ее глаза засветились счастьем.
— Когда ты это сделал?
— Несколько дней назад.
— Руне… — прошептала она и, взяв мою руку, поднесла ее к щеке. — Значит…
Я поднялся, обошел кровать и взял Поппи на руки. Она обняла меня за шею.
— Ты со мной? — спросил я.
— С тобой, — радостно выдохнула она.
Я поцеловал Поппи в губы и, пересадив в кресло, покатил по коридору. Ее счастливый смех разнесся по дому. На крыльце я снова взял мою девушку на руки, спустился по ступенькам и опять усадил в кресло. Теперь мы взяли курс на вишневую рощу. День выдался теплый и ясный, и солнце сияло на голубом небе.
Поппи подняла голову, подставила лицо ласковым лучам, и ее щеки порозовели. Потом она открыла глаза и крепче сжала подлокотники кресла. Я понял, что она уловила аромат рощи.
— Руне…
Мы уже приближались, и мое сердце билось быстрее и быстрее. Еще один поворот — и роща открылась нам во всей своей красоте. У меня захватило дух.
С губ Поппи сорвался громкий вздох. Я снял с плеча фотоаппарат и, отойдя в сторонку, поймал в видоискатель ее чудесное лицо и нажал кнопку. Захваченная великолепием волшебного зрелища, Поппи даже не обратила на меня внимания. Словно зачарованная, она протянула руку и осторожно коснулась свежих, нежных лепестков. А потом закрыла глаза, вытянула вверх руки, и ее смех звоном разлетелся по роще.
Держа палец на кнопке фотоаппарата, я с замиранием сердца ждал того момента, о котором молился. И дождался. Поппи открыла глаза и посмотрела на меня. Я нажал кнопку — ее восторженное, улыбающееся, полное жизни и счастья лицо на фоне бело-розового моря цветов осталось на пленке.
Она медленно опустила руки. Улыбка смягчилась. Мы смотрели друг на друга, и вишневый цвет, живой, трепещущий и нежный, окружал ее символическим ореолом. И тут я понял. Поппи, Поппимин, она — моя вишневая роща.
Несравненная красота, живущая лишь краткий миг. Красота столь совершенная, что она не может длиться долго. Она приходит, чтобы украсить и обогатить нашу жизнь, а потом исчезает, унесенная ветром. Оставаясь навеки в памяти как напоминание, что мы должны жить. Что жизнь хрупка, но в ее хрупкости заключена сила. Что есть любовь. Есть цель. Она напоминает нам, что жизнь коротка, что дни наши сочтены и судьба определена, несмотря на все наши старания и усилия.
Она учит нас не тратить попусту ни одной секунды. Жить в полную силу, любить еще сильнее. Идти за мечтой, искать приключений… ловить миг.
Жить красиво.
Мысли эти закружились вихрем у меня в голове. Поппи протянула руку.
— Прокати меня через рощу, малыш, — негромко сказала она. — Я хочу прожить это с тобой.
Я опустил фотоаппарат, встал за коляску и покатил ее по грунтовой дорожке. Подняв голову, Поппи вдыхала ароматы рощи, медленно и размеренно. Моя любимая впитывала все — свежесть и красоту. Очарование момента. Ее желание исполнилось.
Мы подошли к нашему дереву, усыпанному пастельно-розовыми цветками. Я взял висевшее на спинке одеяло и расстелил его на траве. Потом перенес Поппи, и мы устроились на нашем обычном месте, откуда открывался вид на раскинувшуюся перед нами рощу.
Прислонившись ко мне спиной, Поппи взяла мою руку, лежавшую у нее на животе, и прошептала:
— У нас все получилось.
Я наклонился к ее шее, убрал волосы и прижался губами к теплой коже.
— Да, малышка.
С минуту она молчала.
— Это… как сон… как картина. Я бы хотела, чтобы и на небесах все было так же.
Странно, но ее слова не отозвались ни болью, ни печалью, а только желанием, чтобы и эта мечта тоже сбылась. Чтобы она получила это все — навсегда.
Я видел, что она устала. Видел, как ей больно. Она не жаловалась, но этого и не требовалось. Мы общались без слов.
И я знал. Знал, что она настроена держаться до тех пор, пока я не буду готов отпустить ее.
— Руне? — Голос Поппи отвлек меня от раздумий. Я прислонился к дереву и, приподняв ее, помог прилечь у меня на коленях. Я хотел видеть ее, хотел запомнить каждый миг этого дня.
— Ja?
Поппи озабоченно наморщила лоб. Я выпрямился и погладил ее по щеке.
Она глубоко вдохнула:
— А если я забуду?
Страх перекосил ее лицо, и через мое сердце пролегла трещина. Поппи ничего не боялась. Но это ее испугало.
— Забудешь что?
— Все, — прошептала она, и ее голос дрогнул. — Тебя. Моих родных. Поцелуи. Те поцелуи, которые я хочу пережить еще раз, когда мы снова встретимся с тобой.
— Не забудешь, — собравшись с духом, заверил я.
Поппи отвела глаза.
— Я где-то читала, что душа после смерти человека забывает свою жизнь на земле. Что без этого душа не смогла бы жить дальше, найти покой на небесах. — Ее палец начал вычерчивать узор на моей ладони. — Но я не хочу этого, — чуть слышно добавила она. — Я хочу все помнить.
Поппи взглянула на меня, и в ее глазах блеснули слезы.
— Не хочу забыть тебя. Мне нужно, чтобы ты был со мной — всегда. Хочу видеть, как ты проживешь свою жизнь. Уверена, она будет интересной и волнующей. Хочу увидеть твои фотографии. — Она сглотнула. — Но больше всего хочу помнить нашу тысячу поцелуев. Помнить все, что у нас было. Помнить и не забывать.
— Тогда я придумаю, как сделать, чтобы ты увидела их. — Налетевший ветерок покружил и умчался, унося ее печаль.
— Правда? — прошептала она с надеждой.
Я кивнул:
— Обещаю. Пока не знаю, как, но придумаю. И никто, даже сам Бог, меня не остановит.
— Я буду ждать. В нашей роще, — сказала Поппи и мечтательно улыбнулась.
— Ja.
Она устроилась поудобнее и, наклонив голову набок, прошептала:
— Вот и чудесно. Но только подожди год.
— Год?
— Да, — кивнула Поппи. — Я читала, что переход занимает год. Не знаю, правда это или нет, но если правда, то подожди год и потом напомни мне о наших поцелуях. Я не хочу это пропустить… что бы ты ни делал.
— Ладно, — согласился я и не смог ничего добавить, потому что держался из последних сил.
Пташки, перелетая с дерева на дерево, исчезали в цветущей кроне.
Поппи сплела наши пальцы.
— Ты дал мне это, Руне. Это желание.
Я не ответил. Не смог. Дыхание сбилось. Я обнял Поппи еще крепче, наклонился и приник к ее губам. Мягким, сладким.
— Поцелуй девятьсот тридцать четвертый, — сказала она, не открывая глаз, когда я отстранился. — В вишневой роще в полном цвету. От моего Руне… и мое сердце едва не разорвалось.
Я улыбнулся. И сердце сжалось от счастья за мою девушку. Мы почти прошли наш путь. Приключение заканчивалось.
— Руне?
— М-м?
— Ты бросил курить?
— Ja.
— Почему?
Поразмышляв над ответом, я признался честно:
— Кое-кто, кого я люблю, научил меня ценить жизнь. Научил не делать ничего, что может помешать приключению. И я согласился.
— Жизнь и впрямь ценна, — прошептала она. — Не растрачивай ее впустую. Не теряй ни секунды.
Поппи обвела взглядом рощу. Глубоко вдохнула. И тихонько сказала:
— Не думаю, Руне, что я увижу школьный бал. — Я вздрогнул и напрягся. — Чувствую, что устала. — Она попыталась обнять меня крепче. — По-настоящему устала.
Я зажмурился. Привлек ее к себе:
— Чудеса случаются, малышка.
— Да, — выдохнула Поппи. — Случаются. — Она взяла мою руку, поднесла к губам и поцеловала каждый палец. — Я бы хотела увидеть тебя в смокинге. Хотела бы танцевать под ту песню, что напоминает мне о нас с тобой.
Чувствуя ее усталость, я заставил себя отодвинуть боль.
— Давай вернемся домой, малышка.
Я уже поднимался, когда Поппи потянулась за моей рукой.
— Ты ведь останешься со мной?
Я наклонился, взял ее лицо в ладони.
— Навсегда.
— Хорошо, — прошептала она. — Я не совсем готова отпустить тебя.
По пути домой я молил Бога дать ей еще две недели. Потом пусть забирает мою девушку домой. Потом, когда мы оба будем готовы.
Только позволь мне исполнить последнее ее желание.
Я должен был это сделать.
Сказать последнее «спасибо» за всю ту любовь, что она подарила мне.
Дать ей то единственное, что мог.
Глава 15
Луна в сердцах — в улыбках солнце
Двумя неделями позже
Я сидела на стуле в маминой ванной, и мама красила мне тушью ресницы. Я смотрела на нее и как будто видела в первый раз. Она улыбалась. Я смотрела на нее так, чтобы наверняка запомнить и этот миг, и каждую черточку ее лица.
Все дело в том, что я угасала. Я сознавала это. Думаю, в глубине души мы все это сознавали. Просыпаясь по утрам, глядя на свернувшегося рядом Руне, я чувствовала, что усталости чуточку прибавилось, а сил чуточку убавилось.
Зато я окрепла духом. Зов дома звучал все сильнее. Я ощущала его в себе минута за минутой, ощущала его как проходящую через меня спокойную, теплую волну.
И я была почти готова.
Наблюдая последние несколько дней за моей семьей, я убедилась, что у них все будет в порядке. Сестры были счастливы и уверены в себе, родители любили их всем сердцем, поэтому я знала, что беспокоиться не о чем.
И Руне. Мой Руне. Тот, покинуть кого мне было труднее всего… он вырос. Повзрослел. Хотя и сам еще не понял, что он уже не хмурый, несчастный мальчишка, только что вернувшийся из Норвегии.
Он жил.
Он улыбался.
Он снова фотографировал.
А самое главное, он любил меня и не скрывал этого. Парень, который вернулся, спрятавшись за стеной тьмы. Но теперь его сердце было открыто. И поэтому он впустил в свою душу свет.
О нем тоже можно не беспокоиться.
Мама вышла в гардеробную и скоро возвратилась с красивым белым платьем. Я подалась вперед, потрогала материал.
— Оно чудесное, — сказала я и улыбнулась маме.
— Так давай его наденем, а?
Я растерянно моргнула:
— Зачем, мама? Что случилось?
Мама категорично махнула рукой. Как отрубила.
— Хватит. Больше никаких вопросов. — Она помогла мне натянуть платье и надеть белые туфли.
В гостиной хлопнула дверь. Я обернулась и увидела мою тетю Диди, которая стояла на пороге, прижав руку к груди.
— Поппи… — Глаза ее наполнились слезами. — Ты такая красивая. — Диди посмотрела на мою маму. Сестры обнялись и, отступив в сторонку, уставились на меня. Выглядело это так смешно, что я улыбнулась и спросила:
— Можно посмотреть?
Мама подвинула мою коляску к зеркалу, и я замерла перед собственным отражением. Платье превосходило все мои ожидания. Волосы были собраны в пучок, над которым красовался мой любимый белый бант. И, конечно, в глаза сразу бросались мои сережки-восьмерки.
Я разгладила платье.
— Не понимаю… так одеваются на школьный бал…
Я посмотрела на маму и тетю Диди в зеркале, и мое сердце застучало, словно норовило выскочить из груди.
— Мама? Это правда? Но до него еще две недели! Как…
Задать вопрос не получилось — в дверь позвонили. Мама и тетя переглянулись.
— Диди, посмотри, кто там, — распорядилась мама.
Тетя уже шагнула к выходу, но в последний момент мама схватила ее за руку.
— Нет, подожди, возьми кресло. Мне еще нужно вынести Поппи.
Она пересадила меня на кровать, и Диди вышла из комнаты. Снизу донеслись приглушенные мужские голоса, среди которых был и папин. В голове уже поползли всякие мысли, но я пока не смела давать волю надеждам. Хотя — что скрывать — мне отчаянно хотелось, чтобы эти мечты сбылись.
— Ты готова, доченька? — спросила мама.
— Да, — выдохнула я.
Мы спустились по лестнице и направились к передней двери. За углом, в прихожей, уже собрались мои сестренки и папа. Услышав нас с мамой, они все повернулись в нашу сторону.
Хотя я и устала, мы с мамой все же добрались до двери, а там, прислонившись к косяку, стоял Руне. С полной пригоршней вишневых лепестков… и в смокинге.
Я так обрадовалась, словно солнце посветило прямо мне в душе.
Мое желание, оно исполнялось…
Наши глаза встретились, и Руне сразу же выпрямился. Мама усадила меня в коляску и отступила. Он подошел и, не обращая ни на кого внимания, наклонился ко мне и прошептал:
— Поппимин. — У меня перехватило дух. — Ты такая красивая.
Я подняла руку и, ухватив светлую прядку, потянула вниз.
— А ты причесался сегодня по-другому, открыл лицо. И смокинг надел.
Его губы дрогнули в кривой усмешке.
— Я же обещал.
Руне взял мою руку. Я потрогала лепестки на его ладони, невольно улыбнулась и посмотрела в голубые глаза Руне.
— Так это по-настоящему?
Он поцеловал меня в щеку и прошептал:
— Ты отправляешься на бал.
В глазах защипало, мир задрожал за туманной дымкой, и с ресницы сорвалась слезинка. Руне встревожился, но я рассмеялась.
— Это хорошие слезы, малыш.
Руне сглотнул, и я, подтянувшись, коснулась его лица.
— Я так счастлива. Просто невероятно счастлива. И этим счастьем я обязана тебе.
Я надеялась, что он поймет более глубокий смысл этих слов. Речь ведь шла не только о сегодня. Благодаря ему я всегда была самой счастливой девушкой на планете. Он должен был это знать.
Руне взял мою руку и поднес к губам.
— Я тоже счастлив благодаря тебе.
Значит, все-таки понял.
— Ладно, ребята, нам пора двигать, — напомнил мой папа, и я уловила в его голосе сердитую нотку. Ему, конечно, хотелось отправить нас поскорее, потому что ситуация могла выйти из-под контроля.
Руне выпрямился и встал за спинкой коляски.
— Готова, малышка?
— Да, — твердо ответила я.
Слабость и усталость исчезли в мгновение ока. И все потому, что Руне исполнил мое давнее желание.
Лишь бы не терять время даром.
Руне подвез коляску к маминой машине, подхватил меня на руки и перенес на переднее сиденье. Я улыбнулась во весь рот. Вообще, улыбка не сходила с моих губ с той секунды, как мы отъехали от дома.
Машина остановилась около школы, из которой доносились звуки музыки. Я закрыла глаза, представляя восхитительную картину: парад прибывающих один за другим лимузинов, наряженные выпускники у входа в школьный спортзал.
Как всегда осторожно, Руне перенес меня из машины в кресло и поцеловал так, словно уже знал, что поцелуи эти сочтены, как знала это и я.
Время убывало, и оттого каждый жест, каждое прикосновение, каждое слово обретали особое значение. Мы поцеловались уже почти тысячу раз, однако ж некоторые из последних и впрямь шли по особому разряду. Когда знаешь, что что-то конечно, оно и ценится по-особенному.
— Поцелуй девятьсот сорок девятый. На моем школьном балу. От Руне… и мое сердце едва не разорвалось, — сказала я, когда он отстранился.
Руне вздохнул, чмокнул меня в щеку и покатил по направлению к спортзалу. Руководившие мероприятием учителя уже заметили нас, а их реакция согрела сердце. Они улыбались, обнимали меня и поздравляли. Я чувствовала себя общей любимицей.
В коридоре гремела музыка. Я сгорала от нетерпения — отчаянно хотелось увидеть, как выглядит зал. Руне распахнул дверь, и передо мной открылось просторное помещение, великолепно украшенное и отделанное в пастельных, белых и розовых, тонах, идеально совпадающих с моей любимой цветочной темой.
Я невольно вскинула руку ко рту, а потом прошептала:
— Вишневая роща…
В ответ на мой вопросительный взгляд Руне только пожал плечами.
— А что же еще.
— Ах, Руне, — прошептала я.
Мы въехали в зал. При моем появлении несколько танцевавших неподалеку пар остановились. Под их взглядами я почувствовала себя немного неловко.
Большинство присутствующих видели меня впервые с того времени… Но неловкость быстро прошла, когда они начали подходить ко мне, здороваться и желать всего наилучшего. Немного погодя, видя, что я начинаю уставать, Руне подвез меня к столу, сидя за которым можно было видеть весь танцпол.
Я улыбнулась, обнаружив за столом всех наших друзей. Первыми меня увидели Джори и Руби, которые тут же вскочили и подбежали к нам. Руне отступил в сторонку, и ребята окружили меня плотным кольцом.
— Вау, Попс! Выглядишь супер! — воскликнула Джори. Я рассмеялась и указала на ее голубое платье.
— Ты тоже!
Джори улыбнулась. Подошедший сзади Джадсон взял ее за руку. Я смотрела на них и радовалась.
Джори перехватила мой взгляд и пожала плечами:
— Думаю, рано или поздно это должно было случиться.
Она нашла того, кого обожала, и я от души желала ей счастья. Джори всегда была замечательной подругой.
Потом меня обняли Джадсон, Дикон и Руби. После всех объятий и приветствий свое место за столом занял Руне. Сел он, разумеется, рядом со мной и сразу же взял меня за руку.
Через какое-то время, заметив, что он не сводит с меня глаз, я повернулась к нему и спросила:
— Все хорошо?
Руне кивнул и, наклонившись, тихонько сказал:
— Такой красивой я тебя еще не видел. Не могу отвести глаз.
Тая под его взглядом, я посмотрела на него оценивающе:
— А ты нравишься мне в смокинге.
— Ну и ладно. — Руне неуклюже подтянул «бабочку». — Замучился, пока надевал.
— Но все-таки справился, — поддразнила я.
Руне отвел глаза:
— Папа помог.
— Вот как? — спросила я.
Он коротко кивнул.
— И ты не возражал? — не отставала я, даже заметив, как он упрямо выпятил подбородок. Сердце заторопилось в ожидании ответа. Руне не знал, но втайне я всегда хотела, чтобы он помирился и наладил отношения с отцом.
Потому что очень скоро ему это понадобится.
А еще потому, что отец любил его.
Я очень хотела, чтобы Руне преодолел этот последний барьер.
Руне вздохнул:
— Не возражал.
Мои губы разъехались в улыбке. Подавшись к нему, я опустила голову ему на плечо.
— Я горжусь тобой.
Руне стиснул зубы, но промолчал.
Вокруг танцевали и развлекались наши одноклассники. Я видела их повзрослевшими, радовалась за них и спрашивала себя, что сделают они со своей жизнью, кто на ком женится и кто за кого выйдет замуж, заведут ли они детей.
А потом я увидела знакомое лицо девушки, наблюдавшей за мной с другой стороны зала. Это была Эвери, и она сидела там со своими друзьями. Когда наши взгляды встретились, я подняла руку и помахала ей. Эвери улыбнулась и тоже помахала.
— Только ты, — вздохнул Руне, заметив, что я смотрю на Эвери, и покачал головой. — Только ты.
Вечер шел своим чередом. Мои друзья веселились, и я радовалась за них. Я дорожила этим временем и ценила его. Мне было приятно видеть их всех счастливыми.
Руне положил руку мне на плечо.
— Как ты все это сделал? — спросила я.
Он указал на Джори и Руби:
— Это они, Поппимин. Они хотели, чтобы у тебя было это все. Они и организовали. Перенесли дату. Выбрали тему. Все они.
Я скептически покачала головой.
— Почему-то у меня такое чувство, что не только они.
Руне покраснел и, приняв безразличный вид, пожал плечами. Конечно, он сделал больше, чем был готов признать. Я придвинулась к нему, взяла его лицо в ладони и сказала:
— Я люблю тебя, Руне Кристиансен. Очень, очень люблю.
Он закрыл глаза, глубоко вздохнул через нос, открыл глаза и выдохнул:
— И я люблю тебя, Поппимин. Больше всего на свете.
Я обвела взглядом зал и улыбнулась:
— Знаю, Руне. Знаю.
Руне прижал меня к себе и пригласил на танец, но я не хотела выезжать на танцпол на коляске. С удовольствием глядя на танцующих, я заметила, как Джори подошла к диджею.
Она посмотрела на меня. Я не смогла прочитать выражение ее лица, но тут по залу разнеслись вступительные аккорды One Direction’s «If I Could Fly».
Я замерла. Когда-то давно я призналась Джори, что эта песня всегда напоминает мне о Руне. Слушая ее, я вспоминала Руне, когда он был в Норвегии. Но больше всего эта песня напоминала о том, каким он был со мной наедине. Любимым. Жившим только для меня. Только мне говорившим, что любит.
И он тоже был любим.
До конца.
Я сказала однажды Джори, что если мы когда-нибудь поженимся, то эта песня будет нашим первым танцем. Руне медленно поднялся. Похоже, Джори ему рассказала.
Он наклонился, и я покачала головой, потому что не хотела выезжать на коляске на танцпол. Но тут, к полному моему изумлению, Руне подхватил меня на руки, и у меня захватило дух.
— Руне, — запротестовала я и обняла его обеими руками за шею. Не говоря ни слова, он покачал головой и, держа меня за талию, начал танцевать.
Я не смотрела по сторонам — только ему в глаза. Песня, каждое ее слово, отражалась на его лице, и я видела, что он понимает, почему она — наша.
Прижимая меня к себе, Руне медленно раскачивался в такт музыки. И, как бывало всегда, остальной мир отступил, и остались только мы двое. Двое влюбленных, танцующих среди цветов, позабывших обо всем на свете.
Две половинки одного целого.
Песня достигла крещендо и пошла к концу. Я наклонилась вперед:
— Руне?
— Ja? — сдавленно отозвался он.
— Ты отвезешь меня в одно особенное место?
Он сдвинул к переносице русые брови, но потом все же кивнул в знак согласия. Музыка смолкла, и Руне привлек меня к себе. Губы его слегка дрожали. Эмоции переполняли и меня. Позволив себе слезинку, я перевела дух и прошептала:
— Поцелуй девятьсот девяносто пятый. От Руне. На балу, где мы танцевали. И мое сердце едва не разорвалось.
Руне ткнулся лбом в мой лоб.
Перед тем как уходить, я бросила последний взгляд на зал и увидела замершую неподалеку Джори. В глазах моей лучшей подруги блестели слезы. Я положила руку на грудь и одними губами прошептала:
— Спасибо. Люблю тебя. Буду скучать…
Джори на секунду зажмурилась, потом открыла глаза и тоже прошептала:
— Люблю тебя тоже и буду скучать.
Она подняла руку и помахала мне.
— Готова? — спросил Руне.
Я кивнула. Он посадил меня в кресло и вывез из зала. Потом, когда я уже сидела на своем месте в машине, Руне повернулся ко мне и спросил:
— Куда поедем, Поппимин?
— На пляж, — сказала я, едва справляясь с переполнявшими меня радостными чувствами. — Хочу встретить рассвет на берегу.
— На нашем месте? — уточнил Руне, поворачивая ключ зажигания. — Имей в виду, туда еще надо добраться, а сейчас уже поздновато.
— Мне все равно. Главное — попасть туда до восхода солнца. — Я откинулась на спинку сиденья, взяла Руне за руку, и мы в последний раз отправились на берег.
К тому времени когда мы приехали на пляж, до рассвета оставалось не больше двух часов. Меня это вполне устраивало.
Мне хотелось побыть наедине с Руне.
Мы припарковались на стоянке.
— Хочешь посидеть на песке? — спросил, повернувшись ко мне, Руне.
— Да, — торопливо ответила я, глядя на усыпавшие небо яркие звезды.
Он задумался:
— Тебе бы не замерзнуть.
— У меня же есть ты, — сказала я, и его лицо смягчилось.
— Подожди здесь. — Руне вышел из машины. Я услышала, как он перебирает вещи в багажнике. Берег укрылся темнотой, и освещала его только яркая луна. В ее свете я видела, как Руне достал несколько одеял и расстелил одно на песке.
Вернувшись к машине, он снял «бабочку» и расстегнул верхние пуговицы на рубашке. Глядя на него, я не в первый уже раз спрашивала себя, как могло случиться, что мне так повезло. Меня любил этот вот восхитительный парень, любил так, что все прочие любови бледнели в сравнении с его любовью. Хотя моя жизнь и оказалась короткой, любила я долго. И в конечном итоге этого было достаточно.
Руне открыл дверцу машины и подхватил меня своими сильными руками. Я рассмеялась:
— Тяжело?
Он захлопнул дверцу и посмотрел на меня сверху вниз.
— Нисколько. Тебя я удержу.
Я улыбнулась, поцеловала его в щеку и уткнулась головой ему в грудь. Ночную тишину нарушал лишь шум накатывающих на берег волн. Теплый, мягкий ветерок играл моими волосами.
Дойдя до места, Руне опустился на колени и осторожно положил меня на одеяло. Я закрыла глаза, глубоко вдохнула, и соленый воздух наполнил легкие.
Что-то теплое, шерстяное накрыло плечи. Руне укутывал меня одеялами, а я, закинув голову, смотрела и улыбалась. Заметив мою улыбку, он поцеловал меня в кончик носа. Я рассмеялась и неожиданно для себя оказалась в его крепких объятиях.
Руне вытянулся рядом. Я положила голову ему на грудь и наконец позволила себе расслабиться. Он прижался губами к моей щеке:
— Ты как, Поппимин? В порядке?
Я кивнула:
— В полном.
Он убрал упавшие мне на глаза волосы:
— Устала?
Я покачала было головой, но подумала, что лучше быть честной:
— Да, Руне, устала.
Он вздохнул и, добавив нотку гордости, сказал:
— Тебе все удалось, малышка. Ты все успела. Цветение… школьный бал…
— И остались только наши поцелуи, — закончила я за него. Он кивнул. — Руне?
— Ja?
Я закрыла глаза и поднесла ладонь к его губам.
— Не забудь, последний поцелуй должен быть, когда я отправлюсь домой. — Руне напрягся, и я обняла его покрепче. — Хорошо?
— Как хочешь, — ответил Руне, но по тону голоса я поняла, что выполнить эту мою просьбу ему будет тяжело.
— Не представляю лучшего прощания, чем это — наш поцелуй. Конец нашего приключения. Приключения, длившегося целых девять лет.
Я поймала его напряженный взгляд и улыбнулась:
— Хочу, чтобы ты знал — я никогда и ни о чем не жалела. Все, что было у нас, было прекрасно. — Я сжала его руку. — Хочу, чтобы ты знал, как сильно я тебя любила.
Я повернулась и посмотрела ему в глаза:
— Пообещай, что твоим приключением станет весь мир. Что побываешь в других странах и испытаешь все, что предлагает жизнь.
Руне кивнул, но я ждала. Я хотела услышать его голос.
— Обещаю.
Я с облегчением выдохнула и снова опустила голову ему на грудь.
Несколько минут прошло в молчании. В ночном небе безмолвно перемигивались звезды. Мгновения. Я впитывала их, смаковала, жила ими.
— Поппимин?
— Да, малыш?
— Ты была счастлива? Ты… — Он прокашлялся. — Ты довольна тем, как жила?
— Да, довольна, — ответила я, ни капельки не покривив душой. — Я любила все, что в ней было. И любила тебя. Как ни избито это звучит, мне хватило всего. Ты всегда был лучшим из того, что приносил каждый день. Каждая моя улыбка — это ты.
Я закрыла глаза, открыла копилку памяти и стала перебирать воспоминания. Как обнимала его, а он обнимал меня — еще крепче. Как целовала его, а он целовал меня — еще глубже. Как любила его, а он всегда старался любить меня еще больше, еще сильнее.
— Да, — повторила я с полной уверенностью. — Я любила свою жизнь.
Руне шумно выдохнул, как будто я своим ответом сняла камень с его души.
— Я тоже, — сказал он.
Я нахмурилась и посмотрела на него:
— Руне, твоя жизнь не закончилась.
— Поппи, мне…
— Нет, Руне, — отрезала я, дополнив слова коротким, рубленым жестом. — Нет. Послушай меня. Когда меня не будет, ты, может быть, почувствуешь, что потерял половинку сердца, но это не дает тебе права жить половинкой жизни. И ты ничего не потеряешь. Потому что я всегда буду с тобой, буду рядом. Буду держать тебя за руку. Я уже вплетена в ткань твоей души, и ты всегда будешь связан с моей душой. Любить, смеяться, познавать мир ты будешь для нас обоих.
Я взяла его за руку, умоляя выслушать. Он отвернулся, но потом все же посмотрел мне в глаза.
— Всегда говори «да», Руне. Всегда говори «да» новым приключениям.
Его губы дрогнули в уголке, не выдержав моего немигающего взгляда. Он провел пальцем по моей щеке.
— Хорошо, Поппимин. Согласен.
Я улыбнулась в ответ на его усмешку, но от серьезного тона не отступила.
— Ты можешь так много предложить миру. Ты исполнил все мои желания. Такой человек, как ты, не может остановиться из-за перенесенной потери. Он поднимается, как поднимается каждый день солнце. — Я вздохнула. — Главное — пережить шторм. И не забывай главное.
— Что?
Я улыбнулась:
— Луна в сердцах — в улыбках солнце.
Как ни старался, удержаться Руне не смог и рассмеялся. И смех этот был прекрасен. Я закрыла глаза и отдалась его густому баритону, как теплой волне.
— Знаю, Поппимин. Знаю.
— Вот и хорошо, — сказала я и, довольная собой, снова прислонилась к нему. Горизонт вспыхнул первыми лучами рассвета, и мое сердце сжалось от восторга и томящей боли. Я потянулась к Руне и молча взяла его за руку.
Рассвету не нужно слов. Я сказала Руне все, что хотела. Все, что должна была сказать. Я любила его. Я хотела, чтобы он жил. И я знала, что еще увижу его.
Ко мне пришел покой.
Я была готова уйти.
Словно почувствовав мое настроение, Руне сжал меня крепко-крепко, и в этот миг верхушка солнечного диска вынырнула из синих вод, прогоняя звезды.
Чувствуя, как тяжелеют веки, я прильнула к Руне.
— Поппимин?
— М-м?
— Тебе хватило меня? — Грубоватый тон резанул по сердцу, но я кивнула.
— Более чем. — И с улыбкой — специально для него — добавила: — Ты был особенный. Особеннее не бывает.
Он ничего не сказал, только вздохнул, прерывисто и резко.
Солнце поднялось выше, по-хозяйски заняв свое место в небе.
— Руне, я готова вернуться домой.
Руне сжал меня в последний раз и начал подниматься. Но прежде чем выпрямился, я поймала его руку. Он посмотрел на меня сверху вниз и моргнул, удерживая слезы.
— Я о том… я готова уйти домой.
На секунду Руне зажмурился. Присел. Взял мое лицо в ладони. А потом сказал:
— Знаю, малышка. Я почувствовал это в тот миг, когда ты решила.
Я улыбнулась и еще раз обвела все взглядом — берег, море, горизонт.
Время пришло.
Руне бережно поднял меня и понес через пляж к машине. Я любовалась его прекрасным лицом, а он смотрел на меня.
Я повернулась к солнцу. Взгляд упал на золотистый песок, и в тот же миг сердце наполнилось невозможно ярким светом.
— Посмотри, — прошептала я. — Посмотри на наши следы на песке.
Руне оглянулся и затаил дыхание. Потом снова повернулся ко мне.
— Ты нес меня, — прошептала я дрожащими губами. — В самые трудные времена, когда я не могла идти… ты пронес меня через все.
— Вместе навсегда. — Его голос надломился. — На веки вечные.
Я глубоко вдохнула и, прильнув к его груди, выдохнула:
— Забери меня домой, малыш.
Пока мы ехали, я ни на секунду не отвела от него глаз.
Я хотела помнить его таким.
Всегда.
Пока он не вернется в мои объятия. Навечно.
Глава 16
Обещанные мечты и остановленные мгновения
Двумя днями позже
Два дня на кровати рядом с Поппи. Я не сводил с нее глаз, запоминая каждую черточку. Обнимал. Целовал, доводя счет до тысячи.
Вернувшись с пляжа, мы обнаружили, что кровать придвинута к окну, как в больнице. Поппи слабела не по дням, а по часам, но каждая уходящая минута была наполнена счастьем. Ее улыбки поддерживали и нас.
Я гордился ею.
Оставаясь все время в ее комнате, я видел, как члены семьи прощаются с ней. Слышал, как сестры и Диди говорили, что еще увидятся с ней. Я не позволял себе слабости, видя, как родители не позволяют себе слез по своей дочери.
Когда миссис Личфилд отошла в сторонку, Поппи протянула руку. Она звала меня. Собравшись с силами, я двинулся к кровати на одеревенелых ногах.
Как бывало всегда, у меня захватило дух от ее красоты.
— Hei, Поппимин. — Я опустился на краешек матраса.
— Привет, малыш, — ответила она едва слышно.
Я взял ее руки в свои и, наклонившись, поцеловал в губы.
Поппи улыбнулась, и, как случалось всегда, ее улыбка растопила мое сердце. Шумный порыв ветра пронесся за окном, царапнув стекло. Поппи тихонько охнула. Я повернулся посмотреть, что такое она увидела.
Ветер уносил целое облачко кружащихся лепестков.
— Они уходят…
Я на секунду зажмурился. В том, что Поппи уходила в тот же день, когда вишневые деревья теряли свои лепестки, было что-то символичное. Словно они сопровождали ее душу домой.
Ее дыхание стеснилось, и я снова наклонился, зная, что в последний раз могу прижаться лбом к ее лбу. Поппи поднесла руку к моим волосам.
— Люблю тебя, — прошептала она.
— И я люблю тебя, Поппимин.
Когда я отстранился, Поппи посмотрела в мои глаза.
— Я увижу тебя в твоих снах.
— Я увижу тебя в твоих снах, — прохрипел я, стараясь не дать воли чувствам.
Поппи вздохнула, и ее лицо осветила тихая, спокойная улыбка. Потом она закрыла глаза, слегка подняла подбородок для последнего поцелуя и сжала мою руку.
Склонившись над ней, я прижался губами к ее губам в самом последнем, самом нежном, самом важном поцелуе.
Поппи выдохнула через нос, и ее сладкое дыхание окутало меня.
Больше она не дышала.
Усилием воли я заставил себя отстраниться, открыть глаза и посмотреть на Поппи, уснувшую уже вечным сном. Она была прекрасна. Как и при жизни.
Не в силах отступить, я поцеловал ее в щеку, потом еще и еще раз, повторяя шепотом:
— Тысяча первый. Тысяча второй. Тысяча третий. Тысяча четвертый…
Кто-то положил руку мне на плечо. Я оглянулся — мистер Личфилд печально качал головой.
Меня захватил шквал эмоций. Я не знал, что делать. В моей руке все еще лежала неподвижная рука Поппи. Я не мог ее отпустить, но потом вдруг понял очевидное: она вернулась домой.
— Поппимин… — прошептал я и посмотрел в окно, за которым все еще кружились сорванные лепестки. Обернувшись, я увидел на полке стеклянную банку и одно-единственное бумажное сердечко. Рядом лежала ручка. Я выпрямился, взял и то и другое и вышел на крыльцо. В лицо ударил ветер. Я прислонился к стене и смахнул текущие по щекам слезы. Потом сполз по стене на пол, положил сердечко на колени и написал:
ПОЦЕЛУЙ 1000
ОТ ПОППИМИН
КОГДА ОНА ВЕРНУЛАСЬ ДОМОЙ.
И МОЕ СЕРДЦЕ РАЗОРВАЛОСЬ
Я отвернул крышку, положил последнее розовое сердечко в банку, закрыл ее. А потом…
Что дальше? Я огляделся и, не обнаружив ничего, что могло бы подсказать ответ, пододвинул к себе банку, обхватил колени и уткнулся в них лбом.
За спиной скрипнула ступенька. Я поднял голову и увидел своего отца. Наши взгляды встретились, и одного этого ему хватило, чтобы понять — Поппи ушла. В его глазах блеснули слезы.
Сдерживаться больше не было сил. Я не расплакался — зарыдал. И в какой-то момент почувствовал, что меня обняли. Я напрягся, но дальше дело не пошло. В этот раз мне было это нужно.
Мне нужен был он.
Отбросив последние охвостья злости, я упал в его объятия и выпустил все, что скопилось за последнее время. Отец дал мне такую возможность и стоял со мной на крыльце до самых сумерек. Молча, ничего не говоря, не произнося ни слова.
Это был четвертый момент, который определил мою жизнь, — потеря моей девушки. И отец, понимая это, просто поддержал меня.
Уверен, прислушавшись к завываниям ветра, в них можно было бы услышать легкий смех Поппи, уходившей, пританцовывая, домой.
Поппи похоронили через неделю. Служба была прекрасная, какой она и заслуживала. Небольшая, уютная церковь оказалась самым подходящим местом для прощания с девушкой, всем сердцем любившей родных и друзей.
После службы я решил не идти на поминки в доме Личфилдов, а вернулся к себе. Минуты через две в дверь постучали, и в комнату вошли папа и мама. Папа держал в руке какую-то коробку, которую положил на кровать.
— Что здесь? — недоуменно спросил я.
Папа сел рядом со мной и положил руку мне на плечо.
— Она просила отдать это тебе после похорон. Приготовила недавно, едва ли не перед концом.
Сердце гулко застучало в груди.
Папа постучал по запечатанной коробке.
— Там письмо. И мне поручено передать, чтобы ты вначале прочитал его. А еще несколько коробочек. Они пронумерованы, так что открывай по порядку.
Он поднялся и шагнул к двери, но я поймал его за руку.
— Спасибо.
Получилось неловко и прозвучало грубовато, но отец наклонился и поцеловал меня в висок.
— Люблю тебя, сын.
— Я тебя тоже. — Мне не пришлось кривить душой. За эту неделю из наших отношений ушло напряжение. Если Поппи и научила меня чему-то за свою короткую жизнь, так это тому, что мне надо научиться прощать. Любить и жить. Я так долго винил во всем отца, и моя злость в конце концов причиняла только боль.
Луна в сердцах — в улыбках солнце.
Мама поцеловала меня в щеку.
— Если понадобимся, мы на улице, хорошо? — Она беспокоилась обо мне и в то же время держалась с заметным облегчением. Наверно, из-за того мостика, который выстраивали мы с отцом.
Я кивнул и подождал, пока они уйдут, а потом еще минут пятнадцать, прежде чем собрался с духом, чтобы открыть коробку. И первым, что бросилось в глаза, было письмо.
Мне понадобилось еще минут десять, чтобы решиться сломать печать.
Руне, позволь для начала сказать, как сильно я тебя люблю. Знаю, что ты и сам это знаешь. Нет, наверно, на земле человека, который бы не видел, насколько идеально мы подходим друг другу.
Однако ж, если ты читаешь это письмо, значит, я уже дома. И сейчас, когда я пишу это, мне не страшно.
Наверно, последняя неделя выдалась трудной. Представляю, как нелегко тебе пришлось, как тяжело было даже вставать по утрам. Я знаю, потому что и сама чувствовала себя так же в мире, где не было тебя. Понимать-то понимаю, но мне все равно больно сознавать, что тебе так плохо из-за того, что меня нет.
Тяжелее всего было видеть, как сдаются те, кого я люблю. А худшее — видеть, как тебя выжигает изнутри злость. Пожалуйста, не допускай, чтобы это повторилось.
И — хотя бы для меня — оставайся таким, каким ты стал. Лучшим из всех, кого я знаю.
Ты увидишь, что я оставила тебе коробку.
О помощи я еще несколько недель назад попросила твоего отца. Попросила — и он согласился без раздумий. Потому что он очень тебя любит.
Надеюсь, теперь ты это знаешь.
В коробке ты найдешь два больших конверта. Пожалуйста, открой их сейчас, а объясню я потом.
С бьющимся сердцем я положил письмо на кровать. Потом опустил дрожащую руку в коробку, достал большой конверт и, подгоняемый нетерпением, быстро сломал печать. В конверте лежало еще одно письмо. Я растерянно нахмурился, но потом увидел шапку на фирменном бланке, и мое сердце остановилось.
Нью-Йоркский университет. Школа искусств Тиш.
Взгляд скользнул вниз по странице.
Мистер Кристиансен, по поручению приемной комиссии имею честь сообщить, что вы приняты в нашу школу по программе «Фотография и визуализация»…
Я прочел письмо целиком. Потом перечитал. Не вполне понимая, что и как, я взял письмо Поппи и стал читать дальше.
Поздравляю!
Знаю, сейчас ты озадачен. Хмуришь свои русые брови, которые я так обожаю, а на твоем лице отпечаталось это сердитое выражение.
Ну и ладно.
Наверно, для тебя это шок. Наверно, поначалу ты будешь против. Но, Руне, не надо. Ты мечтал об этой школе с тех пор, когда мы были еще детьми, и если меня нет рядом и я не могу осуществить свою мечту вместе с тобой, это не значит, что ты должен пожертвовать своей.
Я так хорошо тебя знаю. Знаю, что в последние недели ты отказался от всего, чтобы быть со мной. Я так благодарна тебе, что ты даже не представляешь. Ты заботился обо мне, оберегал меня… ты так крепко меня обнимал и так сладко целовал.
Я ничего уже не изменю.
Но я знаю, что ради любви ты жертвуешь своим будущим.
Не могу этого допустить. Руне Кристиансен, ты рожден для того, чтобы ловить волшебные моменты. Такого таланта я не видела ни у кого. И такой страстной увлеченности тоже. Это — твое предназначение.
Мне пришлось позаботиться о том, чтобы у тебя получилось.
В этот раз я понесу тебя.
Прежде чем попросить тебя взглянуть на кое-что, хочу, чтобы ты знал — это твой папа помог собрать твое портфолио для представления в приемную комиссию. Он также оплатил первый семестр обучения и общежитие. Ты оскорблял и обижал его, а он делал это все совершенно самоотверженно, так, что у меня слезы на глаза наворачивались. Он потрясающе гордится тобой.
Он любит тебя.
Любви тебе досталось безмерно.
А теперь, пожалуйста, открой коробку номер один.
Собрав в кулак растрепанные нервы, я взял первую коробку и открыл ее. Внутри лежало портфолио. Я пролистал страницы. Поппи и мой отец отобрали самые разные фотографии: пейзажи, рассветы, закаты. Сказать по правде, этими работами я гордился больше всего.
Я дошел до последней страницы и замер. Это была Поппи. Поппи на пляже. Со мной. Много месяцев назад. Та фотография, где она повернулась ко мне в самый чудесный миг. Фотография, представлявшая ее красоту и грацию лучше всяких слов.
Моя самая любимая.
Я стер выступившие слезы и провел пальцем по ее лицу.
Мой идеал.
Бережно отложив портфолио, я снова взял ее письмо.
Впечатляет, да? У тебя настоящий дар, Руне. Уже тогда, когда мы только послали твои работы, я знала, что тебя примут. Я, может быть, и не эксперт в искусстве фотографии, но даже мне ясно — тебе удается то, что не получается у других. У тебя совершенно уникальный стиль.
Такой уникальный, что уникальней не бывает.
Снимок в конце — мой любимый. Не потому что на нем я, а потому что я видела, в тот день на пляже, какое пламя разбудила искра.
В тот день я впервые поняла, что ты справишься, когда я уйду. Потому что я снова увидела того Руне, которого знаю и люблю. Мальчика, который проживет жизнь за нас двоих. Мальчика, который исцелился.
Глядя на Поппи, смотрящую на меня с фотографии, я невольно подумал о выставке в Нью-Йоркском университете. Должно быть она уже знала тогда, что меня приняли. Я вспомнил последнюю фотографию. Эстер. Фотографию, представленную спонсором выставки. Фотографию его покойной жены, умершей слишком молодой. Фотографию, которая не изменила весь мир, но показала женщину, которая изменила его мир.
Пожалуй, это описание лучше всего подходило и для той фотографии, что лежала сейчас передо мной. Поппи Личфилд была обычной семнадцатилетней девушкой из маленького городка в Джорджии. Однако с первого дня нашего знакомства она перевернула мой мир. И даже теперь, после своей смерти, продолжала его менять. Наполняя и одаряя своей бескорыстной красотой, равной которой не было и не будет.
Я снова взял письмо.
А теперь, Руне, последняя коробка. Знаю, тебе не понравится, но ты должен выполнить все.
Ты сейчас растерян, но прежде чем я отпущу тебя, мне нужно, чтобы ты узнал кое-что. Твоя любовь — это вершина моей жизни, мое самое большое достижение. У меня было мало времени, и я не смогла быть с тобой так, как хотела бы. Но в те годы, в мои последние месяцы, я узнала, что такое настоящая любовь. Узнала благодаря тебе. Ты принес радость моему сердцу и свет моей душе.
Но самое лучшее, что ты принес мне, это твои поцелуи.
Я пишу и думаю о последних месяцах. Месяцах после того, как ты вернулся в мою жизнь. Я не жалею ни о чем. Не могу печалиться из-за того, что не проживу свою жизнь рядом с тобой. Потому что ты был со мной столько, сколько возможно, и это было прекрасно. Быть любимой, познать любовь столь сильную, пылкую, преданную — этого для меня достаточно.
Но не для тебя. Потому что, Руне, ты заслуживаешь быть любимым.
Узнав, что я больна, ты мучился из-за того, что не можешь вылечить меня. Не можешь спасти. Но чем больше я думаю об этом, тем больше укрепляюсь в вере, что не тебе было суждено спасти меня. Но мне было назначено спасти тебя.
Может быть, через мой уход, через наше общее приключение ты нашел путь к себе. И это самое важное мое приключение.
Ты вырвался из тьмы и открыл себя свету.
И свет этот такой чистый и сильный, что он пронесет тебя через все и… приведет к любви.
Я представляю, как ты читаешь это и качаешь головой. Но, Руне, жизнь коротка. Однако я поняла, что любовь не знает границ и сердце огромно и щедро.
Так открой же свое сердце, Руне. Пусть оно будет открыто. Позволь себе любить и быть любимым.
Я хочу, чтобы ты взял сейчас последнюю коробку. Но прежде хочу просто поблагодарить тебя.
Спасибо тебе, Руне. За то, что любил меня так сильно, что я чувствовала эту любовь каждую минуту каждого дня. Спасибо тебе за мои улыбки. За то, что твоя рука так крепко держала мою.
За мои поцелуи. Всю тысячу. Каждый был мне дорог. Каждый обожаем.
Как и ты.
Знаю, что, даже когда уйду, ты никогда не будешь одинок. Я буду той рукой, что всегда будет держать твою руку.
Я буду цепочкой следов за тобой на песке.
Я люблю тебя, Руне Кристиансен. Всем сердцем.
Жду не дождусь, когда увижу тебя в твоих снах.
Я выронил письмо. Слезы катились по лицу. Я смахнул их, глубоко вдохнул и наконец поставил на кровать последнюю коробку. Она была больше первой.
Я аккуратно открыл ее, вынул то, что там было, и, увидев, закрыл глаза. Потом прочел привязанную к крышке записку.
СКАЖИ ДА НОВЫМ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ.
НА ВЕКИ ВЕЧНЫЕ
ПОППИ
Я смотрел на большую стеклянную банку с крышкой. На множество голубых бумажных сердечек внутри. Чистые, свежие, они жались к стеклу. Наклейка на крышке гласила:
ТЫСЯЧА ДЕВИЧЬИХ ПОЦЕЛУЕВ
Прижав банку к груди, я лег на кровать и вздохнул.
Не знаю, сколько я лежал так, глядя в потолок, заново переживая каждый миг, что разделил с моей девушкой.
Наступила ночь. Я думал обо всем, что она сделала, и счастливая улыбка расползалась по моим губам.
Покой объял мое сердце.
Не знаю, почему я почувствовал это в тот самый миг. Но я нисколько не сомневался, что где-то там, в неведомом, Поппи наблюдает за мной со счастливой улыбкой на милом лице, и в волосах у нее большой белый бант.
Годом позже
Блоссом-Гроув, Джорджия
— Готов, дружок? — спросил я Элтона. Братишка пробежал по коридору и сунул свою руку в мою.
— Ja, — ответил он со щербатой улыбкой.
— Хорошо, все, должно быть, уже собрались.
Мы с братом вышли из дома и направились к вишневой роще. Вечер выдался чудесный. На кристально чистом небе сияли звезды, ярко мерцала луна.
На шее у меня висел фотоаппарат. Я знал, что он понадобится сегодня, чтобы запечатлеть этот вечер навсегда.
Выполнить данное Поппимин обещание.
Люди уже собрались в роще, и сначала мы услышали гул голосов. Элтон посмотрел на меня снизу вверх большими от удивления глазами.
— Похоже, их там много, — занервничал он.
— Ровно тысяча, — ответил я, сворачивая в рощу, и улыбнулся — деревья были усыпаны бело-розовыми цветами. Я на секунду закрыл глаза, вспоминая день, когда приходил сюда в последний раз, а когда открыл их, через меня как будто прошла теплая волна — собравшиеся заполнили всю небольшую лужайку.
— Руне! — Звонкий голос вернул меня в настоящее. Вырвавшись из толпы, Айда подбежала ко мне и, уткнувшись в грудь, обняла. А потом взглянула снизу, и я рассмеялся, на секунду увидев Поппи в юном лице. Она улыбнулась — зеленые глаза вспыхнули счастьем, а на щеках проступили милые ямочки.
— Мы так по тебе соскучились, — сказала она и отступила.
Я поднял голову — следом за сестрой подошла Саванна, а потом мистер и миссис Личфилд с моими родителями.
Саванна нежно обняла меня, миссис Личфилд поцеловала в щеку, а мистер Личфилд крепко пожал руку и тоже обнял.
— Хорошо выглядишь. Правда. — Он улыбнулся.
Я кивнул:
— Спасибо, сэр. Вы тоже.
— Как Нью-Йорк? — спросила миссис Личфилд.
— Хорошо, — ответил я и, видя, что они ждут продолжения, признался: — Мне там нравится. Все нравится. — Я помолчал немного и негромко добавил: — Ей бы тоже там понравилось.
В глазах миссис Личфилд блеснули слезы.
— Вот это ей бы тоже понравилось. — Она жестом указала на собравшуюся в роще толпу и смахнула слезинку. — Уверена, Поппи смотрит на нас оттуда.
Я не ответил. Не смог.
Родители и сестры Поппи расступились, дав пройти, и последовали за мной. Элтон снова сжал мою руку. В этот мой приезд он постоянно был рядом и не отпускал меня ни на минуту.
— Все готово, — сказал папа, кладя руку мне на плечи.
Заметив в центре рощи небольшую сцену с установленным на ней микрофоном, я направился к ней и тут же наткнулся на друзей — Дикона, Джадсона, Джори и Руби.
— Руне! — воскликнула Джори и с улыбкой заключила меня в объятия. Остальные последовали ее примеру. Дикон похлопал меня по спине.
— Ждем только твоего сигнала. Дело оказалось нетрудное. Запустили новость, рассказали о твоем плане, и волонтеров набралось больше, чем нужно.
Я кивнул и обвел взглядом земляков, в этот вечер пришедших сюда с китайскими небесными фонариками. И на каждом фонарике большими черными буквами были написаны те же слова, что и на розовых бумажных сердечках; по одному за каждый мой поцелуй, отданный Поппи. Я прищурился, чтобы прочесть ближайшие…
…Поцелуй двести третий, под дождем на улице, и мое сердце едва не разорвалось… Поцелуй двадцать третий, под луной, от моего Руне, и мое сердце едва не разорвалось… Поцелуй девятьсот первый, от моего Руне, в постели, и мое сердце едва не разорвалось…
Проглотив подступивший к горлу комок, я вдруг заметил на сцене еще один фонарик и огляделся, отыскивая взглядом того, кто его оставил. Люди расступились, и я увидел отца. Он смотрел на меня пристально и внимательно, а когда наши глаза встретились, опустил голову и отошел в сторону.
Тысячный поцелуй… от моей Поппимин, когда она вернулась домой… и мое сердце разорвалось…
Все правильно. Этот поцелуй для своей девушки я должен был отправить сам. Так хотела бы Поппи.
Я поднялся на сцену вместе с Элтоном, взял в руки микрофон, и на рощу спустилась тишина. Я закрыл глаза, собираясь с силами для того, что хотел сделать, потом поднял голову. Передо мной волновалось целое море китайских фонариков. Люди держали их в руках, готовясь отпустить. Такого не передать словами. Об этом я мог только мечтать.
Я вдохнул поглубже.
— Не буду говорить долго. Я не мастер публичных выступлений. Хочу поблагодарить всех, кто отозвался и пришел… — Слова кончились. Я провел ладонью по волосам, собрался с духом. — Перед уходом Поппи попросила отправить ей все эти поцелуи. Отправить так, чтобы она увидела их оттуда. Большинство из вас не были с ней знакомы, но она была прекрасным человеком… самым лучшим, кого я только знал… Ей бы это пришлось по душе. — Я представил ее лицо, когда она увидит фонарики, и мои губы тронула улыбка.
Да, Поппи понравится.
— Так что, пожалуйста, зажгите фонарики и помогите мне отправить поцелуи моей девочке.
Я опустил микрофон. Сотни собравшихся зажгли фонарики и отпустили их в ночь. Один за другим они поднимались в темноту, и вскоре все небо заполнилось плывущими в вышину огоньками. Я наклонился, взял стоявший на сцене фонарик, поднял и посмотрел на Элтона.
— Ну что, приятель, готов послать эту штуку Поппимин?
Брат кивнул, и я зажег фонарик. Пламя вспыхнуло, и в тот же миг я отпустил его, мой последний, тысячный поцелуй. Фонарик устремился ввысь, словно спеша догнать своих собратьев, торопясь в свой новый дом.
— Вау, — прошептал восторженно Элтон и снова взял меня за руку. Его пальцы крепко сжали мои.
Я закрыл глаза и, сосредоточившись, обратился к Поппи. Здесь все мои поцелуи. Я обещал, что верну их тебе. И вот, придумал, как.
Огоньки поднимались все выше и выше, и я не мог оторвать глаз от этого чудесного зрелища.
— Руне? — Братишка потянул меня за руку.
— Ja?
Он смотрел на меня снизу вверх.
— А почему мы делали это здесь? В роще?
— Потому что Поппимин больше всего любила именно это место, — негромко объяснил я.
Элтон кивнул:
— А почему мы ждали, пока зацветут вишни?
— Потому что Поппимин сама была, как цветок. Как и у цветов, у нее была короткая жизнь, но красота, которую она принесла в наш мир, никогда не будет забыта. Ничто прекрасное не длится вечно. Она была лепестком, бабочкой… падающей звездой… совершенством. Она жила недолго, но она была моей.
Я вдохнул поглубже и прошептал:
— Как и я — ее.
Эпилог
Десять лет спустя
Я очнулся, моргнул и ясно увидел перед собой вишневую рощу. Я ощущал тепло яркого солнца на лице, свежий аромат распустившихся листьев наполнял легкие.
Я глубоко вдохнул и поднял голову. Надо мной высилось темное, усыпанное огоньками небо. Тысяча китайских фонариков, посланных десять лет назад, плыли в воздухе.
Я сел и, оглядевшись, убедился, что все цветочки на деревьях полностью распустились. Впрочем, так было всегда. Здесь красота длилась вечно.
Вечным здесь было все.
От входа в рощу донеслось негромкое пение, и мое сердце, откликнувшись, заколотилось быстрее. Я быстро поднялся и затаил дыхание.
И она пришла, появилась из-за поворота тропинки, легко трогая на ходу облепленные цветами ветви и улыбаясь цветам. Потом заметила меня в центре рощи, и лицо ее радостно вспыхнуло.
— Руне! — воскликнула она и побежала ко мне.
Я подхватил ее на руки, и она обвила меня руками за шею.
— Соскучилась по тебе! — прошептала она мне в ухо. — Я так по тебе соскучилась.
Отстранившись на секунду, чтобы полюбоваться ее прекрасным лицом, я прошептал в ответ:
— Я тоже соскучился по тебе, малышка.
Румянец растекся по щекам, на которых уже проступили очаровательные ямочки. Я взял Поппи за руку, и ее взгляд скользнул по мне. По мне семнадцатилетнему. Мне всегда было семнадцать, когда я приходил сюда в снах. Как и хотела Поппи.
Мы были такими, какими были тогда.
Поппи встала на цыпочки, и я, наклонившись, приник к ее губам долгим нежным поцелуем. Не хотел ее отпускать.
Потом она повела меня к нашему любимому дереву. Мы сели. Я обнял ее, а она прислонилась спиной к моей груди. Убрав волосы с ее шеи, я коснулся губами теплой кожи. Бывая здесь, с ней, держа ее в своих объятиях, я всегда ласкал ее и целовал сколько мог, зная, что времени мало, и скоро придется уходить.
Поппи счастливо вздохнула, и я увидел, что она наблюдает за плывущими в небе китайскими фонариками. Она часто это делала, потому что они были нашими поцелуями, ее особенным подарком.
— Как мои сестры, Руне? — спросила Поппи, устроившись поудобнее. — Как Элтон? Как папа с мамой? Твои родители?
Я обнял ее покрепче:
— У них все хорошо, малышка. Твои родители и сестры счастливы. И Элтон тоже. У него теперь подружка, которую он любит больше жизни. Играет в бейсбол. Мои родители тоже в порядке.
— Вот и хорошо, — обрадовалась Поппи.
И замолчала.
Я нахмурился. В моих снах Поппи всегда расспрашивала о работе — где, в каких местах я побывал, сколько фотографий было опубликовано. Но сегодня она вопросов не задавала. Просто сидела, уютно устроившись в моих объятиях, всем довольная и совершенно умиротворенная.
— Ты никогда не жалел, что так и не полюбил больше? — полюбопытствовала наконец Поппи. — Что не целовал никого, кроме меня? Что так и не заполнил ту банку, которую я тебе оставила?
— Нет, — нисколько не покривив душой, ответил я. — И я любил, малышка. Я люблю родных. Люблю свою работу. Люблю друзей и тех людей, которых встречаю в своих приключениях. У меня счастливая жизнь. И я любил и люблю тебя. Мне вполне достаточно этого. — Я вздохнул. — И моя банка полна… наполнена твоими поцелуями. Мне больше не надо их собирать.
Я взял ее за подбородок, повернул лицом к себе.
— Эти губы — твои губы. Я обещал их тебе годы назад, и с тех пор ничего не изменилось.
Поппи счастливо улыбнулась и прошептала:
— И эти губы — твои. Всегда были твоими и только твоими.
Я придвинулся к дереву и, коснувшись ладонью земли, вдруг почувствовал, что трава под пальцами другая, более настоящая, чем в мои прежние посещения. Раньше, когда я приходил к Поппи во сне, роща и ощущалась, как во сне. Я чувствовал траву, но не травинки, ветер, но не температуру, деревья, но не кору.
Сегодня, в этом сне, я ощущал ветерок на лице. Ощущал, как наяву. Чувствовал траву под ладонями, былинки и песчинки. Наклонившись к плечу Поппи, я ощутил тепло ее кожи на губах.
Почувствовав внимательный взгляд Поппи, я поднял глаза — она смотрела на меня пристально, словно ждала чего-то.
И тут до меня дошло.
Я понял, почему все воспринимается так реально. Сердце застучало быстрее и быстрее. Потому что если все так реально… если я понял все правильно…
— Поппимин? — спросил я и перевел дух. — Так это не сон… да?
Поппи повернулась, встала передо мной на колени, коснулась ладонью моей щеки и посмотрела мне в глаза.
— Нет, малыш. Не сон.
— Но как… — растерянно прошептал я.
Ее взгляд смягчился.
— Все случилось быстро и безболезненно. Твоя семья в порядке. Они счастливы, они знают, что ты в лучшем мире. Ты прожил короткую, но полноценную жизнь. Хорошую жизнь. Такую жизнь, какую я всегда хотела для тебя.
Я замер, потом спросил:
— Ты хочешь сказать…
— Да, малыш. Ты вернулся домой. Домой, ко мне.
Улыбка растеклась по губам, и волна счастья омыла меня. Не в силах сопротивляться ей, я впился губами в ждущие губы Поппи. И вместе с их сладким вкусом ощутил наполняющий меня изнутри покой.
— И я останусь здесь с тобой? Навсегда? — с замиранием сердца спросил я.
— Да, — мягко ответила Поппи, и в ее голосе прозвучала абсолютная безмятежность. — Это наше следующее приключение.
Все было реально.
Все было наяву.
Я снова поцеловал ее, медленно и нежно. Поппи закрыла глаза, и разлившийся по ее лицу румянец затопил ямочки на прелестных щеках.
— Вечный поцелуй с моим Руне… в вишневой роще… когда он пришел наконец домой, — прошептала Поппи и улыбнулась.
Я тоже улыбнулся.
— И мое сердце едва не разорвалось, — добавила она.
Плейлист
Написать эту историю мне помогали песни. Их ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ много. Но две группы звучали полным саундтреком. Обычно я использую разные жанры, но я хотела сохранить верность вдохновению и показываю вам те песни, которые помогли сложить повесть о Поппи и Руне.
One Direction
Infinity
If I Could Fly
Walking in the Wind
Don’t Forget Where You Belong
Strong
Fireproof
Happily
Something Great
Better Than Words
Last First Kiss
I Want to Write You a Song
Love You Goodbye
Little Mix
Secret Love Song Pt II
I Love You
Always Be Together
Love Me or Leave Me
Turn Your Face
Other Artists
Eyes Shut — Years & Years
Heal — Tom Odell
Can’t Take You With Me — Bahamas
Let The River In — Dotan
Are You With Me — Suzan & Freek
Stay Alive — José González
Beautiful World — Aiden Hawken
The Swan (From Carnival of the Animals) — Camille Saint-Saëns
When We Were Young — Adele
Footprints — Sia
Lonely Enough — Little Big Town
Over and Over Again — Nathan Sykes
Благодарности
Дорогие мама и папа, благодарю вас за поддержку при работе над этой книгой. Ваша мужественная борьба с раком повлияла не только на меня, но и в целом на всю нашу маленькую семью. Ваша храбрость и, что еще более важно, ваш позитив и вдохновляющий взгляд на жизнь перед лицом подобных трудностей заставили и меня взглянуть на мир другими глазами. Несмотря на суровые испытания последних лет, я научилась ценить каждое мгновение подаренного нам судьбою дня. Не знаю, как выразить свою безмерную благодарность вам — лучшим в мире родителям. Я так люблю вас обоих! Спасибо, что позволили мне воспользоваться опытом ваших переживаний для моего повествования. Он сделал историю правдивой. Он придал ей жизни.
Бабушка. Ты покинула нас очень молодой. Моя прекрасная подруга, я любила каждую твою черточку — и до сих пор продолжаю любить. Твое присутствие всегда вносило веселье, радость и свет в нашу жизнь. Когда я создавала образ бабушки Поппи, то представляла только тебя. Я была твоей «самой ненаглядной» и лучшей подружкой. Несмотря на твой уход, думаю, эта книга заставила бы тебя мною гордиться. Может быть, вы там сейчас улыбаетесь мне вместе с дедушкой в вашей собственной цветущей роще.
Джим, мой свекор. Ты вел себя мужественно до самого конца, как человек, с которого стоит брать пример. Я очень скучаю по тебе.
Моему мужу. Спасибо, что вдохновил меня на то, чтобы написать эту повесть. Я рассказала тебе об идее уже довольно давно, и ты буквально подтолкнул меня к началу работы, несмотря на то что все это очень сильно отличалось от тех жанров, в которых мне доводилось работать. Этой книгой я обязана тебе. Я полна любви к тебе. Навсегда.
Сэм, Марк, Тейлор, Исаак, Арчи и Элиас. Признаюсь вам в своей любви.
Моим потрясающим читателям: Терезе, Кийе, Ребекке, Рашель и Линн. Как всегда, ГРОМАДНАЯ благодарность вам всем! Это было не просто, но вы всегда оставались вместе со мной — даже тогда, когда я заставляла вас плакать! Я люблю вас всех.
Тереза, моя звезда и мегапомощница. Спасибо за работу с моей страницей в Фейсбуке и за внимание к моей работе. Спасибо за то, что редактировала. Особая благодарность за то, что ты вдохновила меня на создание эпилога к этому роману — это решение далось не слишком легко, не так ли? Тем не менее — я так благодарна! Ты была опорой для всего начинания. Ты дорога мне. Чего тебе стоило никогда не игнорировать самые безумные тексты в любое время суток. Лучшего друга я не могу себе представить.
Гитти, мой любимый норвежский викинг! Спасибо, что ввязался в эту авантюру вместе со мной. С той самой минуты, как я рассказала тебе о замысле еще одной мелодрамы, — а парень-то был норвежцем, — ты поддержал меня в этом стремлении. Спасибо за многочисленные переводы, которые ты сделал. Спасибо тебе за вдохновение — за великолепного Руне! Но самая большая благодарность за то, что ты остаешься собой. Ты истинный, замечательный друг. Ты на протяжении всего длинного пути обеспечивал мне тыл. С любовью к тебе!
Киа! До чего же замечательна у нас получилась команда! Ты остаешься ЛУЧШИМ редактором и корректором. Это одна из лучших наших работ! Спасибо за кропотливый труд. Для меня это так много значит. О, и спасибо за все, что связано с проверкой музыкальных фрагментов!
Голдену Бауэру (совместно с Рэчел). Кто бы мог подумать, что именно здесь может так пригодиться знание игры на виолончели?
Лиз, мой неоценимый агент. Я так дорожу тобой. Вот мой первый опыт в литературе для подростков!
Гитти и Дженни (на этот раз сразу оба!) из TotallyBooked Book Blog.
И снова, что я могу еще сказать, кроме слов большой благодарности и любви. Во всем, что сделано мною, есть ваше участие. Вы всегда оказывали поддержку, какой бы жанр я ни выбрала. Вы двое из тех людей, кого я ценю наиболее высоко. Я буду беречь нашу дружбу… она «особеннее не бывает».
А еще хотелось бы сказать слова благодарности многочисленным книжным блогам, которые поддерживают и продвигают мои книги. Селеша, Тифани, Стасия, Милица, Неда, Кинки Гелз, Вилма… О! Я могу так продолжать еще долго!
Трэси-Ли, Тереза и Керри — огромное спасибо за руководство моей уличной командой: The Hangmen Harem. Примите слова любви.
Мои @FlameWhores. Со мною через все испытания. Я просто обожаю вас, девочки!
К членам моей уличной команды — Я ВАС ЛЮБЛЮ!
Джоди и Алисия, я вам так признательна, девочки! Вы — мои дорогие подруги.
Девочки!!! Я просто обожаю вас всех!
И наконец, мои чудесные читатели. Спасибо всем, кто прочел этот роман. Я вижу ваши заплаканные глаза и щеки, мокрые от слез. Но все же надеюсь, что вы полюбили Поппи и Руне так же сильно, как я. Хотелось бы верить, что их история останется в ваших сердцах навсегда.
Без вас мне просто не обойтись.
С любовью.
С вами навсегда.
Навечно.
