Пелагия и красный петух
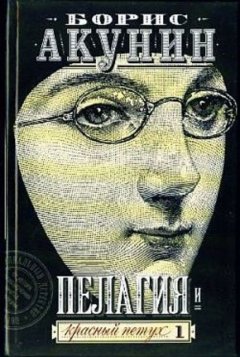
Борис Акунин,
ПЕЛАГИЯ И КРАСНЫЙ ПЕТУХ
«Истинный реалист, если он не верующий, всегда найдет в себе силу и способность не поверить и чуду...»
Ф.М. Достоевский. «Братья Карамазовы»
Часть первая,
ЗДЕСЬ
I. НА «СЕВРЮГЕ»
Про Колобка
Мяконько, кругленько вкатился Колобок на пароход «Севрюга». Выждал, пока на причал наползет густой клок тумана, весь съежился-скукожился и сделался сам похож на серое облачко. Шмыг к самому краю, да как скакнет на чугунный пал. Просеменил по натянутому, как струна, швартову до борта (для Колобка это была не штука – он раз на спор барыню на канате сплясал), и никто ничего. Здрасьте-пожалуйста, принимайте нового пассажира.
Конечно, не разорился бы и палубный билет купить. Всего-то тридцать пять копеек, если до следующей пристани, города Усть-Свияжска. Но для «разинцев» билет брать – свое ремесло не уважать. Пускай «гуси» с «карасями» билеты покупают.
Прозвище у Колобка такое, потому что маленький, ловкий, шагает мелко, пружинно, будто катится. И башка круглая, коротко стриженная. По бокам лопаточками уши, маленькие, но замечательно слухастые.
Про «разинцев» что известно? Такой речной народишко, собою незаметный, но без него и Река не Река, как болото без комаров. На берегу тоже мастера чистить чужие карманы имеются, название им «щипачи», но те публика мелкая, рваная и по большей части приблудная, нет им за это большого уважения, а «разинцам» есть, потому что они испокон веку.
Про то, откуда это слово взялось, толкуют двояко. Сами они считают, что от Стеньки Разина, который тоже на Реке-кормилице жирных «гусей» щипал. Обыватели по-другому говорят – мол, потрошат раззяв и разинь, оттого и «разинцы».
Сама работа хорошая, Колобку исключительно нравилась.
Сел на пароход, чтоб никто тебя не видал, потерся среди пассажиров до следующей пристани, да и сошел. Что взял – твое, что не смог – пускай себе дальше плывет.
Тут в чем козыри?
По Реке кататься воздушно, для здоровья польза. Это первое. Опять же людей видишь разных, иной раз такое занятное начнут рассказывать, что и про дело позабудешь. Это второе. А главное – ни тебе тюрьмы, ни каторги. Колобок двадцать лет на Реке работал, а что за тюрьма такая и знать не знал, в глаза не видывал. Поди-ка, возьми его с поличным. Чуть что – раз, и концы в воду. Кстати сказать, это про них, «разинцев», поговорка придумана, только остальному народу невдомек. «Концами» называют добычу. А вода – вон она, за бортом плещется. Запалился – кидай «концы» в воду, и нипочем не докажут, Река-матушка все спрячет. Ну, накостыляют, конечно, это уж как полагается. Только и накостыляют-то несильно, потому что пароходами публика плавает все больше культурная, деликатная, не то что в приречных селах. Там мужики от дикости и невежества запросто могут вора и до смерти уходить.
«разинцы» еще себя «щуками» называют, а пассажиров «гусями» или «карасями». Кроме «концов в воду» есть и другая присказка, которую все повторяют, а настоящего смысла не понимают: на то в реке и щука, чтоб карась не дремал.
Первый весенний пароход для «разинца» – самый главный праздник, лучше любого престольного. За зиму освинцовеешь без дела, а бывает, что и оголодаешь. Сидишь-сидишь, клянешь зиму-докуку, ждешь весны-невестушки. Иной раз она, желанная, долго ломается, пароходное плавание чуть не до июня стоит, а в этом году весна к Колобку пожаловала совсем молоденькой девчоночкой и не кобенилась нисколько. Такая прильнула жаркая, такая ласковая – до беспримерности. Это же надо, первое апреля, а уже весь лед сошел, и навигация открылась.
Разлив на Реке был широченный, едва берега видать, но «Севрюга» шла строго по фарватеру, на самом малом ходу. Капитан из-за тумана сильно осторожничал, через две минуты на третью давал сипатый гудок: «У-дууу! Отвали-и-и – я иду-уууу!»
Капитану туман в досаду, а Колобку он первый товарищ. Если б можно сговориться – половину навара бы ему, родимому, отдавал, только вали погуще.
Нынче жаловаться было грех, туман расстарался на славу. Плотней всего стелился по-над рекой; нижнюю палубу, где каюты, почитай, совсем укутал; ботдек, где шлюпки и вдоль бортов мешочники-баулыцики сидят, то отпустит, то накроет: будто в сказке какой – были люди, и вдруг все исчезли, осталось одно молоко. Выше тумана только черная высокая труба и мостик. Капитану, поди, там, наверху, кажется, что он не капитан, а Господь Бог Саваоф, и не на «Севрюге» плывет, а парит на облацех.
Все суда речной флотилии товарищества «Норд» назывались по какой-нибудь рыбе, такая у владельца причуда. От флагмана, трехпалубной «Белуги», где каюты первого класса по десяти рублей, до последней буксирной пыхтелки, какого-нибудь «Пескаря» или «Уклейки».
«Севрюга» на линии не из самых больших, но пароход хороший, хлебный. Ходит от Москвы до Царицына. Пассажиры все больше дальние, которым в Святую Землю или вовсе в Америку. Многие по льготной шифкарте, от Палестинского общества. Колобок сам по морям не плавал, потому что незачем, но знал все в доскональности.
По шифкарте товарищества «Норд» плавали так: изМосквы по Оке до Нижнего, после по Реке до Царицына, там поездом до Таганрога, а оттуда снова на пароход, только уже морской, и далее кому куда, согласно надобности. Если в Святую Землю плыть третьим классом, всего-навсего 46 рублей 50 копеек. Если в Америку, то, конечно, дороже.
Колобок пока никого не щипал, руки держал в карманах, только глаза и уши работали. Ну и ноги, само собой. Чуть загустеет туман – шарк-шарк на войлочных подметках, от одних к другим, и вприглядку-вприслушку. Что за люди? Хорошо ль себя блюдете?
Это так нужно: сперва все высмотреть, изведать, а потом, ближе к пристани, чистенько сработать. И, самое главное, фартовых унюхать. Они тут наверняка трутся, тоже навигации заждались. Это зверье не Колобковой масти. На пароходе дела редко делают, в ихнем ремесле резону нет. Фартовые на воде только выбирают «гуся», а пух-перья с него после, на берегу берут.
Ну и пускай бы их, не наша печаль, да только беда в том, что фартовые ведь не с финским ножом в зубах ходят, а таятся, тут и ошибиться можно. Вася Рыбинский, уважаемый «разинец», этак вот с одного приказчика котлы золотые снял, а приказчик оказался никакой не приказчик – фартовый человек, из казанских. Сыскали они потом Рыбинского и, конечно, чугунок ему проломили, хоть Вася и невиноватый. Такой у фартовых обычай – невозможно им терпеть, чтоб у них тырили. Пока за срам не расквитаешься, обратно в ихнее обчество не показывайся.
* * *
Начал Колобок с ботдека. Там пассажир палубный, все больше голь, но, во-первых, курочка по зернышку клюет, а во-вторых, такой у Колобка характер – что повкусней напоследок оставлять. Он и еду кушал так же. Если, скажем, греча с шкварками, то сначала крупу ложкой соберет, а сало до поры по краешку выложит, красиво. Если щи с мозговой косточкой, то сначала жижу выхлебает, потом капусту с морковкой стрескает, мясо обскоблит и лишь потом мозговую мякоть высасывает.
Значит, отутюжил шлюпочную палубу как положено: с юта на шкафут, потом на бак. Все корабельные слова и тонкости Колобок знал лучше любого матроса, потому что матрос, он парохода не любит. Ему, запьянцовской душе, поскорей бы на берег да в кабак, а «разинцу» на корабле все на пользу, все в интерес.
На носу, сбившись в кучку, сидели странствующие к Гробу Господню, десятка полтора мужиков и баб, рядом с каждым гордо выставлена суковатая палка – паломнический посох. Богомольцы ели хлеб-соль, запивали кипятком из жестяных чайников, на прочих путешественников поглядывали надменно.
Ну, так-то уж не задавайтесь, про себя сказал им Колобок. Есть и поблагостней вас. Сказывают, что иные святолюбцы в Палестину не пароходами добираются – на своих двоих. А как достигнут предела Обетованной Земли, дальше на коленках ползут. Вот она какая, истинная святость.
Все же не стал трогать божьих странников, отошел. Что с них возьмешь? Само собой, у каждого рублей по пяти припрятано, и достать – пара пустяков, но это уж надо совсем бессовестным быть. А человеку без совести жить нельзя, даже и в воровском деле. Может, в воровском еще больше, чем в каком другом, иначе совсем пропасть можно.
Колобок давно для себя правило вывел, чтоб жилось душевней: если видно, что хороший человек или несчастный какой, с такого «концов» не брать, пускай у него лопатник сам наружу торчит, в руки просится. Резона нет. Разбогатишься, положим, на тридцать целковых, да хоть бы на все триста, а сам себя уважать не будешь. Таких воров, которые себя уронили, Колобок много видал. Дрянь люди, душу за мятые рублевики продали. Разве уважению цена триста рублей? Нет, шалишь. Может, таких денег и вовсе на свете нет.
Около немцев-колонистов потерся основательно. Эти, надо думать, в Аргентину собрались, такая у них, немцев, сейчас мода. Вроде им там земли дают, сколько хочешь, и в солдаты не берут. Немец, он вроде жида, нашему царю служить не любит.
Ишь, палубные билеты взяли, куркули. Деньжата у колбасников есть, но больно прижимисты.
Сел Колобок под шлюпкой, послушал немецкий разговор, да только плюнул. Говорят, будто дурака валяют: гук-маль-ди-да.
Один, красномордый, докурил трубку, положил на палубу, близехонько. Ну, Колобок не устоял, прибрал хорошую вещь, не стал на после откладывать. Сейчас-то туман, а потом еще неизвестно как повернется.
Трубку рассмотрел (из фарфора, с малыми фигурками – заглядение), сунул в тыльник, холщовый мешок на веревке – под мышку вешать.
С почином.
Дальше духоборы сидели, вслух божественную книжку читали. Этих Колобок не тронул. Знал – в Канаду едут. Люди тихие, никому от них никакой обиды, за правду терпят. Писатель граф Толстой за них. Колобок читал одну его книжку, «Сколько человеку земли нужно». Смешная – про то, какие дураки мужичье.
Ладно, духоборы, плывите себе, Бог с вами.
Со шкафута и до самой кормы сплошь жиды пошли, но тоже не толпой – кучками. Это Колобку было не в диковину. Знал он: такая это нация, что промеж себя все грызутся.
У них, как и у наших, первый почет тем, которые в Палестину плывут. Колобок постоял, послушал, как «палестинский» жидок гордился перед «американским». Сказал ему: «Мы, не в обиду вам сказать, едем за духом, а вы за брюхом». «Американец» стерпел, отбрехиваться не стал, только голову повесил.
У «палестинского» Колобок вынул из кармана складной метр, портновский. Невелик навар, но можно Глаше-вдове подарить, она бабам юбки шьет, спасибо скажет. У «американского» взял часы. Барахло часы, медные, рублишка на полтора.
Прибрал добычу в мешок и затесался в кучу-малу пейсатых парней, галдевших кто по-своему, но большинство по-русски. Все тощие, кадыкастые, голоса писклявые.
Галдели они, потому что к ним с каютной палубы раввин поднялся, жидовский поп. Вот они к нему и кинулись.
Поп был собой видный, в шапке с меховой оторочкой, в пиджаке до колен. Длинная седая бородища, пейсы – как еще две бороды, густые брови – будто две вовсе маленьких бороденки. Обступили его жиденята и давай жаловаться. Колобок тут как тут – ему чем тесней, тем вольготней.
– Ребе, вы говорили, мы поплывем, как Ноевы избранники на ковчеге! А тут какой-то xoйшexl —пищал веснушчатый еврейчик. – Кого здесь только нет! Мало этих американеров,так еще апикойресы 1-сионисты, и гои, пожирающие свиной жир это он про немцев, догадался Колобок], и даже – тьфу на них! – гои, прикидывающиеся евреями!
– Да-да, «найденыши»! И с ними, говорят, сам ихний пророк! Про которого вы страшное говорили! – подхватили другие.
– Мануйла? – сверкнул глазами раввин. – Он здесь? Хвост сатанинский! Смотрите у меня! Близко к нему не подходить! И к «найденышам» тоже!
Один из жалобщиков пригнулся к поросшему седыми волосками уху и зашептал, но не так чтобы тихо, Колобок слышал каждое слово.
– А еще, говорят, этиздесь. «Христовы опричники». – Слова были произнесены жутким, свистящим шепотом, и все прочие сразу примолкли. – Убить нас хотят! Ребе, они не выпустят нас живыми! Лучше бы мы остались дома!
Про «христовых опричников» Колобок в газете читал. Давно известно, что в иных городах, где у людей дела мало, а злобы много, чуть какая оказия, сразу кидаются евреев бить. Чего ж не побить, не пограбить, если начальство дозволяет? Но кроме обычных громильщиков с некоторых пор завелись еще какие-то «опричники», люди серьезные, которые поклялись жидам и ихним потатчикам спуску не давать. И вроде бы уже убили кого-то – адвоката какого-то и еще студента. Адвоката ладно, все они жиганы бесстыжие, но студент чем им помешал? Поди, тоже отец-мать есть.
Ладно, это дела дальние. На Реке-матушке, слава Тебе, Господи, ни «опричников», ни погромов отродясь не бывало.
Пока жиденята шумели, Колобок одному-другому-третьему по карманам прошелся, но всего злата добыл пятак да двугривенный.
А еврейский поп послушал-послушал да как ногой топнет.
– Молчать!
Стало тихо. Старичище очки с носа сдернул и сунул в карман (блеснула оправа – никак золотая?). Вынул из другого кармана пузатую книжицу в кожаном переплете, раскрыл. Грозно заклехтал что-то по-своему, а после повторил по-русски – видно, были тут жиды, которые собственное наречие не довольно понимали.
– «И сказал Господь Моисею: «Доколе злому обществу сему роптать на Меня? Ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на Меня, Я слышу. Скажи им: живу Я, и все вы, которые роптали на Меня, не войдете в землю, на которой Я клялся поселить вас». Слыхали, что сказано Моисею, маловеры?
Со своей белой бородой, с поднятым кверху пальцем он и сам был похож на Моисея с картинки, какую Колобок видал в Библии.
Все поклонились. И Колобок тоже согнулся. Просунул руку между двумя впереди стоящими. Рука у него была особенная, почти что вовсе без костей, на хрящевом ходу. Изгибаться могла по-всякому, а если надо, то и удлинялась сверх всяких человеческих возможностей. Этой своей замечательной рукой Колобок дотянулся до раввинова кармана, мизинчиком подцепил очки и присел на корточки. Уточкой, уточкой – шмыг в туман.
Очки попробовал на зуб. Ей-богу, золотые!
А еврейский поп грохотал из-за согнутых спин:
– Не будь я Арон Шефаревич, если не изгоню всякого, кто будет роптать и малодушествовать! Посмотрите на себя, глисты сушеные! На что вы сдались «опричникам»? Да кому вы вообще...
Не стал Колобок слушать дальше, убрался от греха.
* * *
Туман совсем заплотнел, еле-еле перила видать. Вдоль них-то «разинец» и заскользил.
У-дууу!!! – оглушительно загудело наверху. Значит, рубка тут.
А как пароход отдуделся, донеслись до Колобковых ушей странные слова.
Кто-то впереди выводил нараспев:
- Дыханье дав моим устам,
- Она на факел свой дохнула,
- И целый мир на Здесь и Там
- В тот миг безумья разомкнула,
- Ушла – и холодом пахнуло...
– Брось завывать, Колизей, – оборвал другой голос – резкий, насмешливый. – Лучше мускулатуру укрепляй. На что я тебе раббер-болл давал?
С левого берега дунуло ветром, и пелена вмиг попрозрачнела. Колобок увидел под лесенкой рубки целое собрание: парни сидят, человек двадцать, и с ними две девки.
Чудная была компания, нечасто такую увидишь. Среди парней много очкастых и кучерявых, да и носастые есть – по виду вроде еврейчики, а вроде и нет. Очень уж веселые, у всех рот до ушей. Один постарше, плечистый, под распахнутой блузой тельняшка, в зубах трубка. Не иначе морской человек, вот и бородка без усов – это моряки так бреют, чтоб угольком из трубки не подпалиться.
Еще чудней были девки. Верней, не девки – барышни.
Первая тоненькая, белокожая, глазищи в поллица, но волосы, дурочка, зачем-то по-мальчишьи обстригла. А волосы знатные, густые, с золотым отливом.
Вторая низенькая, кругленькая, а одета – умора: на голове белая полотняная шапка с маленькими полями, вместо юбки короткие штаны зеленого цвета, так что ноги все на виду, обута в белые шкарпетки и необстоятельные тапки на кожаных ремешках.
Колобок аж глазами захлопал от непривычного зрелища. Надо же – и лодыжки видно, и толстые ляжки, все в цыпках от холода.
И не только ногами заинтересовался.
Что за люди? Куда едут и зачем? И что за «рабербол» такой?
Непонятное слово произнес бородатый. Тот же, что читал стихи, на его попрек засмеялся, стал рукой дергать. Колобок присмотрелся – в пальцах у парня черный шар зажат, и он его давит, давит. А зачем?
– Зябнешь, Малке? – спросил бородатый толстушку – тоже на цыпки ее посмотрел. – Ничего, будешь вспоминать эту поездку, как рай. Прохладно, и воды сколько хочешь. Я почему назначил сбор в Нижнем? Чтоб с Россией попрощались. Глядите, дышите. Скоро нечем будет. Вы еще не знаете, что такое настоящая жара. А я знаю. Раз в Порт-Саиде стояли, надо было обшивку подлатать. Я у кэптена на неделю отпросился, захотелось пустыню на зуб попробовать, присмотреться.
– И что, присмотрелся? – спросила нежная барышня.
– Присмотрелся, Рохеле, присмотрелся, – усмехнулся бородач. – У меня кожа не такая белая, как у тебя, и то к вечеру физиономия волдырями пошла. Губы растрескались, все в крови. Горло будто напильником надраено. А воду пить – ни-ни, нужно соль лизать.
– Зачем соль, Магеллан? – удивился один из парней.
– А затем, что, когда потеешь, из организма соль уходит, это страшней обезвоживания. Так и сдохнуть можно. Потею, лижу соль, но еду вперед. У меня решено твердо: двести верст до Газы, там дневка, и обратно. – Магеллан выпустил струйку дыма. – Только в Газу я не попал, сбился. Понадеялся на солнце, не взял компас, дурак. На третий день пустыня начала качаться, подплывать. Как на волнах: влево-вправо, влево-вправо. Березовую рощу вдали увидал, потом озеро. Эге, соображаю, до миражей допотелся. А вечером, когда от барханов протянулись длинные полосы, из-за холма налетели бедуины. Я сначала подумал: еще один мираж. Представьте: треугольные тени, несутся со сверхъестественной быстротой, и все крупнее, крупнее. Это они верблюдов вскачь погнали. Главное – все в полной тишине. Ни звука, только тихо-тихо шелестит песок. Меня предупреждали про разбойников. Винчестер с собой, револьвер. А я застыл в седле, идиот идиотом, и смотрю, как мне навстречу несется смерть. Красивое зрелище – не оторвешься. В пустыне ведь что самое опасное? От солнца и зноя инстинкт самосохранения притупляется, вот что.
Все слушали рассказчика, затаив дыхание. Колобку тоже было интересно, но и о деле забывать нехорошо. У толстозадой Малки из кармашка ее потешных штанов заманчиво торчал кошелек. Колобок его даже уж и вынул, но положил обратно. Жалко стало дуреху.
– Да не так! Я же показывал! – прервал рассказ Магеллан. – Что ты кистью дергаешь? Пальцами, пальцами! Дай сюда!
Отобрал у очкастого Колизея шар, принялся его стискивать.
– Ритмично, ритмично. Тысячу, десять тысяч раз! Как ты арабскую лошадь за уздцы удержишь с такими пальцами? Лови, работай.
Кинул шар обратно, но недотепа-стихоплет не поймал.
Шар стукнулся о палубу и вдруг как подпрыгнет. Так звонко, задорно – Колобку очень понравилось.
И покатился мячик по настилу, подскакивая, а тут справа опять наполз туман и утопил всю честную компанию в белой простокваше.
– Раззява! – послышался голос Магеллана. – Ладно, после подберешь.
Но на чудо-мячик уже нацелился Колобок. Занятная штуковина. Подарить ее Пархомке-газетчику, пускай малой порадуется.
Только бы за борт не утек. Колобок прибавил ходу.
Со стороны посмотреть – наверно, смешно: два колобка катятся, один маленький, другой большой. Стой, не уйдешь!
Мячик наткнулся на что-то темное, остановился, и тут же был ухвачен. Колобок так увлекся погоней, что едва не налетел на человека, сидевшего на палубе (об него-то шустрый раббер-болл и запнулся).
– Пардон, – культурно извинился Колобок. – Это мое.
– Берите, коли ваше, – ласково ответил сидевший.
И повернулся к соседям (там рядом еще двое были), продолжил разговор.
Колобок только рот разинул. Эти показались ему еще чудней предыдущих.
Два мужика и баба, но одеты одинаково: в белых хламидах до пят, а посередке синяя полоса – у бабы пришита лента, у мужиков кое-как краской намалевано.
Это «найденыши» и есть, скумекал Колобок. Те самые, про кого евреи ругались. Видеть он их раньше не видывал, но читать приходилось – и про жидовствующих, и про пророка ихнего Мануйлу. В газете про все на свете прочитать можно.
«Найденыши» – люди русские, но от Христа отступились, подались в жидовскую веру. Зачем им жидовская вера и отчего их зовут «найденышами», в голове не осталось, но запомнил Колобок, что газета отступников крепко ругала и про Мануйлу писала плохое. Много он народу обманом от православия отвратил, а это кому ж понравится?
Вот и Колобок этих троих сразу не полюбил, стал думать, что бы у них такое утырить – не для поживы, а чтоб знали, как Христа предавать.
Пристроился сбоку, за цепным ящиком, затаился.
Тот, в кого мячик попал, был сильно в возрасте, с мятым лицом. По виду из спившихся приказных, однако трезвый. Говорил мягко, обходительно.
– Истинно вам говорю: он самый Мессия и есть. Христос – тот ложный был, а этот самый доподлинный. И распять его у злых людей не получится, потому что Мануйла бессмертный, его Бог бережет. Сами знаете, убивали его уже, а он воскрес, да только на небо не вознесся, среди людей остался, потому как это его пришествие – окончательное.
– Я, Иегуда, насчет обрезания сомневаюсь, – пробасил огромный мужичина. По ручищам, по черным точкам на роже Колобок определил – из кузнецов. – На сколько резать-то надо? На палец? На полпальца?
– Этого я тебе, Иезекия, не скажу, сам в сомнении. Мне в Москве сказывали, как один сапожник себе ножницами отрезал лишку, так чуть не помер потом. Я, например, думаю пока воздержаться. Доедем до Святой Земли – там видно будет. Мануйла-то, говорят, не велел обрезаться. Вроде, я слышал, не было от него на это «найденышам» благословения.
– Брешут, – вздохнул кузнец. – Надо резаться, Иегуда, надо. Настоящий еврей завсегда обрезанный. А так что ж, и в баню в Святой Земле срамно сходить будет. Засмеют.
– Твоя правда, Иезекия, – согласился Иегуда. – Хоть и боязно, а, видно, надо.
Тут голос подала баба. Голос был гнилой, гнусавый, что и неудивительно, поскольку носа на лице у бабы не наблюдалось – провалился.
– Эх вы, «боязно». А еще евреи. Жалко, я не мужик, я бы не испугалась.
Что ж у них, иродов, спереть-то, размышлял Колобок. Мешок, что ли, у кузнеца?
И уж потихоньку начал подбираться к мешку, но здесь к троим сидевшим подошел четвертый, в такой же хламиде, только синяя полоса не намалеванная, а пришитая белой ниткой.
Этот Колобку еще противней показался: глаза с прищуром, морда плоская, масленая, жирные волосья до плеч, паршивая бороденка. Не иначе из кабатчиков.
Те трое так и вскинулись:
– Ты что, Соломоша, одного его оставил?
А пожилой, которого звать Иегуда, огляделся по сторонам (но Колобка не приметил, куда ему) и тихонько говорит:
– Ведь уговорено – чтоб при казне беспременно двое были!
Колобок решил, что ослышался. Но плоскомордый Соломоша махнул рукой:
– Куды она денется, казна? Спит он, а ларчик под подухой у него, да еще руками облапил. Душно там, в комнате.
И сел, снял сапог, затеял портянку перекручивать.
Колобок глаза потер – не сон ли.
Казна! Ларчик!
Ай да первая навигация, ай да «Севрюга»!
Пустяки эти ваши золотые очки, а про остальное прочее и говорить нечего. В каюте, под подушкой у Мануйлы-пророка, ждал Колобка ларец с казной. Вот она, мозговая косточка!
Так, говорите, уснул ваш пророк?
И «разинца» вмиг сдуло из-за ящика.
Трапчиком, трапчиком слетел Колобок на нижнюю палубу. Там никого и ничего не видно, только желтые пятна сквозь белое – каютные окна светятся.
Колобок спросил у желтых пятен: ну-ка, в котором из вас казну везут?
На окнах были занавески, но не до самого верху. Если на стульчик встать (а стульчики на палубе имелись, будто нарочно для Колобковой надобности), можно поверх шторки заглянуть.
В первом окошке увидал Колобок трогательную картину: семейное чаепитие.
Папаша – густобородый, солидный – потягивал чай из большого стакана. Напротив, на диванчике, вышивала супруга в домашнем чепце – особа немножко мужеподобная, но с чрезвычайно мягким и добрым лицом. А по обе стороны от папеньки, прильнув к его широким плечам, сидели детки: сын-гимназист и дочка, тех же примерно лет. Однако не двойняшки – паренек чернявый, девица золотоволосая.
Дочурка напевала. Тихонько, так что через стекло слов было не слыхать, только некое ангельское колебание воздуха. Взгляд у барышни был мечтательный, розовые губки то раскрывались пошире, то вытягивались трубочкой.
Колобок залюбовался на райское видение. В жизнь бы у таких славных тырить не стал.
Сынок сказал что-то, поднялся. Поцеловал папеньку – да как нежно-то, прямо в губы. Взял фуражку, вышел в коридор. Должно быть, прогуляться надумал, воздухом подышать. Папенька ему вслед воздушный поцелуй послал.
Колобок растрогался. Вот ведь какого грозного вида мужчина. У себя в конторе или в присутствии, поди, внушает подчиненным трепет, а при семье, в домашности, истинный агнец.
Ну и вздохнул, конечно, по собственной одинокой жизни. Где уж «разинцу» семьей обзаводиться?
А уже следующее окно оказалось то самое, Мануйлино. Опять Колобку повезло.
Тут и на стул лезть не пришлось, занавески были сдвинуты неплотно. В зазор Колобок увидал тощего русобородого мужика, лежащего на бархатном диване. Подумал: тоже еще пророк, паству на палубу загнал, а сам в первом классе шикует. И как сладко спит-то, аж слюни изо рта висят.
Что это там под подушкой блестит? Никак шкатулка лаковая.
Ну спи, спи, да только покрепче.
Колобок заерзал от нетерпения, но велел себе не мельтешить. Дело наклюнулось нешуточное, тут бы не запороться.
С коридора войти, замок отомкнуть?
Нет, еще увидит кто. Проще отсюда. Туман-заступничек выручит.
Что окно закрыто, это глупости. На то у всякого «разинца» имеется особый инструмент, «цапка». Подцепляешь ею винты, которые раму держат (только сначала не забыть из масленочки покапать, чтоб не скрипнуло), рраз слева, рраз справа, и почти готово. Теперь пощедрей тем же маслицем сбоку, в пазы. И вира-вира помалу.
Окошко поползло вверх безо всякого шума, как следовало.
Дальше просто. Влезть внутрь, на цыпочках к дивану. Шкатулку из-под подушки потянуть, вместо нее подсунуть полотенце скрученное.
Чтоб спящий ненароком не проснулся, нужно дыхание слушать – оно всегда подскажет. А на лицо смотреть нельзя – иной человек это чувствует, когда на него во сне пялятся.
Колобок весь сжался, чтобы лезть в окно, и уж даже голову просунул, но тут вдруг рядом, совсем близко, заскрипела рама, и женский голос громко, запальчиво сказал:
– Ну уж это вы бросьте!
У Колобка все так и упало: беда, запалился!
Выдернул голову обратно, повернулся – отлегло.
Это в соседней каюте окошко открыли. Наверно, дуншо им стало.
Тот же голос сердито продолжил:
– Вот, воздуха свежего глотните, владыко! Бог знает, до чего вы договорились! Хоть грехи-то мои у меня не отбирайте!
Густой бас, тоже сердитый, ответил:
– Мой это грех, мой! Я попустительствовал, я тебе послушания назначал, мне и отвечать! Да не перед прокуратором столичным – перед Господом Богом!
Ай, нехорошо. Разбудят пророка, крикуны проклятые.
Колобок опустился на четвереньки, переполз к открытому окну. Осторожно, одним глазком, заглянул.
Сначала показалось, что в каюте двое – седовласый архиерей с узорчатым крестом на груди, и монашка. Потом в углу усмотрел третьего, тоже монаха. Но тот сидел безгласно, себя никак не выказывал.
Из-за чего ор, люди божьи? По-христиански нужно, со смирением. Пассажиров перебудите.
Монашка вроде как услыхала Колобково пожелание. Вздохнула, голову повесила.
– Владыко, клянусь вам: никогда больше не соблазнюсь. И вас искушать не буду. Только не казните себя.
Архиерей пошевелил густыми бровями (одна уже почти седая, другая по преимуществу еще черная), погладил инокиню по голове.
– Ничего, Пелагиюшка, Бог милостив. Может, и отобьемся. А грех наш вместе отмолим.
Характерная пара. Про себя Колобок им уже прозвища дал: Лисичка-сестричка (это из-за рыжей прядки, что выбилась из-под апостольника) и Кудеяр-атаман (больно уж неблагостного, воинственного вида был поп). Как из песни:
- Бросил своих он товарищей,
- Бросил набеги творить;
- Сам Кудеяр в монастырь ушел
- Богу и людям служить!
В другое время Колобок с большим интересом послушал бы про грех, приключившийся между владыкой и монашкой. Но сейчас до того ли? Помирились, кричать перестали, и слава Те, Господи.
Сызнова перебрался на коленках под пророково окно.
Взялся руками за раму, приподнялся.
Дрыхнет, родимый. Не проснулся.
В самый последний миг, когда уже и поделать ничего было нельзя, услышал Колобок сзади шорох. Хотел обернуться, да поздно.
Что-то хрустнуло и взорвалось прямо в Колобковой голове, и не было для него больше ни весеннего вечера, ни речного тумана – вообще ничего.
Две крепкие руки взяли обмякшее тело за ноги и протащили по палубе к борту – быстро, чтоб не натекло крови. Тыльник, подмышечный мешок для добычи, зацепился было за ножку столика. Рывок – веревка лопнула, движение продолжилось.
А потом Колобок пролетел по воздуху, на прощанье послал Божьему свету целый фонтан брызг и соединился с Рекой-матушкой.
Она приняла своего непутевого сына в ласковые объятья, немножко покачала, побаюкала, да и уложила поглубже, в дальнюю темную спаленку, на мягкую перину из ила.
Столичные неприятности
– А все же удивительно, откуда Константин Петрович дознался, – в который уже раз повторил владыка Митрофаний, мельком оглянувшись на глухой шум за окном – будто на палубу уронили тюк или штуку полотна. – Поистине, высоко сидит, далеко глядит.
– Его высокопревосходительству и по долгу службы так полагается, – вставил из угла отец Серафим Усердов.
Разговор об одном и том же длился между преосвященным, его духовной дочерью Пелагией и епископовым секретарем третий день. Затеялся еще в Петербурге, после неприятной беседы с обер-прокурором Святейшего Синода Константином Петровичем Побединым. И в поезде про эту неприятность было говорено, и в московской гостинице, а теперь и на пароходе, что вез губернского архиерея и его спутников в родной Заволжск.
Контры с обер-прокурором у владыки были давние, но доселе прямой конфронтации все же не достигали. Константин Петрович словно приглядывался, примеривался к маститому оппоненту, уважая в нем силу и правду, ибо и сам был муж сильный и тоже при своей правде, однако ж ясно было, что рано или поздно две эти правды схлестнутся, ибо слишком отличны одна от другой.
От вызова в столицу, пред суровые очи обер-прокурора, Митрофаний ожидал чего угодно, любого притеснения, да только не с того фланга, откуда последовал удар.
Начал Константин Петрович по своему обыкновению тихо, как бы на мягких лапах. Похвалил заволжца за хорошие отношения со светской властью, а более всего за то, что губернатор Митрофаниева совета слушает и ходит к нему исповедоваться. «Вот пример неотделимости государства от церкви, на чем единственно только и может стоять здание общественной жизни», – сказал Победин и для вящей значительности воздел палец..
Потом нестрого пожурил за мягкотелость и беззубие в отношениях с инославцами и иноверцами, которых в Заволжье полным-полно: и колонисты-протестанты там имеются, и католики из прежних ссыльных поляков, и мусульмане, и даже язычники.
Манера говорить у его превосходительства была особенная – будто доклад по бумажке читает. Гладко, складно, но как-то сухо и для слушателей утомительно: «Государственная церковь – это система, при которой власть признает одно вероисповедание истинным и одну церковь исключительно поддерживает и покровительствует, к более или менее значительному умалению в чести, праве и преимуществе иных церквей, – назидательствовал Константин Петрович. – Иначе государство потеряло бы духовное единение с народом, подавляющее большинство которого придерживается православия. Государство безверное есть не что иное, как утопия невозможная к осуществлению, ибо безверие есть прямое отрицание государства. Какое может быть доверие православной массы к власти, если народ и власть верят по-разному или если власть вовсе не верует?»
Митрофаний терпел лекцию сколько мог (то есть недолго, ибо терпение никак не входило в число архиереевых forte)и в конце концов не сдержался, прервал высокого оратора:
– Константин Петрович, я убежден, что православное верование – истиннейшее и милосерднейшее из всех, и убежден не из государственных соображений, а по приятию души. Однако, как известно вашему высокопревосходительству из предыдущих наших бесед, почитаю вредным и даже преступным обращать иноверующих в нашу религию посредством насилия.
Победин покивал – но не согласительно, а осуждающе, как если бы и не ждал от епископа ничего, кроме невежливого прерывания и строптивости.
– Да, мне известно, что ваша заволжская... фракция [это неприятное и, хуже того, чреватоеслово Победин еще и интонацией подчеркнул] – враг всяческого насилия. – На этом месте обер-прокурор выдержал паузу и нанес сокрушительный, вне всякого сомнения заранее подготовленный удар: – Насилия и преступности[опять интонационное подчеркивание]. Но я и не подозревал, до каких степеней простирается ваша истовость в искоренении сей последней. – Дождавшись, чтобы на лице Митрофания от этих странных слов появилась настороженность, Победин с грозной вкрадчивостью спросил. – Кем вы и ваше окружение себя вообразили, владыко? Новоявленными Видоками? Ширлоками Холмсами?
Сестра Пелагия, присутствовавшая при разговоре, на этом месте побледнела и даже не сдержала тихого возгласа. Лишь теперь до нее дошло, почему преосвященному было велено взять с собой на аудиенцию и ее, скромную инокиню.
Обер-прокурор немедленно подтвердил нехорошую догадку:
– Я не случайно попросил вас пожаловать вместе с начальницей вашей прославленной монастырской школы. Вы, верно, думали, сестра, что речь пойдет об образовании?
Пелагия и в самом деле так думала. Занять место начальницы заволжской школы для девочек архиерей благословил ее всего полгода назад, по смерти сестры Христины, однако за этот недолгий срок Пелагия успела нареформаторствовать вполне достаточно, чтобы навлечь на себя неудовольствие синодского начальства. Она была готова отстаивать каждое из своих нововведений и запаслась для этого множеством убедительнейших аргументов, но услышав про Видока и какого-то неведомого Ширлока (должно быть, тоже сыщика, как и знаменитый француз), совершенно растерялась.
А Константин Петрович уже тянул из коленкоровой папочки лист бумаги. Поискал там что-то, ткнул в строчку белым сухим пальцем.
– Скажите-ка, сестра, не приходилось ли вам слышать про некую Полину Андреевну Лисицыну? Умнейшая, говорят, особа. И храбрейшая. Месяц назад оказала полиции неоценимую помощь в расследовании злодейского убийства протоиерея Нектария Зачатьевского.
И в упор уставился своими совиными глазами на Пелагию.
Та пролепетала, краснея:
– Это моя сестра...
Обер-прокурор укоризненно покачал головой:
– Сестра? А у меня другие сведения.
Все знает, поняла монахиня. Какой стыд! А стыдней всего, что соврала.
– Еще и лжете. Хороша Христова невеста, – кольнул в больное место Победин. – Сыщица в рясе. Каково?
Впрочем, во взгляде могущественного человека был не гнев, а скорее любопытство. Как это – черница, а расследует уголовные преступления?
Пелагия больше отпираться не стала. Опустила голову и попробовала объяснить:
– Понимаете, сударь, когда я вижу, как торжествует злодейство, а особенно когда кого-то невинно обвиняют, как это было в упомянутом вами деле... Или если кому-то грозит смертельная опасность... – Она сбилась, и голос задрожал. – У меня вот здесь, – монахиня приложила руку к сердцу, – будто уголек загорается. И жжется, не отпускает до тех пор, пока правда не восстановится. Мне бы, согласно моему званию, молиться, а я не могу. Ведь Бог от нас не бездействия ждет и не тщетных стенаний, а помощи – кто на какую способен. И вмешивается Он в земные дела, лишь когда в борьбе со Злом человеческие силы иссякают...
– Жжется, вот здесь? – переспросил Константин Петрович. – И молиться не можете? Ай-я-яй. Ведь это бес в вас, сестра, сидит. По всем приметам. Нечего вам в монашестве делать.
Пелагия от таких слов помертвела, и на выручку кинулся Митрофаний:
– Ваше высокопревосходительство, не виновата она. Это я велел. Мое благословение.
Синодский предводитель, похоже, только того и ждал. То есть по видимости поведения даже совсем не ждал и ужасно изумился, руками замахал: не верю, мол, не верю. Вы?! Вы?! Губернский архипастырь?
И словно бы утратил дар речи. Померк лицом, смежил веки. После паузы сказал устало:
– Идите, владыко. Молиться буду, чтоб вразумил меня Господь, как с вами быть...
Такая вот приключилась в Петербурге беседа. И пока еще неизвестно было, к чему она приведет, какое наитие по поводу заволжской «фракции» снизойдет обер-прокурору от Всевышнего.
– Повиниться бы надо перед Константином Петровичем, – нарушил паузу Усердов. – Такой это человек, что не зазорно и склониться со смирением...
Это, пожалуй, было верно. Константин Петрович – человек особенный. Для него в Российской империи, как сказал персонаж пьесы Островского, «невозможного мало». Свидетельство тому было явлено заволжцам еще в самом начале петербургской аудиенции.
На столе его высокопревосходительства зазвонил один из телефонов – самый красивый: красного дерева, с блестящими трубками. Победин прервался на полуслове, поднес палец к губам, а другой рукой покрутил рычаг и приставил к уху рожок.
Секретарь Усердов, сидевший на краешке стула с портфелем, в котором был заготовлен отчет по епархиальным делам, первым догадался, кто телефонирует, – вскочил и вытянулся на военный лад.
Во всей России было только одно лицо, ради которого Константин Петрович стал бы сам себя прерывать. Да и известно было, что из Дворца в кабинет обер-прокурора особый провод протянут.
Голос венценосца посетители, конечно, слышать не могли, но все равно впечатлены были сильно, а особенно тем, с какой отеческой строгостью выговаривал Победин помазаннику Божию:
– Да, ваше величество, редакция присланного от вас указа не показалась мне удовлетворительной. Я составлю новую. И помилование государственного преступника тоже никак невозможно. Некоторые ваши советчики так развратились в мыслях, что почитают возможным избавление от смертной казни. Я русский человек, живу среди русских и знаю, что чувствует народ и чего требует. Да не проникнет в сердце вам голос лести и мечтательности.
Надо было видеть в ту минуту лицо отца Усердова: на нем был и испуг, и трепет, и сознание сопричастности великому таинству Высшей Власти.
Секретарь у преосвященного был всем хорош, по части исполнительности и аккуратности даже безупречен, но не лежала к нему душа у Митрофания. Очевидно, именно поэтому архиерей был к отцу Серафиму особенно милостив, преодолевая ласковостью тяжкий грех беспричинного раздражения. Иной раз, бывало, и срывался, как-то даже запустил в Усердова камилавкой, но потом непременно просил прощения. Незлобивый секретарь пугался, подолгу не осмеливался произнести извиняющих слов, но в конце концов лепетал-таки: «Прощаю, и вы меня простите», после чего мир восстанавливался.
Непоседливая умом Пелагия однажды в связи с личностью отца Серафима высказала Митрофанию крамольную мысль о том, что на свете есть люди живые, настоящие, а есть «подкидыши», которые только стараются быть похожими на людей. Вроде как из другого мира они к нам подброшены – или, может, с другой планеты, чтобы вести за нами наблюдение. У одних «подкидышей» притворство получше получается, так что их почти и не отличишь от настоящих людей; у других похуже, и их сразу видно. Вот и Усердов из неудачных экземпляров. Если ему под кожу заглянуть, там, должно быть, какие-нибудь гайки и шестеренки.
Владыка монашку за эту «теорию» разбранил. Впрочем, завиральные мысли Пелагию посещали нередко, и преосвященный к этому привык, ругался же больше для порядка.
Про отца Серафима архиерей знал, что тот мечтает о высоком церковном поприще. А что ж? И учен, и благонравен, и собою прелесть как хорош. Власы и браду секретарь держал в чистоте и холености, умащивал благовониями. Ногти полировал щеточкой. Рясы и подрясники носил тонкого сукна.
Вроде бы и не было во всем этом ничего предосудительного, Митрофаний и сам призывал клир блюсти себя в приличной аккуратности, а все равно раздражался на своего помощника. Особенно в эту поездку, когда небесные сферы метнули в преосвященного огненными молниями. Ни поговорить по душам с духовной дочерью, ни высказать заветное. Сидит этот шестикрылый, усишки маленькой расчесочкой обихаживает. Молчит-молчит, потом не к месту встрянет, весь разговор испортит – вот как сейчас.
На призыв повиниться перед обер-прокурором Пелагия поспешно сказала:
– Я что же, я пожалуйста. Хоть перед святой иконой поклянусь: больше никогда и ни за что ни в какое расследование носа не суну. Будь хоть самая растаинственная тайна. Даже в сторону ту не взгляну.
А Митрофаний только покосился на секретаря, ничего ему не сказал.
– Пойдем-ка, Пелагиюшка, по кораблю пройдемся. Кости размять... Нет-нет, Серафим, ты тут сиди. Приготовь мне бумаги по консистории. Вернусь – перечту.
И оба с облегчением покинули каюту, оставив Усердова наедине с портфелем.
Всякой плоти по паре
По нижней палубе гулять не стали, потому что из-за тумана все равно не было никакой возможности разглядеть ни Реки, ни неба (да и самой палубы). Поднялись наверх, где кучками сидели пассажиры самого дешевого разряда.
Оглядев сквозь полупрозрачную мглу все сие разномастие, Митрофаний вполголоса произнес: «Из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из всех пресмыкающихся по земле, всякой плоти по паре...».
Крестьян-паломников благословил и допустил к руке. Прочих же, покидавших Россию навсегда и в благословении православного пастыря не нуждавшихся, лишь обвел грустным взглядом.
Негромко сказал спутнице:
– Вот ведь умнейший человек и искренне отечеству добра желает, а в каком заблуждении души пребывает. Погляди, сколько от него вреда.
Имени не назвал, но и так было ясно, про кого речь – про Константина Петровича.
– Полюбуйся на плоды его борьбы за добро, – горько продолжил преосвященный, проходя мимо сектантов и иноверцев. – Все, кто непохож на большинство, кто странен – из державы вон. Можно и насильно не гнать, сами уедут, от притеснений и государственного недоброжелательства. Ему мнится, что Русь от этого сплоченней, единодушней станет. Может, оно и так, да только победнеет красками, поскучнеет, поскуднеет. Наш прокуратор уверен, что ему одному ведомо, как нужно обустраивать и спасать отечество. Такие сейчас времена настали, что мода на пророков пошла. Вот они и лезут со всех сторон. Иные потешные, вроде нашего соседа Мануйлы. Другие посерьезней, вроде графа Толстого или Карла Маркса. Вот и Константин Петрович себя мессией возомнил. Только не всемирного, а локального масштаба, как в ветхозаветные времена, когда пророка посылали не ко всему человечеству, а только к одному народу...
Невеселые сетования епископа прервало почтенное семейство, тоже поднявшееся на шлюпочную палубу прогуляться: кряжистый господин, дама с вязанием и двое детей-подростков – миловидный гимназист и хорошенькая светловолосая барышня.
Гимназист сдернул фуражку и поклонился, прося благословения.
– Как вас зовут, юноша? – спросил Митрофа-ний славного паренька, осеняя крестным знамением всю семью.
– Антиной, ваше преосвященство.
– Это имя языческое, для домашнего употребления. А крестильное какое?
– Антип, ваше преосвященство.
– Хорошее имя, народное, – одобрил владыка.
Мальчик нежно коснулся губами его руки, и Митрофании умилился, погладил Антипа-Антиноя по затылку.
Не спеша пошел дальше, а Пелагия задержалась – очень уж искусно клала петли мать благочестивого гимназиста. Монахиня и сама увлекалась вязанием, всегда носила на шее мешочек с рукодельем, однако по бестолковости пальцев вечно путала рядность и бедствовала с узелками.
«Как это вы, сударыня, так ловко накид кладете?» – хотела она спросить и вдруг заморгала, прижала очки к переносице.
Странные у мастерицы были руки: широкие и с волосками на пальцах.
Пелагия подняла глаза, узрела над кружевным воротничком неженскую, кадыкастую шею и ойкнула.
Удивительная дама остановилась, поймав взгляд монашки, и вдруг подмигнула.
Ее семейство проследовало дальше, так что обе энтузиастки вязания оказались наедине.
– Вы мужчина? – шепотом спросила Пелагия, широко раскрыв глаза.
Та кивнула, поднесла палец к губам: тс-с-с.
– А... они кто? – инокиня растерянно кивнула вслед плечистому господину и прелестным чадам.
– Моя семья. – Голос у переодетого был высокий, с подвзвизгом, от женского почти неотличимый. – Мой муж, Лев Иванович. И наши деточки, Антиной и Саломея. Мы содомиты.
Последняя фраза была произнесена совершенно обыденным тоном, как если бы говоривший сказал «мы одесситы» или «мы менонниты».
– С-содомиты? То есть... то есть мужеложцы? – с запинкой произнесла Пелагия стыдное слово. – А как же барышня? И потом... разве у вас могут быть дети?
– Саломея не барышня, он раньше в мужских банях работал. Там его Левушка и подобрал. Так нежен, так нежен! А как поет! Антиной – тот веселый, озорной, иной раз и пошалить любит, но Саломеюшка – просто ангел. Мы все трое Льва Ивановича любим, – мечтательно произнес поразительный собеседник. – Он настоящий мужчина, не то что обычные. Для настоящего мужчины женщины мало, для него все прочие мужчины, как женщины.
Слушать было и стыдно, и интересно. Пелагия обернулась на Митрофания – далеко ли отошел. Только бы не узнал, бедный, кого это он так ласково благословил.
Преосвященный был неподалеку. Остановился около группы евреев, к чему-то там прислушивался. Вот и хорошо.
– И давно вы? Ну... вот так живете? – с любопытством спросила монахиня.
– Я недавно. Семь месяцев всего.
– А раньше?
– Раньше жил как все. Супругу имел, дочку. Служил. Я, знаете ли, преподаватель классической гимназии. Латынь, древнегреческий. До сорока лет дожил, а кто я и что я, не понимал. Будто сквозь пыльное стекло вагона на жизнь смотрел, а жизнь катилась все мимо, мимо. А как встретил Льва Ивановича, стекло сразу лопнуло, рассыпалось. Вы не представляете, как я счастлива! Будто воскресла из мертвых!
– Но как же ваша семья? Я имею в виду тусемью.
Преподаватель классической гимназии вздохнул.
– Что ж я мог, когда тут любовь и воскресение? Все им оставил. Деньги в банке, сколько было. Дом. Дочку жалко, она у меня умненькая. Но ей лучше без такого отца. Пускай помнит меня, каким я был раньше.
Посмотрев на чепец и шелковое платье воскресшей, Пелагия не решилась оспаривать это утверждение.
– Куда же вы теперь направляетесь?
– В Содом, – был ответ. – Я же вам сказала: мы содомиты.
Пелагия опять перестала что-либо понимать.
– В какой Содом? Тот, что уничтожен Господом вместе с Гоморрой?
– Был уничтожен. А теперь возрожден. Один американский миллионщик, мистер Джордж Сайрус, известный филантроп, нашел место, где стоял библейский Содом. Сейчас там возводится город-рай – для таких, как мы. Никаких полицейских гонений, никакого общественного презрения. И никаких женщин, – лукаво улыбнулся собеседник. – Из вас, натуралок, все равно не получится такой женщины, какая может получиться из мужчины. Хотя, конечно, и у вас есть на что посмотреть. – Бывший классицист оценивающе обвел взглядом фигуру инокини. – Бюст – это не штука, можно ваты подложить, а вот плечи, линия бедра...
– Иродиада! Куда ты запропастилась? – донесся из тумана зычный голос. – Дети хотят назад, в каюту!
– Иду, милый, иду! – встрепенулась Иродиада и поспешила на зов любимого.
Каких только существ нет у Господа Бога, подивилась Пелагия и двинулась по направлению к Митрофанию.
Увидела, что преосвященный успел перейти от пассивного действия – внимания чужим речам – к действию активному: потрясая десницей, выговаривал что-то седобородому раввину, окруженному гурьбой подростков.
Из-за чего начался спор, сестра не слышала. Должно быть, владыка по обычной своей любознательности стал выспрашивать евреев, куда едут, да из каких видов – по нужде ли, из-за веры ли, или, быть может, бегут от несправедливых преследований, да и сшибся на чем-то с иудейским собратом.
– ...Оттого-то вы повсеместно и гонимы, что гордыни в вас много! – грохотал владыка.
Ветхозаветный отвечал ему не менее громоподобно:
– Гордость у нас есть, это правда! Человеку без гордости нельзя! Он – венец творения!
– Да не гордости в вашем народе много, а именно что гордыни! Всеми, кто не по-вашему живет, брезгуете, все запачкаться боитесь! Кто ж вас, таких брезгливых, любить-то будет?
– Не людьми мы брезгуем, а людской грязью! Что же до любви, то сказано царем Давидом: «Отовсюду окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины; за любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь».
Раззадоренный отпором, Митрофаний воскликнул:
– Кого это вы любите, кроме своих единоплеменников? Даже и пророки ваши только к вам, евреям, обращались, а наши святые обо всем человечестве печалуются!
Пелагия подумала: жаль, обер-прокурор не слышит, как владыка иноверцев громит, то-то бы порадовался.
Диспут слушать было интересно, а еще интересней наблюдать: при всех религиозных отличиях оппоненты и темпераментом, и внешностью чрезвычайно походили друг на друга.
– Мы не отворачиваемся от человечества! – тряс седой бородой раввин. – Но помним, что на нас возложено тяжкое бремя – являть другим народам пример верности и чистоты. И ряды наши открыты всякому, кто хочет быть чистым. Пожелаете, и вас примем!
– Неправду говорите! – восторжествовал Митрофаний, и его борода тоже запрыгала. – Вон овцы эти заблудшие, «найденышами» называемые [и показал на троих бродяжек, что сидели поодаль в шутовских одеждах с синей каймой], потянулись к вашей вере, от Христа отреклись. И что же? Пустили вы их к себе, почтенный ребе? Нет, нос воротите!
Раввин задохнулся от негодования.
– Этих... пустить?! Тьфу, тьфу и еще раз тьфу на них и на их лжепророка! Сказано в законе Моисеевом: «Волхвующие да будут преданы смерти: камнями должно побить их, кровь их на них». Я знаю, это вы, церковники, нам каверзу подстроили, чтобы нашу веру высмеять через вашего Мануйлу, клоуна базарного! Ваша подлая поповская повадка!
Один из учеников обличителя, постарше возрастом, чем другие, схватил раввина за рукав и испуганно зашептал что-то на идиш. Пелагия расслышала только одно слово – «полиция». Но иудей не устрашился.
– Сам вижу по кресту и шапке, что епископ. Пускай жалуется. Скажите, скажите полиции, что Арон Шефаревич оскорбил в вашем лице христианскую церковь!
Эти слова подействовали на преосвященного неожиданным образом. Вместо того чтобы еще пуще распалиться, он умолк. Должно быть, вспомнил, что у него, губернского архиерея, за плечами сила и государства, и господствующей церкви. Какой же тут диспут?
Да и Пелагию заметил, перед ней тоже совестно стало.
– Слишком вы гневливы, ребе, как и ваш иудейский Бог, – молвил владыка, помолчав. – Оттого и слышат Его глас столь немногие. А наш апостол Павел сказал: «Всякое раздражение и ярость да будут удалены от вас».
И, произведя по неприятелю сей последний залп, с достоинством удалился, однако по чрезмерно прямой спине и крепко сцепленным на пояснице пальцам Пелагии было ясно, что Митрофаний пребывает в нешуточном раздражении – разумеется, не на дерзкого раввина, а на самого себя, что ввязался в пустую и неподобную перепалку.
Отлично зная, что, когда преосвященный в таком расположении, лучше держаться от него подальше, монахиня не стала догонять своего духовного отца, предпочла задержаться. Да и надо было успокоить бедных евреев.
– Вас как зовут? – спросила она у худенького горбоносого подростка, испуганно смотревшего вслед епископу.
– Шмулик, – ответил тот, вздрогнув, и с точно таким же испугом уставился на монахиню. – А что?
Бледненький какой, пожалела мальчика Пелагия. Ему бы получше питаться да побольше на улице играть, а он, наверное, с утра до вечера за Талмудом просиживает.
– Вы скажите вашему учителю, что не нужно бояться. Владыка Митрофаний не станет никому жаловаться.
Шмулик дернул себя за пейс, обернутый вокруг уха, и торжественно сказал:
– Ребе Шефаревич никого не боится. Он – великий человек. Его призвал в Ерушалаим сам хахам-баши,чтобы помог укрепить святой город от шатания.
Кто такой хахам-баши, Пелагия не знала, но почтительно покивала.
– Ерушалаим – укрепил! – Шмулик восторженно блеснул глазами. – А? Вот как ценят нашего ребе! Он тверд в вере, как камень. Он знаете кто? Он новый Шамай, вот кто!
Про непримиримого Шамая, основоположника древнего фарисейства, монахине читать доводилось. Однако из фарисеев ей больше по нраву был другой вероучитель, снисходительный Гиллель. Тот самый, который, будучи спрошенным о сути Божьего Закона, ответил одной фразой: «Не делай другим то, что неприятно тебе самому, – вот и весь закон, а прочее лишь комментарии к нему».
Палубу снова заволокло рваной ватой, и унылые фигуры евреев закачались, побелели, сделались похожи на привидения.
Тем неожиданней было пение, вдруг донесшееся от центра палубы, откуда-то из-под капитанского мостика. Молодые голоса затянули «Дубинушку», весьма дружно и стройно.
Никак студенты?
Пелагии захотелось послушать. Но пока шла сквозь белую кисею, петь кончили. Только разошлись, только вывели с чувством: «Из всех песен одна в память врезалась мне, это песня рабочей артели», а ухнуть не ухнули. Хор распался, песня захлебнулась, единоголосье рассыпалось на разномастный гомон.
Однако монашка с пути все равно не свернула, решила посмотреть, что за молодежь такая.
Нет, то были не студенты. На первый взгляд похожи – и лицами, и одеждой, но по словам, долетевшим до слуха Пелагии, стало ясно, что это переселенцы в еврейскую Палестину.
– Ошибаешься, Магеллан! – воскликнул юношеский голос. – Арийская цивилизация стремится сделать мир прекрасным, а еврейская – нравственным, вот в чем главное различие. Обе задачи важны, но трудно совместимы, поэтому нам и нужно строить свое государство вдали от Европы. Мы будем учиться у них красоте, они у нас – морали. У нас не будет ни эксплуатации, ни подавления женского пола мужским, ни пошлой буржуазной семьи! Мы станем примером для всего мира!
Ах, как интересно, подумала Пелагия и тихонько встала в стороне. Должно быть, это и есть сионисты, про которых столько пишут и говорят. Какие симпатичные, какие молоденькие и какие хрупкие, особенно барышни.
Впрочем, молодого человека с шкиперской бородкой (того самого Магеллана, к которому обращался вития) хрупким назвать было трудно. Он и возрастом был старше остальных – пожалуй, лет двадцати пяти. Спокойные голубые глаза взирали на страстного оратора со снисходительной усмешкой.
– Нам бы в Палестине с голоду не подохнуть, не разнюниться, не пересобачиться между собой, – хладнокровно сказал он. – А про моральные идеалы после подумаем.
Пелагия наклонилась к милой девушке в детских штанишках (кажется, они назывались на британский манер – «шорты») и шепотом спросила:
– У вас коммуна, да?
Девушка задрала кверху круглое лицо, улыбнулась:
– Ой, монашка! Да, мы члены коммуны «Мегиддо-Хадаш».
– А что это такое? – присела на корточки любопытная черница.
– «Новый Мегиддо». «Мегиддо» на древнееврейском значит «Город Счастья». В самом деле был такой город, в Израэльской долине, его разрушили – не то ассирийцы, не то египтяне, я забыла. А мы отстроим Мегиддо заново, уже и землю у арабов купили.
– Это ваш начальник? – показала Пелагия на бородатого парня.
– Кто, Магеллан? У нас нет начальников, мы все равны. Просто он опытный. И в Палестине бывал, и вокруг света плавал – его за это Магелланом прозвали. Он знаете какой? – в голосе голоногой барышни зазвучало неподдельное восхищение. – С ним ничего не страшно! Его «опричники» в Полтаве убить хотели – за то, что он еврейскую самооборону устроил. Он отстреливался! Его теперь полиция ищет! Ой! – Барышня испугалась, что сболтнула лишнее, и прижала пальцы к губам, но Пелагия сделала вид, что про полицию не расслышала или не поняла – известно ведь, что монашки глуповаты и вообще не от мира сего.
Девушка тут же успокоилась и как ни в чем не бывало застрекотала дальше:
– Это Магеллан про Город Счастья придумал. И нас всех собрал, и деньги раздобыл. Целых тридцать тысяч! Представляете? Он их в Яффу перевел, в банк, только на дорогу нам оставил, по восемь копеек на человека в день.
– Почему только восемь? Это же очень мало.
– Колизей (он студент исторического факультета), – девушка показала на одного из молодых людей, невообразимо тощего и сутулого, – подсчитал, что именно такой суммой – конечно, если перевести на нынешние деньги, – обходился хлебопашец во времена царя Соломона. Значит, и нам должно хватить. Мы ведь теперь тоже хлебопашцы. А деньги нам в Палестине понадобятся. Нужно покупать скот, осушать болота, строиться.
Пелагия посмотрела на заморыша Колизея. Как же такой будет мотыгой махать или за плугом ходить?
– А почему «Колизей»? Не такой уж он большой.
– Его вообще-то Фира Глускин зовут. А «Колизеем» его Магеллан прозвал. Ну, потому что все говорят «развалины Колизея», «развалины Колизея». Фира и правда не человек, а ходячая развалина – у него все болезни на свете: и искривление позвоночника, и плоскостопие, и гайморит. Но тоже вот едет.
Предмет обсуждения поймал на себе сердобольный взгляд монахини и весело крикнул:
– Эй, сестрица, едем с нами в Палестину!
– Я же не еврейка, – смутилась Пелагия, видя, что вся компания на нее смотрит. – И вряд ли когда-нибудь стану.
– И не надо, – засмеялся один из коммунаров. – Поддельных евреев и без вас хватает. Вытолько поглядите вон на тех!
Все обернулись и тоже стали смеяться. Поодаль трое «найденышей», накрыв головы талесами, клали земные поклоны. Доносились истовые, сочные удары лбов о палубу.
– Ничего смешного, дурачье, – процедил Магеллан. – Тут за версту Охранкой несет. Этот их Мануйла на Гороховой жалованье получает, у меня нюх верный. Взять бы его, паскуду, за ноги, да башкой об швартовую тумбу...
Сионисты примолкли, а Пелагии стало жалко «найденышей». Никто их, бедных, не любит, все шпыняют. Просто не найденыши, а сироты какие-то. Кстати, интересно, откуда у них такое странное прозвание?
Подошла, чтобы спросить, но постеснялась – как-никак молятся люди.
И спохватилась, что слишком долго гуляет. Владыка будет недоволен. Надо зайти к нему – показаться, доброго вечера пожелать, а после к себе, во второй класс. Книжку почитать, к уроку подготовиться. Завтра-то ведь уже дома.
Спустилась по лесенке на каютную палубу.
Стеклянный глаз
Над Рекой, над залитыми водой берегами, над туманом, должно быть, пламенела заря – во всяком случае, впереди мгла была слегка окрашена розовым. Привлеченная этим магическим свечением, Пелагия прошла на нос парохода. Вдруг ветер хоть на минутку пробьет брешь в опостылевшей завесе, и можно будет полюбоваться предвечерним окрасом неба?
Ветер на носу и в самом деле дул, но не достаточно сильный, чтобы расчистить путь закату. Пелагия хотела повернуть обратно, но вдруг заметила, что она здесь не одна.
Впереди на плетеном стуле сидел какой-то человек, закинув длинные ноги в высоких сапогах на перила. Видно было прямую спину, широкие плечи, картуз с горбатой тульей. Мужчина затянулся папиросой, выпустил облачко дыма, моментально растворившееся в тумане.
И вдруг обернулся – резко, с кошачьей стремительностью. Должно быть, услышал дыхание или шелест подрясника.
На Пелагию смотрело узкое треугольное лицо с остроконечными, торчащими в стороны усами. Во взгляде незнакомца монашке почудилось что-то странное: вроде бы человек смотрел на нее, а вроде бы и не совсем.
Смутившись, что потревожила одиночество курильщика, она пробормотала:
– Прошу извинить...
Еще и неловко поклонилась, что уже было и лишним. Тем более что ответной учтивости от усатого не последовало.
Совсем напротив – он вдруг взял и выкинул штуку: осклабился во все десны, поднес руку к глазнице и – о ужас – вытащил левое око!
Пелагия вскрикнула и отшатнулась, увидев на ладони блестящий шарик с радужным кружком и черной точкой зрачка, и лишь потом сообразила, что глаз стеклянный.
Проказник сухо хохотнул, довольный эффектом. Глумливым скрипучим голосом сказал:
– Экая фря, а еще монашка. Грешно, матушка, воротить нос от калеки убогого.
Какой неприятный человек, подумала сестра, отвернувшись, и поспешила ретироваться. Если хочет, чтобы никто не нарушал его уединения, можно бы дать это понять и поделикатнее.
Шла вдоль борта, вела сражение с бесом обиды. Одолела рогатого быстро, без большого усилия – приучилась за годы монашества.
Впереди, примерно там, где полагалось быть каюте Митрофания, колыхалось что-то белое, непонятное.
Когда подошла поближе, увидела: это полощутся занавески – не в архиереевой каюте, а в соседней, где путешествует пресловутый пророк. Верно, открыл окно, да и забыл. А сам вышел или заснул.
Ужасно захотелось хоть глазком посмотреть на обиталище шарлатана. Если просто мимо пройти и совсем чуть-чуть скоситься, ведь это ничего?
На всякий случай оглянулась, убедилась, что вокруг ни души, и замедлила шаг, чтоб было время скоситься поосновательней.
У Мануйлы горела лампа – очень кстати.
Пелагия чинно дошествовала до окошка, нацелила боковое зрение вправо и чуть не споткнулась.
Пророк был у себя и, кажется, спал, но не на диване, как обыкновенный человек, а на полу, раскинув руки крестом. Это что же у них, «найденышей», так заведено? Или у Мануйлы специальный обет?
Монахиня сделала шажок поближе к окну, приподнялась на цыпочки.
Вот диво – на лице у спящего, в глазных впадинах, белели два яйца. Пелагия прижала перемычку очков к носу, да еще и прищурилась, чтобы получше разглядеть этакую странность.
Секунду спустя зрение приспособилось к тусклому каютному освещению, и стало видно: никакие это не яйца, а нечто настолько ужасное, что рот Пелагии разинулся сам собой – намеревался произнести краткое, достойное монахини восклицание «о, Господи!», но вместо этого исторг постыднейший бабий визг.
II. РЕШАЕМ РЕБУСЫ
Как правильно фотографировать трупы
– Правую руку крупным планом, – приказал следователь Долинин полицейскому фотографу, одновременно маня Пелагию пальцем. – Полюбуйтесь, сестра, на нынешних пророков. Уже дух из него вон, а все за деньги хватался.
Пелагия подошла, перекрестилась.
Смерть Мануйлы была до невозможности безобразна. Кто-то проломил горе-пророку затылок ударом необыкновенной силы, от которого глазные яблоки выскочили из орбит. Их-то монашка в полумраке и приняла за куриные яйца.
Частицы мозга и костяная крошка были и на подушке, и на ковре. А еще смотреть на труп было мучительно из-за того, что ночная рубаха на покойнике задралась, обнажив бледный волосатый живот и срамное место, до которого, впрочем, черница постаралась взглядом не спускаться. В скрюченных пальцах Мануйлы был зажат обрывок сторублевой кредитки.
Ослепительно вспыхнул магний, но следователь остался недоволен.
– Нет-нет, милейший. Магний надо сыпать с обеих сторон от аппарата, не то будут тени. Да не кучкой, не кучкой, а полоской – дольше гореть будет. Штатива для вертикальной съемки у вас, конечно, нет? Ох, провинция-матушка...
Судебный врач вертел мертвую голову, держа ее за волосы.
– Удар-то каков! – Поковырял пальцем аккуратную дырку размером с серебряный рубль. – Что за сила, что за резкость! Будто шрапнельная пуля вошла. Проникание чуть не до третьего желудочка, а контур правильный, овальный, и края ровные. Никогда такой травмы не видел, даже в учебнике.
– Да-с, необычно, – согласился Долинин, нагибаясь. – Молотком, что ли? Только силища какая-то сатанинская. Чтобы глазные яблоки вылетели из орбит – это, скажу я вам...
В каюте сыро пахло подсыхающей кровью, Пелагию подташнивало. Хуже всего было то, что скверный запах мешался с ароматом кельнской воды, которой несло от капитана «Севрюги». Тот присутствовал при осмотре по долгу службы, но стоял скромно, в сторонке, под ногами у специалистов не путался.
Сестра закрыла глаза, борясь с дурнотой. Нет на свете зрелища более страшного и удручающего, чем лишенное достоинства, осрамленное таинство смерти. Да еще эта замусоленная купюра...
– На детородном органе следы обрезания, сравнительно недавние, – сообщил доктор, продолжая осмотр. – Шрам еще багровый. Пожалуй, месяцев семь-восемь, вряд ли больше.
Дождавшись, когда врач и фотограф закончат свое дело и отойдут от покойника, Пелагия испросила у следователя разрешения прочесть молитву. Опустилась на колени и первым делом прикрыла мертвому наготу. Потом потянула из безжизненной руки суетный клочок бумаги. Ожидала, что закоченевшие пальцы не пожелают расставаться со своей собственностью, но обрывок вынулся на удивление легко.
Передавая улику следователю, Пелагия сказала:
– Странно. Это что же, он так и спал, сжимая в руках деньги? Или, будучи с уже проломленной головой, пытался вырвать их из рук злодея?
Долинин мгновение молчал, с интересом глядя на очкастую черницу. Потом хмыкнул, почесал переносицу над дужкой пенсне.
– В самом деле. Мерси за наблюдательность. Согласно показаниям Мануйлиных спутников, деньги – или, как они выражаются, «казна» – находились в ларце под подушкой... Ларец, понятное дело, отсутствует. Хм. С раскромсанной «до третьего желудочка» башкой хватать убийцу за руки? Чудеса. Запишем в раздел «ребусы».
И в самом деле записал что-то в кожаную книжечку. Пелагии это понравилось: человек не торопится с заключениями.
Долинин ей вообще нравился, потому что работал с толком, обстоятельно – сразу видно, человек сыскное дело знает и любит.
Можно сказать, повезло пророку Мануйле со следователем.
Дело мастера боится
Сначала-то складывалось совсем по-другому.
На крики монахини к каютному окну сбежались люди, заохали, заужасались. Еще больше шума произвели «найденыши». Узнав, что их предводитель убит, стали вопить, причитать:
– Мамоньки! Беда! Азохнвей! Караул! Элоим! – А чаще всего повторялось слово: – Казна! Казна!
Появился капитан и вместо того, чтобы восстановить порядок, устроил вовсе светопреставление – то ли с перепугу, то ли вследствие некоторой нетрезвости.
Пароходный начальник преобразился в мечущего молнии Зевеса. Перед злосчастной каютой и под ее окном установил караулы из матросов, вооруженных пожарным инвентарем. Пассажирам первого и второго классов велел сидеть по каютам и не казать оттуда носа; всех палубных согнал на ют и поместил под охрану двух чумазых кочегаров с лопатами в руках. Сам же надел парадный белый китель, сбоку привесил огромный револьвер, а для истребления винного запаха вылил на себя целый флакон одеколона.
Усть-Свияжскую пристань «Севрюга», вопреки расписанию, прошла без остановки и бросила якорь лишь возле уездного города. Встала на отдалении от причала. К властям был командирован первый помощник – на шлюпке.
Час спустя пассажиры кают, расположенных по правому борту, увидели, как из клубящегося над водой вечернего тумана выплывает лодка, вся набитая людьми, по большей части в мундирах, но были и статские.
Производить дознание пожаловал не какой-нибудь там околоточный и даже не пристав. То есть, разумеется, были среди прибывших и пристав, и прочие чины, включая даже начальника уездной полиции, но главной персоной оказались не они, а сухощавый господин в цивильном. Его умные, цепкие глаза холодно поблескивали сквозь пенсне, узкая рука то и дело поглаживала бородку клином. На лацкане сюртука поблескивал университетский значок.
Штатский оказался большущим начальником, членом Совета министерства внутренних дел. Звали его Сергей Сергеевич Долинин. После через местных полицейских чинов выяснилось, что его превосходительство разъезжал по Казанской губернии с важной инспекционной поездкой. Узнав же об убийстве, приключившемся на пароходе товарищества «Норд», пожелал лично возглавить дознание.
Сам Сергей Сергеевич в беседе с преосвященным Митрофанием (которого счел долгом навестить сразу же, как только обнаружил в списке пассажиров столь значительную персону) пояснил свое рвение особенным значением личности убитого:
– Очень уж скандальной особой был господин Мануйла. Смею вас уверить, владыко, что шума и треска будет на всю Россию. Если, конечно... – тут Долинин запнулся и, кажется, чего-то недоговорил. В каком значении «если», осталось непонятным.
Пелагии, находившейся при Митрофании, почудилось, что при упоминании о «всероссийском треске» серые глаза следователя блеснули. Что ж, честолюбие – для служивого человека грех извинительный и, возможно, даже вовсе не грех, ибо способствует усердию.
Очень вероятно, что визит Сергея Сергеевича к архиерею был нанесен не из вежливости, а совсем по иной причине, практического свойства. Во всяком случае, едва покончив с изъявлениями почтительности, Долинин обернулся к Пелагии и деловито сказал:
– Вы, должно быть, и есть та монахиня, что обнаружила тело? Превосходно. С позволения его преосвященства [короткий поклон в сторону Митрофания] вынужден просить вас, сестра, проследовать со мной к месту злодеяния.
Вот и вышло, что Пелагия в числе немногих оказалась в тошнотворной каюте, пропахшей кровью и цветочным одеколоном.
Если б не этот запах, если б не присутствие обезображенного тела, наблюдать за спорой, профессиональной работой Сергея Сергеевича было бы сплошным удовольствием.
Начал он с того, что быстро набросал в блокноте план каюты, при этом все время расспрашивая сестру:
– Угол ковра был загнут? Вы уверены? Окно было приподнято именно досюда? Уверены? Покрывало лежало на полу?
Определенностью ответов остался доволен, даже похвалил:
– Вы редкая свидетельница. Отличная зрительная память.
Заглянув в рисунок следователя, выглядевший довольно необычно, Пелагия, в свою очередь, тоже спросила:
– Что это такое?
– Это называется «кроки», – ответил Долинин, быстро чертя карандашом. – Схема места преступления. Вот здесь масштаб, в метрах. Буквы – обозначение сторон света, это обязательно. Поскольку тут корабль, роль севера исполняет нос («Н»), а вместо востока – стардек («С»), правый борт.
– Знаете, – сказала Пелагия, – стул стоял не так. Когда я заглянула в каюту, он был вон там. – Она показала, как стоял стул. – И бумаги на столе лежали ровной стопкой, а теперь они рассыпаны.
Сергей Сергеевич повертел головой вправо-влево и ткнул пальцем в капитана:
– Вы насвоевольничали, любезнейший?
Тот сглотнул, виновато развел руками.
Перебрав рассыпанные по столу листки, следователь взял один, исписанный корявыми печатными буквами. Прочел:
– «Барух ата Адонай Элохейну мелех ха-олам...» – Отложил. – Это какая-то еврейская молитва.
Пелагия, несколько воспрявшая духом после прикрытия наготы покойника, продолжала осматриваться.
Самой было удивительно, сколько всего она запомнила в краткие мгновения перед тей, как завизжать.
– А еще вот этой трубки здесь не было, – показала она на пенковую трубку, лежавшую на ковре.
Рядом с трубкой Долинин уже успел положить карточку с цифрой 8, а само вещественное доказательство зачем-то накрыл перевернутой стеклянной банкой.
– Вы в этом совершенно уверены? – расстроился он.
– Да. Я бы обратила внимание.
– Экая досада. Важнейшую улику мне похерили. А я, дурень, прикрыл, чтобы микроскопические частицы не сдулись.
Сергей Сергеевич подозвал капитана, спросил про трубку.
Тот подтвердил:
– Точно так. Это трубка боцмана Савенки, который со мной заходил, фонарем по углам светил. Не иначе обронил.
– Ай да сестрица, – восхитился Долинин. – Повезло мне с вами. Вы вот что, милая, побудьте-ка здесь еще. Глядишь, еще что-нибудь приметите или вспомните.
И в дальнейшем, размышляя вслух (была у следователя такая привычка), он адресовался только к Пелагии, не удостаивая вниманием прочих присутствующих, в том числе и начальника уездной полиции. Очевидно, обращаться с риторическими вопросами к смышленой монашке Сергею Сергеевичу было интересней или, так сказать, экзотичней.
– Что ж, сестра, теперь осмотрим одежду? – говорил он, перебирая платье убитого: нанковые брюки, жилетку, накидку белого полотна с синей полосой. – Тэк-с. Ярлычка на брюках не имеется. Дрянь брючишки-то, на барахолке куплены. А ехал первым классом и при «казне». Скупенек... Что у нас на рубашке? Есть меточка из прачечной? Как вы полагаете на этот счет, сестрица? ...Правильно полагаете, услугами прачечной наш пророк не пользовался... Сапоги пока отложим, их распарывать надо...
Покончив с одеждой, Долинин осмотрелся по сторонам, сам себе кивнул.
– Ну что ж, в каюте вроде бы все. Осмотрим периферию. И начнем мы с вами, голубушка, конечно же, со способа проникновения.
Поколдовал у двери, самолично развинтив и вынув замок. Изучил его в лупу.
– Цара-апинки, – промурлыкал Сергей Сергеевич. – Свеженькие. Отмычка? Или новый ключ? Выясним-с.
Потом переместился к окошку. Что-то его там заинтересовало: влез коленями на столик, перегнулся.
Протянул руку назад, нетерпеливо пощелкал пальцами:
– Фонарь сюда, фонарь!
К нему кинулись сразу двое – капитан и начальник полиции. Первый тянул керосиновую лампу, второй – электрический фонарик.
Долинин отдал предпочтение прогрессу.
Светя электрическим лучом на паз рамы, протянул:
– Ца-апочкой поработали. Ясно-с. Вот вам, сестрица, и разгадка нашего ребуса. Взгляните-ка.
Пелагия взглянула, но ничего особенного не увидела.
– Ну как же? – удивился Сергей Сергеевич. – Винты-то откручены. И следы масла. «Разинец» потрудился, их почерк.
И тут же объяснил Пелагии, кто такие «разинцы». А она, хоть и приречная жительница, о таковых знать не знала.
– Картина проясняется, – с довольным видом объявил следователь. – Дело мастера боится. Маяуйла проснулся, когда вор уже вынул из-под него шкатулку. Завязалась борьба. «Разинцы» обычно не мокрушничают, но этот, должно быть, ошалел от больших денег. Или перепугался. Вот и стукнул.
Стук-стук, донеслось от двери. Просунулась голова в фуражке.
– Ваше превосходительство, вот, на палубе нашли. У борта.
Сергей Сергеевич взял у полицейского холщовый мешок на рваной веревке, порылся там. Достал очки в золотой оправе, фарфоровую курительную трубку, портновский метр, каучуковый мячик. Лоб следователя пополз было недоуменными складками, но почти сразу же разгладился.
– Это же «тыльник»! – воскликнул мастер сыска. – Мешок, куда «разинцы» складывают добычу. Вот вам и подтверждение моей гипотезы!
– Зачем тогда вор его бросил? – спросила Пелагия.
Долинин пожал плечами:
– К чему «разинцу» эта дребедень, если он добыл настоящий хабар? Сорвал с плеча, чтоб не мешался, и выкинул. Да и не в себе был после убийства. Без привычки-то.
Все сходилось. Пелагия была впечатлена сметливостью петербуржца, однако ее мысль уже поспешала дальше.
– Как вычислить, кто из пассажиров – «разинец»? У них есть какие-то особые приметы?
Сергей Сергеевич снисходительно улыбнулся.
– Если «разинец», а это беспременно «разинец», то его давным-давно след простыл.
– Куда ж он мог деться? С парохода никого не выпускали. «Севрюга» ведь к берегу не причаливала.
– Ну и что? «Разинцу» холодная вода нипочем, они как водяные крысы плавают. Соскользнул по якорной цепи в воду, да и был таков. Или еще раньше спрыгнул, сразу после убийства. Ни-чего-с. Дайте срок. Дальнейшее, сестрица, вопрос времени. Пошлю запрос по всем приречным управлениям. Отыщем как миленького... Что это вы там разглядываете?
Слушая Долинина, монахиня подошла к дивану и осторожно потрогала подушку.
– Не получается, – молвила она, наклоняясь к наволочке. – Никак не получается.
– Да что не получается-то? – подошел к ней следователь. – Ну-ка, ну-ка, выкладывайте.
– Ваша разгадка «ребуса» не годится. Не было никакой борьбы, и за руки убийцу жертва не хватала. Его на постели убили. Смотрите, – показала Пелагия, – на подушке отпечаток лица. Значит, в момент удара Мануйла лежал ничком. А вокруг капли крови, овальные. Стало быть, они капали сверху вниз. Если бы он дернулся, поднял голову, то капли были бы косые.
Сергей Сергеевич сконфуженно пробормотал:
– А ведь верно... Да и потеки крови на лице имеют направленность от затылка к носу. Вы правы. Каюсь, снебрежничал. Но позвольте, как же тогда труп оказался на полу, да еще в этакой позе?
– Убийца сволок его с дивана. Задрал рубашку и сунул в руку обрывок сторублевки. Это единственное возможное объяснение. Зачем он это сделал – предполагать не берусь.
Следователь озадаченно уставился на инокиню, немного помолчал и затряс головой.
– Ерунда какая-то. Нет-нет, сестра, вы ошибаетесь. Я думаю, дело было иначе. Вы не представляете, до чего живучи так называемые «пророки» и «старцы». В них таится поистине бесовская энергия, и умертвить этих одержимых куда как непросто. Помню, был у меня случай, еще в бытность судебным следователем. Вел я дело об убийстве некоего скопческого пророка. Ему духовные сыновья топором голову почти начисто оттяпали, на одном лоскуте кожи висела. Так пророк, представляете, еще с минуту бегал по комнате и махал руками. Кровь из него хлещет фонтаном, башка вроде заплечного мешка болтается, а он бегает. Каково? Вот и с Мануйлой нашим, должно быть, то же было. «Разинец» решил, что убил его, встал посреди каюты, начал купюры считать. А покойник вдруг очнулся, да и бросился деньги назад отбирать.
– С этакой пробоиной? При поврежденном мозжечке? – усомнился врач. – А впрочем, чего только не бывает... Физиология премортемных конвульсий слишком мало изучена наукой.
Пелагия спорить не стала – версия Сергея Сергеевича выглядела убедительней, чем ее собственная. Выходило, что этот «ребус» все-таки решен.
Но вскорости обнаружились и другие.
Пассажир из тринадцатой
– Как хотите, но рубаху мертвому он все равно задрал, – сказала Пелагия. – Вы обратили внимание на складки? Они пролегли к груди в виде буквы V. При падении так не получилось бы.
– В самом деле? – Долинин посмотрел на мертвое тело, но заботами благонравной инокини рубаха была одернута, так что никаких складок не осталось.
Сестру это не сбило.
– Потом посмотрите, на фотографических снимках. Получается, что убийца вовсе не был в ужасе от содеянного, а хотел именно поглумиться... Для такого поступка нужен особенный склад личности.
Сергей Сергеевич посмотрел дотошной свидетельнице в глаза с чрезвычайным вниманием.
– Я чувствую, что вы говорите это неспроста. Имеете основания кого-то подозревать?
Проницательность следователя заставила сестру опустить взгляд. Оснований для подозрения у нее никаких не было, да и быть не могло. Но безобразная проделка с осрамлением мертвого тела, а пуще того вылезшие из орбит глазные яблоки напомнили ей другую выходку, похожего свойства. Сказать или нехорошо?
– Ну же, – поторопил Долинин.
– Не то чтобы подозрение... – замялась монашка. – Просто здесь путешествует некий господин... Такой длинный, усатый, в ботфортах. У него еще глаз стеклянный... Узнать бы, что за человек...
Следователь глядел на Пелагию исподлобья, набычившись, словно пытался прочесть по ее лицу недосказанное.
– Рослый, длинноусый, в ботфортах, с искусственным глазом? – повторил он приметы и обернулся к капитану. – Есть такой?
– Так точно, в каюте номер тринадцать. Господин Остролыженский, имеет билет от Нижнего до Казани.
– В тринадцатой?
Долинин стремительно развернулся и вышел.
Оставшиеся переглянулись, но от обмена мнениями воздержались.
Капитан налил из графина воды, протер платком край стакана, стал жадно пить. Потом налил себе еще. Пелагия, начальник полиции, врач и фотограф смотрели, как над воротником белого кителя дергается кадык.
Ах, как нехорошо, терзалась Пелагия. Ни за что ни про что бросила тень на человека...
Едва капитан расправился со вторым стаканом и принялся за третий, дверь резко распахнулась.
– Вы велели всем пассажирам сидеть по каютам? – с порога бросил Долинин капитану.
– Да.
– Тогда почему тринадцатая пуста?
– Как пуста? Я собственными глазами видел, как господин Остролыженский туда входил! И предупредил его до особого распоряжения никуда не отлучаться!
– «Предупредил»! Нужно было в коридоре матроса поставить!
– Но это совершенно невозможно! Позвольте, я... – Капитан бросился к двери.
– Не трудитесь, – брезгливо поморщился Сергей Сергеевич. – Я только что там был. Багаж на месте, а пассажира нет. Входить и трогать что-либо запрещаю. У двери я поставил полицейского урядника.
– Ничего не понимаю... – развел руками капитан.
– Обыскать пароход! – приказал хмуро-сосредоточенный Долинин, – От трубы до угольной ямы! Живо!
Капитан и начальник полиции выбежали в коридор, а следователь уже совсем другим тоном, как равный равной, сказал монахине:
– Исчез ваш Стеклянный Глаз. Вот вам, мадемуазель Пелагия, ребус номер два.
На ироническое «мадемуазель» сестра не обиделась, потому что поняла – вольное обращение не для насмешки, а в знак симпатии.
– Этот не «разинец», – задумчиво произнес следователь. – Те никогда билетов не берут, да еще первого класса. Пожалуй, «фартовый». Их повадка.
– «Фартовый» – это бандит?
– Да, из какой-нибудь почтенной речной шайки. А то и залетный, среди них одинокие волки не редкость.
Подозрительное исчезновение одноглазого избавило Пелагию от чувства виноватости, она осмелела:
– Вы знаете, тот человек действительно был похож на разбойника. Только не мелкого хищника, даже не волка, а какого-нибудь тигра или леопарда.
Сказала – и застеснялась ненужной цветистости. Поэтому перешла на тон сухой, деловитый:
– Я вот чего не пойму. Если убийство совершил бандит высокого класса, то как быть с мешком, с этим, как его, «тыльником»? Зачем такому человеку мелкие кражи?
– Ребус, – признал Долинин. – Несомненный ребус.
И сделал запись в блокноте.
Полистал исписанные, изрисованные странички. Стал резюмировать.
– С первичным дознанием вроде бы все. Итак. Благодаря вам, милая сестрица, у нас появился главный подозреваемый. Приметы известны (я после запишу с ваших слов поподробнее), имя тоже. Хотя имя скорее всего фальшивое. Теперь нужно разобраться с жертвой.
Долинин наклонился над трупом, недовольно поморщился.
– Ишь как ему физиономию-то перекосило. Будет сложность с опознанием.
– Зачем же его опознавать? – удивилась монахиня. – Ведь он путешествовал не один, а со спутниками. Они и опознают.
Взглянув на врача и фотографа, прислушивавшихся к разговору, Сергей Сергеевич сказал:
– Доктор, идите в капитанскую каюту и напишите отчет. Кратко, но не упуская существенного. Вас же [это уже фотографу] попрошу сходить к боцману и принести моток бечевки. Еще попросите нож – канатный, боцман знает.
И лишь оставшись с Пелагией наедине, ответил на вопрос, причем снизил голос до доверительной приглушенности:
– Знаете, мадемуазель, почему я кинулся сам расследовать это убийство?
Вопрос был явно риторический, и, выдержав положенную по сценическим законам паузу, Долинин наверняка ответил бы на него сам, однако монахиня, которой умный следователь нравился все больше и больше, позволила себе вольность (раз уж не «сестрица», а «мадемуазель»):
– Полагаю, вам прискучила ваша инспекция, захотелось вернуться к живому делу.
Сергей Сергеевич коротко рассмеялся, отчего сухое, желчное лицо смягчилось и помолодело.
– Это, положим, верно и лишний раз заставляет меня восхититься вашей проницательностью. Я, знаете ли, и вправду никак не привыкну к административной деятельности. Коллеги завидуют: такой карьерный взлет, в сорок лет генеральский чин, член министерского совета, а меня все ностальгия мучает по прежнему занятию. Я ведь еще год назад следователем был, по особо важным. И, смею уверить, недурным следователем.
– Это видно. Должно быть, начальство отметило вас за отличную службу повышением?
– Если бы. – Долинин усмехнулся. – Следователь, будь он хоть семи пядей во лбу, протри он хоть тысячу брюк на коленках да в придачу тысячу сюртуков на локтях, на этакие высоты нипочем не вознесется. Большие карьеры не так делаются.
– А как?
– Бумажным образом, дорогая сестрица. Бумага – вот ковер-самолет, на котором в нашей державе единственно и можно воспарить к горним высям. Я, когда за перо брался, о карьере, честно говоря, и не помышлял. Наоборот, думал – не поперли бы взашей за такую дерзость. Но сил больше не было смотреть на азиатчину в нашем следовательском деле. Написал проект реформы, разослал высшим лицам государства, которым доверено руководить охраной законности. Решил, будь что будет. Стал уже себе другую службу подыскивать, по адвокатской части. И вдруг вызывают раба Божьего на самый Олимп. Молодец, говорят. Такого, как ты, давно ждем. – Долинин комично поднял руки, словно капитулируя перед непредсказуемостью капризницы судьбы. – Мне же и поручили подготовить реформу, которая призвана урегулировать взаимодействие органов полицейского дознания и судебного следствия. Что называется, сам напросился. Теперь вот, подобно Вечному Жиду, скитаюсь по городам и весям. Наурегулировался так, что хоть волком вой. Однако вы, мадемуазель Пелагия, не думайте, что Долинин взял да и удрал со скучного урока, как гимназист. Нет, я человек ответственный, мальчишеским порывам не подвержен. Видите ли, с этим Мануйлой-пророком дело особенное. Его ведь уже второй раз убивают.
– Как так?! – ахнула Пелагия.
Заколдованный Мануйла
– А вот так. Этого субъекта многие терпеть не могут.
Сестра кивнула:
– Это я уже поняла.
– Первый раз Мануйлу убили три недели назад, в Тверской губернии.
– Простите, я что-то не...
Долинин махнул: мол, вы не перебивайте, слушайте.
– Убитый оказался мещанином Петровым или Михайловым, сейчас не помню. «Найденыш», последователь Мануйлы, и внешне на него похож. Отсюда и слухи о Мануйлином бессмертии.
– А вдруг это тоже не тот? – показала Пелагия на мертвеца.
– Резонный вопрос. Очень хотелось бы выяснить. Приметы, сколько я помню, сходятся. Жаль только, фотокарточкой пророка мы не располагаем. Судимостей Мануйла не имел, так что у нашего ведомства не было повода запечатлеть его прелестные черты. А спутники – что спутники? Я их велел пока запереть в каптерке, да только что от них, малахольных, толку? Они и соврать могут. А могут и сами заблуждаться насчет личности покойника.
– Какая удивительная история!
– Да уж... Не только удивительная, но, что более существенно, политическая. – Сергей Сергеевич посерьезнел. – Убийство пророка, особенно «бессмертного», это дело государственное. Во всех газетах прогремит, и не только российских. Тем более необходимо установить – Мануйла это или опять двойник.
Тут вернулся фотограф с бечевкой и коротким, очень острым ножом.
Кликнув из коридора полицейских, следователь отдал странное, даже кощунственное распоряжение:
– Этого [кивок в сторону покойника] одеть, усадить на стул, привязать бечевкой. Живо! – прикрикнул Долинин на заробевших служивых, а монашке пояснил. – Нужно привести труп в опознаваемое состояние. Новая метода, моего собственного изобретения.
Пока полицейские, кряхтя, просовывали еще не утратившие гибкости члены мертвеца в штанины и рукава, Долинин очень ловко отпорол ножом подметки на пророковых сапогах, взрезал голенища.
– Тэк-с, – довольно молвил он, вытягивая из распоротой кожи какие-то бумаги. Мельком проглядел их, слегка пожал плечами. Наперснице показывать не стал, а попросить Пелагия сочла неудобным, хоть и было очень любопытно.
– Посадили? – обернулся Сергей Сергеевич к полицейским. – Глаза-то, глаза. Фу ты, черт.
Сестра неосторожно взглянула – и тут же зажмурилась. Глазные яблоки свисали на щеки мертвеца, и смотреть на эту картину не было никакой человеческой возможности.
– Резиновую перчатку из моего чемоданчика, – послышался деловитый голос следователя. – Вот та-ак. Отлично, глазенапы встали. Вату. Нет-нет, два маленьких комочка и немножко раскатайте... Под веки ее, под веки. Открылись, очень хорошо... Эх, роговица подсохла, тусклая. У меня там пузырек с нитроглицерином и шприц, дайте-ка... В правый... В левый... Угу. Расчешем волосы... Теперь мокрым полотенцем... Готово. Открывайте глаза, мадемуазель, не бойтесь!
Пелагия осторожно, заранее скривившись, взглянула на покойника и обомлела.
На стуле – правда, в несколько принужденной позе и свесив голову набок – сидел костлявый бородатый мужик совершенно живого вида и смотрел на нее сосредоточенными, блестящими глазами. Был он в рубахе и жилетке, брюках. Борода и длинные волосы аккуратно расчесаны.
Внезапное воскрешение усопшего было настолько неожиданным, что сестра попятилась.
Сергей Сергеевич довольно рассмеялся:
– Ну вот, теперь можно мсье Шелухина и сфотографировать.
– Как вы его назвали? – переспросила Пелагия.
– Как в паспорте написано. – Следователь прочитал по извлеченной из голенища бумаге. – Петр Савельев Шелухин, 38 лет от роду, православного вероисповедания, крестьянин деревни Строгановки Старицкой волости Городецкого уезда Заволжской губернии.
– Это же у нас! – ахнула сестра.
– А я слышал, что Мануйла родом из Вятской губернии. Во всяком случае, начинал проповедовать он именно там. «Найденыши», впрочем, уверены, что их пророк родился в Святой Земле и вскорости отбудет обратно. Собственно, Шелухин и в самом деле имел билет до Яффы...
Зашипев, вспыхнул магний.
– Еще разок анфас. Потом в три четверти справа и слева. И оба профиля, – распорядился Долинин. Скептически поглядел на прибранного покойника, вздохнул. – Рост выше среднего, черты лица обыкновенные, волосы русые, глаза голубые, сложение худощавое, особых примет не имеется. Так выглядит по меньшей мере треть российских мужичков. Нет, господа, это никуда не годится. Мне нужна стопроцентная ясность...
Он нахмурил лоб, прикидывая что-то. Подергал себя за клинышек бородки. Решительно тряхнул головой.
– Сестра, отсюда до Заволжска плыть часов двенадцать, так? А сколько оттуда до Городца?
– Два дня по рекам. Но Городецкий уезд широкий, а Строгановка – это у самых Уральских гор. Туда надо лесом добираться, глухой чащей. Путь трудный, неблизкий. Я раз была в тех краях, с владыкой. По раскольничьим скитам ездили, уговаривали тамошних сидельцев властей не бояться...
– Поеду, – объявил Сергей Сергеевич, и его глаза сверкнули азартом. – Дело-то и в самом деле общественного значения. Чтоб Долинин, оказавшись на месте преступления, не дорылся до сути? Исключено. Пошлю министру телеграмму: в связи с чрезвычайными обстоятельствами инспекционная поездка прерывается. Он только рад будет, что я оказался в нужном месте и в нужное время.
III. СТРУК
Сама напросилась
На третий день пути выгрузились с баржи, заночевали в большом староверческом селе Городец, где бабы в белых платках, завидев рясофорную Пелагию, плевали через левое плечо. Дальше тронулись сухопутным ходом, через Лес.
Он никак не назывался – просто «Лес», и все. Сначала лиственный, потом смешанный, затем почти сплошь хвойный, Лес тянулся на сотню верст до Уральского Камня, переползал через горы и за ними, выйдя на простор, растекался на все невообразимо огромное пространство до самого Тихого океана, простроченный швами темных, широких рек, многие из которых тоже не имели имени, ибо где ж придумать такое количество имен, да и кому?
В Заволжье, у западной своей оконечности, Лес еще не вошел в полную силу, но даже и на сем мелководье отличался от европейских собратьев, как океанская волна отличается от озерной – особенной мощью и неспешностью дыхания, а еще абсолютным презрением к человеческому присутствию.
Дорога только по первости прикидывалась пристойным проселком, но уже на десятой версте оставила всякие претензии на разъезженность, усохла до размеров обычной тропинки.
Через час-другой тряски по поросшей весенней травкой колее, в которой тускло блестела черная вода, трудно было поверить, что на свете существуют города, степи, пустыни, открытое небо, яркое солнце. Там, на воле, уже вовсю царствовало тепло, на лугах желтели одуванчики, звонко жужжали полупроснувшиеся пчелы, а здесь в низинах серели островки снега, в оврагах пенилась талая вода пополам с ледяной крошкой, и лиственные деревья стояли в унылой зимней наготе.
Когда березы и осины сменились елями, стало еще бесприютней, еще темней. Пространство сомкнулось, свет померк, в воздухе появились новые запахи, от которых кожу покалывало мурашками. Пахло диким зверем – нешуточным, чащобным, а кроме того, какой-то неясной, сырой жутью. К ночи тревожный запах усилился, так что лошади жались к костру, боязливо фыркали и прядали ушами.
Пелагии поневоле припомнились заволжские сказания о всякой лесной нечисти: про медведя Бабая, что забирает девок себе в невесты, про Лису Лизуху, которая прикидывается красной девицей, навсегда уманивает парней и даже семейных мужиков. Страшней же всех по заволжским поверьям был человековолк Струн, огненны глазищи, кованы зубищи, которым пугают детей, чтоб далеко в лес не забредали. Из пасти у Струка шибают огонь и дым, бегать он не бегает, а скачет по верхушкам деревьев навроде рыси, если же сорвется и ударится о землю, то оборачивается лихим молодцом в сером кафтане. Не дай Боже такого мышастого человека в лесу повстречать.
В городе эти старинные предания казались наивным и симпатичным творением народного вдохновения или, как теперь все больше говорят, фольклором, но в Лесу, под могильное уханье совы, под недальний вой волчьей стаи, верилось и в Бабая, и в Струка.
И уж совсем никакого сомнения не могло быть в том, что Лес живой, что он прислушивается к тебе, смотрит, и взор этот недобр, даже враждебен. Тяжелый взгляд Леса Пелагия чувствовала спиной, затылком, и подчас так остро, что оглядывалась назад и украдкой крестилась. То-то, поди, страх в чащобе одной оказаться.
По счастью, в Лесу она была не одна.
Снаряженная Сергеем Сергеевичем экспедиция выглядела следующим образом.
Впереди, бойко постукивая посохом, шагал проводник – волостной старшина; за ним – сам Долинин на крепкой соловой лошадке, уступленной высокому гостю городецким исправником; потом труп на телеге (в деревянном ящике, обложенный сеном и кусками льда), при телеге два стражника; замыкала маленький караван крытая парусиной повозка с провизией и багажом. На облучке сидел возница-зытяк, рядом с ним Пелагия, стоически переносившая и тряску на ухабах, и монотонный напев скуластого соседа, и едкий дым его берестяной трубки.
Боязливо поглядывая по сторонам, сестра не переставала сама на себя удивляться. Как это вышло, что она, тихая черница, начальница монастырской школы, оказалась в медвежьем углу, среди чужих людей, сопровождальщицей при трупе скандального лжепророка? Чудны промыслы Твои, Господи. А можно выразиться и по-иному – затмение нашло на инокиню. Заморочил, заколдовал ее энергичный петербургский следователь.
С парохода «Севрюга» сошли в Заволжске.
Никого из пассажиров, включая и «найденышей», Сергей Сергеевич задерживать не стал, поскольку располагал верным подозреваемым – пассажиром из тринадцатой каюты.
Пелагию поразило, что последователи Мануйлы не выразили желания сопровождать тело своего кумира в последнюю дорогу, а отправились себе дальше, в Святую Землю. Комментарий Долинина по сему поводу был таков:
– Неблагодарное занятие – быть пророком. Издох, и всем на тебя наплевать.
– А мне, наоборот, кажется, что этот человек, каким бы он ни был, свое дело сделал, – заступилась за Мануйлу и его убогую паству сестра. – Слово пережило пророка, как тому и надлежит быть. Мануйлы нет, а «найденыши» со своего пути не сбились. Кстати говоря, я не знаю, почему они себя так называют.
– Они говорят, что Мануйла «отыскал» их среди человеков, – объяснил Долинин. – Подобрал из смрада и грязи, запеленал в белые одежды, одарил синей полосой в знак грядущего царствия небесного. Там целая философия, впрочем довольно примитивного свойства. Какие-то обрывки из перевранного Ветхого Завета. А Христа и Евангелия они отвергают, поскольку желают быть евреями. Еще раз говорю, все это чрезвычайно туманно и неопределенно. Насколько мне известно, Мануйла не очень-то заботился попечением о своих новоявленных «евреях». Задурит голову какой-нибудь простой душе и идет себе дальше, а эти бедолаги сами додумывают, что им теперь делать и как жить. Тут вы, пожалуй, правы. Смерть Мануйлы мало что изменит... Ах, сестрица, – лицо следователя ожесточилось. – Такое уж сейчас время. Ловцы душ вышли на большую охоту. И чем дальше, тем они будут становиться многочисленней, тем обильней будет их жатва. Помните, как у Матфея? «И многие лжепророки восстанут, и прельстят многих».
– «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь», – продолжила апостолово речение Пелагия.
Долинин вздрогнул и посмотрел на монашку странно, будто слышал эти слова впервые или, может быть, никогда прежде в них не вдумывался.
– Бог с ней, с любовью, – хмуро сказал он. – Души бы от ловцов спасти.
«Без любви?», хотела спросить Пелагия, но не стала, потому что момент для отвлеченных дискуссий был неподходящий. Однако заметку себе сделала: похоже, что с любовной сферой жизни у следственного реформатора не все благополучно. Интересно, женат ли?
Вслух же заговорила про другое:
– Ничего, что вы всех отпускаете?
– Пусть плывут. В первом же порту на «Севрюгу» сядут несколько агентов уголовной полиции, я распорядился по телеграфу. Не исключаю, что и Остролыженский из какой-нибудь щели вынырнет. Пароход – это ведь не чулан, всех закоулков не осмотришь. Ну а коли наша с вами версия вообще ошибочна и господин Стеклянный Глаз ни при чем...
– Как это «ни при чем»? – вскинулась Пелагия. – Куда же он тогда делся?
– Предположим, убит. И сброшен в воду. Быть может, увидел лишнее. Такие случаи не редкость... Так вот, если убийца не Остролыженский, а кто-то другой, то после моего ухода этот субъект успокоится, поубавит бдительности. Агенты проинструктированы обращать особенное внимание на тех, кто сойдет раньше, чем положено по билету. И вообще на все мало-мальски подозрительное. До Царицына плыть еще далеко. Если убийца на пароходе, арестовать успеем.
Впечатленная предусмотрительностью следователя, Пелагия примолкла.
– А я тем временем прокачусь до Строгановки и обратно, – продолжил Сергей Сергеевич. – Проверю, что за Шелухин такой. А заодно, может быть, и оттуда какая-нибудь ниточка потянется.
И вдруг, безо всякого перехода и запинки, тем же деловым тоном:
– Милая сестрица, у меня к вам просьба. Странная, даже несуразная. Но мне почему-то кажется, что вы не придете в негодование, а коли повезет, то и согласитесь... – Он кашлянул и выпалил. – Не согласитесь ли составить мне компанию?
– В каком смысле? – не поняла монашка.
– В смысле совместного путешествия в Строгановку. – И Долинин быстро, пока собеседница не сказала «нет», продолжил. – Хоть этот Мануйла и отрекся от отеческой веры, но все равно ведь крещеная душа. Везти тело без духовного лица как-то нехорошо. Дадут мне в сопровождение какого-нибудь кислого чернеца. С вами было бы несравненно приятнее... – Тут Сергей Сергеевич спохватился, что последняя ремарка прозвучала слишком легкомысленно, и поспешил поправиться. – А главное, разумнее. Вы сами говорили, что бывали в этой глухомани. Поможете найти общий язык с тамошними обитателями...
– Я не бывала в Строгановке. Только в Старице, а это полсотни верст в сторону.
– Не важно, все равно тамошние обычаи вам знакомы. Да и боязни перед монахиней у местных будет меньше, чем перед заезжим начальником... И потом, мне показалось, что судьба этого горе-пророка вам небезразлична. Хоть молитву по дороге почитаете о его заблудшей душе... Ну что?
И так посмотрел в глаза, что Пелагия, уже подбиравшая слова для учтивого отказа, дрогнула.
Главное, понимала ведь, что это ее бес тщеславия искушает. Было совершенно ясно, в чем истинная причина «несуразной просьбы» Сергея Сергеевича. Оценил мастер сыска ее проницательность и остроглазие, надеется на помощь в расследовании.
Иной подоплеки, греховно-мирского свойства, Пелагия, будучи особой духовного звания, заподозрить себе не дозволила. Но и тщеславного беса оказалось достаточно.
Не устояла перед соблазном, слабая душа.
Сама виновата, сказала себе порозовевшая от удовольствия Пелагия. Надо было помалкивать, не соваться со своими умозаключениями. А теперь даже странно было бы бросить Сергея Сергеевича посреди расследования.
– Вы только согласие дайте, – тихонько попросил Долинин, видя ее колебания. – С его преосвященством я сам переговорю.
– Нет, – вздохнула Пелагия. – Лучше уж я.
О Женихе Небесном
К нелегкому разговору подготовилась основательно, постаравшись выстроить беседу на излюбленный Митрофанием мужской манер, то есть безо всякой эмоциональности, на одной логике.
Резонов, связанных с пользой следствия, не коснулась вовсе. Главный упор сделала на опасность, которой была чревата затеянная Долининым экспедиция.
– Если подтвердится, что сектантский пророк – уроженец нашей епархии, то-то Константину Петровичу выйдет подарок, – говорила сестра. – Ведь во всех газетах напишут, и про Заволжье непременно помянут. А в Синоде скажут: хорош заволжский архиерей, какого аспида из своего гнезда выпустил. Положение ваше и без того шатко.
– Я за свою кафедру не держусь, – насупился Митрофаний.
– Знаю. Так ведь не в вас дело, а в нас. Кого нам обер-прокурор вместо вас пришлет? Уж верно какого-нибудь своего любимца. Из ярых, из инквизиторов. Тут-то заволжскому миру и покою конец настанет.
И потом еще пространно доказывала, как важно, чтобы при опознании рядом с важным петербургским чиновником присутствовала она, свой для Митрофания человек. На самый худой случай – вовремя предварить о скверном обороте дела. А может быть, и не только для этого, потому что отношения с господином Долининым у нее сложились самые дружеские и очень возможно, что удастся повлиять на содержание и тон реляции, которую следователь пошлет в Петербург.
Владыка внимательно выслушал свою духовную дочь. Покивал, признавая резонность доводов. Потом надолго замолчал. А когда отверз уста, заговорил совсем о другом.
– Может быть, прав Победин – не нужно тебе монахиней быть? – задумчиво сказал преосвященный. – Ты только погоди, не полошись. Мы с тобой много рассуждали о предназначении земной жизни и вроде бы оба согласны в том, что главный долг каждого человека перед Богом – найти себя, собственный путь, прожить свою, а не чужую судьбу. Ты сама же и говорила, что главные беды людского рода оттого, что из тысячи человек девятьсот девяносто девять доживают до смерти, так себя и не поняв, прозанимавшись всю жизнь не своим делом. Я тоже думаю, что Богу ничего иного от нас не нужно – только чтоб всяк свою дорогу отыскал и прошел ее до конца. Взять, к примеру, тебя. Ведь ясно и мне, и тебе, что твое предназначение – человеческие тайны разгадывать. А ты, Пелагия, совсем другим занимаешься. Пускай монашеское дело наидостойнейшее – Господа о грешниках молить, но разве не получается, что ты на себя грех берешь? Прожить не своюжизнь, отринуть талант, пренебречь этим Божьим даром – грех наитягчайший, печальнейшее из всех преступлений, какие только может совершить человек против себя и Господа. Понимаешь, о чем я толкую?
– Понимаю, – ответила сестра задрожавшим голосом. – Вы хотите сказать, что у меня нет таланта к монашескому служению и что мое место не в келье, а в миру. Там от меня людям и Господу будет больше пользы.
Она опустила голову, чтобы владыка не увидал навернувшиеся слезы. Разговор перекашивался с мужской манеры на женскую, предвещающую плач и мольбы.
– Очень возможно, владыко, что так оно и есть. Но неужто забыли вы [здесь Пелагия подняла лицо и посмотрела на Митрофания ярко заблестевшими глазами], что я к монашеству не от благочестия пришла и не от духовной силы, а от самого края бездны? Даже не от края, а из самой бездны, куда неудержимо падала и уже готова была...
Голос монахини сорвался, она не смогла закончить фразы.
Увы, логическая беседа была бесславно провалена.
– Помню, – сказал архиерей. – Ты была в горе, в самогубительном отчаянии.
– Но мне повезло. Господь послал мне вас. И вы сказали: «Единственное твое спасение, если не хочешь навеки истребить свою душу, – прилепиться к Жениху Небесному, который никогда тебя не оставит, потому что он бессмертен».
– И это помню.
– Я послушалась вас. Я дала обет верности – Ему. Что же теперь, нарушить? Лишь из-за того, что у меня ловко получается расследовать земные секреты?
– Иисус поймет и простит.
– Он-то, конечно, поймет. Да только я с Ним так поступить не могу. Ведь я Христова невеста, я должна Ему служить.
– Христу можно и в миру служить, не хуже, чем в монастыре. Даже еще и лучше.
– Можно, но не в полную силу. Потому что придется себя делить между делами земными и Вечной Любовью. – Пелагия вытерла глаза платком и закончила твердо, уже безо всякого слезного дрожания. – Я обещала вам и снова повторю: никаких расследований больше не будет. Да тут моя ловкость и не понадобится. Господин Долинин сыщик от Бога, не мне чета.
Митрофаний посмотрел на свою рыжую наперсницу недоверчиво, тяжко повздыхал, но больше не перечил.
Отпустил.
Рассказ рогоносца
Известие о том, что преосвященный благословил Пелагию на поездку, не вызвало у Долинина ожидавшегося воодушевления. Он лишь кивнул, как бы принимая сообщение к сведению, и ничего не сказал, да еще нервно дернул углом рта. Все-таки не без странностей был господин.
И в дороге держался с подчеркнутой отстраненностью. Не шутил, в разговоры не вступал, ограничивался самой необходимой вежливостью. Будто подменили Сергея Сергеевича.
Монахиня вначале была в недоумении, тревожилась, не обидела ли его каким-нибудь неведомым образом, но после смирилась – списала угрюмость следователя на ипохондрический склад натуры.
Пока плыли на барже – сначала по притоку Реки, потом по притоку притока, – Долинин все просматривал свой блокнот и писал какие-то письма или реляции. Пелагия ему не докучала. Вязала из собачьей шерсти жилетку для Митрофания, читала прихваченные в дорогу «Жизнеописания святых угодниц новейшего времени», а то и просто взирала на проплывающие мимо берега. Но когда пересела с баржи на повозку, два первых занятия стали невозможны вследствие тряски, а третье утратило смысл из-за ограниченности обзора: куда ни посмотришь, одни деревья.
По въезде в Лес Сергей Сергеевич первые полдня вел себя по-прежнему, держал дистанцию. Время от времени, правда, оборачивался в седле, будто проверяя, на месте ли монашка, не исчезла ли с облучка.
На обеденном привале Пелагия подошла к грубо сколоченному ящику, в котором покоился убиенный, стала шептать молитву. Думала: в чем смысл трагического происшествия под названием «внезапная смерть», когда человек расстается с душой во цвете лет, без подготовки и предупреждения? Зачем это Господу? Неужто лишь в пример и назидание прочим? Но как же тогда тот, кто умер? Достойно ли человеку быть всего лишь назидательным примером для других?
Так углубилась в непростые раздумья, что не услышала шагов – вздрогнула, когда у самого уха раздался долининский голос.
Как ни в чем не бывало, словно и не было двух с половиной дней молчания, следователь спросил:
– Ну-с, сестра, и что вы обо всем этом думаете?
– О чем?
– Вы ведь отлично поняли. – Лицо Сергея Сергеевича колыхнулось нетерпеливым тиком. – У вас наверняка выстроилась картина преступления., Кто, как, с какой целью. Вы женщина проницательная, острого ума, с превосходным чутьем. Оказали мне неоценимую помощь на этапе дознания.. Так не останавливайтесь на полпути. Говорите. Гипотезы, догадки, самые фантастические предположения – я за все буду благодарен.
Если бы вопрос был задан не теперь, а до слезного объяснения с Митрофанием, Пелагия непременно поделилась бы с Сергеем Сергеевичем всеми своими соображениями. Однако разговор с владыкой и данное обещание произвели в монахине решительную перемену. Чистосердечно признавшись себе, что в ее согласии ехать в Строгановку главную роль сыграли суетный азарт и греховная любознательность, инокиня строго-настрого запретила себе размышлять о том, куда подевался Стеклянный Глаз, он ли убил «пророка», и если он, то почему – из ненависти ли, из корысти ли, либо же по иным мотивам.
Следователю ответила смиренно, опустив глаза:
– Даже и не думала об этом. Не моего ума дело. У вас, должно быть, сложилось впечатление, будто я мню себя сыщиком в рясе. Уверяю вас, сударь, это не так. К лицу ли чернице путаться в мирские дела, да еще этакого греховного свойства? Если я в тот день и наговорила лишнего, то это от потрясения при виде мертвого тела. У вас, сударь, свои занятия, у меня свои. Бог вам в помочь, а я буду молиться за успех ваших трудов.
Он посмотрел на нее в упор, испытующе.
Потом вдруг улыбнулся – ясно, дружественно:
– Жаль. Подедуктировали бы вместе. А еще больше жаль, сестрица, что вы не служите в сыске. У нас женщин-агентов немного, но каждая стоит десятка мужчин. Вы же с вашими способностями стоили бы сотни. Ладно, не буду вам мешать. Вы, кажется, читаете молитву?
Отошел к костру, и с этого момента его поведение переменилось, он стал прежним Сергеем Сергеевичем – умным и немного насмешливым собеседником, в разговорах с которым время понеслось и быстрей, и насыщенней.
Теперь Долинин предпочитал ехать не впереди, а рядом с повозкой. Иногда сгонял зытяка с козел, брал вожжи сам. Бывало, что и спешивался, ведя лошадь в поводу. Предложил раз и Пелагии проехаться верхом, но она отговорилась иноческим званием, хотя очень хотелось, как в далекие времена, сесть в седло по-мужски, сжать коленями горячие, налитые бока лошади, приподняться в стременах и припустить влет по мягкой, звонко причмокивающей земле...
Насмешливый тон Сергея Сергеевича монахиню не раздражал, скорее импонировал, потому что в нем совсем не было цинизма, столь распространенного в образованной части общества. Чувствовалось, что это человек с убеждениями, с идеалами и – что по нынешним временам уж совсем удивительно – человек глубокой, не суесловной веры.
Из-за соседства с печальным грузом беседа сначала все крутилась вокруг жертвы.
От Долинина монашка узнала кое-какие подробности о грешной жизни «ловца душ».
Проповедовать новоявленный мессия, оказывается, начал не столь давно – года два тому, однако успел обойти чуть не половину губерний и обзавелся немалым числом последователей, преимущественно самого простого звания. Толпами «найденыши» не собирались, массовых шествий не устраивали, однако внимания обращали на себя много – и своими бело-синими хламидами, и демонстративным неприятием христианства вкупе с православной церковью. При этом смысл Мануйлиной проповеди, как это обычно бывает у душесмутителей, поднявшихся из темной гущи народа, был туманен и логическому изложению не поддавался. Что-то такое, направленное против воскресного дня, священнослужителей, икон, колокольного звона, воинской повинности, свиноедства, еще невнятное прославление еврейства (хотя самих евреев Мануйла, если он вправду происходил из медвежьего угла Заволжской губернии, здесь и видеть-то не мог) да всякая прочая чушь.
В конце концов, рассказывал Долинин, бродячий проповедник заинтересовал самого обер-прокурора Победина, по долгу службы зорко следящего за всякого рода ересями. Сановник призвал к себе лапотного мужика и затеял с ним духовную дискуссию. («Константин Петрович любит духовное единоборство с еретиками, только чтоб непременно побеждать, в соответствии с фамилией», – усмехнулся Сергей Сергеевич, рассказывавший этот случай в комическом ключе, но, впрочем, безо всякой язвительности.) А Мануйла, не будь дурак, выждал, пока прекраснодушный обер-прокурор обернется к образу Спасителя перекреститься, да и стибрил со стола золотые часы с алмазами, подаренные Победину самим государем. Был уличен в краже, отведен в участок. Однако Константин Петрович пожалел бродягу и отпустил на все четыре стороны. «Даже сфотографировать не успели или бертильонаж сделать, а насколько это облегчило бы сейчас мою задачу!» – с сожалением вздохнул рассказчик, а заключил словами:
– Лучше б не выпускал, всепрощенец несчастный. Сидел бы Мануйла в кутузке, да жив был.
– Грустная история, – сказала Пелагия, дослушав. – А грустнее всего то, что православие, казалось бы, природная наша религия, многим из русских людей не дает душевного утешения. Не хватает в ней чего-то для простого сердца. Или же, наоборот, есть что-то примесное, неправдивое – иначе не шарахались бы люди от нашей церкви во всякие нелепые ереси.
– Есть. Все в нашей вере есть, – отрезал Долинин, и с такой неколебимой уверенностью, которой Пелагия от этого скептика не ожидала.
Реплика монахини отчего-то разволновала следователя. Он некоторое время колебался, а потом, покраснев, сказал:
– Я вот вам расскажу... про одного человека историйку... – Сдернул пенсне, нервно потер переносицу. – Да что уж там про одного» – про меня история. Вы умная, все равно догадаетесь. Вы, сестра, второе существо на свете, кому мне захотелось рассказать... Не знаю почему... Нет, вру. Знаю. Но не скажу, не важно. Захотелось, и все.
С Сергеем Сергеевичем что-то происходило, он волновался все сильней и сильней. Пелагии это состояние в людях было знакомо: носит в себе человек нечто, жгущее душу, терпит, сколько может, иной раз годами, а потом вдруг возьмет и первому встречному, какому-нибудь случайному попутчику самое больное и выложит. Именно что случайному, в этом вся соль.
– Обычная история, даже пошлая, – начал Долинин, кривовато усмехаясь. – Таких историй вокруг полным-полно. Не трагедия, а так, сюжетец для скабрезного анекдота про мужа-рогоносца и блудливую жену... Была у одного человека (который перед вами, но я уж лучше в третьем лице, так приличнее) молодая и прекрасная собой жена. Он ее, разумеется, обожал, был счастлив и полагал, что она тоже счастлива, что проживут они вместе до гроба и, как говорится, скончаются в один день. Ну, не буду рассусоливать – материя известная... И вдруг – гром среди ясного неба. Полез он за какой-то ерундой в ее ридикюль... Нет, я лучше уточню, потому что это еще подчеркнет пошлость и комизм... Ему, дураку, пудреница понадобилась, прыщ присыпать, поскольку предстояло важное выступление в суде, а тут, понимаете, прыщ на носу, неудобно. То есть это мне тогда казалось, что выступление на процессе – штука очень важная, – перешел-таки с третьего лица на первое Сергей Сергеевич. – До той минуты, пока я в ридикюле записочку не обнаружил. Самого что ни на есть пикантного свойства.
Пелагия ахнула.
– Я же говорю, история пошлейшая, – оскалился Долинин.
– Нет, это не пошлость! – воскликнула монашка. – Это худшее из несчастий! А что часто случается, так ведь и смерть не редкость, но никто ее, однако, пошлой не называет. Когда единственный на всем свете человек предает, это еще хуже, чем если б он умер... Нет. Это я греховное сказала. Не хуже, не хуже.
Пелагия побледнела и два раза резко качнула головой, словно отгоняя какое-то воспоминание или видение, но Сергей Сергеевич на нее не смотрел и, кажется, даже не слышал возражения.
Продолжил прерванный рассказ:
– Бросился я к ней требовать объяснений, а она вместо того, чтобы прощения просить или хоть соврать, говорит: «Люблю его, давно люблю, больше жизни. Не решалась тебе сказать, потому что уважаю и жалею, но раз уж так вышло...» Оказался наш давний знакомый, друг семьи и частый гость... Богат, хорош собою, да еще и «сиятельство». Долго ли, коротко ли, переехала она к нему. Я совсем голову потерял. Какая там служба, какие важные процессы, если мир рушится... Никогда бы не подумал, что могу униженно умолять, рыдать и прочее. Смог, преотличным образом смог! Только все впустую. Жена моя – существо доброе, сострадательное. Когда я рыдал, она вместе со мной слезы проливала. Я на колепи, и она тоже сразу – бух! Так и ползаем друг перед дружкой. «Ты меня прости», «Нет, это ты меня прости», ет цетера, ет цетера. Однако при всей сострадательности дама она твердая, с важного не сдвинешь – это я и раньше в ней знал. И уважал. Конечно, и теперь не сдвинулась, только зря я терзал ее и себя. А однажды, воспользовавшись тем, что я разнюнился [здесь в голосе Сергея Сергеевича впервые прорвалось прямое ожесточение], она выпросила у меня отдать сына. Я отдал. Надеялся благородством и жертвенностью впечатлить. И впечатлил. Только вернуться ко мне она все равно не вернулась... И знаменитый проект, реформаторский-то, написал я именно тогда. С тайной, почти безумной целью. Нарушил все субординации, тон взял предерзкий. Думал: выгонят со службы – так уж все равно, пускай одно к одному. А ну как вознесусь, карьеру сделаю? Ведь мысли-то неглупые, государственные, давно выстраданные... Сначала и вправду от должности отстранили. Я не содрогнулся, даже удовлетворение испытал. Ну, так тому и быть, думаю. У меня, видите ли, как раз в ту пору один план созрел.
– Какой план? – спросила Пелагия, догадываясь по тону, что план был какой-то очень нехороший.
– Отличнейший, – усмехнулся Долинин. – Даже единственный в своем роде. Дело в том, что у счастливых любовников свадьба наметилась. Ну, не вполне, конечно, полноценная, потому что венчания быть не могло, однако же нечто вроде свадебного пира. В столице ведь нравы не то что в провинции, там теперь и свадьба с чужой женой не редкость. «Гражданский брак» называется. Подготовили они все на широкую ногу. По-современному, без ханжества. Уж пир так на весь мир. В том смысле, что настоящая любовь выше людских законов и злословия. А я сделал вид, что смирился с неизбежностью. Некоторые доброжелатели давно меня уговаривали «смотреть на вещи шире», вот я и посмотрел. – Сергей Сергеевич сухо, кашляюще рассмеялся. – Таким агнцем, таким толстовцем прикинулся, что – вы не поверите – был удостоен приглашения на сие празднество любви, в числе прочих избранных. Тут-то план и возник... Сначала хотел по примеру жителей страны Восходящего Солнца прилюдно брюхо себе ножом взрезать и внутренности прямо на свадебный стол вывалить – угощайтесь, мол. Но придумал еще лучше.
Пелагия вытаращила глаза и прикрыла ладонью рот.
Рассказчик неумолимо продолжал свою мучительную повесть:
– Приду, думал, с букетом и бутылкой ее любимейшего белого вина, которое раньше позволял себе покупать лишь два раза в год – на день ее ангела и в годовщину свадьбы. В разгар пира попрошу слова – мол, желаю тост произнести. Все, конечно, уши навострят, на меня уставятся. Такая пикантность: брошеный муж поздравляет молодых. Одни умилятся, другие внутренне осклабятся. И я произнесу речь, очень короткую. Скажу: «Любовь – всесокрушающая сила. Пусть вечно сияет вам ее улыбка, как сейчас просияет моя». Открою бутылку, наполню до краев кубок, подниму его выше головы и подержу так некоторое время – это специально для сына, который, конечно, тоже будет на пиру. Чтоб как следует все запомнил. А после вылью содержимое кубка себе вот сюда. – Долинин ткнул пальцем себе в лоб. – Только в бутылке у меня будет не вино, а серная кислота.
Пелагия вскрикнула, но Сергей Сергеевич, кажется, опять не услышал.
– Я незадолго перед тем одно дело вел – преступление страсти. Там женщина одна, уличная, из ревности своему «коту» вот этак же плеснула в физиономию кислотой. В морге видел его труп: кожа вся сошла, губы изъедены вчистую, и этакая ухмылка голых зубов... Вот и я надумал молодым такую же «улыбку всесокрушающей любви» явить. Боли не боялся – даже алкал, как наслаждения. Только такая боль и могла бы сравниться с огнем, что сжигал меня изнутри все те месяцы... Я бы, конечно, скончался на месте, потому что при ожоге большой обширности сердце не выдерживает болевого потрясения. А они пускай жили бы себе и наслаждались счастьем. Сны по ночам видели... И сын чтобы на всю жизнь запомнил... Такой, в общем, у меня образовался план.
– И что помешало его исполнению? – шепотом спросила монахиня.
На сей раз Долинин услышал – кивнул.
– В самый канун знаменательного дня вдруг пришел мне вызов в самые эмпиреи власти. Свершилось-таки чудо, нашлись наверху люди государственного мышления. Обласкали, вознесли, дали новый смысл в жизни. Я, конечно, будучи все еще не в себе, принял это за знак. Мол, вот она, возможность доказать жене, что я – великий человек, покрупнее ее графчика. Будут у меня и положение, и богатство, и власть. По всем статьям его превзойду. Тогда-то она и пожалеет, раскается. (Ничего бы она, разумеется, не раскаялась, потому что не такая женщина, но я ведь говорю – не в себе я был.)
Прежде чем закончить рассказ, Сергей Сергеевич немного помолчал и договорил совсем другим тоном, безо всякого ожесточения и самоедства:
– Однако смысл знака был вовсе не в том. Мне впоследствии один человек растолковал – не важно кто, вы его не знаете. Он сказал: «Это вас Бог пожалел. Пожалел и спас вашу душу». Вот как просто. Меня Бог пожалел. И когда я понял это, то уверовал. Без мудрствований, без гипотез. Уверовал, и все. С этого момента и началась моя настоящая жизнь.
– Это воистину так! – вскричала Пелагия и, поддавшись безотчетному порыву, выпалила. – Знаете, я тоже вам про себя расскажу...
Но следователь натянул поводья и остановил свою соловую, повозка же покатила дальше вперед.
Монахиня спрыгнула на землю, вернулась к Долинину. Уже не для того, чтобы про себя рассказать (поняла, что Сергею Сергеевичу сейчас не до чужих излияний), а чтобы договорить важное.
– Бог вам жизнь и душу спас. И этой милостью Он не ограничится. Пройдет время, рана зарубцуется, и вы перестанете гневаться на бывшую жену. Поймете – не виновата она. Просто она – не та, что предназначена вам Господом. И может быть, вы свою истинную супругу еще встретите.
Долинин улыбнулся – вроде бы насмешливо, но без колкости.
– Нет уж, слуга покорный. С меня довольно. Разве если встречу такую, как вы? Но подозреваю, что такой, как вы, на свете больше нет, а на монашке жениться, увы, никак невозможно.
Ударил лошадь каблуками и ускакал в голову каравана, оставив Пелагию в совершенном смущении.
Лесные ужасы
Долгое время после этого сестра ехала молча. Бог весть, где витали мысли монахини, но лицо ее было странным – одновременно грустным и мечтательным. Пелагия несколько раз улыбнулась, а между тем по щекам ее стекали слезы, и она, не замечая, смахивала их ладонью.
И вдруг настроение ушло, мысли сбились. Пелагия не сразу поняла, что ей мешает, что отвлекает.
Потом поняла: опять. Шеей, затылком она явственно ощущала чей-то пристальный взгляд.
Такое случилось уже не впервые. Давеча, во время дневного привала, было то же самое: Пелагия резко обернулась и увидела – в самом деле увидела, – как на дальнем краю поляны качнулась ветка.
Вот и сейчас монахиня не выдержала, оглянулась.
Схватилась за сердце: на ели сидела большая серая птица, пялилась на сестру круглыми желтыми глазами.
Сестра тихонько рассмеялась. Господи, филин! Всего лишь филин...
* * *
Но вечером, когда разбивали лагерь для ночевки, случилось такое, что ей стало не до смеха.
Пока мужчины строили шалаши и собирали хворост, инокиня отошла по природному зову. Стесняясь мужчин, забралась довольно далеко, благо сумерки еще не совсем сгустились, не заблудишься.
Вдруг откуда-то слабо пахнуло дымом, да не с поляны, а с противоположной стороны. Сразу вспомнились рассказы про чащобные пожары. Великий Лес горел редко, болота выручали, но если уж загорался, то никому и ничему не было спасения из этой огненной геенны.
Втягивая носом воздух, Пелагия пошла на подозрительный запах. Впереди в самом деле засветился подрагивающий огонек. Может быть, гнилушки?
Когда до огонька было совсем близко, вдруг раздался хруст. Не такой уж громкий, но звук был явно живого происхождения, и монахиня замерла.
За елью что-то шевельнулось.
Не что-то – кто-то!
Окоченевшая от страха инокиня заметила некое ритмичное помахивание. Пригляделась – хвост, волчий! И что самое невероятное, хвост болтался не у земли, а довольно высоко, как если бы зверь сидел на ветке!
Пелагия сотворила крестное знамение, попятилась, бормоча: «Бог нам прибежище и сила...»
Из сумерек донеслось негромкое рычание с каким-то странным причмокиванием, не столько свирепое, сколько – померещилось бедной монашке – насмешливое.
Опомнившись, она развернулась и со всех ног кинулась назад.
Бежала так, что споткнулась о пень, упала, подрясник разодрала, а сама и не заметила: тут же вскочила да припустила еще быстрей.
Вылетела на поляну вся белая, с закушенной от ужаса губой.
– Что такое? Медведь? – кинулся ей навстречу Долинин, выхватывая револьвер. Полицейские потянулись к винтовкам.
– Нет... нет, – пролепетала Пелагия, ловя губами воздух. – Ничего.
При виде костра и мирно куривших спутников ей стало стыдно. Волк на ветке, да еще причмокивающий? Чего только в лесу не привидится.
– Ну-ка, ну-ка, – тихо сказал Сергей Сергеевич, отводя ее в сторону. – Вы особа не из пугливых, а сейчас на вас лица нет. Что стряслось?
– Там волк... Странный... Вроде как на дереве сидит. И огонек светится... Я про Струка вспомнила. Знаете, такое лесное чудище, – призналась Пелагия, кое-как выдавив улыбку.
Но Долинин даже не улыбнулся. Посмотрел через ее плечо в синюю вечернюю чащу.
– Что ж, сходим посмотрим, что за Струк такой. Покажете?
Пошел вперед, светя фонариком. Шагал уверенно, не таясь, под ногами громко хрустели сучья, и страх съежился, отступил.
– Вон там, – показала монашка, выведя следователя к страшному месту. – Вон она, ель.
Сергей Сергеевич бестрепетно раздвинул колючие зеленые лапы, наклонился.
– Сучок, сломанный, – сказал он. – Наступил кто-то, и совсем недавно. Жалко, мох, а то бы следы остались.
– Он... Оно рычало, – пожаловалась Пелагия. – И как-то глумливо, не по-звериному. А главное, хвост вот на такой высоте был. – Привстала на цыпочки, чтобы показать. – Ей-богу! А огонек исчез. И дымом больше не пахнет...
Самой сделалось совестно – экую чушь несет.
Но Долинин и тут не стал насмешничать. Потянул носом:
– Отчего же, немного есть... Знаете, мадемуазель, я человек рационалистического склада, придерживаюсь научного мировоззрения. Однако же далек от мысли, что науке известны все земные тайны, не говоря уж о небесных. Наивно было бы полагать, что природа явлений исчерпывается законами физики и химии. Лишь очень ограниченные люди могут быть материалистами. Вы же не материалистка?
– Нет.
– Что ж вы тогда так удивились? Ну, испугались – это понятно, но удивляться-то зачем? Места здесь сами видите какие. – Он обвел рукой мрак, которым к ночи укутался Лес. – Где же обитать нечисти, если не в глубинах вод да лесных чащах?
– Вы шутите? – тихо спросила Пелагия. Сергей Сергеевич вздохнул.
– Скажите, монахиня, Бог и ангелы существуют?
–Да.
– Значит, есть и Дьявол, и его присные. Это единственно возможный логический вывод. Существование белого невозможно без существования черного, – отрезал удивительный следователь. – Ладно, идемте чай пить.
IV. ПРИСНИЛОСЬ?
Дикой татарин
До Строгановки добрались к вечеру четвертого дня.
Деревенька разбросала свои неказистые домишки на просторном лугу, должно быть, отвоеванном у Леса еще в старинные времена.
Лет двести-триста назад, как явствовало и из названия деревни, здесь были владения купцов Строгановых – тех самых, покорителей Сибири. С прежних времен остался прямоугольник трухлявых бревен – следы крепостцы, да несколько десятков ям, память о некогда бывшей тут соляной фактории.
Жили в этих местах суровые длиннобородые мужики, потомки строгановских окаянцев, гулящего сброда, который еще в шестнадцатом столетии потянулся на здешнее приволье со всей Руси. То, что это насельники не мирного, земледельческого семени, чувствовалось сразу – и по отсутствию пашен, и по маленьким, сторожким оконцам изб, и по сушившимся на плетнях звериным шкурам. Строгановцы земли не пахали. Жили лесованием да скоблили в давно выработанных ямах каменную соль. Была она скверная, серая, такую брали лишь крестьяне из окрестных волостей, задешево. А за соснами, на той стороне быстрой каменистой речки, виднелись утесы – первые отроги Уральских гор.
Объяснялся с Долининым староста – угрюмый дед, весь, как леший, заросший седым с прозеленью волосом. Кроме старика в общинной избе были еще двое немолодых мужиков, ртов не раскрывавшие и только настороженно пялившиеся на незваных гостей.
Если б не волостной старшина, приходившийся старосте кумом, никакого разговора, должно быть, вовсе бы не вышло.
Главное, зачем ехали, выяснилось почти сразу.
Заглянув в открытый ящик, староста перекрестился и сказал, что это точно Петька Шелухин, природный строгановец. Три года как ушел, и с тех пор его здесь не видывали.
– При каких обстоятельствах он покинул место жительства? – спросил Долинин.
– Че-ко-ся? – вылупился на него староста, изъяснявшийся на местном говоре, с непривычки довольно трудном для понимания. – Че талакаити?
– Ну, почему он ушел?
– То-оно, ушел и ушел. Мы лонись и домишку яво на обчество отписали, – обвел дед рукой горницу, надо сказать, прескверную – с низким потолком, в углах серым от паутины.
– «Лонись» – это «в прошлом году», – перевела Пелагия. – Они устроили в доме Шелухина общинную избу.
– Мерси. Я его не про избу спрашиваю. Что он за человек был, Шелухин? Почему из деревни ушел?
– ... человечишко, – отчетливо проговорил дед некрасивое слово, от которого монахиня поморщилась. – Тырта, дрокомеля. Хлопать был здоров, лижбо сбостить чаво. Не одинова учили.
– А? – спросил Долинин Пелагию. Та пояснила:
– Хвастун, бездельник. Врал много. И в воровстве замечался.
– Похоже, что наш, – заметил Сергей Сергеевич. – Повадки сходятся. С чего вдруг Шелухин подался из этих чудесных мест? Спросите-ка лучше вы, сестра, а то мы с этим Мафусаилом как-то не очень друг друга разумеем.
Пелагия спросила.
Староста, переглянувшись с молчаливыми мужиками, ответил, что Петька «отошел с диком татарином».
– С кем? – переспросили хором Сергей Сергеевич и монашка.
– Ино был такой человек. Не наш. Сысторонь взялся, нивесть откель.
– Что такое «ино»? – нервно взглянул на помощницу Долинин. – И еще это – «сысторонь»?
– Да подождите вы, – невежливо отмахнулась от непонятливого следователя Пелагия. – Скажите, дедушка, а все же откуда, откель татарин-то пришел?
– Ниоткель. Татарина, то-оно, Дурка привела.
Тут уж и черница растерялась.
– Что?
В ходе долгого, изобиловавшего всякого рода недоразумениями разбирательства выяснилось, что Дуркой кличут немую и малахольную девчонку, строгановскую жительницу.
По поводу того, как Дурку звать на самом деле, между аборигенами возник спор.
Один мужик полагал, что Стешкой, другой – что Фимкой. Староста про имя дурочки ничего сказать не мог, однако сообщил, что немая живет с бабкой Бобрихой, которая «семой год» в «лежухе» (параличе). Дурка, как умеет, ухаживает за больной, ну и «обчество» чем-ничем помогает.
Однажды весной, тому три года, эта самая Дурка привела невесть откуда «сыстороннего» человека, «вовсе дикого».
– Почему дикого? – спросила Пелагия.
– Да, то-оно, как есть дикой. Башкой вертит, глазья таращит, талачет чей-то, вроде по-людски, а толь безо всякого глузду. «Эй, фуани, эй, фуани». Чистый урод, какие в городах у церквы христарадничают.
– Урод? Он что, калека был? – встрял напряженно слушавший Сергей Сергеевич.
– Нет, – ответила монахиня. – «Урод» – это «юрод», «юродивый». Скажите, дедушка, а как тот человек был одет?
– Почитай, никак. Вовсе без порток, в одной холстине, поверху бласной веревкой опоясан.
– Какой-какой веревкой, сестрица?
Пелагия обернулась к следователю и тихо сказала:
– «Бласная» – это синяя...
Долинин присвистнул.
– Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Стало быть, в ящике у нас никакой не Мануйла... Quod erat demonstrandum 2.
– Погодите, погодите. – Пелагия снова повернулась к старосте. – А почему вы взяли, что он татарин?
Дед покосился на черницу, напрямую не ответил – велел одному из мужиков:
– Донька, ты ей кажи, мне невместно.
– В баньку мыть яво повели, а у яво етюк обкорнатый, – пояснил Донька. – Как у татарвы.
– Что-что?
– Это я как раз понял, – заметил Сергей Сергеевич. – У «дикого татарина» было обрезание. Сомнений нет, это Мануйла. В самом деле бессмертен, прохвост...
Из дальнейшего разговора выяснились еще кое-какие подробности.
Петька Шелухин, самый лядащий мужичонка во всей Строгановке, отчего-то привязался к «дикому», поселил у себя в избе, повсюду ходил за ним, как за родным братом. По свидетельству старосты, они и правда были похожи – и ростом, и лицом. Петька так и звал чужака: «старшой брат», тот же прозвал своего попечителя «Шелухай».
– Не-е, не Шелухай. Шелуяк – во как татарин яво кликал, – поправил Донька.
– Ино так, – подтвердил второй мужик. – Шелуяк. И Петька отзывался.
Следователь велел позвать девчонку, что привела «татарина».
Привели. Но толку от нее никакого не вышло. Было Дурке, должно быть, лет четырнадцать, но из-за маленького роста и заморенности выглядела она на десять. О чем спрашивали – не понимала, только мычала. Скребла грязной пятерней спутанные волосья, шмыгала носом.
В конце концов Долинин махнул на нее рукой.
– Так, говоришь, подружился Шелухин с пришлым человеком? – повернулся он к старосте. – А на какой, собственно, почве?
Пелагия, тяжко вздохнув на безнадежного Сергея Сергеевича, приготовилась перевести его вопрос на строгановский язык – иначе непременно воспроизвелся бы разговор принца Датского с могильщиком («Известно, на какой, сударь – на нашей, датской»). И вдруг, по чистой случайности, взглянула на жавшуюся у двери Дурку. Теперь, когда взрослые перестали обращать на девчонку внимание, ее лицо переменилось: в пустых глазах зажглась искорка, выражение придурковатости исчезло. Девочка прислушивалась к разговору, да как жадно!
– Сягай, сягай! (Ступай! Ступай!) – прикрикнул на нее староста. Та неохотно вышла. Разговор про «дикого» был продолжен.
– Чем же татарин Петьке поблазнил? – спросила Пелагия.
– Петька хлопал, что дикой яму про Святу Землю талакает. Ишто про то, как по правде жить.
– Почему «хлопал»?
– Да де ж татарину про Святу Землю талакать, коли он по-нашему ни бельмеса не строчил?
– То есть совсем говорить не умел?
– Ага.
Один из мужиков (не тот, который Донька, а второй) сказал:
– Как они с Дуркой-то, а, батяня? Она мыкает, он гугукает. Умора. Охрим-то тады шутканул, а? «Дурка, грит, собе жаниха присватала. Баска будет семейка – Дурень да Дурка».
И погладил бороду рукой, что, должно быть, означало в Строгановке крайнюю степень легкомыслия, потому что староста одернул весельчака:
– Ты зубы-то не скаль. Или забыл, чаво после было?
– А что после было? – тут же поинтересовался Долинин.
Строгановцы переглянулись.
– Да прогнали мы татарина, – сказал староста. – Так-оно, отсизовали как следоват, в шургу башкой сунули, да хлестунами за околицу.
– Что они сделали? – беспомощно оглянулся на монашку Сергей Сергеевич.
– Избили до полусмерти, окунули в выгребную яму и выгнали из деревни кнутами, – объяснила она.
– За что? – покривился на местные нравы Долинин.
– Надо было яво, паскуду, до смерти уходить, – сурово произнес староста. – Ино етюк яво татарской оторвать. Дурку, сироту убогую, котора за ним, как псюха, бегала, опоганить хотел. Носит же земля иродов. Дурка после два дни беспамятно лежала.
Сергей Сергеевич нахмурился.
– Ну а Шелухин что?
– За татарином своим в лес побег. Как мы зачали паскудника охаживать, Петька с мужиками махаться полез, не давал свово «старшого» поучить. Ну, мы и Петьке харю своротили. А как прогнали татарина в лес, Петька котомку завязал и за ним. «Пропадет он в лесу! – орал. – Он человек божий!» И боле мы Петьку не видали, до сего дня.
– А скажи-ка, дед, ино в какую сторону ушел от вас татарин? На закат, на восход, к северу ли, или, так-оно, к полуночи? – спросил Долинин.
Пелагия тихонько встала и направилась к двери.
Причин тому было две. Первая – что Сергей Сергеевич, кажется, понемногу осваивался с местной идиоматикой. А вторая заключалась в самой двери, которая вела себя загадочным образом – то приоткроется, то снова затворится, хотя сквозняка не было.
Выскользнув в темные сени, монахиня повертела головой и заметила в углу, за сундуком, некую тень.
Подошла, присела на корточки.
– Не бойся, вылезай.
Из-за сундука высунулась растрепанная голова. В темноте светились два широко раскрытых глаза.
– Ну, что спряталась? – ласково сказала Пелагия дурочке. – Ты зачем подслушивала?
Девчонка выпрямилась во весь свой невеликий рост, посмотрела на сидящую монахиню сверху вниз.
Да полно, дурочка ли она? – усомнилась Пелагия, глядя маленькой дикарке в глаза.
– Ты хочешь о чем-то спросить? Или попросить? Ты объясни – хоть знаками, хоть как. Я пойму. И никому не скажу.
Дурка ткнула пальцем сестре в грудь, где висел медный валаамский крестик.
– Хочешь, чтоб я побожилась? – догадалась Пелагия. – Христом-Богом тебе клянусь, что никому ничего не расскажу.
И приготовилась к нелегкому делу – расшифровывать мычание и жестикуляцию убогой.
Из горницы донесся звук шагов – кто-то направлялся к двери.
– К мельне приходи, – шепнула вдруг немая. И юркнула мышонком из сеней на крыльцо.
В ту же самую секунду – ну может, в следующую – дверь распахнулась, и показался Сергей Сергеевич.
Пелагия не успела стереть с лица ошеломление, но следователь истолковал ее вскинутые кверху брови по-своему.
– Каков мерзавец, а? – зло сказал он. – Вот вам весь секрет его бессмертия. Бережется, добрый пастырь, других вместо себя подставляет. Понятно, почему пароходные «найденыши» не поехали тело пророка сопровождать? Знали, мерзавцы, что никакой это не пророк, а подмена.
– И кричали-то они, когда убийство обнаружилось, все больше про казну, – припомнила Пелагия. – Надо было мне еще тогда внимание обратить.
– Подведем итоги? – предложил Долинин, когда они вышли на крыльцо. – Картина получается следующая. Мануйла доверил везти «казну» своему «меньшому брату» Петру Шелухину. Очевидно, предполагал, что за деньгами может быть охота. Не захотел своей драгоценной персоной рисковать.
– А я думаю, что охота была не за казной, а за самим Мануйлой.
– Основания? – быстро спросил следователь, сощурившись на Пелагию.
После штуки, которую выкинула Дурка, монахиня была в некоторой рассеянности и потому не вспомнила про данный зарок – пустилась в дедукцию.
– Вы ведь сами рассказывали, что на пророка уже было покушение. Разве в тот раз деньги похищали?
– Нет, не припомню такого.
– Вот видите. Дело в самом Мануйле. На пароходе действовал никакой не «разинец», и убийство совершилось отнюдь не случайно. Кому-то этот проходимец Мануйла очень крепко досадил.
– Кому?
Долинин хмурился все суровей, а Пелагии – что скрывать – его напряженное внимание было лестно.
– Есть всего несколько вариантов. Во-первых... – начала было она, но прикусила язык – вспомнила, наконец, про обещание. И переполошилась. – Нет-нет! Не буду про это. Даже не уговаривайте! Зареклась я. Вы умный, сами все сообразите.
Сергей Сергеевич усмехнулся:
– Работу рассудка запретить невозможно, тут зарекайся, не зарекайся. Особенно столь острого рассудка, как ваш... Ладно, если надумаете – изложите ваши «варианты» по дороге обратно. Больше нам тут делать нечего. Пророк живехонек, так что газетам придется давать опровержение. Какая реклама Мануйле! То его убили, то снова воскрес.
Он сплюнул с досады. То есть, не слюной, конечно, потому что интеллигентный человек, а символически – сказал «тьфу!».
– Нечего рассусоливать, нынче же и поедем.
– На ночь глядя? – встревожилась Пелагия, оглядывая освещенную луной Стрсгановку. В какой же стороне тут мельница?
– Ничего, не заблудимся. И так сколько времени зря потрачено. Думал, государственное дело, а вышел фук.
Кажется, вон она где спряталась, углядела монашка квадратное строение у речки и вроде бы даже услышала, как скрипит мельничное колесо.
– Мне так уехать невозможно, – сказала сестра. – Староста за священником в Старицу посылать не хочет. Говорит, лишних лошадей нет, да и платить придется. Так что ж теперь, человека, как собаку, зарывать? Отпеть я не отпою, не положено, но хоть молитву над могилой почитаю. Это мой долг. А вы не расстраивайтесь, сударь. Было бы куда хуже, если б вы сюда не приехали. Доложили бы начальству, что Мануйла убит, а потом обнаружилось бы, что ничего подобного. Попали бы в неловкое положение.
– Так-то оно так, а все же... – проворчал Сергей Сергеевич, кажется, не на шутку расстроенный неудачей экспедиции. Должно быть, хотелось-таки честолюбивому реформатору покрасоваться перед газетчиками. – Ладно. Схороните Шелухина завтра утром. Только, уж пожалуйста, пораньше. Черт, как времени жалко!
Первый раз про петуха
Пожелав следователю доброй ночи и сказав, что определится на ночлег сама, Пелагия поспешила к речке.
Прошла улицей, мимо плетней, из-за которых тихо рычали небрехливые строгановские собаки, больше похожие на волков. За околицей, на лугу, шум воды стал слышнее. Когда же до мельницы оставалось совсем близко, от крепкого бревенчатого строения навстречу монахине двинулась щуплая фигурка.
Девочка нетерпеливо подбежала к сестре, схватила ее за руку цепкой, шершавой лапкой и спросила:
– Он живой? Живой?
– Кто? – удивилась Пелагия.
– Амануил.
– Ты хочешь сказать, Мануйла?
– Амануил, – повторила Дурка. – Яво Амануилом звать.
– Откуда ты знаешь?
– Знаю. Он вот этак тыкал [девочка ткнула себе пальцем в грудь] и толокал: «Амануил, Амануил». Он ишшо много чаво толокал, да я не проняла. Малая была и вовсе дурная.
Должно быть, «Мануил», сообразила Пелагия. А простонародное «Мануйла» возникло позднее, когда загадочный «татарин» пошел со своей проповедью по деревням.
– Живой твой Мануил, живой, – успокоила она Дурку. – Ничего с ним не случилось. Ты вот что, ты расскажи, где ты его нашла?
– Не я яво сыскала, Белянка.
И Дурка поведала Пелагии диковинную историю, выслушанную монахиней с чрезвычайным вниманием. Поражало еще и то, как складно, оказывается, умела говорить мнимая немая – много бойчей и красочней, чем деревенский староста.
А история была такая.
Началось с того, что из общинного птичника, за которым приглядывала маленькая Дурка, сбежала Белянка, курица-несушка крайне «сбрыкливого», то есть вздорного нрава. Птичник находился на противоположном берегу речки, так что искать беглянку следовало либо в кустарнике, либо дальше, возле «камней» (утесов).
Дурка обрыскала все кусты, но Белянку там не нашла. На беду наседка принадлежала старостину старшему сыну Доньке, мужику драчливому и бранчливому, которого Дурка «скаженно» боялась.
Делать нечего, пошла искать у «камней». И кричала, и по-куриному умоляла, и плакала, а все впустую.
Так добралась до Чертова Камня, куда по своей воле в жизнь бы не забрела, да еще одна.
– Почему? – спросила Пелагия. – Что за Чертов Камень такой?
– Сильно поганое место.
– Почему поганое?
– А из-за барина.
И Дурка рассказала, что давным-давно у Чертова Камня пропал заезжий барин. Про то ей говорила бабаня, когда той еще от «лежака» язык не отшибло. А бабане ее дед рассказывал.
Может, сто лет назад это было, а может, и еще давнее, но только приехал в Строгановку барин. Сокровища искал – золото, самоцветы. Лазил по горам, куда местные отродясь не заглядывали, потому что им незачем. Рыл землю, спускался в «черевы» (пещеры). В череву Чертова Камня тоже полез. Взял с собой петуха.
– Зачем? – не поняла монахиня.
– А коли в череве заплукаешь, надо кочета пустить, он завсялды (непременно) лаз наружу сыщет.
Но не помог барину петух. Пропали оба – и человек, и птица, назад из пещеры не вышли. Тогда деревенские, кто посмелее, полезли искать. И нашли: от барина суконный треух, от петуха хвостяное перо. Боле же ничего. Черт их унес, потому что известно – камень-то его.
Ужас до чего страшно было Дурке идти в такое место, но и без Белянки не вернешься.
Шла «пооболонь» (вокруг) проклятого утеса, «веньгала» (плакала), дрожала вся. Вдруг слышит – вроде петух кукарекает: глухо, будто из-под земли. Заглянула за большой валун и ахнула. Там, за кустом, чернел лаз, и кукареканье доносилось именно оттуда.
Поняв, что это и есть та самая баринова пещера, Дурка долго не решалась в нее войти. Откуда там взялся петух? Неужто тот самый, которого черт уволок? Может, и пропавший барин тоже там? Куда как страшно!
Хотела убежать от греха. Вдруг слышит – кудахтанье. Знакомое, Белянкино!
Значит, там она, в пещере.
И, перекрестившись (молитву говорить не умела – «неязыкая» была), полезла добывать Белянку.
Сначала ничего разглядеть не могла, темно. Потом немножко приобыклась. Увидела белое пятно – Белянку. Кинулась к ней, а рядом петух. Бойкий такой, все на курицу заскакивал. Вдруг глядит – немножко в сторонке лежит бородатый мужик в белой рубахе (так Дурке, во всяком случае, показалось), похрапывает. Если бы мужик не спал, она бы дунула из жуткого места и ни за что бы туда не вернулась. Но спящего что бояться? То есть, побоялась, конечно, малое время, но потом пригляделась, увидела, что нестрашный, и разбудила, отвела в деревню, вместе с петухом.
Кочет этот, красного пера, достался Дурке, потому что пещерный мужик показал: себе бери. Хороший оказался петух, не чета деревенским. Дурка с бабаней давали его чужих кур топтать, за пяток яиц, и оттого стали жить сильно лучше, а от кочета в Строгановке пошла порода «етучих» (то есть ненасытных до топтания) красных петушков. Самого-то его через год соседские петухи заклевали – очень уж драчлив был.
Дослушав рассказ до конца, Пелагия стала расспрашивать про Мануила: что он был за человек, как себя вел, не обижал ли. Помнила, за что мужики прогнали горе-пророка, и не могла взять в толк: если так, что ж Дурка о «паскуднике» так тревожится?
Девочка ничего плохого о своем обидчике не сказала, напротив. Когда говорила о нем, голосок стал мечтательным, даже нежным. Похоже, встреча с «диким татарином» стала главным событием в ее маленькой, убогой жизни.
Он добрый, сказала Дурка. «Беседничать» с ним хорошо.
– Да как же вы могли беседы вести? – не выдержала Пелагия. – Ты была неязыкая, он тоже, говорят, бессловесный был?
Про себя подумала: или прикидывался перед мужиками?
– Беседничали, – упрямо повторила Дурка. – Мануил так толокал, ни одинова словечка не проймешь, а ино все понятно.
– Да что он тебе рассказывал-то?
– Разно, – ответила девочка и посмотрела в небо, на луну. На ее лице играла странная полуулыбка, совсем не детская. – Я ишшо малая была, как есть дура. Хочу яво умолить: «Никуда не уходи, у нас с бабаней живи», а сама толь «ме» да «ме».
– Когда же ты научилась говорить?
– Он, Мануил, от немотки слечил. Грит: «Ты, девка, ране толокать не жалала, потому не с кем тобе было и не об чем. А со мною затолокаешь».
– И все это он тебе без слов выразил? – недоверчиво спросила Пелагия. Дурка задумалась.
– Не помню. Повел меня на речку, велел разболочься (раздеться) нагола. Зачал водой на темко (темя) поливать, по плечам оглаживать. Так-то сладко! И наговор приговариват, волшебной. А Ванятка мельников нас свидал, побег за мужиками. Прибегли они и давай яво, Амануила, сизовать, да за волосья по земле волочь, да ногами! Я как заору: «Не трожьте яво! Не трожьте!». Словами заорала, толь никто не сослыхал – тож орали все сильно. И так я обмирела (удивилась), что могу словами орать, – пала без памяти и лежала день и еще день. А проснулась, яво уж прогнали... Хотела за ним бежать, в Святу Землю. Амануил оттудова родом.
– Из Святой Земли? С чего ты взяла?
– Откель жа такому ишшо взяться? – удивилась Дурка. – А и сам мне про то толокал. Толь не побегла я. Потому он не велел. Я ишшо ране таво с им просилась – мычала «возьми меня, возьми». Боялась, не проймет, меня окроме бабани никто не пронимал. А он пронял. «Рано, грит, тебе в Святу Землю. Бабаня без тебя как? Вот ослобонит тя Господь, тады ко мне приходи. Ждать буду».
Лишь теперь, с запозданием, Пелагия сообразила, что девчонка, пожалуй, привирает или, выражаясь мягче, фантазирует. Придумала себе сказку и тешится ею. А, с другой стороны, чем ей, бедняжке, еще тешиться?
Пелагия погладила Дурку по голове.
– Почему ты молчишь? В деревне тебя считают немой и полоумной, а ты вон какая умница. Потолокай с сельчанами, к тебе и относиться станут по-другому.
– С кем толокать-то? – фыркнула Дурка. – И об чем? Я толь с бабаней толокаю, тихонько. Кажный вечор. Про Мануила ей сказываю, а она слухат. Отвечать не могет, без языка лежит. Когда я малая была, бабаня мне, бывалот, толокает-толокает, а я, дура, мычу. Теперя наспрот (наоборот). Я толокаю, бабаня мычит. Плохая она, помрет скоро. Схороню, тады ослобонюсь. И пойду к нему, к Амануилу. В Святу Землю. Толь сыперва (сначала) подрасту, девкой стану. На что ему малая девчонка? Годок-другой ишшо обождать надо. Гли-ко-ся, у меня чаво, – с гордостью сказала Дурка и распахнула ворот драного платьишка – показала едва-едва набухающие грудки: сначала одну, потом вторую. – Вишь? Скоро я девкой стану?
– Скоро, – вздохнула Пелагия.
Обе замолчали, каждая думала о своем.
– Слушай, – сказала монахиня, – а могла бы ты показать мне ту череву? Ну, где ты Мануила нашла?
– Чаво, покажу, – легко согласилась Дурка. – Как кочеты навтора (во второй раз) проголосят, сызнова к мельне приходи. Сведу.
Стыдный сон
До петушьего крика, который, согласно закону природы, должен предшествовать рассвету, было еще долго, часов, пожалуй, пять или шесть, так что следовало как-то определиться на ночлег.
Пелагия вернулась к общинной избе, чтобы спросить у старосты, где можно заночевать.
В доме горели окна, и монахиня, прежде чем войти, заглянула в одно из них.
Старосты в горнице не было. За дощатым столом сидел в одиночестве Сергей Сергеевич, а по лавкам вдоль стен улеглись остальные участники экспедиции.
Из этого было понятно, что изба выделена следователю и его команде под ночевку. И то – где ж их еще размещать? Гостинице в Строгановке взяться неоткуда.
Довольно долго сестра стояла неподвижно, глядя на Сергея Сергеевича.
Ах, какое лицо было у следователя, когда он думал, что никто его не видит! Ни насмешливости, ни сухости.
Лоб Долинина был пересечен страдальческими морщинами, у рта пролегла трагическая складка, а глаза сияли подозрительно ярко – уж не от слез ли?
Вдруг Сергей Сергеевич уронил лоб на скрещенные руки, и его плечи задрожали.
До того его было жалко – слов нет. Вот ведь какую муку несет в себе человек, а не гнется, не ломается.
И монахиня поймала себя на том, что ей очень хочется прижать русую голову страдальца к груди, погладить измученное чело, стряхнуть слезы с ресниц.
Да полно, испугалась вдруг она, жалость ли это? А если нет?
Если быть с собой до конца откровенной, совсем начистоту, из-за чего она так легко согласилась ехать с Долининым в Строгановку? Только ли в расследовании и защите Митрофания дело?
Нет, матушка, понравился тебе петербургский мастер сыска, уличила себя инокиня. А еще ты, грешница, почувствовала, что и сама ему нравишься. Вот и захотелось побыть с ним рядом. Или не так?
Так, повесила голову Пелагия, истинно так.
Вспомнила, как стиснулось сердце, когда он сказал ей невозможные слова – про то, что другой такой на свете нет, и не будь она монашка...
Ах, стыдно! Ах, нехорошо!
И хуже всего то, что страшным своим рассказом про серную кислоту Сергей Сергеевич задел в сердце какую-то струнку. Ничего нет опасней этого – когда в женском сердце, содержащемся в неукоснительной строгости, можно даже сказать, зажатом в ежовой рукавице, вдруг тонко зазвучит некая, казалось бы, давно и навсегда оборванная струнка...
Перепугалась черница так, что зашептала молитву об избавлении от искушения.
Испуг породил решительность.
Пелагия поднялась на крыльцо, вошла в сени и постучала в дверь горницы. Подождала несколько времени, чтобы Сергей Сергеевич успел распрямиться, стереть слезы, и переступила порог.
Долинин поднялся ей навстречу. Совладать с лицом не сумел – смотрел на инокиню с изумлением и чуть ли не страхом, словно был застигнут на месте преступления. Это лишний раз убедило ее в правильности решения.
– Вы вот что, – объявила Пелагия. – Вы не ждите меня. Возвращайтесь, нынче же. Что вам тут маяться? Вижу, вы даже спать не можете. Я останусь в Строгановке на денек-другой. Раз уж, благодаря вам, оказалась в этой глуши, займусь своим прямым делом. Я как-никак школьная начальница. Осмотрюсь, поговорю с крестьянами, со старостой. Может, отдадут мне девочек, какие поменьше, на обучение. Что им здесь в невежестве расти?
Подумалось: а ведь верно, и непременно нужно будет Дурку забрать, а бабушку ее можно пристроить в монастырскую больницу.
Была уверена, что Долинин станет отговаривать, даже горячиться.
Однако следователь смотрел на нее молча, не произносил ни слова.
Неужто понял истинную причину, ужаснулась Пелагия. Наверняка догадался – ведь человек он умный, тонкий.
Отвела глаза, а может быть, даже и покраснела. Во всяком случае, щекам стало горячо.
Сергей Сергеевич сухо, через силу вымолвил:
– Что ж... Может, так и лучше... – И закашлялся.
– Это ничего, – тихо, ласково сказала ему Пелагия. – Ничего...
Никаких других слов позволить себе не могла, да и этих бы не следовало. То есть в самих словах, совершенно невнятных, предосудительности не заключалось, но тон, которыми они выговорились, конечно, был непозволителен.
Долинин от этого тона дернулся, глаза блеснули злобой, чуть ли не ненавистью.
Буркнул:
– Ну, прощайте, прощайте.
Отвернулся.
Крикнул на подчиненных:
– Что разлеглись, мать вашу! Подъем!
Это он нарочно, про мать-то, поняла Пелагия. Чтоб поскорее ушла.
Странный человек. Трудно такому на свете жить. И с ним, должно быть, тоже трудно.
Поклонилась следователю в сердитую спину, вышла.
Ночевать решила на общинном дворе, в сарае. Там было не так душно, как в избе, да и, надо надеяться, без тараканов.
Поднялась по приставной лесенке на чердак, поворошила слежавшееся сено. Легла. Укрылась развернутым пледом. Велела себе уснуть.
Что проспит, не боялась.
Сарай был избран для ночлега еще и потому, что в нижнем его ярусе квохтали куры. Попрыгивал там и бойкий петушок, судя по масти из потомков того самого, пещерного. Этот будильник проспать не даст: первым, послеполуночным криком разбудит, даст время и умыться, и собраться с мыслями. А по второму кукареканью нужно будет поспешать к мельнице, на встречу с Дуркой.
Было слышно, как во дворе запрягают и укладывают поклажу долининские подчиненные.
Пелагия повздыхала, слыша нервные, отрывистые приказания Сергея Сергеевича. Зазвякала сбруя, заскрипели колеса. Экспедиция тронулась в обратный путь.
Пелагия повздыхала еще немного и уснула.
И приснился ей страшный, греховный сон.
Страшные сны она, конечно, видела и прежде. Случались и греховные – редко какой монашке не снится стыдное. Владыка разъяснял, что таких снов совеститься нечего и даже запрещал в них на исповеди каяться, потому что ерунда и химера. Нет в том греха, даже совсем наоборот. Если инок или инокиня в часы бодрствования гонят от себя плотского беса, тот затаивается до сонного времени, когда у человека ослабнет воля, и тогда уж лезет из подпола в душу, ночным мышонком.
Но чтобы сон был одновременно и жуткий, и стыдный – такого с Пелагией прежде не бывало.
Что самое поразительное, приснился ей вовсе не Сергей Сергеевич.
Увидела Пелагия мертвого крестьянина Шелухина – таким, каким он сидел, привязанный к стулу. Вроде бы совсем как живой, а на самом деле мертвый. Глаза открыты и даже поблескивают, но это от нитроглицерина. И открыты они, помнит Пелагия, потому что веки на вате держатся.
Присмотрелась она к покойнику и вдруг замечает: будто бы не Шелухин это? У того губы были бледно-лиловые и тонкие, а у этого сочные, ярко-красные. И глаза не совсем такие – глубже утопленные, колючие.
Точно не Шелухин, определила спящая. Похож, да не он. Мануил это, больше некому. И стоило ей про личность мертвеца догадаться, как тот вдруг зашевелился, перестал покойником прикидываться.
Сначала моргнул, но не враз обоими глазами, а по очереди – одним, потом другим, будто дважды подмигнул. Потом медленно облизнул свои красные губы еще более ярким влажным языком. Вроде ничего особенного – подумаешь, облизнулся человек, но ничего страшнее Пелагия в жизни не видывала и застонала во сне, заметалась головой по сену.
Мануил же раскрыл глазищи широко-широко, стал манить сестру желтым пальцем. И шепчет:
– Поди-ка, поди.
Ей бы бежать со всех ног, но странная сила качнула вперед, потянула к сидящему.
Твердая, грубая ладонь погладила обезволевшую Пелагию по щеке, по шее. Было и сладостно, и стыдно.
– Невестюшка моя, любенькая, – протянул Мануил, выговаривая слова на строгановский лад.
Мужская рука стала гладить Пелагию по груди. «Христом-Богом...» – взмолилась черница. Палец пророка нащупал наперсную цепочку, легко оборвал, отшвырнул крест в угол.
Тут, Мануил хихикнул, затряс бородой и, потешаясь, передразнил:
– Христом-Бооогом... У, курочка моя. Ко-ко-ко, ко-ко-ко. – Да как заорет во всю глотку. – КУККА-РЕ-КУУУУ!!!
Пелагия, подавившись воплем, вскинулась.
Внизу истошно голосил петух.
О, Господи!
Стало тихо
В темноте зашуршало, зацокало. Это крикун хлопал крыльями, щелкал по перекладинам когтями – карабкался к Пелагии знакомиться.
– Ну здравствуй, здравствуй, – сказала монашка посетителю, который разглядывал ее, склонив хохластую голову на сторону.
– Ко-ко, – оценивающе молвил петушок.
Кажется, Пелагия ему понравилась. Он подошел ближе, бесцеремонно тюкнул клювом в обтянутое черным сукном колено.
– И ты туда же, – упрекнула его сестра.
В тусклом свете луны, просачивавшемся сквозь дырявую крышу, разглядеть пернатого в деталях было трудно. Да и что его разглядывать? Петух как петух.
– Ах ты, Петя-Петушок, масляна головушка, шелкова бородушка, – слегка дернула его за мясистую бородку инокиня.
Петух отскочил, но недалеко.
– Когда во второй раз кричать будешь? Скоро? – спросила сестра.
Не ответил.
Она спустилась во двор, к колодцу. Ополоснула лицо, расчесала волосы – благо стесняться некого.
Все небо покрылось звездами. Пелагия как взглянула вверх, так и застыла.
Петушок был тут как тут. Вскочил на колодезный сруб, тоже задрал голову. Может, ему показалось, что по небу рассыпано золотистое пшено. Он перескочил повыше, на колодезный ворот, вытянул шею, но до зернышек все равно не достал. Сердито заквохтал и снова:
– Куккарекууу!!!
Чем привел Пелагию в недоумение. В каком это смысле он кукарекал? По своим петушьим часам или просто так, от досады? Можно этот крик засчитать как «навтора» или нельзя?
Но в других дворах тоже закричали кочеты. Значит, пора.
Пока пересекала луг, луна зашла. Сделалось совсем темно, как и положено перед рассветом.
Тропинка еле серела во мраке, а каждый шаг отдавался гулом. Сначала монахине даже показалось, что сзади кто-то идет, но потом сообразила – эхо. Она и не знала, что эхо бывает на открытом пространстве. Может быть, от особенной прозрачности воздуха?
Посередине луга обнаружилось, что петух увязался за своей новой знакомой. Прискакивал сзади, похлопывал крыльями. «Ах, какой отчаянный, – пожурила его монашка. – Вертопрах! Бросил и семейство, и жилище ради первой же юбки».
Пошикала на него, помахала руками: иди, мол, возвращайся. Но Петя-Петушок не послушался. Ладно, решила она, пускай себе. Захочет – дорогу найдет.
Дурка ждала у мельницы.
– Вот, видишь, я с кавалером, – сказала ей Пелагия. – Привязался. Гнала его, гнала...
– Глянулась ты яму. Таперь не отстанет. Они, красные, жуть какие цепучие. Ну чаво, пойдем на Камень иль как?
– Пойдем.
Лучше бы, конечно, наведаться туда днем, подумала Пелагия. Но днем могут заметить, а это ни к чему. Какая разница, день или ночь – все равно в пещере темно.
– Карасиновая? – уважительно кивнула девочка на лампу, что несла в руке монахиня.
– Да, на керосине. В городе сейчас все такие. А на улицах газовые фонари. Я тебе обязательно покажу.
Через речку перебрались по камням: впереди Дурка, Пелагия за ней, подняв рукой подол. Петушок прыгал сзади.
Потом довольно долго шли кустарником – пожалуй, с версту. А там начались и утесы.
Девочка шла быстро, уверенно. Монахиня еле за ней поспевала.
И опять, как в Лесу, у Пелагии возникло ощущение, что ночной мир на нее смотрит, причем не спереди, в глаза, а по-воровски – в спину.
Даже оглянулась и, конечно, заметила сзади шевеление каких-то теней, но испугаться себе не позволила. Если ночных теней пугаться, то как же в пещеру лезть? Вот где будет по-настоящему страшно.
Еще, может, и не полезу, дрогнула Пелагия. Посмотрю, где она, и довольно.
«А зачем смотреть? – спросила она себя. – На что тебе вообще понадобилась эта пещера?»
Не нашлась, что ответить, потому что никакого рационального ответа не было. И все же знала, пускай и не понимая резона, что взглянуть на место, где Дурка обнаружила пророка Мануила, нужно.Сергей Сергеевич, раз нерационально, не стал бы. Но ведь он мужчина, они устроены по-другому.
– Вон Чертов Камень, – остановилась девочка, показывая пальцем на темный горб, отвесно поднимавшийся кверху. – Нето повернем?
– Веди к пещере, – велела Пелагия и стиснула зубы, чтоб не заклацали.
Место и вправду было недоброе. Тут и днем, наверное, брала жуть – от тесно сдвинувшихся скал, от абсолютной, звенящей тишины. Ночью же и подавно.
Но Дурка, кажется, совсем не боялась. Должно быть, воспоминание о Мануиле окрашивало для нее этот зловещий ландшафт в иные, вовсе не страшные цвета.
– В череву часто наведываешься? – спросила Пелагия.
– Нутрь ни разочка не лазала. А к Чертову Камню бегаю.
– Почему же внутрь не идешь?
Девочка дернула плечом:
– Так.
Не захотела объяснить.
Петя-Петушок, кажется, тоже чувствовал себя отлично. Вскочил на большой камень, бодро растопырил крылья.
«Выходит, тут одна я трусиха?» – упрекнула себя Пелагия и попросила:
– Ну, где? Показывай.
Вход в пещеру оказался в заросшей кустами расщелине, которая вонзалась в скалу узким клином.
– Вона, – показала Дурка, раздвигая ветки.
Сквозь предрассветные сумерки чернело узкое отверстие. Высотой аршина полтора – чтоб войти, нужно согнуться.
– Полезешь? – уважительно спросила Дурка.
Петух прошмыгнул у ней между ног. С любопытством посмотрел на дыру, скакнул вперед и исчез.
– Конечно, полезу. А ты?
– Не, мне не можно.
– Здесь подождешь?
Дурка помотала головой:
– Бегти надо. Федюшка-пастух скоро стадо погонит. Да ты, тетенька, не робей. Толь далеко не уходи. Кто ее знает, череву-то... Обратно в деревню пойдешь – тропки держись. Ну, пакедочки.
Развернулась и помчалась назад, только белые икры засверкали.
Пелагия перекрестилась, вытянула вперед руку с фонарем. Полезла.
Дурка бежала легко, воздушно, и казалось ей, что она не бежит, а летит над белесой рассветной дымкой, что стелилась по-над землей. Даже руки в стороны раскинула, как птица-журавль.
Чтоб поспеть к выгону, нужно бы еще и быстрей припустить, не то настегает Федюшка по сидельному месту.
«Ничаво, ничаво», – шептала Дурка, несясь меж утесов. Так ловчей бежалось, если повторять: ни-ча-во, ни-ча-во.
Уже прикидывала: до кустарника добежит, а там задохнется, придется до речки шагом. Там можно сызнова запустить, по лугу-то. Поспеть бы только – вон уж почти совсем светло.
Но задохнуться она не успела, потому что убежала от Чертова Камня недалеко, шагов на полста.
Там, где тропинка прижималась к самому обрыву, от скалы навстречу бегущей качнулась большая черная тень.
– Аману... – хотела позвать Дурка, но не договорила.
Что-то хищно свистнуло, рассекая воздух.
Раздался короткий костяной хруст.
И стало тихо.
В пещере
Надо сказать, что, решившись проникнуть в черное отверстие, сестра Пелагия преодолела не обычную женскую опасливость, которой в чернице, пожалуй, почти и не было (во всяком случае, любопытство неизменно одерживало в ней решительную победу над робостью, даже и в ситуациях порискованней нынешней). Нет, здесь имелась причина более серьезная.
Дело в том, что с некоторых пор, после одной истории, приключившейся в неотдаленном прошлом, у инокини имелись особые счеты с пещерами. И теперь, от одного ощущения, что со всех сторон теснятся невидимые во мраке каменные стены, а сверху напирает невысокий свод, в душе у Пелагии вострепетал сырой, нерассуждающий ужас.
Протянув руку над головой и не нащупав потолка, она осторожно выпрямилась и заставила себя успокоиться.
Ну что страшного могло быть в этой «череве»? Хищный зверь?
Непохоже. Если бы медведь или волчья стая облюбовали пещеру себе под жилище, чувствовался бы острый запах.
Летучие мыши?
Для них здесь слишком тесно – как следует крыльями не размахнешься.
В общем, кое-как уговорила себя, успокоила.
Зажгла лампу, посветила во все стороны.
Про тесноту она, оказывается, ошиблась: за узким лазом пещера раздавалась и вширь, и вверх, так что стен было не видно – тонули в темноте.
На самом краю освещенного круга мелькнула низенькая тень. Это Петя-Петушок исследовал территорию.
«Зачем я сюда все-таки пришла? – спросила себя Пелагия, – Что за надобность?»
Прошла немного вперед, увидела, что в дальнем углу стены и потолок снова сужаются, но пещера там не кончалась, только, кажется, забирала кверху.
Сестра поставила лампу на пол, сама села на выступ.
Стала думать, отчего это судьба ее все в какие-то пещеры загоняет?
Что это вообще за притча такая – подземные ниши? К чему они Господу? В каком смысле задуманы? А что смысл в том есть, и смысл особенный, ясно всякому, кто хоть раз в жизни забредал в мало-мальски глубокую, уединенную пещеру.
Вот ведь и в Писании сколько про них изложено.
Древние израильтяне и жили в пещерах, и хоронили в них своих мертвых. Пророку Илии из пещеры был Голос, вопросивший: «Что ты здесь, Илия?». А может ли быть случайно, что именно в пещере воскрес Христос?
Природный ход в земные недра – разве не лаз это из одного мира в другой? Из света во тьму, от видимого к невидимому? Пещера подобна жерлу вулкана, что ведет от поверхности в истинную суть Земли, планеты, которая, как утверждает наука, на девяносто девять сотых состоит из пылающего огня. Так и летим сквозь мрак на огненном шаре, едва прикрытом тоненькой кожицей тверди. Над нами гибель, и под нами тоже.
То ли от философических мыслей, то ли еще от чего, но только почудилось Пелагии» будто мрак вокруг словно бы колышется, плывет. И заклонило в сон, и послышался тихий, неясный звон, которому взяться здесь было совершенно неоткуда.
А потом случилось вот что.
Из темноты, с той стороны, где находился вход, раздался треск, грохот. Сначала смутный, потом все громче и громче.
Пелагия кинулась на шум.
В лаз проползла на четвереньках, с бешено бьющимся сердцем.
И уперлась руками в сплошную каменную осыпь.
Обвал!
Попробовала разобрать камни – какой там! Придавленные сверху, они встали насмерть.
Пелагия отчаянно, ломая ногти, попыталась расшатать, хоть немножко сдвинуть груду, но ничего не вышло. Наоборот, снаружи донесся гул нового обвала. Куча чуть шелохнулась навстречу монашке, приняв на себя еще большую тяжесть.
Спокойно, обойдемся без бабьей истерики, приказала себя Пелагия, вытирая рукавом лоб, весь покрытый капельками холодного пота.
Завтра, то есть уже сегодня, Дурка увидит, что я не вернулась, прибежит сюда и поймет, в чем дело. Если сама не сможет разгрести, приведет крестьян. Ради такого случая обретет дар речи.
Несколько часов потерпеть. Много – день. Плохо, конечно, но не смертельно.
Монахиня перебралась обратно, на просторное место. Заставила себя сесть. Фитилек укрутила, чтобы керосин расходовался экономней.
Посидела-посидела, и вдруг сердце стиснулось от скверной мысли.
«Вот ты гадала, что тебя в эту пещеру тянет? А может, потому и тянуло, что именно здесь тебе предписано встретиться со своей судьбой? Что, если тебя привел сюда инстинкт – только инстинкт не жизни, а смерти?»
От этакой догадки Пелагия вскочила – очень уж испугалась. Какая будет злая насмешка рока, если она здесь погибнет! Вот уж воистину: любопытной Варваре нос оторвали! И, главное, глупо-то как, безо всякой нужды и смысла!
Нужно что-то делать, сказала себе монахиня. Иначе тут с ума сойдешь. Что они ко мне привязались, эти проклятые пещеры? За что они меня мучают, чем я им не угодила?
Схватила лампу, полезла вверх по гравию, по камешкам. Вдруг сыщется другой выход?
Пещера сузилась настолько, что карабкаться приходилось на локтях и коленках. Проползешь шаг-другой, потом тянешь за собой лампу, ставишь ее повыше. Снова ползешь. Бедная монашка старалась не думать о том, что тут вполне могут быть змеи. Они как раз просыпаются после зимней спячки. Апрель, у гадюк самый яд. Господи, Господи...
Через некоторое время ход сделался шире и вывел в новый зал – много больше нижнего.
Пелагия обследовала полость. Сходила и вправо, и влево. Обнаружила целых девять не то лазов, не то просто трещин. Какой путь выбрать?
А петушок, оказывается, тоже успел перебраться сюда. И нисколько не утратил бодрости – бегал взад-вперед, постукивая коготками.
Тут сестра вспомнила, как Дурка говорила, будто петух всегда найдет выход из лабиринта.
Присела перед кочетом на корточки, стала уговаривать:
– Петя, Петенька, выведи меня отсюда. Я тебе целый мешок пшена добуду. А, Петенька?
Он смотрел на нее, повернувшись профилем, прислушивался к ласковому голосу. Идти никуда не шел.
Тогда, потеряв терпение, Пелагия взяла его и стала поочередно подносить к каждому из лазов. Принесет, поставит и смотрит – пойдет или нет.
В первую трещину петух шмыгнул было, но тут же выскочил обратно.
Во вторую и клюв совать не стал.
Зато в третью юркнул так проворно, что сразу исчез из вида.
Пелагия подхватила лампу, протиснулась следом.
Эта нора была еще уже той, что вела из первого яруса во второй. В одном месте, похожем на бутылочное горло, Пелагия чуть не застряла. Сама кое-как просунулась, а до лампы потом дотянуться не смогла – та осталась внизу.
Дальше карабкалась в кромешной тьме, нащупывая, за что ухватиться. Вся вымокла и продрогла – по камням стекала холодная вода. Это еще не означало, что наверху есть выход, – вода, как известно, просочится через любую трещину, иногда даже профильтруется через сплошную породу.
Монахиня гнала прочь ужасную мысль: вот сузится ход до такой щелки, что двигаться дальше станет нельзя. Тогда – конец, причем страшный, потому что пятиться в обратном направлении невозможно. Так и застрянешь в этом каменном саване, и никто никогда не сыщет... Зачем только ее понесло за петухом? Лучше сидела бы себе внизу, ждала помощи!
Куда он делся, погубитель? Ему-то что, он где угодно пролезет.
Пелагия обессиленно прижалась лбом к мокрому камню, закрыла глаза.
Тут-то Петя себя и объявил, заорал во все петушье горло – где-то наверху, близко:
– КУККАРЕКУУУУ!!!!!
Должно быть, подошло ему время в третий и последний раз кричать.
Сестра открыла глаза, задрала голову – и увидела слабо брезжущий свет!
Ахнув, рванулась кверху.
Небо, ей-богу, небо! Оно нестерпимо сияло, резало привыкшие к темноте глаза.
Пелагия по пояс высунулась из норы, вдохнула полной грудью блаженный запах свободы. Рядом, на камне, как ни в чем не бывало, сидел Петя, на монашку внимания не обращал – деловито выклевывал себе что-то из-под красного крыла.
Свет был не таким ярким, как показалось сестре из мрака. Оказывается, только-только рассвело, солнце еще не поднялось над горизонтом.
Странно – инокиня могла бы поклясться, что пробыла в подземном заточении несколько часов, а по цвету неба выходило, что самое большее полчаса. Какая все-таки загадочная материя – время. То застынет на месте, то несется сломя голову, и никогда одна минута не равна другой, час часу, день дню, год году.
Однако следовало вычислить, куда же это она выбралась?
Тут обнаружилось, что полностью вылезти из дыры не получится – некуда. Щель, из которой выглядывала сестра, располагалась в отвесной стене: ни подняться, ни спуститься. Петушок еще как-то пристроился в каменной зазубрине, но человек ведь не птица.
Получалось, что радость была преждевременной.
Перегнувшись, Пелагия с трепетом увидела, что книзу обрыв не просто отвесный, а еще и вогнутый. По такому нипочем не слезешь.
Спрыгнуть нельзя и подавно. Высота – саженей десять, внизу острые камни.
Как же отсюда выбраться? Не назад же в пещеру лезть. Дрожь пробирала от одной мысли. И потом, что толку возвращаться – выход-то засыпан.
Приглядевшись получше, монахиня поняла, что находится как раз над тем местом, где входила в пещеру. Узнала и клинообразную выемку, и кусты. Отлично просматривался и сам лаз, причем вовсе не засыпанный, а совершенно свободный.
Не поверила своим глазам.
Как это может быть?
Неужто за те нескончаемые полчаса, в течение которых она лезла вверх, кто-то успел разобрать завал? Но тогда вокруг были бы разбросаны камни. Что-то не видно.
Чудеса, да и только.
Снизу донесся грохот – сначала негромкий, но постепенно набирающий силу.
Снова обвал?
Монахиня высунулась дальше и вдруг увидела на откосе, выше лаза, человека, который вел себя очень странно.
В руках у него была здоровенная дубина. Человек использовал ее как рычаг: расшатывал большущую каменную глыбу, из-под которой вниз сыпались камни поменьше.
Вот глыба покачнулась, ухнула вниз.
Затрещали ветки – следом за валуном на кусты обрушился целый камнепад, и лаз оказался полностью засыпан.
Пелагия смотрела как завороженная. Даже не на сам обвал, а на человека, что его устроил.
Вернее, на голову злоумышленника.
Лица сверху было не видно – закрывала мохнатая шапка со свисающим волчьим хвостом. Вот на этот-то хвост монахиня и уставилась.
Это был он, точно он! Струков хвост, что помахивал в вечерней чаще с еловой ветки!
Больше всего Пелагия испугалась, что спит и видит сон. Что сомлела в закупоренной пещере, впала в забытье. Сейчас очнется и окажется, что ничего этого нет – ни света, ни чистого воздуха, лишь каменный мешок.
Зажмурилась до боли в веках, закрыла руками уши.
Ничего не видеть, ничего не слышать!
Когда от натуги зазвенело в ушах, убрала ладони, открыла глаза.
Нет, не сон.
Небо, розовые блики восхода, каменная стена.
Только призрак в волчьей шапке исчез. Но дело его рук осталось – наглухо заваленный вход в пещеру.
Или привиделось?
Долго после этого Пелагия просто молилась, не пытаясь вникнуть в недоступное разуму. Хорошо все-таки быть монахиней: когда не знаешь, как быть и что думать, можно взять и помолиться – молений-то всяких выучила много. И от лукавого наваждения, и от сумеречных напастей, и от душевного затмения.
Не скоро – может, через час или два, когда уже вовсю светило солнце, – умирилась, стала размышлять, как выбираться.
И придумала. Петя-Петушок подсказал.
Ему, видно, наскучило торчать на крошечном выступе, как на жердочке.
Поквохтал немножко, да и сиганул с кручи.
Отчаянно полоща куцыми переливчатыми крылышками, спланировал вниз. Там встряхнулся и, не оглядываясь на брошеную подругу по несчастью, побежал по тропинке.
Пелагия вышла из паралича.
Сукно-то крепкое, сказала она себе, ощупывая подрясник. Если на полосы разодрать да связать, получится веревка, и длинная. Конец можно вокруг вот этого каменного пальца обвязать.
До самого низа, конечно, не хватит, но это и не нужно. Спуститься бы до откоса, где Волчий Хвост стоял, это отсюда саженей пять, а дальше уже более или менее полого. Ну а коли веревка окажется коротка – так еще ведь чулки есть, нитяные.
Ничего, ничего, как-нибудь.
V. МОЗГИ ФРИ
Ахиллесов каблук
Окружной прокурор Матвей Бенционович Бердичевский имел некоторую склонность к патетическим оборотам речи – обзавелся такой привычкой, выступая перед присяжными в суде. И в повседневной жизни, бывало, станет говорить обычным языком, а после увлечется или расчувствуется, и тут же начнут вплетаться всякие «доколе» и «воистину».
Вот и теперь Бердичевский начал деловито, с уместной для серьезного разговора в узком кругу суховатостью, но не удержался в аналитических рамках, сорвался в тон дифирамбический.
– И еще вот что, – сказал он, переведя взгляд с Митрофания на Пелагию. – У меня, если позволите, воистину нет слов, чтобы выразить все мое восхищение вашим присутствием духа и обстоятельностью, дорогая сестра! После столь ужасного потрясения вы не впали в нервное расстройство, как сделала бы любая особа слабого пола, да и девять из десяти мужчин! Вы произвели самое настоящее, квалифицированнейшее дознание по свежим следам! И притом совсем одна, без господина Долинина! Я полон преклонения перед вашей доблестью!
Смутившаяся от такого обилия восклицательных знаков и в особенности от «преклонения» монахиня проговорила, как бы оправдываясь:
– Как же было не разобраться, если девочка не пришла коров выгонять? Нужно было найти, куда она подевалась. Вы недосказали, что пятна-то?
Матвей Бенционович печально вздохнул и ответил, совсем чуть-чуть бравируя научной терминологией:
– В лаборатории исследовали мешочек с грунтом, собранным вами на том месте. Вам правильно показалось, это и в самом деле кровь, что подтверждает реакция Ван-Деена на воздействие настойкой гваяковой смолы. А серодиагностическое исследование по методе Уленгута выявило, что кровь, увы, человеческая.
– Ах, беда какая! – вскричала монашка, всплескивая руками. – Этого-то я и боялась! Убил бедняжку и спрятал в какой-нибудь щели, да камнями засыпал! Это она из-за меня жизни лишилась. Что же теперь с ее «бабаней» будет?
И залилась слезами, то есть на сей раз поступила именно так, как полагается вышепомянутым особам слабого пола.
Митрофаний насупился – плохо выносил женские слезы, особенно если они лились не попусту, а по основательной причине, как сейчас.
– За старушкой я пошлю, пускай в нашу богадельню поместят. Но каков злодей твой Волчий Хвост! Мало ему было тебя, инокиню, губить, еще и ребенка истребил. Чем ему девочка-то помешала?
– Чтобы не рассказала в деревне, куда она отвела монахиню, – пояснил прокурор, комкая в руке чистый платок – хотел предложить Пелагии на предмет утирания влаги, но не осмеливался.
Сестра обошлась и собственным платочком. Промокнула глаза, высморкалась. Спросила гнусавым голосом:
– А след что? Хорошо ль я его свела?
Обрадованный тем, что беседа возвращается в неэмоциональное русло, Матвей Бенционович поспешно молвил:
– Мой эксперт говорит, что отпечаток сапога срисован почти идеально. И как это вы не побоялись – одна, на месте предполагаемого убийства!
– Еще как боялась. – Пелагия всхлипнула, подавляя рыдание. – А что было делать? Как вернулась я от Чертова Камня в Строгановку и узнала, что Дурка к выгону скотины не появлялась, мне плохо сделалось. Кинулась к старосте, говорю: искать надо. Он людей не дает, мол, в работе все, да и невелика потеря – Дурка какая-то. Пошла обратно к Чертову Камню одна, той же дорогой. Страшно, конечно, было, но рассудила: что злодею там сидеть? Он ведь уверен, что свое дело исполнил, меня в пещере запер. Прошла до самого Камня, глядела по сторонам. А на обратном пути уже только вниз смотрела, под ноги. Ну и нашла на тропинке, под обрывом, след на земле: полоса, будто волочили что-то, темные пятна и отпечаток сапога. Деревенские сапог не носят, только лапти. Я после специально справилась. На всю Строгановку есть одна пара, у старосты. Он надевает на престольные праздники и когда в волость ездит. Но на тех подошва совсем другая.
– Да, подошва необычная, – кивнул Бердичевекий. – И это, позволю себе заметить, наша единственная зацепка. Шапка с волчьим хвостом – не примета. Зытяки такие испокон века делают. Можно купить и у нас в Заволжске на базаре, за пять рублей, А вот сапог – дело другое. Подметка, если так можно выразиться, интересная, с узором из гвоздиков. Я провел у себя в управлении совещание, с привлечением лучших полицейских чиновников и следователей. Вот, извольте. – Он достал книжечку, зачитал. – «Носок обрубленный, четырехугольный. Окован двадцатью четырьмя гвоздями в виде трех ромбиков, рант десятимиллиметровый, подковка двойная. Каблук квадратный, средневысокий. Вывод: работа не фабричная, а высококлассного мастера, обладающего собственным почерком». Это хорошо, ибо делает поиск возможным, – пояснил прокурор. – Плохо другое: у нас в губернии такого мастера нет. Что еще можно, так сказать, вытянуть из отпечатка? По формуле де Парвиля, установившего, что рост человека в 6,876 раза больше длины его ступни, получаем, с четырех-пятимиллиметровой поправкой на обувь, что искомый субъект имеет рост между 1,78 и 1,84 метра, то есть весьма высок.
– Сколько это по-нашему? – поморщился преосвященный, неодобрительно относившийся к новомодной тенденции переводить все с русских мер на метры. – Ладно, Бог с ними, с сантиметрами. Скажи-ка лучше, Матюша, как ты все это понимаешь?
Версия у Бердичевского имелась, хоть и довольно расплывчатая.
– Преступник (назову его, вслед за вашим преосвященством, «Волчий Хвост») следовал за сестрой Пелагией от самого Заволжска. От соблазна предположить, что Волчий Хвост и Стеклянный Глаз – одно и то же лицо, пока, за нехваткой доказательств, воздержусь. Однако не вызывает сомнений, что причину столь назойливого внимания злоумышленника к дорогой нам особе следует усматривать не в чем ином, как в умерщвлении предполагаемого пророка.
– Матвей, – попросил преосвященный, – ты говори проще, ведь не в суде выступаешь.
Прокурор сбился, но не более чем на пол-минутки.
– Вообще-то я уверен, что это именно Стеклянный Глаз, – сказал он уже без важности, попросту. – Узнал каким-то образом, что это Пелагия навела на него подозрение, и решил расквитаться. Если так – то это человек психически ненормальный. Я, знаете ли, недавно прочитал немецкое исследование на тему маниакально-обсессионной злопамятности. Все сходится. Такие субъекты живут в постоянном ощущении всемирного заговора, направленного персонально против них, постоянно выискивают виновников и иногда мстят им самым жестоким образом. Это же надо – преследовать женщину несколько сотен верст, чуть не до самого Урала! Через лес, перед этим по реке. Следом на лодке, что ли, плыл? А способ убийства-то какой изуверский придумал! И девочку не пожалел. Извините, но это явный маниак.
– Что ж он меня в лесу не убил? – спросила Пелагия. – Проще простого было бы.
– Я же говорю: злобная обсессия. «Проще простого» вас убить ему было неинтересно. Осмелюсь утверждать, что эти патологические личности любят разыгрывать спектакли – вроде замуровывания заживо в пещере. Да и потом, должно быть, хотел растянуть удовольствие, покуражиться. Зря, что ли, он на вас из-за елки рычал? Игрался, как кошка с мышкой.
Монахиня кивнула, признавая резонность прокуроровых умозаключений.
– Мне еще вот что не дает покоя. Все время об этом думаю. Где я была, когда произошел обвал: внизу, в пещере, или наверху? Как я могла видеть сверху то, что случилось раньше?
Митрофаний с Бердичевским переглянулись. Они между собой уже обсуждали эту странную подробность монашкиного рассказа и пришли к некоему выводу, который преосвященный сейчас и попробовал донести до Пелагии – разумеется, самым деликатным образом.
– Я полагаю, дочь моя, что у тебя от потрясения несколько спутались реальность и мнимость. Не могло ли случиться, что Волчий Хвост возник в твоем воображении после случая в лесу, столь сильно тебя напугавшего? Хорошо-хорошо, – поспешно сказал Митрофаний, видя, как вскинулась при этих словах Пелагия. – Очень возможно, что дело вовсе не в тебе, а во внешних причинах. Ты сама говорила, что в пещере какой-то особенный воздух, от которого слегка кружится голова и звенит в ушах. Может быть, там выделяется какой-нибудь природный газ, нагоняющий дурман, – я читал, такое бывает. Есть неизвестные науке субстанции и эманации, действие которых сокрыто от человеческих органов чувств. Помнишь, как на Ханаане-то?
Пелагия очень хорошо помнила. И передернулась.
– Мы будем действовать вот как, – бодро произнес Матвей Бенционович, возвращая разговор от химер к реальности. – Пускай преступник думает, что все ему удалось: монахиню истребил, единственную свидетельницу убрал. А мы тем временем его ухватим за этот ахиллесов каблук. – Он постучал пальцем по рисунку. – Я послал запрос в Москву, Петербург и Киев, в кабинеты научно-судебной экспертизы. Там хорошие картотеки, самого разного профиля. Глядишь, и выйдем на сапожного мастера. А через сапожника, Бог даст, и убийцу найдем.
– На Бога-то сильно не рассчитывай, – остудил оптимизм духовного сына Митрофаний. – У него и без каблуков забот хватает.
«Tractatus de speluncis»
И возобновилась обыкновенная, повседневная жизнь, в которой сестре Пелагии стало не до таинственных пещер.
Обязанности начальницы епархиального училища были хлопотны и чреваты разного рода турбуленциями. По правде говоря, большая часть сих потрясений от самой начальницы и исходила.
Приняв послушание возглавить школу, в которой прежде служила учительницей, Пелагия затеяла переворот в программе, отчего подвергалась нападкам и сверху, и снизу.
Сверху – это от владыки Митрофания, который нововведениям не препятствовал, но и отнюдь их не одобрял, отпускал едкие замечания, да еще сулил неприятности от Святейшего Синода, грозясь, что тогда-то уж покрывать смутьяншу не станет, выдаст на суд и расправу. «Станете, ваше преосвященство, станете, никуда не денетесь», – мысленно отвечала ему на это Пелагия, хоть внешне и демонстрировала полную смиренность.
Куда больше допекала критика снизу. То есть, сестры-учительницы монашеского звания, привычные к покорности, оспаривать волю начальницы и не помышляли, но вот вольнонаемная преподавательница Марья Викентьевна Свеколкина, недавно закончившая в Москве педагогические курсы и пылавшая жаждой просветительства, портила Пелагии немало крови.
Тут нужно объяснить, в чем заключалась суть реформы.
Школа была четырехгодичная, многому за такой срок учениц не обучишь. Вот Пелагия и постановила оставить всего четыре предмета, без которых, по ее разумению, обойтись никак невозможно. Лучше меньше, да лучше – таков был лозунг начальницы. Скрепя сердце она изгнала из программы естественные науки и географию как необязательные для девочек из бедных семей – все равно, окончив учение, начисто позабудут про законы физики да чужеземные столицы. Главным предметом сделала домоводство, отведя под него половину уроков, и еще оставила гимнастику, литературу и закон Божий, он же пение.
Объясняла Пелагия свой выбор так.
Ведение домашнего хозяйства – самое важное знание для будущих жен и матерей. Гимнастика (включавшая летом плавание, а в холодное время года – экзерциции в зале и закаливающее обливание) потребна для здоровья и складной фигуры. Литература необходима для развития благородных чувств и правильной речи. А что до преподавания Божьего закона через пение, то детям постигать Всевышнего проще и доступнее именно через музыку.
В короткое время школьный хор прославился на весь Заволжский край. Сам губернатор фон Гаггенау, бывало, утирал умильную слезу, слушая, как ученицы (каждая в коричневом платьице и белом платочке) выводят ангельскими голосами: «Величит душа моя Господа» или «Сердцу милый».
Курсистке Пелагия доказывала, что если у кого из девочек проявится интерес к дальнейшему учению, то таких можно определять на казенный кошт в городское училище, а уж если очень способная окажется, то и в гимназию. На этот случай в губернской казне имеется особая статья.
Свеколкина доводов не слушала и обзывала начальницу всякими бранными словами, от которых Пелагия иногда плакала: ретроградкой, клерикалкой, обскуранткой и прислужницей мужского деспотизма, который спит и видит запереть женщин в клетку домашнего хозяйства.
В разборе накопившихся за отлучку дел, в баталиях с прогрессисткой миновали три дня. Но даже и в этот суетливый период с Пелагией случалось, что она в самый разгар какого-нибудь занятия вдруг словно забывалась и застывала на месте, о чем-то задумываясь. Потом, конечно, спохватывалась, возвращалась к прерванному делу с удвоенным усердием.
В первый же свободный вечер (было это на четвертый день после возвращения из Строгановки) монахиня отправилась на архиерейское подворье. Она имела дозволение являться туда в любое время и распоряжаться во владычьих покоях, как у себя дома. Вот и воспользовалась.
Преосвященного беспокоить не стала. Знала, что в предпочивальное время он обычно пишет свои «Записки о прожитой жизни». Увлечение это у епископа появилось недавно, и предавался он писательству с самозабвением.
Изложить события из собственного прошлого Митрофаний задумал не от суеславия или самомнения. «Жизнь проходит, – сказал он, – много ли мне осталось? Так и уйдешь, не поделившись накопленным богатством. Ведь единственное настоящее богатство, которое никто у человека не отнимет, – его неповторимый жизненный опыт. Если умеешь складывать слова, большой грех не поделиться с родом человеческим своими мыслями, ошибками, терзаниями и открытиями. Большинству это, наверное, ни к чему будет, но кто-то прочтет и, может, беды избежит, а то и душу спасет». Читать написанное архиерей не давал. Даже секретаря не подпускал, сам перебеливал. Говорил: «Вот помру – тогда прочтете». А что ему, спрашивается, умирать, если крепок, здоров и ясен умом?
Пелагия прошмыгнула в библиотеку, вполголоса поздоровалась с отцом Усердовым, выписывавшим: что-то из богословских книг для будущей проповеди.
Больше всего на свете отец Серафим обожал проповедовать перед паствой. Поучения произносил ученейшие, с множеством цитат, и замечательные по протяженности. Готовился всерьез, подолгу. Беда только, никто не хотел внимать его учености. Узнав, что нынче служить будет Усердов, прихожане почитали за благо отправиться в какую-нибудь другую церковь, и нередко случалось, что бедный отец Серафим ораторствовал перед парой глухих старушек, пришедших в храм понюхать ладана или обогреться.
Митрофаний не мог допустить такого ущемления авторитету богослужения, но и старательного проповедника обижать не хотел, поэтому с недавних пор дозволял ему ораторствовать лишь в архиерейской церкви, на собственном подворье, для келейников и челядинцев, которым деваться все равно было некуда.
Поглядев, как Пелагия прохаживается вдоль книжных шкафов, секретарь учтиво предложил помощь в поиске книг. Монашка поблагодарила, но отказалась. Знала: этот привяжется – не отвяжется, пока все не выспросит. А дело было деликатное, не для усердовского разумения.
Отец Серафим снова заскрипел перышком. Потом, как бы в поисках вдохновения, открыл карманный молитвенник, уставился в него.
Пелагия закусила губу, чтоб не прыснуть. Видела она как-то, по чистой случайности, что это за молитвенник. Там с внутренней стороны в переплет было вставлено зеркальце – очень уж уважал Усердов свою благообразную красоту.
Секретарь посидел-посидел, да и ушел, а сестра все переходила от полки к полке, никак не могла найти искомое – ни среди католической литературы, ни в канонике, ни в агиографии. Посмотрела даже в естественно-научном шкафу – тоже не нашла.
Скрипнула дверь, вошел Митрофаний. Рассеянно кивнул духовной дочери – и к полке. Схватил какой-то томик, зашуршал страницами. Должно быть, понадобилась цитата или проверить что-нибудь. По всему было видно, что владыка сейчас обретается далеко отсюда, где-то в прожитых годах.
Пелагия подошла поближе, увидела, что архиерей листает «Дневники» Валуева.
Покашляла. Не оглянулся.
Тогда уронила со стола на пол «Древнееврейско-русский словарь». Фолиант был в треть пуда весу и шума произвел столько, что Митрофаний чуть не подпрыгнул. Обернулся, захлопал глазами.
– Извините, владыко, – прошелестела монашка, поднимая томище. – Задела рукавом... Но раз уж вы отвлеклись... Не могу одну книгу найти. Помните, после ханаанской истории вы мне говорили, что у вас есть книга о чудесных пещерах, какого-то латинского автора?
– Все недоуменствуешь о своем Чертовом Камне? – догадался преосвященный. – Есть книжка о пещерах. В медиевистике.
Он подошел к большому дубовому шкафу, провел пальцем по корешкам и выдернул ин-октаво в старинном телячьем переплете.
– Только не латинского автора, а немецкого. – Митрофаний рассеянно погладил выцветшее золотое тиснение. – Адальберт Желанный, из младших рейнских мистиков. На, изучай, а я пойду.
И в самом деле вышел, даже не спросил, что именно надеется Пелагия отыскать в средневековом сочинении. Вот что значит писательский зуд.
Сестра, впрочем, и сама толком не знала, что она ищет.
Неуверенно раскрыла том, поморщилась на трудный для беглого просмотра готический шрифт.
Прочла заголовок.
«Tractatus de speluncis» 3
Под ним эпиграф: «Quibus dignus non erat mundus in solitudinibus errantes et montibus et speluncis et in cavernis terrae» 4.
Стала перелистывать хрупкие страницы, кое-где вчитываясь повнимательней.
В прологе и первых главах автор дотошно перечислял все двадцать шесть упоминаний о пещерах в Священном Писании, присовокупляя к каждому эпизоду пространные комментарии и благочестивые размышления. Например, исследуя Первую книгу Царств, Адальберт со средневековым простодушием развернул подробное рассуждение, по какой именно нужде – большой или малой – вошел царь Саул в пещеру, где затаился Давид со своими сторонниками. Ссылаясь на других авторов, а также на собственный опыт, Адальберт убедительно доказывал, что царь мог зайти в пещеру лишь по более основательной из телесных нужд, ибо при отправлении нужды менее значительной человек бывает не столь сосредоточен и не производит «crattoritum et irrantum» 5– а именно они, вне всякого сомнения, помешали венценосцу заметить, как Давид отрезает у него край одежды.
Устав разбирать средневековую латынь, Пелагия уже хотела отложить труд дотошного исследователя. Рассеянно перевернула еще несколько страниц, и взгляд ее упал на название «Kapitulum XXXVIII de Speluncis Peculiaribus tractans» 6.
Начала читать – и уже не могла оторваться.
«А еще есть пещеры, именуемые Особенными, сокрыты они от человека, доколе он жив. Пещеры те соединяют мир плотный с миром бесплотным, и всякая душа проходит чрез них дважды: когда входит в плоть при рождении и когда выходит из плоти после смерти, только неправедные души из пещеры падают вниз, в огненную геенну, а праведные воспаряют в горние сферы. Особенные Пещеры, число же их сто сорок четыре, по милосердию Божию рассеяны по свету равномерно, по одной на тысячу лиг, чтобы путь души к плоти и обратно был не слишком продолжительным, ибо нет ничего мучительней этого перехода.
Ближняя к нашим краям Особенная Пещера находится в Штирской земле, близ горы Эйзенгут, о том говорил отцу приору Блаугартенского аббатства один достойный человек из города Инсбрука, но назвать точное место не мог или не захотел.
Бывает иногда, и не столь редко, что иную душу уже призовет Господь к Своему Суду, но заступится за грешника Милосердная Мать или святой покровитель, и душа возвращается обратно в мир, но остается в ней некое смутное воспоминание о продвижении ее через Особенную Пещеру. Случалось и мне видеть человека, чья душа отрывалась от плоти, но вернулась обратно. То былкнехт, прежде состоявший на службе у ландграфа Гессенского, по имени Готхард из Обервалъда. Этот Готхард упал с коня, ударился головой о камень и был сочтен за мертвого, но назавтра, уже положенный в гроб и отпетый, вдруг открыл глаза и вскоре совершенно выздоровел. Он рассказывал, что его душа, будучи временно разлучена с телом, протискивалась через узкое, темное подземелье. Когда же в конце сей пещеры засиял яркий свет, неведомая сила утянула смятенную душу обратно на землю. Отец приор Блаугартенского аббатства, также присутствовавший при рассказе, спросил Готхарда, не молил ли кто о нем Пресвятую Богородицу или Святого Готхарда Хилъдесхеймского, и оказалось, что все время, пока кнехт лежал мертвый, за его душу беспрестанно молилась жена, которая этого Готхарда сердечно любила.
Видом Особенные Пещеры неотличимы от обыкновенных, и кто случайно забредает в них, если имеет чуткую душу, то слышит тихий небесный звон, а если душой тугоух, то ничего не слышит, однако же испытывает неодолимое желание поскорей уйти и более никогда в это место не возвращаться».
Прочтя про «небесный звон», Пелагия вздрогнула и почувствовала, как по спине пробежали мурашки. Однако главное потрясение было впереди.
«Горе тому, кто окажется в Особенной Пещере в рассветный час, если поблизости закричит красный петух, ибо услышавший этот крик повисает не только душой, но и телом в межмирном пространстве, где нет проистечения времени (in intermundijs ubi поп est aemanacio temporis), и может сгинуть на веки вечные, либо же быть выброшен в другое время и даже в другую Особенную Пещеру.
Уже помянутый достойный человек из Инсбрука рассказывал, как некий торговец домашней птицей, застигнутый непогодой, решил переночевать в такой пещере, не зная, что она Особенная. С ним была клетка, в которой сидели петух и куры. И вошел этот человек в пещеру вечером в канун Дня Вознесения Пресвятой Девы, а вышел тремя месяцами ранее, в день Обретения Святого Креста, причем из совсем другой пещеры, расположенной во владениях короля шотландского Иакова, и добирался до дому, прося подаяния, ровно три месяца, так что вернулся в родные места как раз ко Дню Вознесения Богоматери, и никто ему не верил, что он был в шотландском королевстве, хотя торговец этот слыл человеком честным.
Еще мне приходилось слышать про одного зеландского охотника по имени Pun, который услыхал из подземной норы петушиный крик, понял, что это лисица уволокла петуха, и полез, чтобы добыть лисью шкуру. Вылез самое малое время спустя, но, когда вернулся в деревню, никто его там не признал, потому что отсутствовал он целых двадцать лет.
А один лигурийский купец, вернувшийся из страны Катай, рассказывал благородному господину Клаусу фон Вайлеру, хорошо мне известному (было это в городе Любеке, в харчевне «Под кораблем», в присутствии свидетелей), как китайские люди говорили ему, этому купцу, про одного рыбака из царства Япон, что находится в Море-Океане близ Земли царя-пресвитера Иоанна. Тот рыбак, ловя устриц, вошел на рассвете в морскую пещеру, и тут закричала красная черепаха, которые в стране Япон возвещают наступление дня вместо петухов в наказание за то, что тамошние жители не ведают христианской веры, и рыбак этот уснул на недолгое время, а когда проснулся, то оказалось, что он проспал целых восемьдесят восемь лет, и его не пустили в родную деревню, потому что никто его там не помнил, и он скитался по разным местам, и те китайские люди сами его видели, когда плавали в Япон за золотом, которого в том царстве видимо-невидимо и стоит оно не дороже серебра или даже меди.
А о том, почему крик красного петуха производит на душу такое удивительное действие, мною писано в «Disputacio ypothetica de rubri galli statu preelectu»7 , так что вновь писать об том я не стану, а вместо того перейду к Главе XXXIX, повествующей о том, как изращиватъ в пещерах съедобные грибы».
Надо сказать, что, прочитав про красного петуха, Пелагия вскочила со стула и до конца главы читала стоя – вот в какое пришла волнение. С разбегу принялась читать и про грибы, но вскоре убедилась, что «Особенные Пещеры» там уже не упоминаются. Внимательно пролистала фолиант до самого конца, надеясь обнаружить еще какое-нибудь упоминание о «Предположительном рассуждении», но ничего не нашла.
Тогда в сердцах захлопнула книгу и бросилась в кабинет к преосвященному.
Митрофаний изумленно обернулся – никогда еще не бывало, чтобы духовная дочь вторгалась к нему в этот заповедный час, да еще без стука.
– Владыко, а «Рассуждение о красном петухе»? – выпалила монахиня.
Архиерей не сразу вернулся от высоких мыслей на землю.
– А? – неблагообразно переспросил он.
– Трактат про красного петуха, писанный тем же Адальбертом, где он? – нетерпеливо спросила Пелагия.
– Про какого петуха? – впал в еще большее изумление епископ. – Что с тобой, дочь моя? Не горячка ли?
Когда же понял, чего добивается черница, объяснил, что никаких других сочинений Адальберта Желанного кроме «Трактата о пещерах» до нашего времени не дошло. Монастырь, в котором жил и умер мистик, был сожжен солдатами графа Нассау во времена религиозных войн. Одно только это сочинение и уцелело, да и то по счастливой случайности – рукопись находилась у переплетчика. О том, что у Адальберта есть труд про петуха, Митрофаний слышал впервые.
– В пятнадцатом столетии было модно приписывать разным животным чудесные свойства, – сказал далее преосвященный. – Некоторые из тогдашних схоластов увлекались идеей двоичности. Мол, все Господом сотворено в парности: мужчина и женщина, черное и белое, солнце и луна, тепло и холод. Пытались они найти пару и человеческому роду в животном мире – некий вид тварей, избранный и отмеченный Господом наравне с человеком. Одни продвигали на эту роль муравьев, другие дельфинов, третьи единорога. Судя по названию сочинения, Адальберт был апологетом избранности петухов, а почему именно красных – это уж Бог его знает.
– Муравьи – понятно, муравейник и в самом деле напоминает человеческое общество. Дельфины тоже ясно – они умные. Единорогов средневековые авторы в глаза не видывали и могли воображать о них что угодно. Но петух-то при чем? Задиристая, глупая птица. Только кур топчет да глотку дерет.
– Э, нет, – поднял палец архиерей. – К петуху относились по-особенному издавна, еще в дохристианские времена. И особенное это отношение распространено повсеместно, где встречается вид Gallus Domesticus 8. У китайцев, например, он олицетворяет принцип Ян, то есть смелость, благожелательность, достоинство и верность. А петух красного оперения – еще и символ Солнца. Если ты обратишь свой взгляд в совершенно иной предел планеты, к древним кельтам, то у них красный петух – олицетворение богов Подземья. В греко-римской культуре петух знаменует обновление. Вообще в большинстве мифологий эта птица связана с богами утренней зари, солнца, света, небесного огня – то есть с зарождением новой жизни. Петух изгоняет ночь и сопутствующие ей мрак, страх, слепоту.
Такого рода импровизированные лекции, подчас по самому неожиданному поводу, были излюбленным коньком Митрофания, и Пелагия всякий раз внимала им с интересом, но никогда еще не вслушивалась так жадно, как сейчас.
– Возьмем христианство, – продолжил преосвященный. – В нашей религии у интересующего тебя пернатого тоже особый статус. Петух – символ света. Он приветствует восход Солнца-Христа, обращающего в бегство силы тьмы. В пасхальное празднество, когда мы поминаем Страсти Христовы, петух означает воскресение. Известно ли тебе, что крест, ныне общепринятый символ христианства, появился довольно поздно, лишь в середине V столетия? До той же поры христиане использовали другие символы, и очень часто – петуха, это образ Сына Божьего, Который пришел пробудить человечество. Не забудем также и пророчество мудрого Екклесиаста: «И будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут дщери пения», то есть именно петух возвестит людям о дне Страшного Суда.
Чем дольше слушала Пелагия ученые речи Митрофания, тем задумчивее делалось ее лицо, так что к концу взгляд совсем уж обратился как бы внутрь себя.
Когда же владыка закончил, инокиня ни о чем больше спрашивать не стала. С поклоном поблагодарила за поучение, извинилась, что оторвала преосвященного от писательства, и распрощалась до завтра.
Логово циклопа
Покинуть архиерейское подворье сестра намеревалась тем же путем, каким вошла, – не длинным, через двор и ворота, а коротким, через садовую калитку, от которой имела собственный ключ.
В окнах братского корпуса свет уже погас, не горел и фонарь подле парадного крыльца, но в небе сиял яркий месяц, и ночь была ясной.
Пахло юной листвой, из яблоневой аллеи доносилось журчание фонтана, и от всего этого сосредоточенность, владевшая монахиней, стала понемногу рассеиваться.
Владычий сад считался одной из городских достопримечательностей и содержался в образцовом порядке. Белоснежные дорожки, покрываемые специальным мелкосеянным песком, подметались по нескольку раз в день, так что у Пелагии было ощущение, будто она не идет по земле, а ступает по Млечному Пути. Даже совестно было оставлять на этакой красоте цепочку собственных следов, и оттого монахиня старалась держаться самого краешка.
Вдруг она увидела впереди, прямо посреди белоснежной полосы, отпечатки ног. Кто-то прошел здесь совсем недавно, уже после непременного преднощного метения.
Кто бы это мог быть, рассеянно подумала Пелагия, чьи мысли были все еще заняты пещерами и красными петухами. Мало кому дозволялось гулять но саду и тем более в позднее время. Отец Усердов? Нет, у духовной особы шаг уже, ибо стеснен рясой, сдедуктировала Пелагия.
Поправила на носу очки, думая все ту же думу, но при этом посматривала на следы, ведшие к калитке.
Вдруг сестра ахнула, пала на четвереньки, прижавшись носом чуть не к самой земле, и ахнула снова, еще громче.
Прямоугольные носки! Знакомый контур каблука! А если посмотреть вблизи, видны три ромбика!
Сердце монахини запрыгало в груди.
Был! Здесь! Недавно! А может быть, и только что! Ушел через калитку!
Она вскочила, кинулась было к дому, но тут же вернулась назад. Пока добудишься челяди, уйдет! На улице, на булыжной мостовой следов-то ведь не будет!
Что если он недалеко, и можно выследить!
Подобрав подол, Пелагия бросилась вперед – не по следам, а рядом, чтоб не затоптать.
Что может означать внезапное появление Волчьего Хвоста на архиерейском подворье – об этом сейчас и не думала.
Следы свернули с главной аллеи на боковую, стало быть, вели не к калитке, а в дальний, глухой угол сада.
Сестра на миг остановилась, пытаясь сообразить, что означает этот маневр. И догадалась: ключа-то у злодея нет, не иначе как через забор полезет.
Побежала еще быстрей.
Дорожка здесь была поуже, с обеих сторон сжатая высокими кустами, в тени которых следы перестали быть видны, но зато отсюда никуда и не свернешь.
Вот и конец сада. Дощатый сарайчик, куда осенью ставят ящики с яблоками, за ним ограда. Надо подбежать к ней, просунуть голову между прутьев и осторожно выглянуть – не обнаружится ли вдали удаляющийся силуэт?
И если да, то перелезть на ту сторону и проследить.
Даже если окажется совершенно непричастный человек, по крайней мере можно будет выяснить, кто сшил ему сапоги. А там и...
Пелагия как раз поравнялась с сараем. Боковым зрением заметила черную щель – дверь была приоткрыта – и мельком подумала: непорядок.
Тут дверь вдруг возьми да распахнись во всю ширь.
Из темноты высунулась длинная рука, схватила сестру за ворот и рывком втащила в домик.
Брякнул задвинутый засов.
Оглушенная сотрясением, ослепшая от внезапного мрака Пелагия вскрикнула, но широкая жесткая ладонь тут же зажала ей рот.
– Ну, здравствуй, фря пароходная, – раздалось из черноты.
И сразу стало понятно, кто это. Даже не по голосу, слышанному всего единожды, а по противному словечку «фря».
Стеклянный Глаз (он же и Волчий Хвост – прав был Бердичевский) выдержал паузу, похоже, наслаждаясь трепетом пленницы.
Темнота уже не казалась ей кромешной. Сарай был сколочен хлипко, со щелями – специально, чтоб яблоки дышали, – и меж досок проникал лунный свет.
Первое, что разглядела Пелагия, – два блестящих глаза, причем блестящих по-разному, однако не поймешь, какой из них настоящий, а какой фальшивый.
– Столько за тобой бегаю, что жалко сразу прикончить, – сказал ужасный человек. – Поживи еще минутку, ладно? Только уговор: если пискнешь, тут тебе и гроб с кисточками.
– Нам не положено, – сдавленно, сквозь ладонь, ответила монашка.
– Что не положено? – Стеклянный Глаз отнял руку.
– Гроб с кистями. Черницам нельзя, – пояснила она, думая только об одном: говорить что угодно, любую чушь – только бы на минутку, на две отсрочить неминуемое.
Не для того чтобы спастись – как же тут спасешься? Чтобы подготовить душу к великому таинству, мысленно произнести слова последней молитвы.
– Шутишь. Молодчина, – одобрил убийца. – И мозги у тебя резвые. Были бы потусклее, прожила бы дольше. Видала штуковину?
Он вынул из кармана какой-то предмет, странно запрыгавший у него в руке. Пелагия присмотрелась – гирька на пружине.
– Мое изобретение, – похвалился Стеклянный Глаз. – Бьет на добрую сажень, и преточно.
Он совсем чуть-чуть двинул кистью, пружина распрямилась, в воздухе свистнуло, и на полке вдребезги разлетелся глиняный кувшин, должно быть используемый садовником для питья, гиря же вернулась в руку к метателю.
– Как же ты из пещеры выбралась? Пройдошистая фря, ничего не скажешь. И подметку срисовала. Вот я тебя на подметку и поймал, как пескаря на удочку.
Он тихо, торжествующе засмеялся.
Страшнее всего было то, что сестра не видела его лица, а с прошлого раза толком не запомнила.
Вот она какая, смерть, содрогнулась Пелагия. Безликая, тихонько подсмеивающаяся.
– Откуда... откуда вы узнали, что я срисовала подметку? – шепнула монашка. Он снова хохотнул:
– Вот любопытная... Скоро все узнаешь. Там. – И показал пальцем в потолок.
– Где? – не поняла она. Он развеселился еще пуще.
– «Где-где». На том свете. Там все земные секреты раскрываются.
– За что вы хотите меня убить? – кротко спросила инокиня. – В чем я перед вами провинилась?
– Не ты, а твои мозги, – постучал ее по лбу легкомысленный убийца. – Вот я их сейчас и вышибу. Любопытно досмотреть, что за блюдо такое – мозги фри.
Пелагия невольно покосилась на полку, где лежали осколки кувшина. Поймав это движение, Стеклянный Глаз закис от смеха – так, бывало, хихикали девочки у Пелагии на уроке, когда одной попадет в нос щекотная, бессмысленная смешинка, да и перезаразит весь класс.
Монахиня судорожно прижала руки к груди.
Ладонь что-то кольнуло.
Спица! На шее у сестры, как обычно, висел мешочек с вязанием. Казалось бы, какое оружие из вязальных спиц, но если другое взять неоткуда? И ведь бывало уже, что два стальных стерженька выручали свою хозяйку – в ситуациях не менее отчаянных, чем нынешняя.
Пелагия сдернула с шеи мешочек, обхватила его покрепче.
– Что это у тебя, молитвенник? Ну нет, молиться мы не будем, это скучно. Прощай, фря.
Он шагнул назад и для пущего размаха – а может, для того, чтобы насладиться страхом жертвы, – описал гирей в воздухе звенящий круг.
А второго круга Пелагия дожидаться не стала – с истошным визгом ткнула спицами, прямо сквозь мешок, в единственный глаз душегуба. В последний миг испугалась: а ну как неправильно запомнила, какой глаз натуральный?
Однако, судя по дикому воплю, попала туда, куда следовало.
Вопль перешел в стон. Убийца схватился руками за лицо и тут же отдернул ладони.
Пелагия попятилась – очень уж жутко было смотреть, как из человеческого лица, покачиваясь, свисает атласный мешок.
Кинулась к двери, дернула засов, но открыть не смогла – недостало сил, проржавел.
Раненый сдернул и отшвырнул мешок, по щеке потекла темная масса. Он подхватил ее горстью, стал засовывать обратно в глазницу.
Пелагия зажмурилась.
– Сука! – зарычал ослепший. – Змея ядовитая! Все равно убью!
Размахнулся – монахиня едва успела присесть. Над головой с ужасающим свистом пронеслась гиря.
И началось метание в нешироком, три на три сажени, пространстве.
Стеклянный Глаз размахивал рукой, нанося удары то вправо, то влево. Гиря рассекала воздух, крушила пустые ящики на полках, с хрустом била в стены, переломила пополам черенок садовых вил.
Монашка бросалась в один угол, в другой, приседала. Один раз убийца, тоже присев, попытался зацепить ее по ногам, но Пелагия успела подпрыгнуть.
Все это напоминало какую-то чудовищную игру в салки или кошки-мышки.
А еще инокине некстати вспомнился Одиссей в пещере у Полифема. «Яблоко лопнуло; выбрызнулглаз зашипевши. Дико завыл людоед, застонала от воя пещера».
Циклоп выл и всхлипывал, издавал нечленораздельные вопли, а запыхавшаяся от рывков и скачков Пелагия все пробовала его вразумить:
– Угомонитесь! Вам врач нужен!
Но тем самым лишь выдавала свое местонахождение. После каждого увещевания следовал удар, нацеленный точнее прочих.
Тогда монахиня села на корточки и затихла.
Стеклянный Глаз еще какое-то время пометался по сараю, а потом понял, что его противница сменила тактику. Тоже замер, прислушался.
Он стоял всего в двух шагах, и черница прижала руку к левой груди – боялась, не выдаст ли стук сердца.
– Сдохнешь, все равно сдохнешь, – прошипел слепой. – Я тебя без гири, голыми руками...
И в самом деле убрал свое оружие в карман, растопырил лапищи и закружился вокруг собственной оси.
Дело было плохо. Сейчас догадается присесть, и все – конец.
Пелагия сдернула с носа очки, швырнула их в угол.
Хищно развернувшись, убийца кинулся на звук.
Тогда она подлетела к двери, навалилась всем телом на засов – слава Богу, открылся.
Выскочила в сад, увидела, что снаружи тоже есть щеколда, и поскорей ее задвинула.
И тут уж понеслась к дому, крича во все горло:
– Сюда! Сюда! На помощь!
Сзади доносился треск, грохот – это бился в запертую дверь Стеклянный Глаз.
О противлении злу, родине и правде
Пока сбежались келейники, пока поняли смысл сбивчивых криков инокини, пока спорили, идти в сад самим или звать полицию, прошло, верно, минут десять. Прошло бы и больше, если бы на шум и гам не вышел сам владыка. Он в несколько мгновений ухватил суть, взял Пелагию за плечи. Спросил только одно: «Цела?» А когда она кивнула, широким шагом двинулся вглубь сада. Не бежал, ибо суета несовместна с архиерейским званием, однако челядь и бегом еле за ним поспевала.
Дверь садового домика была по-прежнему на засове – не смог Стеклянный Глаз вырваться на свободу. Однако внутри было тихо.
Монахи и прислужники пугливо окружили дощатое строение.
– Сударь? – дрожащим голосом позвал Усердов. – Вы там? Лучше бы вам оставить насильственные помышления и предаться в руки правосудия.
Митрофаний взял отца Серафима за плечо, отодвинул в сторону и без колебаний отворил засов.
Шагнул внутрь.
Пелагия зажала рот. Кричать было никак нельзя – не дай Господь, владыка обернется, а отворачиваться от раненого, смертельно опасного зверя было бы безумием.
Архиерей постоял на пороге несколько секунд. Покачал головой, сотворил крестное знамение.
Тогда в сарай, толкаясь, кинулись остальные. Заохали, тоже закрестились. Пелагия привстала на цыпочки, заглядывая через плечо отца эконома.
На пол падал прямоугольник голубоватого лунного света, и было видно, что Стеклянный Глаз сидит в углу, привалившись спиной к стене. В руках зажато сломанное древко вил, острие которых самоубийца вонзил себе в горло – да так сильно, что зубья, пройдя насквозь, впились в дерево.
Ночью, пока окружной прокурор и полиция исполняли свои обязанности (от горящих фонарей и факелов в саду сделалось светло, как днем), у Пелагии приключилась запоздалая истерика, которую, по счастью, никто кроме преосвященного не наблюдал.
– Какое ужасное злодеяние я свершила, чтобы спасти свою жизнь! – убивалась сестра, ломая руки. – Я забыла, кто я! Повела себя, как обычная женщина, страшащаяся за свою жизнь. А ведь я монахиня! Не по Христову закону поступила, который велит не противиться злу и подставлять другую щеку, а по Моисееву! Око за око! В жизни больше к вязанию не прикоснусь!
Митрофаний счел, что для усмирения самобичевательного порыва будет уместнее напускная строгость, и стал сурово выговаривать духовной дочери:
– Что ж с того, что ты монахиня! Монахи тоже разные бывают. Есть и монахи-воины. Вот Ослябя с Пересветом бились за родину и правду с оружием!
– Разве «за родину» и «за правду» – одно и то же? – клацая зубами, возразила Пелагия. – Родина у каждого народа своя, а правда на всех людей общая. Что хорошего в вашем Пересвете? То есть для княжества Московского и русских он, конечно, герой, но Христос-то ведь не за княжество Московское на крест взошел и не за единую только нацию, а за все человечество. У татарина этого, Челибея, которого Пересвет сразил, тоже живая душа была. Нельзя служителю Божию брать оружие, даже если ему грозит неминуемая гибель. Ах, владыко, представьте, как страшится человек, уже потерявший один глаз, утратить последнее свое око! Должно быть, ему кошмары снились по ночам, будто он совсем ослеп... И ведь мало мне, жестокой, показалось его зрения лишить, я еще дверь снаружи заперла, чтоб не убежал. Куда бы он, слепой, делся? Представляю, как он, бедный, тыкался в стены в поисках выхода и не находил... Если б нашел, то, может, и не погубил бы свою бессмертную душу. Разве не так?
Видя, как она терзается, Митрофаний суровость отставил, взял монашку за руку.
– Не так, не так! Надобно противиться злу, не согласен я здесь с графом Толстым и с тем, как он Христово учение толкует. Жизнь есть преодоление Зла и борьба со Злом, а не капитуляция перед негодяями. Ты подобна Давиду, поразившему Голиафа, или Георгию Каппадокийцу, который умертвил огненного дракона. Даже еще и более этих героев тобой восхищаюсь, ибо ты слабая женщина, и вязальная твоя спица – оружие куда более отважное, нежели Давидова праща или Георгиево копье.
Но Пелагия вместо того, чтобы возгордиться от лестных сравнений, лишь махнула на преосвященного рукой и разрыдалась еще пуще.
Вот и разъяснилось
Было все это в ночь с четверга на пятницу, в день памяти Иоанна Ветхопещерника, а в следующую среду, то есть еще не миновало и недели, Матвей Бенционович Бердичевский представил епископу и сестре Пелагии полный и исчерпывающий отчет о проведенном расследовании.
Личность покушавшегося удалось установить гораздо легче, чем предполагал прокурор. Сначала нашли гостиницу, в которой тот поселился. Сделать это было нетрудно, так как Заволжск – город не слишком большой. Произвели в номере обыск, нашли паспорт на имя почетного гражданина Маврикия Иринарховича Персикова.
Паспорту Бердичевский не поверил, памятуя, что на пароходе преступник именовался дворянином Остролыженским, и велел труп сфотографировать. Конечно, не таким высоконаучным способом, как Сергей Сергеевич Долинин, – волос мертвецу не расчесывал и нитроглицерина в глаза не капал (да ведь и не было у трупа глаз, ни одного). Фотокарточки вкупе со словесным портретом были разосланы во все охранные и сыскные отделения империи. И всего через несколько дней пришел незамедлительный ответ из Киевской охранки, причем пренеожиданный.
– ...Не Персиков он и не Остролыженский, – с многозначительным видом перешел Матвей Бенционович к главной части своего сообщения (а начал с того, что восторженно и красноречиво превозносил доблести сестры Пелагии). – Некто Бронислав Рацевич, потомственный дворянин Ковенской губернии. – Здесь прокурор подержал эффектную паузу и сообщил свою главную сенсацию. – Изволите ли видеть, бывший жандармский штабс-ротмистр.Служил в Волынском жандармском управлении, именно в городе Житомире. В полученном из Киева отношении написано, что Рацевич слыл храбрым и дельным офицером, в последний период службы состоял в летучем отряде по борьбе с особо опасными преступниками. Задерживая шайку динамитчиков, в перестрелке лишился глаза. Имел награды. Однако в прошлом году исключен из корпуса со скандалом, за нарушение кодекса чести. Жандармским офицерам по уставу, знаете ли, запрещено одалживаться деньгами, штабс-ротмистр же залез в долги, причем к ростовщикам-евреям, что для начальства, очевидно, было вдвойне непереносимо, – позволил себе съязвить Бердичевский, сам еврей по рождению. – Дошло до долговой ямы. То есть, собственно говоря, сначала Рацевича выгнали со службы, а уж потом посадили в тюрьму, потому что офицер Жандармского корпуса в тюрьме сидеть не может. Вскоре он каким-то образом выкупился и долги роздал, но обратно на службу ему возврата не было. Сразу после освобождения Рацевич выехал из Житомира в неизвестном направлении. Дальнейшие его занятия и место проживания Киевскому охранному отделению неизвестны.
Потрясение слушателей было для прокурора лучшей наградой. Сам он, когда час назад прочел депешу, от возбуждения даже забегал по кабинету, приговаривая «ах, ах, не может быть!».
– Но... но как сие объяснить? – развел руками преосвященный. —Чтобы жандармский офицер, пускай даже бывший... Я в совершенном недоумении!
У Матвея Бенционовича, который, в отличие от епископа, имел время оправиться от изумления и собраться с мыслями, ответ был готов.
– Думаю, дело обстояло так. Рацевич озлобился на закон, который столько лет доблестно защищал и которым был немилосердно отторгнут – не за какое-нибудь преступление, а за обычную гражданскую провинность. Подумаешь, не смог вовремя вернуть долг! Это ведь, знаете ли, происходит сплошь и рядом. Он же, заслуженный человек, был изгнан из своей корпорации, оставлен без средств к существованию. Чем прикажете зарабатывать на пропитание? – Бердичевский хитро улыбнулся и сам себе ответил. – Что умел Рацевич? Выслеживать, вынюхивать и, так сказать, применять насилие, более ничего. Знаете, что такое «летучий отряд»? Это группа офицеров и агентов наивысшей квалификации, владеющая всеми навыками вооруженной схватки, кулачного боя и прочими познаниями, необходимыми для борьбы с опасными преступниками. Вот господин Рацевич и нашел себе занятие, наиболее родственное его прежней профессии. В криминальной практике довольно часты случаи, когда из дельных полицейских выходят отъявленные враги общества. Возможно, Рацевич действовал в одиночку. А может быть, и нет. Позволю себе также напомнить, что он поляк. Не исключаю, что бывший штабс-ротмистр связался с варшавскими ворами, элитой преступного мира. Этот разряд бандитов очень мало похож на прочих обитателей общественного дна. Они и живут, и злодействуют, прошу прощения за вульгаризм, с шиком. Многие шляхетских кровей. Имеют образование, приличные манеры.
– Но что ему далась наша Пелагия? – спросил Митрофаний, не вполне убежденный версией.
Видно было, что Бердичевский и на это заготовил ответ:
– Она навлекла на Рацевича подозрение. Не знаю, как он сумел выбраться с парохода после убийства Шелухина и похищения шкатулки с казной. Вероятнее всего, вплавь. Вряд ли вынужденный заплыв в ледяной воде пришелся ему по вкусу. Господин озлобленный и, похоже, психопатического склада. Среди преступников (да и тех, кто их ловит) подобные типы, знаете ли, не редкость. Всякую неприятность они воспринимают как личное оскорбление и за оскорбления расплачиваются полной мерой. Могу повторить лишь то, что однажды уже говорил: убийца решил расквитаться с сестрой Пелагией, причем изобретательно, с садистической выдумкой. С местью не спешил, ждал вдохновения и удобного случая. Вроде того, что представился у Чертова Камня. А когда узнал, что сорвалось, тут уж решил не церемониться – просто проломить голову, и все.
Пелагия задала вопрос, не дававший ей покоя:
– Но откуда он узнал, что сорвалось? И особенно про подметку?
Прокурор нахмурился.
– Это, с вашего позволения, не квадратура круга. И так ясно. Рассылая запрос по кабинетам научно-судебной экспертизы, я никак не предполагал, что преступник – бывший жандарм. Там ведь, кроме изображения подметки, были и приметы «господина Остролыженского» – стеклянный глаз и прочее. Запрос попался на глаза кому-нибудь из прежних сослуживцев Рацевича. Возможно, дружеские отношения. Или деловые – как знать? Мне доводилось слышать, что некоторые полицейские чиновники малороссийских и польских губерний поддерживают, как бы это выразиться, взаимовыгодные связи с «варшавскими». Однако тут уж, извините, не моя компетенция, не Заволжского масштаба дело. Будем довольствоваться тем, что ваш недоброжелатель обезврежен – благодаря вашей храбрости и промыслу Божьему.
– Аминь, – с чувством сказал владыка. – Все хорошо, что хорошо кончается. На том и успокоились.
VI. РАЗУМ И ЧУВСТВО
Красивая идея
На сбор потребной информации ушло пять дней. Какой-нибудь торопыга управился бы и быстрей, потому что привычки и маршруты объекта были похвально однообразны, но суету Яков Михайлович не уважал, да и хватит уже, наторопыжничались. И ведь что примечательно – как кто-нибудь напортачит, наломает дров, так сразу: давайте, Яков Михайлович, выручайте. Уберите намусоренное и сделайте, чтоб чистенько было. Хоть бы раз дали работу свежую, не захватанную, чтоб не подбирать совком чужое дерьмо. Что он им, золотарь?
Так ворчал про себя человек средних лет и неприметной наружности, сидевший на террасе «Кафе де Пари», что на Малой Борщовке напротив архиерейского сада, и поглядывавший на залитую солнцем улицу поверх «Заволжских епархиальных ведомостей».
Одет он был под стать внешности – прилично, но как-то тускло, так что глазу зацепиться было ровным счетом не за что: серый в крапинку пиджачок, не засаленные, но и не слишком белые воротнички; на столике лежал несколько потертый котелок. Единственная сколько-нибудь примечательная черта этого скромнейшего господина заключалась в скверной привычке похрустывать суставами пальцев, особенно в моменты сосредоточенного размышления.
Вот и сейчас он быстро схватился правой кистью за левую и затрещал так громко, что от соседнего стола обернулись две барышни, одна даже сморщила носик.
– Пардон, – виновато улыбнулся пухлыми губами Яков Михайлович, знавший за собой дурную склонность. – Более не обеспокою-с.
Кофе, который он пил из фаянсовой чашки, запахом и чрезмерной сладостью несколько напоминал какао, но Якову Михайловичу случалось, путешествуя по российской провинции, пивать бурду и похуже. Обычно он поступал так: просил принести целый молочник сливок (сливки-то в провинции много лучше и жирней, чем в столицах), лил в чашку побольше, и ничего, пилось за милую душу.
В двадцать девять минут восьмого Яков Михайлович достал дешевенькие серебряные часы и щелкнул крышкой, но на циферблат не посмотрел, а вместо этого повернул голову вправо, как бы ожидая чего-то или кого-то. Ждал не долее минуты – из-за угла, со стороны Казанской заставы, появилась монашка. Очкастая, с рыжей прядкой, выбивавшейся из-под плата. Вот теперь сидевший, пригладив редковатые черные волосы, взглянул на часы (они показывали ровно половину), одобрительно кивнул и начертал что-то свинцовым карандашом в записной книжечке – не слово, и не цифру, а некую закорючку, смысл которой был понятен ему одному.
Когда инокиня поравнялась с террасой, брюнет прикрыл лицо и плечи газетой. А едва черница вошла в калитку архиерейского сада, клиент тут же расплатился по счету и ушел, оставив на чай восемь копеек.
Спешных дел у приезжего, похоже, не было. Он неторопливым шагом прогулялся по Заволжску, городу славному и приятному, особенно в такой погожий весенний день. Помахивая легким саквояжиком, Яков Михайлович обошел все местные достопримечательности, а в девять часов вечера покушал в молочной столовой творога и оладьев. На чай опять дал восемь копеек и спросил, где тут отхожее место. Оно оказалось на дворе.
Отужинавший удалился в латрину и там исчез, чтобы более не появляться. Вместо Якова Михайловича из нужного чуланчика вышел мастеровой – в картузе, кафтане, с полуседой бороденкой. Сразу было видно, что человек это положительный, непьющий, хоть и небольшого достатка, но знающий себе цену. За спиной у мастерового висел мешок на тесемке.
Куда подевался брюнет в потертом котелке, осталось загадкой. Разве что утоп в выгребной яме?
Это сам Яков Михайлович так про себя пошутил. По привычке к уединенности, которой требовала его профессия, привык постоянно находиться во внутренней беседе с самим собой: и порассуждать, и поспорить, а иной раз и пошутить, почему нет.
Новорожденный мастеровой не был похож на господина, сидевшего в «Кафе де Пари» и кушавшего творог в молочной столовой, ничем кроме роста и сапог, да и те раньше были начищенные, а теперь сделались серыми от пыли.
Неспешной походкой пролетарий направился по направлению к окраине. К тому времени стемнело, горели фонари. Яков Михайлович отметил, что улицы освещаются самым превосходным образом – отметил не в качестве праздного наблюдателя, а для дела.
Некоторое время спустя ряженый оказался подле епархиального училища для девочек, довольно длинного одноэтажного здания, крашенного в желтый и белый цвета.
Сбоку, при отдельном входе, располагалась «келья» начальницы: белые занавески на двух окнах, невысокое крыльцо, дверь с медным колокольчиком.
В квартире Яков Михайлович побывал еще третьего дня. Жилье крошечное, в две комнатки, довольно уютное, хоть и содержащееся в беспорядке.
Он встал подальше от фонаря, за кустом, и задрал голову, как бы любуясь ясным месяцем. Впрочем, никто на мечтателя не смотрел, потому что на тихой улице не было ни души.
Скоро донесся звук едущей коляски.
Яков Михайлович взглянул на часы – без двадцати девяти минут одиннадцать. Снова поставил в книжку невразумительную закорючку.
Подъехал двухместный экипажец английского типа. Правил чиновник средних лет, носатый, в фуражке. Рядом сидел объект – та самая монашка, что давеча прошла по Малой Борщовке.
Мужчина соскочил, приподнял фуражку и поклонился. Рыжая инокиня сказала ему что-то, тоже поклонилась, стала подниматься по ступенькам крыльца. Чиновник смотрел ей вслед и уехал лишь, когда за сестрой закрылась дверь, да и то не сей же миг, а, пожалуй, минутки через две. Стоял, покручивая себя за кончик носа, словно решал какую-то мудреную задачу, однако Яков Михайлович уже знал, что это у чиновника такая привычка, вроде нервного тика.
Когда же провожатый укатил, наблюдатель выбрался из-за куста, раскрыл под фонарем свою книжечку и просмотрел записи.
За пять дней ни одного отступления от рутины. Можно приступать к работе.
Итак.
С одиннадцати вечера до шести утра сон. Полчаса утренний туалет. Потом идет в ближнюю церковь. Возвращается к себе. Интересная причуда: с половины восьмого до восьми купается в Реке, хоть вода холоднющая. Потом завтракает в школе, с ученицами. С девяти до двенадцати уроки. Далее обед. С часу до пяти снова уроки. С пяти до семи репетиция хора. В начале восьмого идет пешком на архиерейское подворье (маршрут: с Казанской поворачивает на Дворянскую, оттуда на Малую Борщовку; улицы в этот час людные); в двадцать минут одиннадцатого выезжает от преосвященного с окружным прокурором, который провожает ее до самого крыльца.
Таковы условия задачи, сами по себе несложные.
Но.
Тут вся закавыка в дополнительной кондиции. Сказано: непременно несчастный случай или скоропостижная смерть от болезни. Никакого подозрения на насильственность. Это, конечно, интересней, чем обычное чик-чик, но и многократно трудней.
Одним словом, головоломочка.
– Нуте-с, нуте-с, – вполголоса приговаривал Яков Михайлович, шевеля мозгами.
Если б не напортили, умники, то проще всего, разумеется, было бы во время утреннего купания.
Железная монашка (вот дал Бог здоровья) ходит плавать в уединенную бухточку, невзирая на погоду. Разоблачившись до длинной белой рубашки, быстрыми саженками плывет до середины Реки и обратно. Смотреть на нее, и то холодно.
Тут надо бы так. Оглушить (совсем слегка, чтоб потом в легких обнаружилась вода), да и спустить в воду. Мол, ногу свело и потопла. Обыкновенное дело. Вода-то тринадцать градусов, замерено термометром.
Но это не годится. Власти настороже после того, как предшественничек потрудился. Полный простор был у человека, так нет, понастроил турусов, импрессионист кривоглазый.
Велено: «Чтоб комар носу не подточил» – это как?
Это значит, на глазах у публики, и чтоб никто ничего не заподозрил.
Попробуйте-ка здоровую молодую женщину, которая при тринадцати градусах плавает, убить на глазах у многочисленных свидетелей, не вызвав ни малейшего подозрения. Ведь каждая пара глаз – лишний риск. Мало ли кто какой наблюдательностью от природы наделен.
– Нет уж, господа хорошие, это чересчур, это за пределами возможного! Я вам не Господь Бог Саваоф, – ворчал себе под нос Яков Михайлович, однако брюзжание было не без притворства: лестно ведь, когда доверяют такие мудреные задачки. Стало быть, уважают в человеке талант.
И что может быть увлекательней, чем поиск решения для задачи, которая именно что находится за пределами возможного?
В безграничную потенцию человеческого разума Яков Михайлович верил свято. Во всяком случае, своего собственного.
Похрустел пальцами, почмокал своими толстоватыми губами, даже и покряхтел, но нашел-таки решение. А какое чистое, красивое – просто прелесть!
Не нужно никакой публики, не нужно множества глаз. Здесь, как почти и во всяком деле, важно не количество, а качество. Пускай будет одна пара глаз, но зато заменяющая целую толпу свидетелей (которые еще неизвестно, что увидят, домыслят и покажут на допросе). Если монашка кончится на глазах у того, кто сам ведает расследованиями, никаких допросов-расспросов не понадобится вовсе. Что же он – собственному зрению не поверит? Поверит, никуда не денется.
Нуте-с, нуте-с.
Окружной прокурор Бердичевский ежевечерне провожает монашку от архиерейского двора до казенной квартиры. Довозит на своей одноколке до самого дома, помогает вылезти. Непременно ждет, пока она поднимется на крыльцо, откроет дверь.
Что тут можно придумать?
Сделать, чтоб лошадь понесла? Там в одном месте, на повороте с Дворянской, обрыв близко.
Лошадь у прокурора смирная, но если пальнуть ей в бок из духовой трубки колючкой, смазанной чем-нибудь едким, понесет как миленькая.
Рискованно.
Во-первых, может выпрыгнуть, она ведь спортсмэнка. Отделается каким-нибудь зряшным переломом. Или убьются, но оба. Еще не хватало.
От общей идеи про ключевого свидетеля до собственно озарения путь был цедлинным.
Идея пришла почти сразу же, и такая, что Яков Михайлович аж взвизгнул от удовольствия.
Повернул назад, влекомый вдохновением. Не взбежал, а, можно сказать, вспорхнул на крыльцо и ткнулся носом в самую дверную ручку, подсвечивая себе маленьким электрическим фонариком.
Так и есть!
Пределы возможного, потесненные человеческим разумом, отступили.
Прокурор увидит все собственными глазами. Прямо перед его крючковатым носом отработает Яков Михайлович рыжую монашку, а господин Бердичевский ничего не поймет и не заметит.
Вот вам настоящий импрессионизм, вот истинная красота, не то что дурацкие обвалы в пещерах устраивать.
Назавтра, в десять часов вечера, специалист по чистым работам снова был на тихой окраинной улице, только одетый не мастеровым, а старьевщиком.
Пристроился напротив училища. Походил, уныло покрикивая «Старье-бутылки берем! Ветошь-тряпки берем!» – больше из профессионализма, нежели для пользы дела. Как было установлено ранее, люди в этот час по улице не ходят, старье-бутылки сдавать не станут.
На крыльцо поднялся всего на минутку, больше не понадобилось.
Ручка на двери была самая простая: деревянная скоба, приколоченная гвоздями, причем Бог знает сколько лет назад – шляпки давно порыжели. Яков Михайлович вбил еще один, тоненький, но немножко вкось, так что кончик чуть-чуть высунулся с другой стороны – аккурат там, где браться пальцами. Торчащее острие Яков Михайлович смазал какой-то жидкостью из пузыречка – с чрезвычайной осторожностью, даже перчатки надел.
Специалист всегда брал с собой в командировки особую аптечку: разные скляночки, пробирочки, на всякие случаи жизни.
Поцарапать палец о ручку двери – сущая ерунда, с кем не бывает.
Наутро нарывчик. К вечеру температура. Симптомы, похожие на заражение крови: тут тебе и ознобчик, и обильный пот, и пожелтение кожи. На второй день – сильный жар, бред. В тот же вечер, а если сильное сердце, то самое позднее к концу ночи – со святыми упокой. И никаких подозрений, обычная житейская оказия. Главное же – прокурор все будет наблюдать собственноочно. Услышит собственными ушками, как она, уколовшись, вскрикнет. Кто бы мог подумать, что от такого пустяка случится сепсис? Никто. Промысел Божий.
Яков Михайлович занял позицию.в кустах. Стал ждать.
Приехали без двадцати одиннадцать, он уж начинал волноваться.
Сегодня прокурор не просто высадил спутницу, а галантно проводил до самой двери.
Это еще лучше – пускай вблизи полюбуется.
Рыжая взялась за ручку, потянула, вскрикнула.
Что и требовалось доказать.
Услышав тихое «ах!», Яков Михайлович причмокнул и попятился, а через пять секундочек уже совершенно растворился во мраке.
Дело было сделано. Как говорится, прочее довершит природа.
Влюбленный прокурор
Со статским советником Матвеем Бенционовичем Бердичевским, умным и положительным мужчиной тридцати девяти лет, приключилось несчастье – такое, какого он страшился всю свою женатую жизнь, отменно счастливую и к тому же благословленную многочисленным потомством.
Любовь Матвея Бенционовича к супруге за долгие годы брака миновала несколько естественных фаз и прочно вошла в русло приязненной привычки и полного родства душ, не требующего нежных слов и красивых поступков. Марья Гавриловна, которая в восемнадцать лет отличалась пылким, романтическим нравом, по рождении тринадцати детей совершенно утратила эти свои изначальные качества – нашлись увлечения и заботы посущественней. Например, как содержать семью на жалованье мужа, пусть и весьма приличное, но ведь пятнадцать душ!
На тридцатилетнем рубеже госпожа Бердичевская превратилась в полнокровную, спокойную даму с цельным, твердым характером и полной ясностью насчет того, что в жизни важно, а что пустяки и внимания не заслуживает.
Матвей Бенционович в жене эти качества ценил, внутренне же более всего восхищался немыслимой для мужчины жертвенностью во имя тех, кого Марья Гавриловна любила – любовью нерассуждающей, естественной, лишенной какой-либо аффектации.
В самом Бердичевском с течением лет пылкости воображения и мечтательности, напротив, скорее прибавилось. Как всякий здоровый мужчина, он заглядывался на красивых или просто привлекательных женщин (а таковых вокруг во все времена найдется предостаточно) и, если какая особенно нравилась, внутренне пугался: ну как влюблюсь? И фантазия сразу начинала рисовать такие страшные последствия, такие душераздирающие драмы, что он старался держаться от опасной особы как можно дальше. Влюбиться в чужую женщину, имея верную жену Машу и тринадцать отпрысков, для достойного человека было бы поступком совершенно недопустимым.
До поры до времени Господь жалел Матвея Бенционовича, не искушал его сверх меры. А вернее сказать так: настоящий соблазн – не тот, который очевиден глазу. Очень возможно, что чаровницы, от которых шарахался Бердичевский, истинной угрозы для него и не представляли, ибо кто предупрежден, тот вооружен. Как это обычно и случается, погибель подстерегла добродетельного супруга там, где, казалось, бояться нечего.
Ну разве может кому-нибудь прийти в голову оберегаться любовного искушения со стороны монахини-черноряски?
Во-первых, инокиня – существо, можно сказать, лишенное половой принадлежности.
Во-вторых, сестра Пелагия совершенно не относилась к женскому типу, от которого Матвей Бенционович ожидал посягательств на свое сердце. У Бердичевского обычно возникало трепетание от сдобных блондинок с ямочками или, наоборот, от точеных брюнеток с царственным взором и нежным изгибом белой беззащитной шеи. А эта была рыжая, веснушчатая, да еще и в очках.
В-третьих, особа была давно знакомая, можно сказать, своя, то есть, по распространенному среди мужчин заблуждению, в романтическом смысле безопасная. Хотя чаще всего именно тут драмы и приключаются: давно знакомая и нисколько не интересная прежде женщина из-за какой-то сущей мелочи вдруг будто окутается трепетной дымкой, залучится сиянием. Схватишься за сердце, ахнешь: слепец, где же раньше были твои глаза? И станет поздно что-либо менять, и прятаться поздно – так сказать, судьбы свершился приговор.
Вот это самое с Бердичевским и произошло – дымка, сияние и за сердце схватился.
Началось с восхищения умом, смелостью и талантом Пелагии. В ту пору Матвей Бенционович квалифицировал свои чувства к монахине как уважительно-дружественные и не задумывался о том, почему ему так хорошо в ее присутствии. Друзьям и должно быть хорошо рядом, разве нет?
А потом, в некий особенно ясный день, уже после возвращения сестры из Строгановки, случилась пресловутая мелочь. Тот момент прокурор запомнил настолько ярко, что стоило ему зажмуриться, и он сразу видел все вновь, как наяву.
Пелагия подрезала розы, принесенные владыке из оранжереи, да и уронила ножницы в хрустальную вазу с водой. Поддернула рукав, чтобы опустить руку в мокрое. И у Матвея Бенционовича вдруг остановилось сердце. Никогда в жизни он не видел ничего чувственней тонкой, обнаженной руки, высунувшейся из черного рукава рясы и погружающейся в искристую влагу. Облизнув разом пересохшие губы, статский советник словно впервые разглядел лицо черницы: белая кожа, вся будто в золотой пыльце, наполненные мягким светом глаза... Это лицо нельзя было назвать красивым или хотя бы просто правильным, но оно явно и несомненно было прекрасным.
В тот день Бердичевский ушел от владыки рано, сославшись на дела. Был как оглушенный, даже покачивало. Придя домой, на жену посмотрел со страхом – вдруг разлюбил? Сейчас увидит свои Машеньку не через милосердные очки любви, а такой, какова она есть на самом деле: разбухшая, хлопотливая, с грубым голосом.
Вышло еще хуже. Любовь к жене никуда не делась, однако перестала занимать главное место в его жизни.
Обладая характером совестливым и справедливым, Матвей Бенционович мучился ужасно. Какая подлость, какая нечестность эта тривиальнейшая коллизия: сорокалетний муж охладел к утратившей очарование молодости жене и влюбился в другую. Как будто жена виновата, что поблекла, рожая ему детей, обеспечивая его мирную, счастливую жизнь!
В первые дни после ужасного открытия прокуpop перестал ходить к владыке по вечерам, когда там можно было встретить Пелагию.
На третий день не выдержал. Сказал себе: «Машу никогда в жизни не брошу и не предам, но ведь сердце не изнасилуешь. По счастью, она —монахиня, а стало быть, ничто такоеневозможно вдвойне, даже в квадрате». Этим совесть и успокоил.
Снова стал бывать у преосвященного.
Смотрел на Пелагию, слушал. Был горько, исступленно счастлив. Настолько уверовал в невозможность чего-то такого,что взял за правило отвозить черницу на своей коляске до училища. Эти поездки и стали для Матвея Бенционовича главным событием дня, тайным наслаждением, которого он ожидал с раннего утра.
Десять минут ехать рядом, на узком сиденье. Иногда, на повороте, соприкоснуться локтями. Пелагия, конечно, этого и не замечала, а у прокурора от солнечного сплетения вниз прокатывалась сладостная волна.
Был еще и десерт: подать ей руку, когда будет спускаться из коляски. Монахини ведь перчаток не носят. Дотронуться до ее кожи – легко-легко, ни на секунду не затягивая прикосновения. Что все восторги сладострастия по сравнению с этим кратким мигом?
В дороге они по большей части молчали. Пелагия смотрела по сторонам, Бердичевский всем видом показывал, что сосредоточен на управлении лошадью. А сам в это время мечтал: они муж и жена, возвращаются домой из гостей. Сейчас войдут в комнату, она рассеянно поцелует его в щеку и пойдет в ванную, готовиться ко сну...
* * *
В подобные минуты Матвею Беняионовичу мечталось волшебнее всего, особенно если весенний вечер выдавался так хорош, как нынче. Чтобы продлить иллюзию, прокурор позволил себе вольность – распрощался не у коляски, как обычно, а проводил до самого крыльца.
Устроил себе целую оргию: мало того что немножко стиснул за кисть, помогая выйти из одноколки, но потом еще и подставил локоть.
Пелагия нисколько не удивилась перемене в ритуале – не придала значения. Оперлась о сгиб его руки, улыбнулась:
– Что за вечер – чудо.
У Бердичевского тут же возникла смелая идея: возвести провожание от коляски до крыльца в ранг привычки. И еще: не ввести ли прощальное рукопожатие? А что такого? Руку монахиням не целуют, а рукопожатие – это очень сдержанно, целомудренно, по-товарищески.
На крыльце прокурор поднял фуражку – левой рукой, чтобы правая была свободна, но подать все-таки не решился, а Пелагии в голову не пришло.
– Спокойной ночи, – попрощалась она.
Взялась за ручку и вдруг вскрикнула – мило, беззащитно, по-девичьи.
Отдернула кисть, и Бердичевский увидел на безымянном пальце капельку крови.
– Гвоздь вылез! – с досадой сказала монахиня. – Давно пора новую ручку сделать, медную. – Полезла за платком.
– Позвольте, позвольте! – вскричал Матвей Бенционович, не веря своему счастью. – Платком нельзя, что вы! А если, не дай бог, столбняк! Вдруг там микробы! Это нужно высосать, я читал... в одной статье.
И совсем потерял голову – схватил Пелагию за руку, поднес уколотый пальчик к губам.
Она так удивилась, что не догадалась высвободиться. Только посмотрела на заботливого прокурора особенным образом, словно увидела его впервые.
Догадалась?
Но сейчас Бердичевскому было все равно. От тепла ее руки, от вкуса крови у него закружилась голова – как у изголодавшегося вампира.
Матвей Бенционович втянул соленую влагу что было сил. Жалел только об одном – что это не укус смертельно ядовитой змеи.
Пелагия опомнилась, выдернула палец.
– Выплюньте! – приказала она. – Мало ли какая там грязь!
Он деликатно сплюнул в платок, хотя, конечно, предпочел бы проглотить.
Смущенно пробормотал, уже раскаиваясь в своем порыве:
– Я немедленно выдерну этот мерзкий гвоздь.
Ах, беда! Догадалась, непременно догадалась! С ее-то проницательностью. Теперь все, станет избегать, сторониться!
Снял с оглобли фонарь, из ящика под сиденьем взял щипцы (необходимая в экипаже вещь – вынуть занозу из копыта, если лошадь захромает).
Вернулся на крыльцо строгий, деловитый. Вытянул коварный гвоздь, предъявил.
– Странно, – сказала Пелагия. – Кончик ржавый, а шляпка блестит. Будто только что вколочен.
Бердичевский посветил фонарем. Увидел, что острие поблескивает. От крови? Да, и от крови тоже. Но поблескивало и выше, чем-то масляным, более светлого колера.
У прокурора перехватило дыхание, только теперь уже не от любовного томления.
– Скорее! В больницу! – закричал он в голос.
Кррк-кррк
Профессор Засекин, главный врач Марфо-Мариинской больницы и всероссийская знаменитость, ранкой на пальце не заинтересовался. Осмотрел, пожал плечами и даже йодом не помазал. Зато к гвоздю отнесся в высшей степени серьезно. Отнес в лабораторию, с час колдовал над чем-то и вернулся озадаченным.
– Любопытный состав, – сказал он прокурору и его спутнице. – Для выведения полной формулы потребуется время, но тут присутствуют и Agaricus muscarus и Stryehnos toxifera, а концентрация кишечной палочки просто феноменальна. Такой пунш намешали, что ой-ой-ой. Если бы вы, голубчик, не отсосали эту гадость сразу же после травмирования... – Доктор выразительно покачал головой. – Удивительно, что ранка совершенно чистая. Знать, очень уж от души сосали, со страстью. Молодец.
Матвей Бенционович покраснел, боясь взглянуть на Пелагию. А та переспросила:
– «Намешали»? Вы хотите сказать, профессор, что это состав искусственного изготовления?
Бердичевскому стало за себя стыдно – о глупостях тревожится, а тут такое.
– Вне всякого сомнения, – сказал профессор. – В природе этакого компота не встречается. Здесь мастер поработал. Да не из наших – в Заволжске и лабораторий таких не имеется.
Прокурор похолодел, когда осознал весь смысл этого заявления. Изменилась в лице и Пелагия. Матвей Бенционович в этот миг любил ее так, что в носу сделалось щекотно. Сказали бы ему сейчас: вот субъект, который замыслил погубить дорогое тебе существо, и статский советник кинулся бы на злоумышленника, схватил бы его за горло и... Здесь у Бердичевского, человека мирного и отца семейства, потемнело в глазах и приключилось затруднение в дыхании. Он прежде и не подозревал в себе такого неиетовства.
Незамедлительно, прямо среди ночи, в архиерейском доме был созван чрезвычайный совет.
Матвей Бенционович был бледен и решителен. Внешне сохранял спокойствие, только чаще обычного хватался за нос;
– Теперь очевидно, что это не маниак-одиночка, а целая банда. Таким образом, главной становится версия «варшавских». У этой публики расквитаться за своего считается делом чести. Если уж вбили себе в голову, что их подельника погубила сестра Пелагия, то не успокоятся, пока ее не убьют. Я оставлю все прочие дела, поеду хоть в Варшаву, хоть в Москву, хоть в Житомир, но разыщу мерзавцев. Однако сколько продлится расследование, неизвестно. А между тем, нашей дорогой сестре угрожает смертельная опасность, и мы даже не можем предполагать, с какой стороны последует удар в следующий раз. Тут, владыко, надежда только на вас...
Преосвященный, которого подняли с постели, был в халате и войлочных туфлях. Дрожащие от волнения пальцы дергали и рвали нательный крест.
– Ее уберечь – это первое, – сказал Митрофаний хриплым голосом. – Только о том и думаю. Ушлю подальше, в какую-нибудь тихую обитель. И чтоб никто ничего. А тебя даже не спрошу! – прикрикнул он на духовную дочь, ожидая от нее сопротивления.
Но монахиня промолчала. Видно, хитроумная каверза с гвоздем не на шутку ее напугала. Бердичевскому сделалось так жалко бедняжку, что он часто-часто заморгал, да и владыка насупился, закряхтел.
– В Знаменском монастыре, что на Ангаре-реке, игуменья моя воспитанница, я тебе про нее рассказывал. Место удаленное, тихое, – загнул преосвященный один палец, а за ним и второй. – Еще на реке Уссури хороший скит есть. Чужих за десять верст видно. Тамошний старец мне друг. Сам тебя отвезу – хоть на Ангару, хоть на Уссури, куда пожелаешь.
– Нет! – в один голос воскликнули прокурор и монашка.
– Вам нельзя, – пояснил Бердичевский. – Слишком заметны. А уже ясно, что они за нами следят, глаз не спускают. Нужно потихоньку, скрытно.
Пелагия присовокупила:
– Лучше всего одной.
– И хорошо бы, конечно, не в монашеском облачении, а переодеться, – предложил Бердичевский, хоть и был уверен, что идею отвергнут.
Митрофаний и черница на это переглянулись, ничего не сказали.
– Я клятву давала, – нерешительно молвила Пелагия, чем привела Бердичевского в недоумение (о существовании госпожи Лисицыной прокурору известно не было).
– По такому случаю от обещания тебя разрешаю. Временно. Доберешься Лисицыной до Сибири, а там переоблачишься. Ну, говори, куда хочешь?
– Чем в Сибирь, я бы уж лучше в Палестину, – заявила вдруг сестра. – Всегда мечтала о паломничестве в Святую Землю.
Неожиданная мысль мужчинам понравилась.
– В самом деле! – вскричал Матвей Бенционович. – За границу всего безопасней.
– И познавательно, – кивнул владыка. – Я тоже всю жизнь мечтал, да времени недоставало. А ведь член Палестинского общества. Поезжай, дочка. В скиту тебе томно будет, я твой непоседливый нрав знаю. А там попутешествуешь, новых впечатлений наберешь. Не заметишь, как и время пройдет. Я же отпишу и отцу архимандриту в миссию, и игуменье в Горненский монастырь. Постранствуй в Палестине паломницей, поживи в обители, пока Матвей злодеев ловит.
И епископ сразу сел к столу, писать рекомендательные письма – на особой бумаге, с архиерейским вензелем.
Предосторожности были продуманы до мелочей.
Утром Пелагию увезли на карете «скорой помощи» – многие это видели. Прибежавшим в госпиталь ученицам объявили, что начальница совсем плоха и пускать к ней никого не велено. А ночью монахиня выскользнула через черный ход, и Бердичевский отвез ее за пятнадцать верст от города, на маленькую пристань.
Там ожидал катер. На нем конспираторы отплыли еще на пять верст и остановились посреди Реки.
Полчаса спустя показался сияющий огнями пароход, который спускался от Заволжска вниз по течению. Катер замигал лампой, и капитан, заранее предупрежденный секретной депешей, остановил машину – тихо, без кричания в рупор и гудков, чтоб не будить спящих пассажиров.
Матвей Бенционович помог Пелагии подняться по трапу. Впервые видел ее не монашкой, а дамой – в дорожном платье, в шляпке с вуалью.
Все время, от самой больницы, из-за этого наряда сбивался на непозволительные фантазии. Повторял про себя: «Женщина, она просто женщина». В душе прокурора трепетали сумасшедшие надежды.
Пелагия же была рассеянна, мысли ее витали где-то далеко.
Когда ступили на палубу, у Бердичевского вдруг сжалось сердце. Ему послышался чей-то голос, печально сказавший: «Прощайся. Ты никогда ее больше не увидишь».
– Не уезжайте... – понес сбивчивую чушь запаниковавший прокурор. – Я места себе... – И встрепенулся, осененный спасительной, как ему показалось, идеей. – Знаете что, а может все-таки на Ангару? Владыке нельзя, так вас бы я сопроводил. А потом уже возьмусь за расследование. А?
Представил, как они будут вдвоем ехать через всю Сибирь. Сглотнул.
– Нет, я в Палестину, – все так же рассеянно пробормотала путешественница. И вполголоса, про себя, прибавила. – Только бы успеть. Ведь убьют...
Про «успеть» Матвей Бенционович не очень понял, но концовка его отрезвила. И устыдила.
Жизнь дорогого существа в опасности. И его долг – не шпацировать с дамой сердца по сибирским просторам, а разыскать злодеев, и как можно скорей.
– Клянусь вам, я отыщу бандитов, – тихо сказал статский советник.
– Верю, что найдете, – ласково ответила Пелагия, но как-то опять без большой заинтересованности. – Только, думается мне, не бандиты это, и похищенные деньги тут ни при чем... Ну, да вы сами разберетесь.
Капитан, лично встречавший экстренную пассажирку, поторопил:
– Сударыня, нас сносит течением, а тут справа мели. Нужно запускать машину.
Пользуясь тем, что Пелагия не в рясе, а в платье, Бердичевский поцеловал ей руку – в полоску кожи над кружевной перчаткой.
Она коснулась его лба губами, перекрестила, и прокурор, посекундно оглядываясь, стал спускаться по трапу.
Тонкий силуэт сначала подернулся сумраком, а потом и вовсе растаял в темноте.
Пелагия шла за матросом, который нес чемодан. На палубе было пусто, только под окном салона дремал какой-то любитель ночного воздуха, закутанный в плед до самого носа.
Когда дама в шляпке с вуалью прошла мимо, закутанный шевельнулся, подвигал пальцами.
Раздался сухой, неприятный треск: кррк-кррк.
Часть вторая,
ЗДЕСЬ И ТАМ
VII. НЕ УСПЕТЬ
Таинственная и прекрасная
Мало кому выпадает счастье при первом же взгляде на Святую Землю увидеть ее таинственной и прекрасной, какова она и есть на самом деле.
Полине Андреевне Лисицыной повезло. Порт Яффа, морские врата Палестины, предстал перед ней не желто-серой грудой пыли и камней, а мерцающим елочным шаром – как в детстве, когда подкрадешься ночью к дверям рождественской залы, заглянешь в щелочку, и сначала ничего не видно, а потом вдруг блеснет во тьме что-то круглое, переливчатое, и сердце сожмется в предвкушении чуда.
Так получилось и с Яффой.
Как ни пыхтел пароход, как ни шлепал колесами, но не успел достичь желанного берега до заката. Черное небо слилось с черными водами, и обманувшиеся в ожиданиях пассажиры уныло побрели укладывать вещи. На палубе остались лишь госпожа Лисицына да крестьяне-богомольцы, весь багаж которых состоял из холщовой котомки, медного чайника и паломнического посоха.
И самое малое время спустя двери мрака приоткрылись. Сначала зажегся одинокий огонек, похожий на бледную звезду. Потом он сделался ярче, рядом возник второй, третий, четвертый, и вскоре из-за горизонта на море выкатилось золотистое яблоко города-скалы, все в крапинках тусклого света.
Крестьяне повалились на колени и затянули молитву. Лбы так истово застучали по палубе, что Полина Андреевна, лелея торжественность минуты, заткнула уши. Ветерок донес с берега слабый аромат апельсинов.
«Иоппия», произнесла вслух путешественница библейское название порта.
Три тысячи лет назад сюда сплавляли из Финикии кедры для постройки Соломонова храма. Среди этих волн Господь велел киту поглотить строптивого Иону, и был Иона в китовом чреве три дня и три ночи.
Пароход замедлил ход, остановился, залязгал цепью, протяжно гуднул. На палубу выбегали пассажиры, возбужденно галдя на разных наречиях.
Волшебство было нарушено.
Утром стало видно, что судно бросило якорь в полуверсте от суши – ближе было не подойти из-за мелей. Полдня стояли без движения, потому что дул изрядный ветер, а после обеда, едва волнение на море поутихло, с берега, отчаянно работая веслами, сорвалась целая флотилия лодок. В них сидели смуглые люди с обмотанными тряпьем головами, ужасно похожие на морских разбойников.
Пароход был в два счета взят на абордаж. Пираты гуськом вскарабкались по спущенному к воде трапу и с пугающей быстротой разбежались кто куда. Одни хватали за руки пассажиров и волокли к борту; другие, наоборот, не обращали внимания на людей, а ловко взваливали на плечи узлы и чемоданы.
Штурман Прокофий Сергеевич, с которым Лисицына за время плавания успела подружиться, объяснил, что это такой яффский порядок: разгрузкой кораблей монопольно владеют два клана арабских грузчиков, причем один ведает людьми, а другой багажом, и это разделение блюдется строго.
Бабы-паломницы, подхваченные жилистыми руками поперек талии, отчаянно визжали, некоторые пробовали и отбиваться, награждая охальников весьма существенными тумаками, но привычные носильщики только скалились.
Не прошло и двух минут, а первый баркас, набитый потрясенными богомольцами, уже отвалил от борта, за ним тут же припустил ялик, груженный котомками, чайниками и посохами.
Следующая лодка заполнялась столь же быстро.
Вот и к Полине Андреевне подлетел распаренный туземец, ухватил за запястье.
– Благодарю, я сама...
Не договорила – лихой человек играючи перекинул ее через плечо и засеменил вниз по трапу. Лисицына только ахнула. Внизу качалась и искрилась вода, руки у носильщика были жесткие и в то же время удивительно нежные, так что пришлось подавить в себе некое приятное и безусловно греховное шевеление.
Еще четверть часа спустя заволжская паломница ступила на землю Палестины и заплескала руками, силясь удержать равновесие, – за две недели отвыкла от тверди.
Прикрыла ладонью глаза от слепящего солнца. Огляделась.
Мерзкая и зловонная
Как же здесь было нехорошо!
То есть, в маленьких русских городах тоже бывает очень нехорошо – и убого, и грязно, и тошно от окружающей нищеты, но там в лужах отражается небо, над проваленными крышами зеленеют деревья, и в конце мая пахнет черемухой. А тихо-то как! Закроешь глаза – шелест листвы, жужжание пчел, недальний колокольный звон.
В, Яффе же все без исключения органы чувств доставляли паломнице сплошные неприятности.
Глаза – потому что повсюду натыкались на груды гниющих отбросов, кучки рыбьей требухи, всевозможные и ничуть не живописные лохмотья, а помимо того еще слезились от пыли и норовили зажмуриться от нестерпимо яркого света.
Язык – потому что вездесущая пыль немедленно заскрипела на зубах, будто рот набит наждачной бумагой.
Нос – потому что аромат апельсинов, давеча поманивший Полину Андреевну, оказался совершенной химерой; то ли вовсе примерещился, то ли не выдержал соперничества с доносившимися отовсюду миазмами гниения и нечистот.
Про уши и говорить нечего. В порту никто не разговаривал, все орали, причем в полную глотку. В многоголосом хоре лидировали ослы и верблюды, а над всей этой какофонией плыл безнадежный баритон муэдзина, казалось, отчаявшийся напомнить сему вавилону о существовании Бога.
Более всех прочих физических чувств досаждало осязание, ибо стоило Полине Андреевне миновать турецкую таможню, как в переодетую монахиню со всех сторон вцепились попрошайки, гостиничные агенты, извозчики, и разобрать, кто из них кто, было невозможно.
Плохонький русский городок напоминает чахоточного пропойцу, которому хочется дать копеечку, вздохнув над его горемычной судьбой, а Яффа показалась Полине Андреевне то ли бесноватым, то ли прокаженным, от которого только зажмуриться да бежать со всех ног.
Скрепляя дух, госпожа Лисицына строго сказала себе: монахиня не должна бежать и от прокаженного. Чтобы отрешиться от мерзости и зловония, устремила взгляд выше, на желтые стены городских построек. Но и они оказались не отрадны для глаза. Безвестные строители этих непритязательных сооружений были явно лишены суетного стремления впечатлить потомков.
Подхватив чемодан, а саквояж зажав под мышкой, Полина-Пелагия двинулась через толчею к узенькому ступенчатому переулку – там, по крайней мере, можно будет найти тень и решить, как действовать дальше.
Однако выбраться с площади так и не получилось.
Небритый человечек – в жилетке и брюках, но при этом в турецкой феске и арабских шлепанцах – торжествующе ткнул в нее пальцем:
– Ир зенд а идишке! 9 Идемте скорей, я отведу вас в отличную кошерную гостиницу! Будете, как дома у мамы!
– Я русская.
– А-а, – протянул небритый. – Тогда вам вон к тому господину.
Полина Андреевна взглянула в указанном направлении и радостно вскрикнула. Под широким полотняным зонтом на складном стульчике сидел приличного вида мужчина в темных очках; в руке он держал табличку с милой сердцу славянской вязью: «Императорское Палестинское общество. Проездные билеты и наставления для странников ко Гробу Господню».
Пелагия кинулась к нему, как к родному.
– Скажите, как бы мне попасть в Иерусалим?
– Можно по-разному, – степенно ответствовал представитель почтенного общества. – Можно железной дорогой, за три рубля пятьдесят копеек: всего четыре часа, и вы у врат Старого города. Сегодняшний поезд ушел, завтрашний отправляется в три пополудни. Можно восьмиместным дилижансом, за рубль семьдесят пять. Отправление завтра в полдень, в Святой Град прибудете ночью.
Паломница заколебалась. Путешествовать по Святой Земле в дилижансе? Или, того пуще, по железной дороге? Как-то это неправильно. Будто едешь в Казань или Самару, по хозяйственной надобности.
Ее взгляд упал на группу русских богомольцев, собравшихся на краю площади. Они постояли на коленях, целуя пыльную мостовую, потом двинулись вперед, широко отмахивая посохами. Однако на ноги поднялись не все. Два мужичка привязали к коленкам по большому лыковому лаптю и сноровисто зашуршали вверх по улице.
– Так и будут ползти все семьдесят верст до Иерусалима, – вздохнул представитель. – Какой вам билет, надумали?
– Наверное, на дилижанс, – неуверенно протянула Полина Андреевна, подумав, что вояж на локомотиве окончательно истребит благоговейное чувство, и без того изрядно подпорченное видом Яффского порта.
В этот миг ее дернули за юбку.
Обернувшись, она увидела смуглого человека довольно приятной наружности. Он был в длинной арабской рубашке, с широкого пояса которой свисала ярко начищенная цепочка часов. Туземец белозубо улыбнулся и шепнул:
– Зачем дилижанс? Нехорошо дилижанс. У меня хантур. Знаешь хантур? Такой карет, сверху шатер. Как султан Абдул-Хамид поедешь. Кони – ай-ай, какие кони. Арабские, знаешь? Где захочешь – встанем, смотреть будешь, молиться будешь. Все покажу, все расскажу. Пять рубль.
– Откуда вы знаете по-русски? – спросила Пелагия, почему-то тоже шепотом.
– Жена русская. Умная, красивая, как все русские. И я тоже русской веры. Зовут Салах.
– Разве Салах – христианское имя?
– Самое христианское.
В доказательство араб троеперстно перекрестился и пробормотал: «Отченашижеесинанебеси».
Это был чудесный знак! В первые же минуты по прибытии в Святую Землю встретить православного, да еще русскоговорящего палестинца! Сколько полезного можно будет от него узнать! И потом, путешествие в собственном экипаже, на хороших лошадях, это вам не линейный дилижанс.
– Едем! – воскликнула Полина Андреевна, хотя добрый штурман строго-настрого предупреждал ее: в Палестине не принято соглашаться с назначенной ценой, здесь положено из-за всего подолгу торговаться.
Но не рядиться же из-за лишнего рубля, когда едешь в Пресвятый Град Иерусалим?
– Завтра едем. – Салах подхватил чемодан будущей пассажирки, поманил рукой за собой. – Сегодня нельзя. До ночь не успеть, а ночь плохо, разбойники. Идем-идем, хорошее место ночевать будешь, у моя тетя. Один рубль, только один рубль. А утром как птичка летим. Арабские кони.
Пелагия едва поспевала за быстроногим проводником, который вел ее лабиринтом узких улочек, забиравшихся все выше в гору.
– Так ваша жена русская?
Салах кивнул:
– Наташа. Имя Маруся. Мы Ерусалим живем.
– Что? – удивилась она. – Так Наташа или Маруся?
– Моя Наташа звать Маруся, – загадочно ответил туземный человек, и на этом разговор прервался, потому что от подъема по горбатой улочке у паломницы перехватило дыхание.
«Хорошее место», куда проводник отвел Полину Андреевну, оказалось глинобитным домом, в котором постоялице отвели голую комнату без какой-либо обстановки. Салах распрощался, объяснив, что в доме нет мужчин, поэтому ему ночевать здесь нельзя – он заедет завтра утром.
Спать путешественнице пришлось на тощем тюфяке, умываться из таза, а роль ватерклозета исполнял медный горшок, очень похожий на лампу Аладдина.
Душевное благоговение, будучи субстанцией хрупкой и эфемерной, всех этих досадных неудобств не вынесло – съежилось, присыпалось пеплом, как головешка в погасшем костре. Монашка попробовала читать Библию, чтобы снова раздуть волшебную искорку, но не преуспела. Должно быть, мешало светское платье. В рясе сохранять блаженный трепет много легче.
А когда при умывании заглянула в зеркало, совсем расстроилась.
Вот тебе на! По переносице и щекам вылезли веснушки – явление, огорчительное для любой женщины, а уж для особы духовного звания и вовсе неприличное. А ведь, казалось, были начисто истреблены посредством ромашкового молочка и медовых притирок!
Пустыня из пустынь
Всю ночь несчастная госпожа Лисицына проворочалась на жестком ложе и рано утром, кое-как умывшись, заняла позицию у ворот в ожидании скорого прибытия возницы.
Прошел час, другой, третий. Салаха не было.
Солнце начинало припекать, и Полина Андреевна осязаемо чувствовала, как проклятые конопушки набирают цвет и густоту.
Явление православного туземца уже не казалось ей «чудесным знаком» – скорее подлой уловкой, которую Лукавый изобрел, чтобы отдалить прибытие паломницы в Божий Град.
Пока монахиня колебалась, ждать ли дальше или вернуться в порт, миновал полдень, а это означало, что иерусалимский дилижанс упущен.
Боясь, как бы не опоздать и на трехчасовой поезд, Пелагия, наконец, двинулась в сторону моря, но у первого же перекрестка остановилась. Куда поворачивать, вправо или влево?
Именно в эту минуту из-за угла выкатила вихлястая повозка с огромными колесами, прикрытая сверху куском выцветшего полотна. Спереди восседал коварный обманщик Салах, лениво помахивал кнутом над спинами двух костлявых лошаденок.
– Мой хантур, – гордо показал он на свой непрезентабельный экипаж. – Мои кони.
– Арабские? – не удержалась от язвительности Полина Андреевна, с обидой вспомнив свои вчерашние мечты о тонконогих аргамаках, которые понесут ее через горы и долины в самый главный город на всем Божьем свете.
– Конечно, арабские, – подтвердил мошенник, привязывая чемодан. – Здесь все кони арабские. Кроме тех, которые еврейские. Еврейские немножко лучше.
Но на этом злодейства Салаха не закончились.
Повозка повернула в центр Яффы и остановилась перед гостиницей «Европа» (оказывается, имелась здесь и такая – ночевать на полу было вовсе не обязательно!). Госпоже Лисицыной пришлось потесниться – на скамейку уселась американская пара: муж и жена. Они оказались не паломниками, а туристами:путешествовали по Holy Land 10, снаряженные по всей науке агентства «Кук» – обильный багаж граждан Нового Света был навьючен на грязного, недокормленного верблюда.
–Я же заплатила пять рублей! – зашипела Полина Андреевна на Салаха. – Так нечестно!
– Ты худая, места много, вместе веселей, – беззаботно ответил сын Палестины, прикручивая уздечку горбатого прицепа к задку своей колымаги. – Mister, missus, we go Jerusalem! 11
– Gorgeous! 12 – откликнулась на это известие «миссус», и караван тронулся в путь.
В знак протеста монахиня прикинулась, что не понимает по-английски, и прикрыла лицо платочком, но американцы не очень-то нуждались в собеседниках. Они были полны энергии, всему бурно радовались, то и дело щелкали маленьким фотографическим аппаратом, а слово «gorgeous» звучало из их уст не реже двух раз в минуту.
Когда повозка выехала на открытое пространство, пересеченное уходящей за горизонт шоссейной дорогой, туристы (очевидно, следуя куковскому наставлению) нацепили зеленые очки, что было очень даже неглупо – Полина Андреевна скоро это поняла. Во-первых, в очках не слепило солнце, а во-вторых, цвет стекол, должно быть, компенсировал полное отсутствие зеленой гаммы в пейзаже.
Повсюду лишь камни и пыль. Это была та самая равнина, где Иисус Навин, преследуя войско пятерых царей Ханаанских, воскликнул: «Стой, солнце, над Гаваоном, и луна над долиною Аиалонскою!» – и остановилось солнце посреди неба, и не спешило к западу еще один день.
У высохшего ручья, где Давид сразил Голиафа, туристы потребовали остановиться. Муж взял в руку камень и свирепо выпятил глаза; супруга, хохоча, наводила на него «кодак».
Мимо катились повозки европейского и азиатского вида, ехали всадники, шли пешие, причем последние – почти сплошь русские богомольцы, странно неуместные средь этого пустынного ландшафта. Полина Андреевна уныло подумала, что «арабские кони» Салаха движутся ничуть не быстрее этих ходких мужиков и баб.
Несколько паломников спустились к ручью в надежде разжиться водой. Разгребли сухую гальку, но не добыли ни капли.
– Одному нашему, из вяземских, о прошлый год тож благость вышла, – подслушала Пелагия обрывок разговора. – Брел он этак вот с Ерусалима в обратку, и разбойники его порезали, насмерть. Сподобился в Святой Земле Богу душу возвернуть.
– Вот счастье-то, – позавидовали слушатели.
Отправились дальше.
Вдали показались холмы – Иудейские горы. Разглядев на одной из вершин развалины крепости (судя по виду, построенной крестоносцами), монахиня покачала головой. Почему люди столько веков сражаются за эту убогую, бесплодную землю? Да стоит ли она того, чтобы из-за нее проливать столько крови?
Должно быть, в библейские времена эта равнина была совсем не такой, через нее текли реки, полные молока и меда, повсюду зеленели поля и кущи. А теперь здесь проклятое, выморочное место. Сказано у пророка Иезекииля: «И сделаю землю пустынею из пустынь, и гордое могущество ее престанет, и горы Израилевы опустеют, так что не будет проходящих, и узнают, что Я Господь, когда сделаю землю пустынею из пустынь за все мерзости их, какие они делали».
И полезли в голову Пелагии совсем не паломнические, а явственно еретические мысли.
Отчего ветхозаветный Бог был так жесток? Почему его заботило лишь одно – достаточно ли истово поклоняются ему евреи? Разве это так важно? И почему Он столь чудесно меняется в Новом Завете? Или это уже другой Бог, а не Тот, что наставлял Иакова и Моисея?
Закрестилась, отгоняя богохульные домыслы. Чтобы отвлечься, стала прислушиваться к болтовне Салаха.
Тот стрекотал почти без остановки. Поскольку русская пассажирка все попытки завязать разговор встречала суровым молчанием, возница избрал себе в собеседники американскую пару. По-английски он изъяснялся не хуже, чем по-русски, – то есть, с ошибками, но бойко и складно.
Очевидно поверив, что Пелагия этого языка не знает, пройдоха заявил, что его жена американка, «красивая и умная, как все американки». Полина Андреевна хмыкнула, но сдержалась.
Пока пересекали Аиалонскую долину, Салах все ругал евреев, которые не давали покоя местным жителям ни в древние времена, ни сейчас. При этом он утверждал, что палестинцы обитали здесь всегда, они-то и есть прямые потомки библейских хананейцев. Жили себе и горя не знали, пока из пустыни не явилось жестокое, подлое племя, которое инородцев не считает за людей. У них и в Книге велено: хананеям пощады не давать, истребить их всех без остатка. Вот они и истребляют – и в давние времена, и сейчас.
Пелагия слушала не без интереса. В газетах писали, что туземное население Палестины обеспокоено наплывом евреев, которые все гуще заселяют Землю Обетованную, и что дикие арабы подвергают мирных переселенцев грабежу и притеснению. Любопытно было узнать и противоположную точку зрения.
Почти две тысячи лет жили без них, и хорошо жили, жаловался Салах. И вот они появились опять. Тихие такие, жалкие. Мы приняли их с миром. Научили возделывать землю, спасаться от жары и от холода. А что теперь? Они расплодились, как мыши, подкупают турок своими европейскими деньгами. Теперь вся лучшая земля у евреев, а наши феллахи батрачат на них за кусок хлеба. Евреи не успокоятся, пока вовсе не прогонят нас с нашей Родины, потому что мы для них не люди. Так в их книгах написано. У них жестокие книги, не то что наш Коран, призывающий быть милосердным к иноверцам.
Американцы внимали этим ламентациям не слишком внимательно, то и дело отвлекаясь на достопримечательности («Look, honey, isn't it gorgeous!»), Пелагия же в конце концов не выдержала:
– OurQuaran? 13 – повторила она с ядом в голосе. – А кто врал, что православный?
– А кто врал, что не понимать английски? – парировал Салах.
Полина Андреевна умолкла и до самого вечера рта больше не раскрывала.
По горам двигались еще медленней – главным образом из-за верблюда, который подолгу застревал на обочине у каждой колючки, которой удалось пробиться сквозь мертвую почву. Езда заметно ускорилась, лишь когда скверное животное заинтересовалось цветами на шляпке Полины Андреевны. Ощущать затылком горячее, влажное дыхание парнокопытного было не слишком приятно, а один раз за ворот путешественницы упал сгусток вязкой слюны, но монахиня жертвенно терпела эти домогательства и только время от времени отпихивала губастую башку локтем.
Переночевали в арабском селении Баб аль-Вад, у Салахова дяди. Эта ночь была еще тягостней предыдущей. В комнате, отведенной госпоже Лисицыной, был земляной пол, и она долго не решалась на него лечь, опасаясь блох. «Лампой Аладдина» воспользоваться тоже не удалось, потому что у двери расположились две женщины с синей татуировкой на щеках и девочка, в грязные волосы которой было вплетено множество серебряных монеток. Они сидели на корточках, разглядывая постоялицу, и обменивались какими-то комментариями. Девочка скоро уснула, свернувшись калачиком, но арабские матроны пялились на красноволосую чужеземку чуть не до самого рассвета.
А назавтра выяснилось, что американцы провели ночь самым отличным образом – по совету вездесущего «Кука» растянули в саду гамаки и выспались просто gorgeous.
Измученная Пелагия тряслась в хантуре, то и дело проваливаясь в сон. Поминутно вскидывалась от резких толчков, непонимающе озирала лысые вершины холмов, снова начинала клевать носом. Шляпку отдала верблюду, чтоб не приставал. Голову прикрыла газовым шарфом.
И вдруг, где-то на рубеже яви и сна прозвучал голос, отчетливо и печально произнесший: «Не успеть».
Душу Полины Андреевны почему-то пронзила острая тоска. Путешественница встрепенулась. Сонный морок растаял без следа, мозг очнулся.
Что же это я, совсем ума лишилась, сказала себе Пелагия. Тоже туристка выискалась – железная дорога мне нехороша. А день потерян впустую. Какая непростительная, даже преступная глупость!
Нужно спешить. Ах, скорей бы Иерусалим!
Она подняла голову, стряхнула с ресниц остатки сна и увидела вдали, на холме, парящий в дымке город.
Град Небесный
Вот он, Иерусалим, поняла Пелагия и приподнялась на скамье. Рука взметнулась к горлу, словно боясь, что прервется дыхание.
Сразу забылись и пыль, и жара, и даже таинственный, непонятно откуда донесшийся голос, что вывел паломницу из сонного оцепенения.
Салах объяснял на двух языках, что нарочно съехал с шоссе – показать Джерузалем во всей красе; что-то вопили американцы; прядали ушами лошади; дохрупывал шляпку верблюд, а Пелагия зачарованно смотрела на покачивающийся в мареве град, и из памяти сами собой выплывали строки «Откровения»: «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. Он имел двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями: основание первое яспис, второе сапфир, третье халкидон, четвертое смарагд, пятое сардоникс, шестое сердолик, седьмое хризолит, восьмое вирилл, девятое топаз, десятое хризопрас, одиннадцатое гиацинт, двенадцатое аметист. А двенадцать ворот – двенадцать жемчужин: каждые ворота из одной жемчужины. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло». По-старинному последняя фраза звучала еще прекрасней: «И стогны, града злато чисто, яко стекло пресветло».
Вот оно, самое важное место на земле. И правильно, что путь к нему столь тягостен и докучен. Это зрелище нужно выстрадать, ведь свет сияет ярко лишь для зрения, истомленного тьмой.
Монахиня спустилась наземь, преклонила колени и прочла радостный псалом «Благослови душе моя, Господа, и вся внутренняя моя святое имя Его», но закончила молитву странно, не по канону: «И вразуми меня, Господи, сделать то, что должно».
Хантур тронулся вперед, навстречу Иерусалиму, и город сначала исчез, скрытый ближним холмом, а потом появился вновь, уже безо всякой дымки и нисколько не похожий на град небесный.
Потянулись скучные улицы, застроенные одноэтажными и двухэтажными домами. Это был даже не Восток, а какая-то захолустная Европа, и если бы не арабская вязь на вывесках да не фески на головах прохожих, легко было бы вообразить, что находишься где-нибудь в Галиции или Румынии.
Перед Яффскими воротами Старого города Полина Андреевна совсем расстроилась. Ну что это в самом деле! Фиакры, банк «Лионский кредит», французский ресторан, даже – о ужас – газетный киоск!
Американская пара высадилась у отеля «Ллойд», сдав верблюда швейцару в красной ливрее. Госпожа Лисицына осталась единственной пассажиркой хантура.
– Храм Гроба Господня там? – с трепетом спросила она, показывая на зубчатую стену.
– Там, но мы туда не едем. Раз ты русская, тебе надо в Миграш а-русим, Русское подворье. – Салах махнул рукой куда-то влево.
Повозка поехала вдоль крепостной стены, и через несколько минут путешественница оказалась на небольшой площади, которая словно перенеслась сюда по мановению волшебной палочки прямо из Москвы. Измученный горами и пустынями взор монахини любовно обозрел купола православного храма, безошибочно русские присутственные постройки, указатели с надписями «Хлебопекарня», «Водогрейная», «Народная столовая», «Женский странноприимный дом», «Сергиево подворье».
– До свиданья, госпожа, – поклонился Салах, на прощанье ставший очень почтительным – должно быть, надеялся на бакшиш. – Здесь все наши, русские. Захочешь назад Яффо ехать или куда пожелаешь, иди Дамасские ворота, спроси Салах. Там все знают.
Бакшиша ему Полина Андреевна не дала – не заслужил, но простилась по-доброму. Жулик, конечно, но все-таки ведь довез.
Для удобства богомольцев здесь, как и в Яффском порту, на самом видном месте, под зонтом, сидел сотрудник странноприимного комитета. Объяснял здешние порядки, отвечал на вопросы, размещал на постой согласно званию и средствам: для людей бедных кров и стол стоили всего 13 копеек, но можно было поселиться и с комфортом, за 4 рубля.
– Как бы мне повидать отца архимандрита? – спросила Полина Андреевна. – У меня к нему письмо от преосвященного Митрофания, архиерея Заволжского.
– Его высокопреподобие в отлучке, – ответил служитель, ласковый старичок в железных очках. – Поехал в Хеврон, участок для школы присмотреть. А вы бы, сударыня, пока отдохнули. У нас баня своя, и даже с дворянским отделением. Прачки хорошие – белье постирать. А то исповедайтесь с дороги. Многие так делают. В храме места недостает, так отец архимандрит благословил в саду шатры-исповедальни поставить, как в раннехристианские времена.
И в самом деле, у края площади, под деревьями, стояли четыре палатки, увенчанные золочеными крестами. К каждой стояла очередь: одна очень длинная, две умеренные, а подле четвертого шатра дожидались всего два человека.
– Отчего такая неравномерность? – полюбопытствовала Пелагия.
– А это, изволите видеть, согласно желанию. Более всего алчут попасть к отцу Ианнуарию, святейшему во всей нашей миссии старцу. Отец Мартирий и отец Корнилий тоже возлюблены богомольцами, хотя, конечно, и менее, чем отец Ианнуарий. А вон туда, к отцу Агапиту, мало кто отваживается. Суровенек и характером невоздержан. Вы уж, милая сударыня, извините, – развел руками старичок. – Исповедальня – не гостиница, разрядов не имеет. Пред Богом все равны. Так что если желаете к отцу Ианнуарию, придется вместе с простыми ожидать – это часа четыре на солнцепеке, не меньше. Некоторые господа, правда, нанимают кого-нибудь заместо себя постоять, но это, ей-богу, грех.
– Ничего, я исповедуюсь после, – легкомысленно сказала Полина Андреевна. – Когда жара спадет. А пока определите-ка меня на постой.
В эту минуту из исповедальни, пользовавшейся наименьшим спросом у богомольцев (она была ближе всего к площади), донесся крик. Полотняные стенки шатра качнулись, и наружу вылетел чернявый господин в очках, едва не растянувшись на траве. Похоже, очкастый был вытолкнут из обители таинства, что называется, взашей.
Кое-как удержавшись на ногах, он ошеломленно уставился на вход, а оттуда высунулся косматый поп с перекошенным от ярости багровым лицом и возопил:
– К мойшам своим ступай! В Ров Га-Иуди! Пускай иуды тебя исповедуют!
– Ну вот видите! – болезненно вскрикнул странноприимный старичок. – Он опять!
– А что такое «Ров Га-Иуди»? – быстро спросила Полина Андреевна, глядя на грозного отца Агапита с чрезвычайным вниманием.
– Еврейский квартал в Старом городе. Там, за стеной, есть четыре квартала...
Но Пелагия уже не слушала – сделала несколько шагов по направлению к саду, словно боялась пропустить хоть одно слово в разворачивающейся перебранке.
Чернявый господин, придя в себя от первого потрясения, тоже стал кричать:
– Вы не смеете! Я крещеный! Я на вас отцу архимандриту пожалуюсь!
– «Крещеный»! – передразнил исповедник и сплюнул. – Сказано народом: «Жид, как бес: никогда не покается». И еще сказано: «Жида перекрести, да и под лед пусти!» Тьфу на тебя! Тьфу! Изыди!
И так свирепо закрестил очкастого, словно собирался ударить его сложенными цальцами сначала в лоб, потом в низ живота, а после еще добавить по правой и левой ключице. От этих угрожающих телодвижений изгнанный попятился, а вскоре и вовсе бежал с поля боя, бормоча и всхлипывая.
На двух паломников, дожидавшихся своего череда исповедоваться у отца Агапита, эта сцепа произвела сильное впечатление. Они быстренько ретировались – один переместился в очередь к отцу Мартирию, другой – к отцу Корнилию.
– Постойте, – окликнул Полину Андреевну старичок. – Я вам покажу, где гостиница для паломниц благородного звания.
– Спасибо. Но, знаете, я, пожалуй, все-таки сначала исповедуюсь, – ответила Пелагия. – Как раз и очереди нет.
Мнимый брахицефал
Когда паломница произнесла положенное «Исповедую Господу моему и вам, отче, все прегрешения мои», священник вдруг спросил:
– Что это у вас волосы рыжие?
Полина Андреевна непочтительно разинула рот – до того удивилась вопросу. Отец Агапит сдвинул брови:
– Часом, не из выкрестов будете?
– Нет, – уверила его кающаяся. – Честное слово!
Но священник «честным словом» не удовлетворился.
– Может, ваш родитель из кантонистов? Имеете ли долю еврейской крови – с отцовской либо с материнской стороны? Рыжины без жидинки не бывает.
– Что вы, отче, я совершенно русская. Разве что прадед...
– Что, из жидков? – прищурился исповедник. – Ага! У меня глаз верный!
– Нет, он приехал из Англии, еще сто лет назад. Но женился на русской, принял православие. Да почему вы так допытываетесь?
– А-а, другое дело, – успокоился отец Агапит. – Это ничего, если из Англии. Должно быть, ирландского корня. Тогда понятно. Рыжесть, она ведь двух источников бывает: кельтского и еврейского. Пытал же я вас для того, чтоб по оплошности не опоганить таинство покаяния. Сейчас много жидов и полужидков, кто норовит к православию примазаться. Уж на что жид скверен, а крещеный жид еще втрое того хуже.
– Вы потому и того господина прогнали?
– У него на роже написано, что из абрашек. Говорю же, у меня глаз. Не допущу святотатства, пускай хоть на костре жгут!
Пелагия выразила на лице полное сочувствие подобной самоотверженности, вслух же заметила:
– Однако наша церковь приветствует новообращенных, в том числе и из иудейской веры...
– Не церковь, не церковь, а глупцы церковные! После заплачут, да поздно будет. Что это: дурь или бесовское наущение – в стадо белых овец черную пускать!
Поп тут же и пояснил свою не вполне ясную аллегорию:
– Есть овцы белые, что пасутся на склонах горних, близ взора Божия. А есть овцы черные, их пастбище – низины земные, где произрастают плевелы и терновники. Белые овцы – христиане, черные – евреи. Пускай жиды жрут свои колючки, лишь бы к нашему стаду не прибивались, не портили белизну руна. Сказано на Шестом Вселенском Соборе: у жида не лечись, в бане с ним не мойся, в друзья его не бери. А для того чтоб Божье стадо с паршивыми овцами не смешивалось, существуем мы, Божьи овчарки. Если чужая овца к нашей пастве подбирается, мы ее клыками за ляжки, да трепку ей, чтоб прочим неповадно было.
– А если наоборот? – спросила Пелагия с невинным видом. – Если кто захочет из белого стада в черное? Есть ведь такие, кто отрекается от христианства и принимает иудаизм. Мне вот рассказывали про секту «найденышей»...
– Христопродавцы! – загрохотал отец Агапит. – А вожак ихний Мануйла – бес, присланный из преисподни, чтобы Сына Человеческого вторично сгубить! Мануйлу того нужно в землю вбить и колом осиновым проткнуть!
Голос Полины Андреевны стал еще тише, еще бархатней:
– Отче, а еще мне говорили, что этот нехороший человек будто бы подался в Святую Землю...
– Здесь он, здесь! Прибыл глумиться над Гробом Господним. Видели его на Пасху, смущал богомольцев своими соблазнами и некоторых соблазнил! Его уж и сами жиды хотели камнями побить, даже им от него тошнотворно! Убежал, скрылся, змей. Эх, братьев бы сюда!
– У вас есть братья? – наивно спросила паломница.
Агапит грозно улыбнулся.
– Есть, и много. Не по крови – по душе. Витязи православия, Божьи защитники. Слыхала про «Христовых опричников»?
Полина Андреевна улыбнулась, словно поп сообщил ей нечто очень приятное.
– Слышала, и в газетах читала. Одни об этих людях хорошо отзываются, другие плохо. Мол, бандиты и громилы.
– Это жиды врут и поджидки! Ах, знали бы вы, дочь моя, сколь жестоко они притесняют здесь меня! – пожаловался отец Агапит. – В России-то нашим отрадно, там снизу своя земля греет, а по бокам верная братия. Там мы сильны. А на чужбине одному горько, тяжко.
Это признание ужасно взволновало отзывчивую собеседницу.
– Как? – в беспокойстве вскричала она. – Разве вы не имеете здесь, на Святой Земле, единомышленников? Кто же защитит белых овечек от черных? Где же эти ваши «опричники»?
– Там, где им и надлежит быть: в России-матушке. В Москве, Киеве, Полтаве, Житомире.
– В Житомире? – переспросила Полина Андреевна с живейшим интересом.
– Да, житомирцы – витязя верные, боевитые. Жидам спуску не дают, а пуще того приглядывают за поджидками. Если б Мануйла этот пакостный стал в Житомире воду мутить, или тот носатый, которого я давеча вытолкал, посмел мне, особе духовного звания, грозить, тут же бы из них и дух вон!
Воспоминание о недавней перебранке вновь привело отца Агапита в раздражение.
– Архимандриту он нажалуется! А тот, ирод, только рад будет. Высокопреподобный наш одержим бесом всетерпенства, я ему как кость в горле. Изгонят меня отсюда, сестра, – горько произнес ревнитель чистоверия. – Неугоден я им своей непреклонностью. Придешь в другой раз исповедоваться – а меня уж и нет.
– Так вы тут совсем один? – разочарованно протянула Полина Андреевна и как бы про себя добавила. – Ах, это не то, совсем не то.
– Что «не то»? – удивился поп.
Тут паломница убрала с лица всякую умильность и посмотрела на отца Агапита в упор, испытывая нехристианское желание сказать неприятному человеку гадость – да такую, чтоб проняло.
Ничего, можно, поддалась она искушению. Если б была в рясе, то нехорошо, а в платье позволительно.
– Вы сами-то не еврейских кровей будете? – спросила Полина Андреевна.
– Что?!
– Знаете, отче, я в университете слушала лекции по антропологии. Точно вам говорю: ваша матушка или, может, бабка согрешила с евреем. Посмотритесь в зеркало: межглазничное пространство у вас узкое – явственно семитского типа, нос хрящеватый, некоторая курчавость наблюдается, опять же характерные уши, а главное – форма черепа самая что ни на есть брахицефальная...
– Какая?! – в ужасе воскликнул отец Агапит, хватаясь за голову (которая, если быть точным, скорее относилась к долихоцефальному типу).
– Ну уж нет, – покачала головой Пелагия. – Не буду я рисковать, у еврея исповедоваться. Лучше к отцу Ианнуарию в очереди постою.
И с этими словами вышла из шатра, очень собою довольная.
Оказалось, что один богомолец у шатра все же стоит: мужик в большой войлочной шапке, чуть не до самых глаз заросший густой бородой.
– Вы лучше к другим священникам ступайте, – посоветовала ему госпожа Лисицына. – Отцу Агапиту нездоровится.
Крестьянин ничего не ответил, да еще и отвернулся – видно, не хотел перед исповедью оскверняться женосозерцанием.
Но когда паломница отошла, все же обернулся и проводил ее взглядом.
Тихонько промурлыкал:
– Нуте-с, нуте-с...
VIII. ХРИСТОВЫ ОПРИЧНИКИ
Бердичевского укусила муха
Матвея Бенционовича было прямо не узнать, словно подменили человека – об этом говорили и подчиненные, и знакомые, и домашние.
Куда подевалась всегдашняя мягкость, готовность конфузиться из-за всякой мелочи? Обыкновение смотреть в сторону при разговоре? Мямлить и сопровождать речь паразитическими выражениями, всякими там «знаете ли», «с вашего позволения» и «в сущности говоря»? Наконец, потешная привычка в малейшем затруднении хватать себя пальцами за длинный нос и крутить его наподобие винта или шурупа?
Губастый и несколько безвольный рот Бердичевского теперь постоянно пребывал в состоянии решительной поджатости, карие глаза обрели блеск плавящейся стали и сделались отчасти оранжевыми, а речь обрела сухость и отрывистость. Одним словом, милейший, интеллигентный человек превратился в совершенного прокурора.
Первыми метаморфозу, произошедшую со статским советником, ощутили на себе подчиненные.
Наутро после эвакуации сестры Пелагии начальник пришел на службу ни свет ни заря, встал в дверях с часами в руке и сурово отчитал каждого, кто явился в присутствие позже установленного часа, до сих пор почитавшегося всеми, в том числе и самим окружным прокурором, за некую абстрактную условность. Затем Матвей Бенционович вызвал к себе одного за другим сотрудников, приставленных к следственной части, и каждому дал свое задание, вроде бы вполне ясное по сути, но несколько расплывчатое в смысле генеральной цели. Прежде прокурор, бывало, соберет всех вместе и начнет многословно разглагольствовать про стратегию и общую картину расследования, теперь же никаких разъяснений дано не было: изволь делать, что приказано, и не рассуждать. Чиновники выходили из начальственного кабинета сосредоточенные и хмурые, на расспросы сослуживцев лишь махали рукой – некогда, некогда – и бросались исполнять предписанное. Прокуратура, бывшая доселе флегматичнейшим из губернских ведомств по причине малого распространения в Заволжье преступности, вмиг сделалась похожа на дивизионный штаб в разгар маневров: чиновники не ползали мухами, а бегали тараканчиками, двери закрывались не с приличным «клик-клик», а с оглушительным «хрряп»> и к телеграфному аппарату теперь почти всегда стояла нетерпеливая очередь.
Следующей жертвой новоявленной свирепости Бердичевского сделался сам губернатор, добродушный Антон Антонович фон Гаггенау. После своего внезапного преображения прокурор совершенно перестал показываться в Дворянском клубе, где раньше любил посидеть часок-другой, разбирая сам с собой шахматные партии, однако же традиционным вторничным преферансом у господина барона все же пренебречь не осмелился. Сидел необычно молчаливый, поглядывал на часы. Когда же вистовал на пару с его превосходительством против начальника казенной палаты, губернатор совершил оплошность – шлепнул королем прокуророву даму. Прежний Матвей Бенционович только улыбнулся бы и сказал: «Ничего, это я сам вас запутал», а этот, неузнаваемый, швырнул карты на стол и обозвал Антона Антоновича «растяпой». Губернатор захлопал своими белобрысыми остзейскими ресницами и жалобно оглянулся на супругу, Людмилу Платоновну.
До той уже успели дойти тревожные слухи из прокуратуры, теперь же она решила не откладывая, прямо с утра, нанести визит прокурорше Марье Гавриловне.
И навестила. Осторожно, за кофеем, поинтересовалась, здоров ли Матвей Бенционович, не сказывается ли на его характере сорокалетие – рубеж, который многим мужчинам дается очень нелегко.
Переменился, пожаловалась прокурорша. Будто какая муха Мотю укусила – раздражительный стал, почти ничего не кушает и ночью скрипит зубами. Марья Гавриловна тут же перешла к проблемам еще более насущным: у Кирюши затяжной понос, и Сонечку что-то обметало, не дай бог корь.
– Когда моему Антоше сравнялось сорок, он тоже словно взбеленился, – вернулась Людмила Платоновна к теме мужей. – Бросил курить трубку, стал мазать лысину чесночным настоем. А через годик успокоился, перешел в следующий возраст. И у вас, душенька, образуется. Вы уж только с ним помягче, с пониманием.
После ухода гостьи Марья Гавриловна еще минут десять размышляла про нежданную напасть, приключившуюся с супругом. В конце концов решила испечь его любимый маковый рулет, а остальное препоручить воле Всевышнего.
Во всем городе Заволжске один лишь Митрофаний знал истинную причину озабоченности и нервности прокурора. Оба условились сохранять полнейшую секретность, памятуя о сапожной подметке, чуть было не погубившей Пелагию, а также о вездесущести невидимого противника.
Исчезновение начальницы епархиального училища было объяснено медицинскими резонами: мол, сестра застудила себе почки безумными купаниями в ледяной веде и теперь срочно отправлена лечиться на кавказские воды. В школе неистовствовала прогрессистка Свеколкина, терзая бедных девочек десятичными дробями и равнобедренными треугольниками.
А по вечерам, поздно, к Митрофанию являлся Матвей Бенционович и подробно докладывал обо всех произведенных действиях, после чего оба раскрывали атлас и пытались вычислить, где сейчас находится Пелагия, – почему-то это доставляло обоим неизъяснимое удовольствие. «Должно быть, Керчь проплывает, – говорил, к примеру, епископ. – Там оба берега видно, и крымский, и кавказский. А за проливом волна уже другая, настоящая морская». Или: «Мраморным морем плывет. Солнце там жаркое – поди, вся конопушками пошла». И епископ с прокурором мечтательно улыбались, причем один смотрел в угол комнаты, а другой в потолок.
Затем Бердичевский из города исчез, якобы затребованный в министерство. Отсутствовал неделю.
Вернулся, и сразу с пристани, даже не побывав дома, поспешил к владыке.
Ну и прохиндей!
Едва закрыв за собой дверь кабинета, выпалил:
– Она была права. Впрочем, как и всегда... Нет-нет, не буду забегать вперед. Как вы помните, мы решили выйти на бандитов через их первоначальное преступление, похищение Мануйлиной «казны». Именно от этого события и потянулась зловещая нить. Предполагалось, что «варшавские» наметили свою жертву заранее и, по своему обыкновению, «вели» ее, выбирая удобный момент. Я намеревался восстановить маршрут, который проделали «найденыши», и проследовать по нему, подыскивая свидетелей.
– Помню, все помню, – поторопил духовного сына владыка, видевший по лицу рассказчика, что тот вернулся не с пустыми руками. – Ты надеялся установить, кто дал разбойникам эту... как ее...
– Наводку, – подсказал Бердичевский. – Кто нацелил их на сектантскую «казну». А оттуда добраться и до самих бандитов. Одно из главных правил сыска гласит: самый короткий путь к преступнику – от окружения жертвы.
– Да-да. Ты рассказывай. Нашел наводчика?
– Не было никакого наводчика! Да и дело совсем не в этом! Ах, владыко, вы меня не перебивайте, я вам лучше последовательно изложу...
Архиерей виновато вскинул ладони, потом одну из них приложил к губам: буду нем, как рыба. И рассказ наконец тронулся с места, хотя в полном безмолвии епископ удержаться не смог – не того темперамента был человек.
– На пароход Шелухин и его свита сели в Нижнем, – стал докладывать прокурор. – Туда, как я выяснил, приехали поездом из Москвы. Кондуктор запомнил лже-Мануйлу: колоритный для первого класса пассажир. Ехал в купе один, остальные оборванцы, у которых места были в общем вагоне, по очереди его навещали. Понятно, почему первый класс – для пущего правдоподобия: мол, и в самом деле пророк едет. И понятно, зачем с Шелухиным все время кто-то находился – из-за шкатулки... В Москве у «найденышей» есть нечто вроде сборного места, подвал на Хитровке, рядом с синагогой. Надо думать, нарочно держатся поближе к единоверцам, но настоящие евреи этих ряженых в синагогу не пускают и дела с ними иметь не хотят. Мануйлина паства молится на улице, снаружи. Зрелище потешное: накрывают головы полами своих хламид, что-то такое гнусавят на ломаном иврите. Зеваки потешаются, евреи плюются. В общем, аттракцион. Учтите еще и то, что большинство «найденышей» весьма неприглядны на вид. Уродливые, пропитые, с проваленными от сифилиса носами... Любопытно, что хитровская голытьба этих юродивых не трогает – жалеют. Я понаблюдал за «найденышами», кое с кем из них поговорил. Знаете, что меня больше всего поразило? Они просят подаяния, но денег не берут – только съестное. Говорят, что копеек им не нужно, потому что деньги царевы, а пропитание – оно от Бога.
– Как не берут денег? Откуда ж взялась «казна»?
– В том-то и штука! Откуда? Мы ведь с вами исходили из того, что содержимое похищенной шкатулки – это милостыня, собранная «найденышами». Что Мануйла все эти бессчетные пятачки да грошики поменял на кредитки и аккуратно в шкатулочку сложил. А тут выясняю – нет, ничего подобного! Я даже от «варшавской» версии отвлекся – заинтересовался, откуда взялись деньги. Стал осторожно выведывать у фальшивых евреев, слышали ли они про Мануйлину казну. Надо сказать, люди это по большей части открытые, доверчивые – именно такие ведь обычно и становятся добычей проходимцев. Говорят: знаем, слышали. «Аграмадные деньжищи» на обустройство в Святой Земле пожертвовал пророку Мануйле какой-то купчина из города Боровска. Я, разумеется, отправился в Боровск, поговорил с «купчиной».
– Да как ты его отыскал? – ахнул Митрофаний, не уставая поражаться, какие бездны напористости и энергии, оказывается, таятся в его духовном сыне.
– Без труда. Боровск – город маленький. Богатенький, чистенький, трезвый – там старообрядцы живут. Все все друг про друга знают. Появление столь эффектной фигуры, как пророк Мануйла, запомнили надолго. А дело было так. Боровский «купчина» (его фамилия Пафнутьев) сидел в своей бакалейно-калашной лавке и торговал, день был базарный. Подходит к нему тощий бродяга в хламиде, перепоясанной синей веревкой, с непокрытой косматой головой, в руке посох. Просит хлеба. Пафнутьев попрошаек не любит, стал его стыдить, обозвал «дармоедом» и «нищебродом». Тот ему в ответ: я нищий, а ты бедный, бедным быть много хуже, чем нищим. «Я бедный?!» – оскорбился Пафнутьев, который в Боровске считается одним из первых богачей. Мануйла ему: а то не бедный? До сорока семи годов, говорит, дожил, а так и не понял, что нищему куда блаженней, чем толстосуму. Купец пришел в изумление – откуда чужой человек узнал, сколько ему лет, – и только пролепетал: «Чем блаженней-то?». Духом, отвечает бродяга.
Митрофаний не выдержал, фыркнул:
– Так, значит, не признает Христа Мануйла? Однако же про блаженных духом ловко из Евангелия ввернул.
– И не только про них. Пророк Пафнутьев у еще сообщил, что к Богу дверца узкая, не всякий пролезет. Ты посуди, говорит, сам, кому легче протиснуться – нищему или тебе? И по худым бокам себя хлопает. А Пафнутьев, как и положено купчине, восьми, если не десяти пудов весу. Ну, все вокруг загоготали – очень уж наглядно получилось. Пафнутьев же не обиделся, а, по его собственным словам, «пришел в некую задумчивость», закрыл лавку и повел «странного человека» к себе домой, разговаривать.
– Что-то я не пойму. Он же вроде немой был, Мануйла. Или, во всяком случае, нечленораздельный. Я думал про него – надо же, какой оригинальный проповедник, без слов обходится.
– Отличнейше членораздельный. Какой-то изъян речи у него есть, не то картавит, не то пришепетывает, но эффекту это не мешает. Пафнутьев сказал: «изъясняет невнятно, но понятно». Обращаю ваше сугубое внимание на «некую задумчивость», которая сошла на Пафнутьева и понудила его повести себя совершенно несвойственным этому человеку образом.
– Гипнотические способности? – догадался преосвященный.
– И судя по всему, незаурядные. Помните, как он девочку от немоты исцелил? Преловкий субъект и очень, как бы это сказать, обстоятельный. Знаете, чем он Пафнутьева взял, когда они сели чай пить? Рассказал купчине всю его «жизню», притом в подробностях, о которых мало кому известно.
– Стало быть, он не случайно на базаре именно к Пафнутьеву подошел!
Матвей Бенционович кивнул:
– Собрал сведения, подготовился. И уж, смею вас уверить, не из-за корочки хлеба. О чем они говорили, Пафнутьев мне пересказать не смог. Кряхтел, щелкал пальцами, а ничего содержательного из Мануйлиных речей не привел. За исключением одного. – Прокурор сделал выразительную паузу. – «Божий человек» уговаривал купца отдать все свое богатство нуждающимся, ибо только тогда возможно обрести истинную свободу и найти тропку к Богу. У богатого, внушал Мануйла, совесть шерстью поросла, иначе не смог бы он сдобными булками питаться, когда другим и черного сухаря не хватает. Станешь нищим, совесть твоя и обнажится, врата небесные-то и откроются. А стоят эти врата сдобы иль нет – это уж ты сам смотри.
– И что же, распропагандировал толстосума? – улыбнулся архиерей.
Бердичевский поднял палец: а вы слушайте дальше – узнаете.
– Частично. «Напугался я – жуть, – рассказывал мне Пафнутьев. – Бес в меня вцепился, не попустил все богатство отдать». У него в божнице, за иконой, лежал сверток с «нечистыми» деньгами. Насколько я понял, боровские купцы имеют такой обычай: если получили неправедный куш – сбыли гнилой товар или обсчитали кого, нечестную выручку на время за икону кладут, чтоб «очистилась». Вот Пафнутьев и отдал борцу с богатством эти самые деньги – все, сколько их там было. Мануйла сначала ломался, брать не хотел – мол, ни к чему ему. Но потом, разумеется, преотлично взял. Говорит, пригодятся голым и голодным в Палестине. Там земля бедная, не то что Россия.
Матвей Бенционович не выдержал, рассмеялся – похоже, ловкий пройдоха вызывал у него восхищение.
– И что теперь? – заинтересовался Митрофа-ний. – Жалеет Пафнутьев о деньгах? Понимает, что его одурачили?
– Представьте себе, нет. Под конец разговора раскис, голову повесил. «Эх, говорит, стыдно-то как. Это ведь я не от Мануйлы, от Господа тряпицей с кредитками откупился. Надо было как есть все отдать, вот душу бы и спас». Ну да Бог с ним, с Пафнутьевым и с его переживаниями. Главное-то не это.
– А что?
– Угадайте, что за сумму пожаловал купец.
– Откуда ж мне знать. Верно, немалую.
– Полторы тысячи рублей. Вот сколько в тряпице было.
Митрофаний разочаровался:
– Всего-то...
– В том все и дело! – вскричал Матвей Бенционович. —Что за интерес для «варшавских» охотиться за такой мелочью, да еще идти на убийство? К тому же неизвестно, всю ли сумму Мануйла отдал «меньшому брату». Поди, львиную долю себе оставил. Я ведь с чего начал: Пелагия была права. Не в шкатулке тут дело, а в самом Мануйле. Так что версия с грабежом отпадает. Те, кого мы ищем, никакие не бандиты.
А кто же они?
– А кто же они? – Митрофаний сдвинул брови, – Кому Пелагия ненавистна до такой меры, что нужно ее то заживо муровать, то ядом травить?
– Про отравителя мы совсем ничего не знаем. Зато про первого злоумышленника нам известно довольно многое. От него-то мы и станем танцевать, – заявил прокурор с уверенностью, свидетельствовавшей, что план последующих действий им уже составлен. – Как по-вашему, что в истории Рацевича самое примечательное?
– То, что он из жандармов. И что его выгнали со службы.
– А по-моему, иное. То, что он выплатил долги. Собственных средств на это у Рацевича не имелось, иначе он не довел бы дело до тюрьмы и изгнания из корпуса. Ergoденьги на выкуп из ямы ему дал кто-то другой.
– Кто?! – вскричал преосвященный.
– Тут две версии, в некотором роде зеркально противоположные. Первая лично для меня весьма неприятна. – Бердичевский страдальчески поморщился. –Возможно, долг был не выплачен, а прощен – самими кредиторами. А кредиторами штабс-ротмистра, как известно, были ростовщики-евреи.
– Чтоб ростовщики прощали долг? Это что-то неслыханное. С какой стати?
– В том-то и вопрос. Что сделал или должен был сделать Рацевич в обмен на свободу? Зачем евреям понадобился специалист по сыску и насилию? Ответ, увы, очевиден. Евреи ненавидят пророка Мануйлу, считают, что он оскорбляет и позорит их веру. Видели бы вы, с каким ожесточением злосчастных «найденышей» гонят от синагоги.
Чувствовалось, что Матвею Бенционовичу тяжело говорить такое про соплеменников, однако интересы следствия вынуждают его к беспристрастности.
– Ах, владыко, наше еврейство, еще недавно тишайшая из общин, в последнее время словно взбесилось. В его толще пробудились самые разные силы и течения, и все как на подбор ярые, фанатичные. Масса еврейского народа заколыхалась, задвигалась, готовая ринуться то в Палестину, то в Аргентину, то, прости Господи, в Уганду (как вы знаете, англичане предложили именно там основать новый Израиль). А более всего возбудились иудеи Российской империи, потому что угнетены и бесправны. Наиболее молодая и образованная часть, искренне пытавшаяся обрести в России настоящую родину, столкнулась с неприязнью и недоверием властей. Ведь еврею у нас стать русским трудно и почти невозможно – постоянно найдутся охотники помянуть про «вора прощеного». Или слышали шутку: когда крестишь жида, окуни его башкой в воду, да подержи минут пять? Многие из неудавшихся ассимилянтов разочаровались в России и хотят построить свое собственное государство в Святой Земле, подобие земного рая. А строительство рая на земле – дело жестокое, без крови не обходится. Да я бы и сам, если б мне не повезло встретить вас, вероятнее всего оказался бы в лагере так называемых сионистов. По крайней мере, это люди с чувством собственного достоинства и волей, совсем непохожие на лапсердачников. Однако и лапсердачники стали не те, что прежде. У них появилось ощущение, что проклятье, два тысячелетия висевшее над еврейством, заканчивается, что близится восстановление Иерусалимского Храма. Тем острее грызня между группами и группками – литовскими евреями и малороссийскими, традиционалистами и реформаторами. Всякая юдофобская сволочь зашевелилась неспроста, распространяя слухи о ритуальных убийствах, тайных синедрионах и крови христианских младенцев. Ритуальных убийств, конечно, никаких нет и быть не может, на что евреям гои и их некошерная кровь? Другое дело – свои. Тут, глядишь, вот-вот до кровопролития дойдет. Особенно из-за палестинских дел. В Святой Земле появилось что делить. Никогда еще пожертвования не лились туда таким потоком. Вы уж простите меня, владыко, за эту лекцию, я к ней прибег для полноты картины. А еще более того – чтобы обосновать свое решение.
– Поедешь в Житомир? – проницательно взглянул на него архиерей.
– Да. Хочу посмотреть на штабс-ротмистровых кредиторов.
Митрофаний подумал немного, одобрительно кивнул.
– Что ж, дело. Однако ты говорил, версий две?
Статский советник оживился. Очевидно, вторая версия нравилась ему куда больше, чем первая.
– Известно, что черта оседлости, в которой находится Волынская губерния, – арена деятельности разного рода антисемитских организаций, в том числе и самой крайней из них, так называемых «Христовых опричников». Этим жидоненавистникам мало погромов, они не останавливаются и перед политическими убийствами. Пророка Мануйлу «опричники» должны ненавидеть еще больше, чем коренных евреев, ведь он, по-ихнему, предатель веры и нации, ибо уводит русских людей из православия в жидовство. Вот я и предположил: не выкупили ли Рацевича «опричники»? Что, если они решили воспользоваться человеком, которого погубили евреи?
– Что ж, это очень возможно, – признал Мит-рофаний.
– Опять-таки получается, что мне нужно в Житомир. Что по первой версии, что по второй, концы следует искать там.
– Так ведь опасно, – затревожился епископ. – Если ты рассуждаешь верно, то они люди отчаянные – что первые, что вторые. Узнают, зачем пожаловал, и убьют тебя.
– Откуда ж им узнать? – хитро улыбнулся Матвей Бенционович. – Меня там не ждут и знать не знают. Да и не обо мне нужно думать, владыко, а о ней.
Преосвященный жалобно воскликнул:
– До чего же я, Матюша, тебе завидую! Будешь дело делать. А я и помочь ничем не могу. Разве что молитвой.
– «Разве что»? – с шутливой укоризной покачал головой прокурор. – Что за умаление молитвы, да еще из уст князя церкви?
Матвей Бенционович встал под благословение. Хотел поцеловать архиерею руку, но вместо того был обхвачен за плечи и прижат к широкой груди владыки так крепко, что едва не задохнулся.
Видно, в Бердичевском в самом деле произошла какая-то коренная перемена, не столько даже внешнего, сколько внутреннего свойства.
Собираясь в Житомир, он совершенно не тревожился об опасностях, а ведь прежний Матвей Бенционович, вследствие чрезмерно развитого воображения, частенько трепетал перед испытаниями совсем незначительными, а иногда и смехотворными, вроде произнесения спича в клубе или пустякового визита к зубному врачу.
Не страх, а лихорадочное нетерпение, необъяснимое ощущение, что время уходит, —вот какие чувства владели заволжским прокурором, когда он прощался с домашними.
Механически перекрестил все тринадцать душ детей (пятерых младших спящими, поскольку час был уже поздний), с женой поцеловался наскоро.
И тут суровая Марья Гавриловна выкинула штуку. Обхватила Бердичевского своими полными руками за шею и тихо-тихо сказала:
– Матюшенька, ты уж побережней. Знай: мне без тебя и жизнь не в жизнь.
Матвей Бенционович оторопел. Во-первых, не предполагал, что жена о чем-то таком догадывается А во-вторых, Марья Гавриловна всегда была очень скупа на душевные излияния – можно сказать, совсем их не признавала.
Покраснев, прокурор неловко повернулся и полувышел-полувыбежал на улицу, где ждала казенная коляска.
А идише коп, или «Белокурый ангел»
По мере приближения к Житомиру странное ощущение все более усиливалось. Словно Матвей Бенционович угодил на некие рельсы, с которых невозможно ни съехать, ни повернуть назад, пока не достигнешь конечного пункта, который ты для себя вовсе не выбирал и даже не знаешь его названия.
При этом на дороге, по которой Бердичевский следовал впервые в жизни и куда попал случайно, тут и там были расставлены указатели, словно предназначенные персонально для него. Казалось, Провидение не очень-то доверяет умственным способностям статского советника и считает необходимым посылать ему сигналы: все верно, это именно твой путь, не сомневайся.
Начать с того, что поезд, которым Бердичевский следовал из Нижнего Новгорода, привез его в город Бердичев, где нужно было пересаживаться на житомирскую узкоколейку.
Когда же Матвей Бенционович прибыл в столицу Волынской губернии, оказалось, что оба интересующих его учреждения – и тюремный комитет, и полицейское управление – находятся не где-нибудь, а на Большой Бердичевской улице.
К этому времени прокурор был уже всецело во власти мистического чувства, что это не он куда-то направляется, а что его направляют,и потому держал ухо востро, а глаза широко раскрытыми – чтобы, не дай Бог, не пропустить какого-нибудь важного знака.
И что вы думаете?
На станции случайно подслушал разговор двух евреев-коммерсантов. Те сетовали, как тяжело стало жить в городе и какая это беда, когда начальник полиции – жидомор.До сего момента Бердичевский намеревался первым делом отправиться в тюремный комитет, для чего запасся письмом из канцелярии заволжского губернатора, а тут с ходу внес в первоначальный план корректировку: именно с полицейского жидомораи начать.
Остановился в лучшей гостинице «Бристоль», где на стойке сиял лаком телефонный аппарат Микса-Генеста и был гордо выставлен справочник городских абонентов, весь уместившийся на одной странице.
Мокроносый, губастый носильщик поднес чемодан вновьприбывшего к стойке. Там царствовал портье – важный, с золотой цепочкой на брюхе.
– С поездом прибыли, Наум Соломоныч, – доложил носильщик, простуженно гнусавя. – Я мигом подлетел, так и так, говорю, к нам в «Бристоль» пожалуйте.
– Молодец, Коля, – похвалил портье.
Цепким взглядом охватил хорошее пальто Матвея Бенционовича, чуть задержался на лице, сладко улыбнулся.
А Бердичевский смотрел на аппарат. Статскому советнику и в этом атрибуте прогресса привиделся знак свыше. Вот он, номер полицеймейстера: «№ 3-05 надв. сов. Гвоздиков Сем. Лик.». Что означает «Лик.», было непонятно.
Тем не менее покрутил ручку, велел барышне соединить. Действовал не логически, а по вдохновению.
Представился фамилией, должностью и чином, условился о встрече. Рассоединился очень собой довольный – кажется, житомирское расследование начиналось в хорошем темпе.
Но тут Бердичевского ждал удар.
Портье, уже раскрывший книгу для постояльцев и даже обмакнувший в чернильницу ручку, почтительно сказал:
– Добро пожаловать, ваше превосходительство. Какая честь для нашего заведения. Приятно, когда еврей – большой человек.
Топтавшийся тут же швейцар (совершенно такой, как положено быть швейцарам – в ливрее и с окладистой бородой, но притом с длиннющими пейсами) присовокупил:
– Аф алэ йидн гезухен 14.
– С чего вы взяли, что я еврей? – обомлел Бердичевский.
Портье только улыбнулся:
– Слава Богу, не первый год на людей смотрю.
– Ай, господин генерал, неужто по вам не видно – а идише коп15 —добавил швейцар.
Матвей Бенционович мысленно проклял свою неосторожность. Сегодня же весь еврейский Житомир будет знать про интригующего приезжего, да еще, разумеется, с преувеличениями. Вот он уже и «генерал», и «превосходительство», а к вечеру, надо думать, в министра превратится.
– Носильщик! – крикнул простуженному прокурор. – Забери чемодан и вызови извозчика!
– Ай-я-яй, забыли что-нибудь? – переполошился портье.
– Да. Я назад, на станцию, – отрывисто бросил Бердичевский на ходу.
И услышал, как портье громко сказал на идиш пейсатому швейцару:
– Эти выкресты хуже гоев.
Тот в ответ процитировал, только уже на иврите, грозные слова пророка Исайи, которые Матвею Бенционовичу часто приходилось слышать в детстве от отца: «Всем же отступникам и грешникам – погибель, и оставившие Господа истребятся».
Настроение было испорчено.
На центральной Киевской улице встревоженный прокурор зашел в «Salon de beaute», купил патентованную американскую краску «Белокурый ангел ».
Нашел другую гостиницу – «Версаль» (которая была совсем-таки не Версаль); в фойе вошел, натянув на глаза шляпу и подняв воротник.
В комнате перед умывальником стал перекрашиваться в белокурого ангела, не забыл и про брови.
Ах, раньше нужно было сообразить! Тут ведь черта оседлости, а не богоспасаемый Заволжск, где не умеют так ловко определять национальность по лицу.
Результат превзошел все ожидания. Матвей Бенционович немного волновался из-за своего вопиюще неславянского носа, но блондинистость справилась и с носом: был еврейский крючище, а стал прегордый бушприт, орлиного и даже породистого вида.
Разглядывая в зеркало свою преображенную физиономию, статский советник обнаружил в ней все признаки аристократического вырождения, вплоть до скорбных впадинок под скулами и скошенного подбородка. Хотя чему тут удивляться? Каждый еврей, хоть самый замухрышка, имеет генеалогию, протяженности которой могут позавидовать и Романовы с Габсбургами.
В довершение боевой раскраски, перед тем как ступить на тропу войны, Бердичевский переоделся в вицполукафтан, на петлицах которого сияли лучистые звезды пятого класса (жидомор-то был всего лишь «надв. сов.», то есть чиновник седьмого класса).
Покосился на себя и справа, и слева. Остался вполне доволен.
Как дворянин дворянину
– А позвольте осведомиться, господин Бердичевский, по какой такой причине вас, прокурора из отдаленной губернии, интересуют сведения о житомирском отделении «Христовых опричников»? – тихо спросил Семен Ликургович Гвоздиков, рыхлый господин с одутловатыми щечками и нездоровой желтизной в подглазьях.
Матвею Бенционовичу не понравилось в этой реплике решительно все: и то, что она была произнесена после продолжительного молчания, и то, что имела вид встречного вопроса, и совсем уж нехороша была интонация, с которой полицеймейстер произнес сомнительную фамилию.
– Как вы меня назвали? – поморщился гость. – Бердичевский?Я что, похож на еврейского лавочника из Бердичева? Берг-Дичевский, – отчеканил он и приподнял бровь, как бы размещая в глазнице невидимый монокль. – При бракосочетании моего прадеда и прабабки, единственной наследницы Дичевских, было решено соединить два герба, чтоб не угас старинный род.
В глазах надворного советника отразился ужас, пухлая мордочка залилась краской.
Гвоздиков так распереживался от своей оплошности, что даже привстал на стуле.
– Боже мой, ради всего... Тысяча извинений... Недослышал по телефону. Такая, знаете, ужасная связь!
Чтобы усугубить эффект, нужно было этот гвоздик еще разок стукнуть по шляпке. Посему Матвей Бенционович небрежным жестом предал смехотворное недоразумение забвению, доверительно понизил голос и наклонился вперед:
– Скажите, Гвоздиков – это дворянская фамилия?
Полицеймейстер побагровел еще пуще.
– Нет, я, собственно, из мещанского сословия. Пока выслужил только личное дворянство...
Прокурор сделал вид, что колеблется – стоит ли продолжать разговор со столь неродовитым собеседником. Вздохнул, проявил великодушие:
– Ничего, Бог даст, дослужитесь и до потомственного. На нас, дворянах, держится здание российской государственности. Сам государь [он показал на портрет, в котором качество живописи искупалось размерами] в конце концов лишь первый из дворян. Это ведь наши предки избрали Михаила Романова на царство. На нас и ответственность. Согласны?
– Да, – молвил Гвоздиков, слушавший с чрезвычайным вниманием. – Но, ваше высокородие, я не вполне...
– Сейчас объясню. Вижу честного, порядочного человека и патриота. Да что лукавить? Я ведь и справки о вас наводил. У компетентных людей, – значительно понизил голос Матвей Бенционович. – И потому сразу перехожу к цели своего визита. По роду деятельности вы безусловно осведомлены об общественных движениях и организациях, имеющихся в Житомире.
– Если вы о нигилистах, то это скорее в Жандармское...
– Не о нигилистах, – снова перебил полицеймейстера Бердичевский. – А совсем наоборот. Меня интересует организация верноподданная, державная. Та самая, которую я упомянул в начале разговора. Дело в том, что у нас в Заволжской губернии тоже порасплодилось жидишек. Очень много стали себе позволять. Губернский банк к рукам прибрали, газетку пакостную завели, теснят исконных заволжан по торговой части. Вот мы, патриоты края, и решили одолжиться у вас опытом. Много хорошего рассказывают о житомирских «опричниках». Если поможете мне с ними связаться, благое дело сделаете, ей-богу.
Семен Ликургович был явно польщен, но предпочел состорожничать:
– Я, господин статский советник, в «опричниках» не состою. Мне и по должности не положено. Тем более, сами знаете, их методы не всегда находятся в соответствии с установлениями закона...
– Я ведь к вам не в официальном качестве пришел. Не как прокурор к полицейскому начальнику, а как дворянин к дворянину, – укоризненно молвил Матвей Бенционович.
– Понимаю-с, – поспешил его успокоить полицеймейстер. – И говорю исключительно во избежание какой-либо двусмысленности. В «опричниках» не состою и не все их акции одобряю, особенно те, от которых проистекает вред имуществу либо жизни и здоровью. Иной раз по-отечески и пожуришь, без этого нельзя. Люди-то горячие, есть и отчаянные головы, однако сердцем чисты. Только иногда придерживать нужно, чтоб дров не наломали.
– Как правильно вы все говорите! – вскричал визитер. – Я чрезвычайно рад, что обратился именно к вам. Понимаете, я потому и хочу сам создать заволжскую «опричную» дружину, пока это не произошло самопроизвольно. Желал бы, так сказать, находиться у истоков и тактично направлять.
– Вот-вот. И я тоже тактично направляю. А поучиться у наших молодцов есть чему. – Гвоздиков важно помолчал, как надлежит солидному человеку, которые взвешивает все «за» и «против» перед ответственным решением. – Хорошо, господин Берг-Дичевский. Как дворянин дворянину. И сведу с кем надо, и объясню, с какой целью вы приехали. Сам при встрече присутствовать не смогу – прошу покорно извинить...
Матвей Бенционович поднял ладони: понимаю, понимаю.
– ...Да и вам свое звание афишировать не советую. И еще вот что... – Гвоздиков деликатно потупился. – Я вас отрекомендую есаулу как господина Дичевского, без «Берга». А то наши русаки, извините, и немцев не очень жалуют.
– Ах бросьте, да какой я немец! – искренне воскликнул Бердичевский.
Отечество в опасности
К опасному мероприятию Матвей Бенционович приготовился основательно, хоть и конфузился, даже иронизировал над собой, бормоча: «Скажите, какой Аника-воин. Мальчишество, право слово, мальчишество...»
Первым делом купил в оружейном магазине револьвер «лефоше». Шестизарядный, со складным крючком, за тридцать девять рублей. Приказчик про складной спуск сказал: «Разумное приспособление, особенно если носить оружие в кармане. Не зацепится, попусту не выпалит». За ту же цену, в виде подарка от фирмы, Бердичевский получил еще и однозарядный жилетный пистолетик, целиком помещавшийся в ладонь. «Незаменимая вещь при нападении ночного грабителя, – пояснил приказчик. – Эта крошка обладает поразительной для своего калибра убойной силой».
У «крошки» спусковой крючок был обычный, не складной, и прокурор занервничал. Представил, как пистолетик, повернутый дулом книзу, возьмет и бабахнет. Пулька поразительной убойной силы пропорет и грудь, и бок. Ну его к черту.
Переложил игрушку в карман брюк.
Нет, так тоже нехорошо.
Наконец додумался: задрал штанину, засунул за ремешок носка. Железка немножко давила на щиколотку, но ничего, терпимо.
Записка, присланная в гостиницу от Гвоздикова, была короткая и странная: «В полночь на набережной под фонарем».
Надо думать, имелась в виду речка Каменка, потому что главный житомирский водоток, Тетерев, из-за скалистости берегов набережной как таковой не имел. Да и Каменка была не то чтобы одета в гранит – ни парапетов, ни иных обычных признаков набережной Бердичевский там не обнаружил. Зато загадочное «под фонарем» разъяснилось легко: на берегу горел только один фонарь, прочие были темны и, кажется, даже лишены стекол.
Отпустив извозчика, прокурор встал в нешироком кружке света. Поднял воротник – с речки несло сыростью. Стал ждать.
Вокруг было темным-темно, то есть вообще ничегошеньки не видно.
Разумеется, Матвею Бенционовичу тут же померещилось, что на него кто-то смотрит из темноты. Он сначала поежился, а потом сказал себе: «Ну, конечно, смотрят. И очень хорошо, что смотрят».
От нервозности статский советник избавился очень просто. Произнес шепотом одно-единственное слово: «Пелагия», и страх сразу сменился возбуждением; жертва моментально превратилась в охотника.
Он нетерпеливо повертел головой и даже сердито топнул ногой. Где вы там, черт бы вас драл?
Тьма словно дожидалась этого волшебного знака. Шевельнулась, зашуршала, и в пределы слабого керосинового освещения вплыла фигура, показавшаяся Бердичевскому гигантской. Силуэт поднял руку, поманил.
Статский советник, снова оробев, двинулся было навстречу незнакомцу, однако тот повернулся спиной и пошел вперед, время от времени оглядываясь и делая таинственно-призывные жесты.
Ноги провожатого глухо топали по булыжной мостовой. Походка у исполина была прямая, спина негнущаяся.
Статуя Командора, передернулся Матвей Бенционович, едва поспевая следом.
С набережной повернули на кривую улочку, где мостовой уже не было, лишь мокрая после недавнего дождика земля. С одной стороны глухой забор, с другой – каменная стена, за ней не то склады, не то мастерские. Освещения никакого.
Бердичевский споткнулся на ухабе, выругался – почему-то вполголоса.
Стена вывела к воротам, над которыми горела лампа. Прокурор прочел на вывеске: «Кишечно-очистительный завод Савчука».
Прочел – и вздрогнул. Знаки знаками, но это со стороны Провидения было уже форменное издевательство, если не сказать хамство. Дело в том, что в утробе изрядно-таки трусившего статского советника вовсю разворачивались всякие малоприятные процессы.
В узкую калитку Бердичевский за статуей Командора не пошел. Спросил дрогнувшим голосом:
– Это что такое? Зачем?
На ответ не надеялся, но великан (и вправду почти саженного роста детина) обернулся и ответил неожиданно тонким, услужливым тоном:
– Это, сударь, заведение, где очищают кишки-с.
– В каком смысле?
– В обыкновенном-с. Для изготовления колбас.
– А-а, – несколько успокоился Матвей Бенционович. – Но зачем нам туда идти?
Командор хихикнул, из чего стало окончательно ясно, что молчал он вовсе не от грозного умысла, а от провинциальной конфузливости перед приезжим человеком.
– Город, сами изволите видеть, какой: жидов больше, чем русских. А тут самое правильное место-с. Колбаса-то свиная. Так что среди рабочих ни одного жида, все русские или хохлы-с.
Тайное собрание дружины «Христовых опричников» проходило в помещении заводской конторы.
Это была грязноватая комната, довольно просторная, но с низким потолком, с которого свисало несколько керосиновых ламп.
Стулья в два ряда, напротив них – стол, накрытый российским триколором. На стенах, вперемежку, иконы и портреты героев отечества: Александр Невский, Дмитрий Донской, Суворов, Скобелев. Главное место в этой галерее занимали изображения Иоанна Грозного и государя императора.
Председательствовал немолодой мужчина в пиджаке и галстуке ленточкой, однако с длинными, в кружок, волосами.
Перед столом стоял тощий субъект в косоворотке – очевидно, докладчик. Слушателей было с десяток.
Все обернулись на вошедших, но от волнения Бердичевский толком не разглядел лиц. Кажется, большинство были бородатые и тоже стриженные по-русски.
– А вот и дорогой гость, – сказал председательствующий. – Милости просим. Я – есаул.
«Опричники» встали, кто-то пробасил:
– Здравия желаем, ваше превосходительство.
От нервозности Матвей Бенционович чуть было не стал поправлять, что он никакое не превосходительство, однако вовремя спохватился. Отрывисто, по-военному кивнул, отчего на лоб свесилась прядь ангельского цвета.
«Есаул» (судя по всему, так именовалась должность предводителя «опричников») вышел из-за стола, двинулся навстречу прокурору.
И снова Бердичевский едва не совершил faux pas – сунулся жать руку. Оказывается, следовало не тянуть ладошку, а раскрыть объятья. Именно так поступил председатель: со словами «Руси слава!» прижал гостя к груди и троекратно расцеловал в уста.
Остальные тоже пожелали приветствовать большого человека, так что целоваться пришлось с каждым – общим счетом одиннадцать раз, причем всякий раз произносилась сакраментальная фраза, прославлявшая отечество.
Запахи, которые пришлось вдохнуть лобызаемому господину Берг-Дичевскому, разнообразием не отличались: дешевый табак, сырой лук, переработанные желудком пары spiritus vini. Только последний из целовальщиков, тот самый Вергилий, что привел Матвея Бенционовича на сходку, благоухал одеколоном и фиксатуаром. Он и чмокнул не так, как прочие, а нежно, вытянув губы трубочкой. Парикмахер, понял прокурор, разглядев подвитые височки и расчесанную надвое бородку.
– Сюда пожалуйте, – пригласил «есаул» гостя на почетное место.
Все воззрились на «превосходительство», очевидно, ожидая речи или приветствия, к чему статский советник был совершенно не готов. Однако нашелся – попросил продолжать, «ибо пришел не говорить, а слушать; не поучать, а учиться». Это понравилось. Скромному «генералу» похлопали, покричали «Любо!», и прерванный доклад был продолжен.
Оратор, которого Бердичевский по манере говорить и несколько блеющему тембру голоса окрестил Псаломщиком, рассказывал дружинникам о результатах проведенного им расследования касательно засилия евреев в губернской печати.
Картина обрисовывалась чудовищная. Про «Житомирский листок» Псаломщик не мог говорить без дрожи негодования: сплошные перельмутеры да кагановичи, наглое глумление над всем, что дорого русскому сердцу. Однако и в «Волынских губернских ведомостях» далеко не благополучно. Из-за попустительства редактора нередко печатаются статьи, написанные жидишками, которые прикрываются русскими именами. Был дан и перечень всех этих волков в овечьей шкуре: Иван Светлов – Ицхак Саркин, Александр Иванов – Мойша Левензон, Афанасий Березкин – Лейба Рабинович, и прочая, и прочая. Самое же сенсационное свое разоблачение выступавший приберег напоследок. Оказывается, Синедрион запустил свое щупальце даже в «Волынские епархиальные ведомости»: у редактора протопопа Капустина жена – урожденная Фишман, из выкрестов.
По комнате прокатился гул возмущения. Матвей Бенционович тоже сокрушенно покачал головой.
«Есаул», нагнувшись, шепнул ему:
– Это мы собираем материал для всеподданнейшей записки. Вы бы видели данные по финансовому капиталу и народному просвещению. Мороз по коже.
Прокурор сурово нахмурился: беда, беда.
Докладчик закончил, сел на место.
Все снова выжидательно уставились на гостя. Было ясно, что от выступления не отвертеться.
Кстати вспомнилось мудрое изречение: когда не знаешь, что говорить, – говори правду.
– Что сказать? – поднялся Матвей Бенционович. – Я потрясен и удручен.
Ответом был общий вздох.
– В нашей губернии, конечно, дела обстоят скверно, но не до такой степени. Ужас, господа. Скрежет зубовный. Однако, дорогие вы мои, вот что я вам скажу. Расследования и всеподданнейшие записки, конечно, дело хорошее, только ведь этого мало. Признаться, я ожидал от житомирцев другого. Мне рассказывали, что вы люди действия, что не привыкли сидеть сложа руки. Ведь смотришь на Русь – сердце кровью обливается! – потихоньку стал разогреваться Бердичевский. – Вокруг одни говоруны, герои на словах! Профукаем отечество, господа патриоты! Проболтаем! А между тем Жид зря не болтает, у него все на года вперед просчитано!
Слушая горькую, выстраданную речь витии, сидящие переглядывались, скрипели стульями.
Наконец «есаул» не выдержал. Дождавшись коротенькой паузы, понадобившейся Бердичевскому, чтобы набрать в грудь очередную порцию воздуха, предводитель «опричников» воскликнул:
– Мы не болтуны и не пачкуны бумаги! Да, мы не оставляем надежды достучаться до нашей тугоухой власти законными методами, но, смею вас уверить, одними записками не ограничиваемся. – Видно было, что председатель еле сдерживается – так ему не терпится оправдаться. – Вот что, сударь, пожалуйте в кабинет, потолкуем с глазу на глаз. А вас, братья, пока прошу угоститься чем Бог послал.
Лишь теперь Матвей Бенционович заметил в углу комнаты накрытый стол с самоваром, караваями и впечатляющим изобилием колбасных изделий – надо полагать, продукцией кишечно-очистительного предприятия.
Дружинники оживленно двинулись угощаться, прокурор же был приглашен в «кабинет» – тесный закуток, отделенный от конторы стеклянной дверью.
Пропал!
Теперь дошло и до рукопожатия. Надо сказать, что, отделившись от своих молодцов, «есаул» вообще несколько переменил манеру поведения, как бы желая показать, что принадлежит с гостем к одному кругу.
– Савчук, – представился он. – Владелец завода. Я заметил, господин Дичевский, как вы глядели на моих янычар. Грубоваты они, конечно, и, так сказать, не блещут умственными доблестями.
Матвей Бенционович переполошился (он-то думал, что отличным образом конспирирует свои чувства) и сделал рукой протестующее движение.
– Ничего, – успокоил его заводчик. – Я ведь понимаю. Однако прошу учесть, что это не идеологи, а десятники, руководители участков. Выражаясь по-библейски, «мужи силы». Я их шутейно зову «апостолами» – как раз двенадцать человек. Еще один должен быть, да что-то припозднился. Рассуждать мои десятники не сноровисты, но коли дойдет до дела, не оплошают. Вы не думайте, у нас и интеллигенция есть, лучшие русские люди. Присяжные поверенные, врачи, учителя гимназии – они от жидовского натиска больше всего страдают. Если пожелаете, я вас с ними после сведу, в более уместной обстановке. Глазков Илья Степанович, товарищ городского головы – светлая голова, мыслитель.
– Знаете, – отрубил Бердичевский, – мыслителей вокруг и так полно. Людей действия не хватает. Чтоб без страха, без оглядки на установления. Вот чему желательно бы поучиться. Да не ломом махать, не жидовские лавки громить – это дело нехитрое. Скажите мне, есть ли у вас люди с опытом настоящей работы – полицейской либо охранной? Только не состоящие на службе, чтобы не были связаны буквой закона.
– Это как? – спросил Савчук, озадаченно нахмурившись.
Матвей Бенционович взял быка за рога:
– Я рещил наведаться к вам в Житомир после душевной беседы с одним интереснейшим человеком, он недавно побывал у нас в Заволжске. С отставным жандармским штабс-ротмистром Рацевичем, Брониславом Вениаминовичем...
И сделал паузу, с замиранием сердца подождал эффекта.
Эффект не заставил себя ждать.
Лицо «есаула» брезгливо исказилось.
– С Рацевичем? И что он вам наврал, поджидок?
– П-почему поджидок? – оторопел прокурор. – Как я понял, он, наоборот, пострадал от евреев, то есть от жидов... Они ему карьеру загубили, в долговую яму упекли!
– Как упекли, так и обратно выпекли, – процедил Савчук.
– Так это его евреи выкупили? – потерянным голосом пролепетал статский советник. Сердце так и упало.
– А кто еще? У полячишки этого, говорят, пятнадцать тысяч долгу было. У кого кроме жидов найдется столько денег? Отблагодарили его синедрионщики, и известно за что. Два года назад наши витязи казнили в Липовецком уезде земского начальника, известного жидолюба. Расследование от жандармов вел Рацевич. Разнюхал все, раскопал и двух русских людей на каторгу отправил. За эту гнусность ему от «Гоэль-Исраэля» даже благодарственная грамота пришла. Это они иуду из ямы вызволили– гуляй на свободе, губи народ православный. «Гоэль-Исраэль» это ихний, больше некому.
– «Гоэль-Исраэль»?
– Да, есть у нас такая опухоль, самый жидовский гной. Хацер раввина Шефаревича. Хацер – это, извиняюсь за сравнение, вроде архиерейского подворья, только жидовского. Синагога там у них и ешибот, жидовская семинария. Шефаревич (это известно доподлинно) – действительный член тайного Синедриона. Пестует своих волчат в ненависти к Христу и всему русскому. Никого к своим бесенышам не подпускает. Особенно боится, чтоб русские женщины жиденят от иудейской веры не отворотили. У них ведь как – кто с гойкой сошелся, для еврейства пропал, вроде как навсегда запачкался. – «Есаул» сплюнул. – Это они-то запачкались, а? Тут недавно история была. Крестьянскую девушку в реке нашли. Мы провели свое следствие. Установили, что она, лахудра, гуляла с одним жидком из шефаревичевского хацера. Жиды про это дознались. Вызвал его раввин, стал требовать: прогони от себя гойку. Жидок упрямый попался, ни в какую. Люблю, мол, и все тут. Так они его в Литву отправили, а девушку эту чуть не на следующий же день в Тетереве нашли. Ведь ясно, что убийство. И ясно, кто убил. Но наши жидолюбы побоялись шум поднимать. Утопилась, говорят, от несчастной любви. Решили мы тогда свой собственный суд учинить, да не успели – удрал Шефаревич со своим выводком в Иерусалим. Вот какие у нас тут дела творятся!
Бердичевский слушал историю об убийстве русской девушки скептически. А потом вдруг засомневался. Среди евреев сумасшедших не меньше, чем среди прочих народов. А то, пожалуй, и побольше. Чем черт не шутит – что если и вправду в Житомире завелся какой-нибудь еврейский Савонарола? Будем надеяться, что пути Пелагии и неистового раввина в Иерусалиме не пересекутся. Слава Богу, им делить нечего.
Звук голосов в соседней комнате стал громче, причем особенно выделялся один, показавшийся Бердичевскому смутно знакомым. Статский советник поневоле прислушался.
Простуженный, с гнусавинкой голос рассказывал:
– ...Гладкий, важный, вот с таким носярой. «Я прокурор, грит. Такой-сякой самоглавный советник».
– Жид – прокурор? – перебили его. – Брешешь, Колька!
– А вот и двенадцатый из моих апостолов, – вгляделся через стекло в галдящих «опричников» Савчук. – Явился-таки. Старший по Киевскому участку, носильщиком в гостинице «Бристоль» состоит. Эй, Коля! Поди сюда, покажу тебя человеку хорошему.
Помертвев, Матвей Бенционович встал. Взмокшая от пота рука сунулась в карман – к рукоятке револьвера. Палец стал нащупывать складной крючок, а тот залип – никак не желал раскладываться.
В кабинетик вошел губастый носильщик из «Бристоля».
Поклонился. Со словами «Руси слава!» растопырил объятья, посмотрел в лицо Бердичевскому и замер.
IX. ШМУЛИК – ПОВЕЛИТЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ
Завидный жених
Если бы Шмулик Мамзер знал, что никогда больше не увидит, как над светлым городом Ерушалаимом, да пребудет он вовеки, восходит солнце, то наверняка посмотрел бы на утреннее светило поласковей, а так лишь сощурился на круглую розовую плешь, высунувшуюся из-за Масличной горы, и пробурчал: «Чтоб ты уже лопнуло, проклятое». Казалось, только-только, каких-нибудь пять минут назад, положил человек голову на обернутый талесом том Талмуда, по ночам превращавшийся в подушку, а уже на тебе – пора вставать.
Потирая бок, онемевший от лежания на полу, Шмулик потянулся. Прочие ученики из тех, кто ночевал в ешиботе, собирали свои постели – такие же, как у Мамзера: тощая подстилка, книга или тряпье вместо подушки, а одеяла летом, слава Богу, не нужно. Лица у ешиботников были мятые, заспанные – совсем не такие, какими станут после умывания.
За все пятнадцать лет жизни Шмулику довелось спать в настоящей кровати всего трижды: два раза, когда болел, и еще один раз в канун бар-мицвы, а то все на полу или с тремя-четырьмя соседями, а это, скажу я вам, еще хуже, чем на полу, поэтому не в счет. Так было и в житомирском хедере, и потом в тамошнем же ешиботе, а теперь здесь, в светлом городе Ерушалаиме, да пребудет он вовеки.
А чего вы хотите, если у человека нет ни отца, ни матери, ни даже какой-нибудь паршивой двоюродной тетки? Шмулик явился миру не в родительском доме, как все нормальные дети, а на пороге синагоги, завернутый в кусок простыни. Сначала люди сомневались, может, он и не еврей вовсе – подкинула какая-нибудь бесстыжая шикса, рассудив, что у жидов ребенку будет сытней. Собрались уважаемые люди, судили-рядили, не отдать ли байстрючонка в русский приют, но реб Шепетовкер, пусть будет ему земля пуховой периной, сказал: «Лучше воспитать жидом русского, чем погубить еврейского ребенка, сдав его в гойский приют», и Шмулику сделали обрезание, приложили подкидыша к богоизбранному народу. (Ужас берет, когда подумаешь, что могло сложиться иначе.) Приложить-то приложили, но сунуть чиновнику три рубля никто не расщедрился, чтобы назначил ребенку красивую фамилию: Синайский или Иорданский; не дали даже рубля, чтоб записал попросту каким-нибудь Хайкиным или Ривкиным. Вот чиновник и разозлился. Другие писари тоже, бывало, шутили над неимущими бесфамильцами – запишут Соловейчиком, Персиком или, если нос особенно велик, Носиком, но этот проклятый гой на беду немножко знал идиш и нарек Шмулика хуже некуда, задумал сироте всю жизнь отравить. «Мамзер» – это незаконнорожденный, байстрюк, ублюдок. С такой фамилией ни жениться, ни почтенным раввином стать. Где вы видели девушку, которая захочет стать «мадам Байстрюк»? А «рав Ублюдок» – каково?
Ну и что же, спрашивается, добился своего подлый чиновник, испортил Шмулику жизнь?
Как бы не так.
Стыдная фамилия с малых лет поселила в мальчике великую, почти несбыточную мечту: уехать в Обетованную Землю, где фамилии не нужно вовсе, потому что там каждый еврей на виду у Господа и Он не перепутает, кто из них кто.
Шмулик учился всегда – сколько себя помнил. Еврейские мальчики любят учиться, но такого неистового зубрилы не было во всем Житомире, где, между прочим, проживает двадцать пять тысяч евреев и многие из них – мальчики, постигающие ученость.
До тринадцати лет Шмулик учил Пятикнижие – наизусть. Да не просто наизусть, а «на иглу». Человек, знающий Священное Писание подобным образом, возьмет иголку, ткнет в любую букву и тут же вам скажет, какие слова пронзило острие на последующих страницах.
Достигнув совершеннолетия, Шмулик взялся за комментарии к Торе, вызубрил слово в слово все 613законов, соответствующих 613 частям души: 248 верхней ее сферы и 365 нижней. Постиг в доскональности и статьи эйдут,в которых упоминается об исторических событиях, и легкие для понимания законы мишпатим,и даже недоступные человеческому уму заповеди хуким.
Созрев начитанностью, углубился в лабиринты Талмуда. Теперь уже не зубрил вслепую, а держал лезвие разума остро наточенным, потому что там, в хитроумных закоулках книги «Зогар», таились неописуемые сокровища. Известно, что высокоученый человек, наделенный даром проникать в сокровенный смысл букв, может найти в той книге шифры к великим тайнам и чудесам, может даже стать повелителем Вселенной. В сочетаниях букв, которые используются в Именах Господа, в священном числе 26, цифровом эквиваленте четырехбуквенного «йуд-хей-вав-хей»таится ключ к сокровенному знанию, которое не дает покоя многим поколениям талмудистов. Другие ешиботники, как попугаи, пробовали по 26 раз повторять то одну, то другую молитву; иные 26 раз стукались головой о Стену Плача или 26 раз обходили гору Мерон, где похоронен великий Шимон бар Йохай, автор «Зогара», но Шмулик чувствовал: глупости это, тупым повторением ничего не добьешься. Сердце подсказывало: все неизмеримо сложней и в то же время гораздо проще. Однажды на закате дня (он твердо знал, что это случится именно на закате) истина сама раскроется перед ним во всей своей прекрасной простоте, и он сможет произнести непроизносимое, услыхать неслышимое и увидеть невидимое. Бог назначит его Своим мироустроителем, потому что во всеохватной мудрости Своей будет знать: Шмулику Мамзеру можно довериться, он человечьему миру плохо не сделает.
Можете быть уверены, что, став повелителем Вселенной, Шмулик устроил бы в ней все самым отличным образом. Никто бы больше не воевал, потому что всегда ведь можно друг с другом договориться. Никто бы больше никого не мучил: если людям хорошо вместе, пускай живут рядом, а если плохо – так можно же разойтись, места на свете много. И все гои начали бы соблюдать заповеди Торы – сначала только обязательные, именуемые хова,а потом и желательные, ршут.Скоро все-превсе стали бы евреями, и тогда Шмулик прослыл бы величайшим из людей, еще более великим, чем пророки Моше и Элиягу. Если называть вещи своими именами, он стал бы Мессией, который спасет мир и примирит его с Господом.
Между прочим, Шмулик собственным умом дошел до великого открытия и догадкой своей с равом Шефаревичем, упаси Боже, не поделился: Мессия явится не с неба; Мессией станет тот, кто расшифрует имя Господне и не побоится произнести его вслух, возьмет на себя ответственность за все, что происходит на Земле.И тогда настанет утро, в которое солнце больше не выглянет из-за гор, потому что незачем ему станет иссушать землю, ибо человек исполнил порученное, и прах возвратится к праху, а дух вернется к Господу. А все благодаря Шмуэлю из Житомира, некогда именовавшемуся Мамзером.
Среди учеников великого рава Шефаревича – сутулых, близоруких, с вечно хлюпающими носами – не он один пылал огнем божественного честолюбия, с которым не сравнятся жалкие гойские мечты о карьере и богатстве. Но Шмуликово пламя сияло всех ярче, потому что он – илуй.Мадам Перлова, всю жизнь прожившая в Киеве и совсем не знающая иврита, говорила по-русски: «гениальный мальчик». Тоже, между прочим, звучит неплохо. Еще она как-то назвала его «Моцартом от Талмуда», но, когда выяснилось, что этот Моцарт – музыкант, Шмулик обиделся. Разве можно уподоблять благородное искусство каббалы пиликанью на скрипке! С другой стороны, что вы хотите от женщины, которая не может произнести на еврейском языке даже самой простой молитвы?
Илуйиз ешибота великого рава Шефаревича – вот какую репутацию заработал себе Шмулик в Ерушалаиме, а ведь живет здесь всего ничего, без году неделя.
Конечно, ничего этого не было бы, если бы не рав, слава об учености и набожности которого докатилась и досюда, так что сам Ришонле-цион,наиглавнейший раввин, у которого на шее медаль от султана и ксивэс печатями от турецкого паши, попросил житомирского мудреца переехать в священный город вместе с учениками. Часто ли бывало, чтобы ашкеназскому раввину выпадала такая высокая честь?
Евреи много спорили, к кому следует причислить рава Шефаревича: к гаонам —великим вероучителям или к ламед-вовникам,то есть тем самым 36 праведникам, которые всегда должны быть в мире, потому что только из-за них Господь и не уничтожает нашу греховную Землю. Если на свете станет хоть одним ламед-вовникомменьше – все, конец. Ради тридцати пяти праведников Он терпеть уже не захочет.
Когда в прошлом году рав Шефаревич заболел свинкой (а все знают, какая это опасная болезнь для немолодого человека), Шмулик ужасно испугался: не дай Бог, Учитель помрет, а с новым ламед-вовникомвыйдет заминка – что тогда? Но рав ничего, не помер, лишь сделался еще сердитей.
Великий Шефаревич – человек особенный. Как известно, в каждую душу от рождения помещена искра Божия, а у него не искра и даже не свечка – факел, целый костер, рядом стоять жарко. И небезопасно, того и гляди обожжешься. От этого у рава в Житомире было много врагов, да и в Ерушалаиме, хотя всего месяц как переехали, тоже некоторые начинают коситься. Говорят: слишком уж гневлив.
Что ж, это правда. Учитель суров. Если заглянет в классную комнату и увидит, что кое-кто еще не умылся, а сидит, хлопает глазами, то будет аз ох'н вэй,то есть крики «ох» и «вэй» или, выражаясь по-библейски, плач и скрежет зубовный.
Поэтому, жмурясь от солнца, Шмулик надел нижний талес, кое-как пригладил длинные волосы и прочел молитву по пробуждении ото сна: «Благодарю Тебя, Царь живой и сущий, за то, что по милости Своей возвратил мне душу мою».
Поливая водой кисти рук (по три раза каждую, как предписано), произнес молитву омовения.
Потом наведался в отхожее место и возблагодарил Царя Вселенной за то, что Тот мудро создал человека, снабдив тело необходимыми отверстиями и внутренними полостями.
Еще три молитвы спустя – на благословение души, на вкушение завтрака (чтоб наши враги так завтракали: кружка горячей воды и пол-лепешки) и на учение – Шмулик вместе с другими ешиботниками сел за стол и углубился в «Гемару».
Соседи вели себя шумно, если не сказать буйно: кто читал вслух, кто кивал головой и раскачивался, иные даже размахивали руками, но Шмулик ничего вокруг не видел и не слышал. Нет на свете занятия более азартного, чем выписывать в тетрадку буквосочетания и комбинировать гематрические расчеты. Время словно перестает существовать, благоговейно замирает: вот сейчас, сейчас Шмулик прикоснется к Тайне, и мир уже не будет таким, как прежде. И свершиться это может когда угодно, в любое мгновение!
Звуком, который вернул будущего спасителя человечества к низменной действительности, было бурчание в животе у соседа, балабесаМендлика. Балабесами,или балбесами,назывались юные примаки, жившие и столовавшиеся в семье жены до тех пор, пока не войдут в зрелый возраст. Мендлику едва исполнилось четырнадцать, так что зреть ему оставалось еще порядком.
А раньше справа от Шмулика сидел Михл-Бык, имя которого теперь произносить запрещено, но ведь на мысль запрет не наложишь. О несчастном Быке Шмулик думал часто. Где он теперь? Каково ему?
Живет себе человек, пускай даже такой тупой и грубый, как Михл, но все же еврей, живая душа, а потом невесть откуда нагрянет судьба, приняв вид голоногого фокусмахера,и все, нет еврея. Ужасная участь.
У Мендлика в брюхе снова забурчало, и живот Шмулика сочувствепно откликнулся.
Солнце-то уже перевалило за полдень. Пора обедать.
Сразу же по прибытии в Ерушалаим, да пребудет он вовеки, каждому ешиботнику выдали список: в какой из местных семей ему кормиться в понедельник, вторник, среду и все прочие дни недели. Тут уж как кому повезет. День на день не приходится. Если семья бедная или прижимистая, остаешься голодный. Если хлебосольная да жалостливая, налопаешься доотвала.
Сегодня Шмулику был черед идти к мадам Перловой. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что вдова накормит лучше, чем на Пасху: и мясом, и рыбой, и даже кремовыми пирожными (слава Господу Богу нашему, сотворившему такое чудо). А плохо, потому что сядет рядом, будет смотреть влажными коровьими глазами и поглаживать по плечу, а то и по щеке. Шмулику от этого делалось стыдно, даже эклер застревал в горле.
Мадам Перлова, как и другие богатые вдовы, приехала в Ерушалаим, да пребудет он вовеки, чтобы умереть близ кладбища на Масличной горе. Уже купила участок для могилы, в самом лучшем месте. Но здоровья в ней было еще лет на пятьдесят, так что следовало позаботиться, как их прожить. Известно, что женщине в награду за то, что кормит и обихаживает мужа, на том свете достается ровно половина заработанного им блаженства. В этом смысле на покойного господина Перлова больших надежд возлагать не стоило – он был биржевым маклером. На жизнь супруге – да, заработал, а чтоб на после жизни – увы. Так что интерес вдовы был понятен: из Шмулика Мамзера наверняка получится большой ученый, и это как минимум.
Он и сам подумывал: не жениться ли? Вот и пух на подбородке уже лезет. Не ждать же, когда усы вырастут? Без подлой фамилии, которая осталась в Житомире, а скоро и вовсе позабудется, Шмулик превратился в завидного жениха. Правда, за душой ни гроша, но когда это евреи смотрели на богатство? Ученость и доброе имя дороже денег. Илуяохотно возьмут даже в исконную ерушалаимскую семью. Сефарды никогда не женятся на ашкеназских девушках, потому что те избалованы и своевольны, но зато благоволят ашкеназским женихам, из которых получаются хорошие и заботливые мужья.
Только зачем нужна сефардская семья, если есть мадам Перлова? Женщина она добрая, хозяйственная и при капитале, а значит, заботы о добывании насущного хлеба не будут отвлекать Шмулика от главного дела жизни. Конечно, она очень уж толстая и не сказать, чтобы сильно красивая, но мудрецы говорят, что телесная красота ничего не значит, а мудрецы врать не станут.
И рав Шефаревич тоже говорит: женись. На следующей неделе обещал сводить к реб Менахем-Айзику, который объясняет женихам, как правильно лежать с женщиной, чтобы не нарушить ни одного из предписаний Закона, – ведь в слиянии плоти участвуют трое: муж, жена и Тот, Чье Имя благословенно.
Шагая по улице к дому мадам Перловой, Шмулик принял решение. Схожу, послушаю реб Менахем-Айзика. Что не пойму – запомню наизусть, а потом, так и быть, осчастливлю вдову, женюсь. Хватит на полу-то ночевать.
В Армянском квартале перешел на рысцу. Тут жили скверные мальчишки, кидались в евреев ослиным пометом. Ничего, в Житомире кундесы.из Рабочей слободки могли и камнем запустить.
Чем бы вы предпочли получить по спине: острым булыжником или ослиной какашкой, которая сначала прилипнет, а потом сама отвалится?
То-то.
До всем статьям выходило, что Шмулик за минувшую весну здорово продвинулся по жизненной лестнице – можно сказать, скакнул с самого низа на самый верх, через Бог знает сколько ступенек: из житомирского мамзера сделался завидным женихом, да не где-нибудь, а в самом городе Ерушалаиме, да пребудет он вовеки.
Рыжая шикса
После обеда, который сегодня был особенно хорош, Шмулик совсем немножко понежился во дворике, на мягких подушках. Почитал для мадам Перловой из Торы. Она не понимала ни слова, но слушала благоговейно и с поглаживаниями лезть не смела. Во дворе у вдовы росло настоящее тенистое дерево, такая редкость в Старом городе. Сидеть бы и сидеть, но нужно было торопиться назад, в ешибот. Во второй половине дня с учениками занимался сам рав Шефаревич, а к нему опаздывать нельзя. Не посмотрит, что илуй, —отхлещет указкой по пальцам, больно. Учитель не дает послабления плоти – ни чужой, ни своей, потому что тело принадлежит к асиа,низшей сфере явлений, и недостойно снисхождения.
Даже на Ерушалаимской жаре рав одевается так, как положено ашкеназскому мудрецу: в черный долгополый сюртук с бархатным воротником и лисий штраймель, из-под которого свисают седые пейсы, слипшиеся от пота. И это сейчас, в мае, а что будет летом? Говорят, жара в Земле Обетованной бывает такая, что яйцо, положенное на песок, за две минуты сваривается вкрутую. Выдержит ли святость рава подобное испытание?
Глядя на расхаживающего по классу Учителя, Шмулик подумал: выдержит.
Вот рав Шефаревич остановился подле косого Лейбки, ткнул его пальцем в затылок:
– Почему не переписал главу из «Мишны», как было ведено?
– Брюхо болело, – понуро ответил Лейбка.
– У него брюхо болело, – сообщил Учитель остальным ешиботникам, как будто они сами не слышали. – Обсудим это.
Последняя фраза означала, что ученая беседа началась – сейчас из уст рава забьет родник мудрости.
Так и вышло.
– Сказано: все болезни постигают человека в наказание за грехи. Согласен?
Лейбка пожал плечами – подобное начало не сулило ему ничего хорошего. Рав Шефаревич сделал вид, что удивлен.
– Разве не так? Голова болит у того, кто думает о суетном и нечестивом. Зубы болят у сладкоежки, кто грызет много сахара. Уд гниет у распутника, кто шляется по непотребным девкам. С этим-то ты согласен?
Лейбке пришлось кивнуть.
– Ну вот и хорошо. Раз у тебя болело брюхо – значит, брюхо твое согрешило: сожрало чего не следовало. Оно – виновник твоей болезни. Согласен? А кому принадлежит брюхо? Тебе. Значит, ты сам и виновен. Согласен?
На месте Лейбки я бы ответил цитатой из «Жемчужной россыпи» Иуды Габирола, подумал Шмулик: «Дурак обвиняет других; умный обвиняет себя; мудрый же не обвиняет никого». В последнее время появилась у Шмулика такая привычка – спорить с Учителем. Привычка была весьма похвальной для талмудиста, но небезопасной применительно к раву Шефаревичу, поэтому полемику илуйвел про себя, мысленно.
Лейбка цитаты в свое оправдание привести не сумел, за что и получил указкой.
Учитель сегодня опять был не в духе – как все последние дни. По пальцам досталось и Шимону, который рассказывал урок боязливо и неполно.
– Ты сказал все, что знаешь? – нахмурился рав.
– Да, я сказал все, что знаю, – ответил Шимон по всей форме, как полагалось. Но это его не спасло.
– Глупец говорит, что знает, Мудрец знает, что говорит! – рявкнул Учитель.
Шмулик тут же мысленно парировал другим афоризмом: «Глупость кричит, мудрость говорит шепотом». Отличный ответ. Здорово было бы подискутировать с равом – не важно, на какую тему. Еще неизвестно, чья бы взяла. Есть такая штука, называется «телефон». В самый раз для диспута с равом Шефаревичем: говори ему что хочешь, указкой не дотянется.
Не так уж был виноват Шимон, чтоб хлестать его с размаху, да еще с потягом. Бедняга аж взвыл, и слезы потекли в два ручья. Никто из ешиботников кроме Михла-Быка с его толстой шкурой не вынес бы такую экзекуцию без крика.
Снова вспомнилось запретное имя, второй раз за день.
Похоже, и рав Шефаревич думал о том же, потому что темой сегодняшней беседы выбрал вероотступничество.
Современная Европа представляет собой страшную опасность для еврейства, сказал великий человек. Раньше, когда нас грабили, убивали, запирали в гетто, было легче – гонения лишь сплачивали нас. Теперь же правительства так называемых передовых стран отказались от антисемитизма, и перед тамошними евреями возник соблазн стать такими, как все, ничем не отличаться от гоев. Ведь быть евреем – это не только случайность рождения, но еще и сознательный выбор. Если не желаешь – пожалуйста. Крестись или просто перестань выказывать свое еврейство, и сразу перед тобой откроются все пути. В странах Пейл и Литэ, ныне входящих в Российскую империю, положение еще терпимое, потому что там евреям, которые перестали быть евреями, простора не дают, попрекают происхождением. А вот в Западной Европе дела совсем плохи. В стране Тайц большой вред иудейству нанес Бисмарк, и тысячи евреев отшатнулись от веры отцов. Скверно обстоят дела и в стране Церфат, которая еще сто лет назад провозгласила равенство евреев. Слава Богу, глупые гои затеяли там процесс против выкреста Дрейфуса, отчего многие отступники призадумались. Враги евреев относятся к двум видам. Первые хотят нас уничтожить, и таких бояться не следует, ибо Господь всегда защитит избранный народ Свой. Вторые во стократ опасней, потому что покушаются не на наши тела, а на наши души. Они заманивают нас добрыми словами и лаской, они хотят, чтобы мы отказались от своей особенности, перестали быть евреями. И многие, очень многие поддаются, становятся мешумедами. Мешумед,принявший Христа, в тысячу раз хуже самого злобного из гоев. Чтобы выслужиться перед новыми хозяевами, он клевещет на нас и нашу веру. А когда появляется меж нами, то сеет сомнение и соблазн в сердца малодушных, кичась богатой одеждой и достигнутым положением.
Рав Шефаревич распалялся все больше и больше. Глаза вспыхнули огнем священного гнева, перст правой руки то и дело грозно вздымался к потолку.
– Этих предателей нужно истреблять, как истребляют зараженную мором овцу, прежде чем она погубит все стадо! Сказал Господь: «Если кто из дома Израилева отложится от Меня, Я обращу лице Мое против того человека и сокрушу его в знамение и притчу, и истреблю его из народа Моего, и узнаете, что Я Господь».
На это Шмулик возразил так: «Господь сказал не «истреблять» – и точка, а «истреблять из народа Моего», то есть выгонять из евреев, и пусть дальше живут себе как знают, без Меня.
Но сказано было, само собой, по телефону, так что рав аргумента не услышал и грохотал дальше, теперь обрушившись на апикойресов:
– Мы, евреи, единственные хранители Божественного огня, который без нашего народа давно бы погас. Мы не меняемся, мы все те же, со времен Авраама и Моисея. А чего хотят апикойресы–сионисты? Чтобы евреи стали обычным народом и обычным государством. Но обычные народы живут недолго, они появляются и исчезают. Где моавитяне, филистимляне, ассирийцы, вавилоняне, римляне, терзавшие нас? Их давно нет, их вытеснили новые народы: англичане, германцы, турки, русские. Пройдет два или три века, и факелы этих молодых народов, ныне пылающие столь ярко, угаснут, вместо них зажгутся новые, еще более яркие. Наша же свечка будет гореть все тем же тихим, негасимым пламенем, которому тысячи лет! Есть ли на свете другой народ, свеча которого горит столь же долго?
И тут Шмулик не удержался.
– А китайцы, ребе? – сказал он вслух. – Они хранят свои обычаи столько же, сколько мы. Может, даже дольше. Четыре тысячи лет, вот сколько.
Про китайцев это он в энциклопедии прочитал, у мадам Перловой.
Реплика получилась эффектная, у рава аж борода затряслась. Ну-ка, что он на это скажет, какую цитату приведет?
Не дождался Шмулик цитаты, а дождался указки – и не по пальцам, а по шее, по затылку.
Вылетел из класса с воплем, осыпаемый бранью и ударами.
Трудно дискутировать с равом Шефаревичем.
Теперь нужно было переждать, пока Учитель остынет, а потом идти просить прощения – через час-два, не раньше.
Шмулик засунул руки в карманы, прошелся взад-вперед по улице, но в армянский квартал соваться не стал.
Близ Мусорных ворот кто-то окликнул его по-русски:
– Мальчик! Мальчик!
Подошла шикса в темном шелковом платье, рыжие волосы повязаны прозрачным платком. В руке саквояж. Веснушчатое лицо женщины показалось Шмулику смутно знакомым.
– Тебя зовут Шмулик, да? – обрадованно улыбнулась рыжеволосая. – Это ведь с тобой я разговаривала на пароходе? Помнишь? Я тогда в монашеском облачении была.
Точно, вспомнил он. Видел он уже эту шиксу, когда плыли по реке к морю из Москвы – туда еврейские родители свезли из разных городов своих сыновей, чтобы передать их на обучение в ерушалаимский ешибот рава Шефаревича. Только в рясе шикса была не такая красивая. С золотистыми крапинками на лице и сверкающим нимбом из волос она стала гораздо лучше.
– Здравствуйте, – вежливо сказал Шмулик. – Как поживаете?
– Спасибо. Как хорошо, что я тебя встретила! – все радовалась рыжая.
А чего, спрашивается, хорошего?
Стоит ученик почтенного рава Шефаревича посреди улицы и болтает с шиксой. Не дай Бог, кто-нибудь наябедничает Учителю. Будто и без того у Шмулика мало неприятностей. Вон литвак в черной шляпе и халате остановился, косится. Напомнить бы ему мудрое изречение: «Лучше беседовать с женщиной и думать о Боге, чем наоборот».
Но, если честно, думал Шмулик в эту минуту вовсе не Боге, а о том, что, будь у мадам Перловой такая же белая кожа, жениться на ней было бы гораздо приятней.
– Мне очень нужно с тобой поговорить! – сказала шикса.
А литвак все пялился. Добром это не кончится – непременно донесет раву.
– Спешу, – буркнул Шмулик. – Некогда.
И хотел идти себе дальше, но красивая шикса вдруг покачнулась и со стоном оперлась Шмулику на плечо.
– Ой, что-то голова кружится... Мальчик, отведи меня в тень... Дай воды...
Зажмурила глаза, рукой схватилась за висок. Это ее солнцем напекло, с непривычки.
Одна из главнейших Божьих заповедей, перекрывающая все запреты, гласит: будь милосерден. Отведу ее в тень, дам напиться и сразу сбегу, решил Шмулик.
Взял сомлевшую женщину под локоть, рукой у нее перед носом помахал, навроде веера, – это чтоб литвак видал: тут не флирт какой-нибудь, а человеку от жары нехорошо стало.
В переулочке было нежарко, тенисто. Шмулик посадил русскую на каменную ступеньку, сбегал к колодцу, принес в ермолке воды.
Шикса немножко отпила и немедленно пришла в себя. Говорит:
– Мальчик, я ищу одного человека.
Тут бы Шмулику и отправиться своей дорогой. Проявил милосердие, и довольно. Но любопытно стало, кого это она ищет. Переулочек – это вам не улица. Никто здесь особенно не разгуливает, и пялиться на ешиботника, разговаривающего с шиксой, некому.
– Какого человека?
– Его зовут Мануйла. Пророк секты «найденышей», знаешь?
Он вздрогнул. Как странно! И эта про голоногого фокусмахера! Должнобыть, что-то мелькнуло в его глазах, потому что рыжая быстро спросила:
– Он ведь был здесь. И ты его видел, да?
Шмулик медлил с ответом.
Это произошло в первую субботу после Пасхи, целых две недели назад, а как будто сегодня.
Рав Шефаревич повел ешиботников к Стене Плача.
Встали в ряд, начали молиться. Шмулик закрыл глаза, чтобы представить себе Храм во всем его нетленном великолепии – каким он был прежде и каким он будет, когда пробьет час.
Вдруг сосед толкнул его локтем в бок и показал в сторону.
Там стоял бродяга в грязном балахоне, перепоясанном синей тряпкой. В руке он держал суковатую палку, а на ногах у него были крестьянские лапти, перепачканные засохшей глиной. Кудлатая башка непокрыта, за спиной на веревке мешок – в стране Пейл такие называют «сидорами».
Оборванец с любопытством разглядывал скорбно раскачивающихся евреев. Рассеянно задрал подол и почесал жилистую, поросшую волосами голень – штанов под рубищем не оказалось.
Что это вы делаете, люди, и почему плачете, спросил он на иврите, диковинно выговаривая слова.
Выходило, что, несмотря на лапти, это все-таки еврей, только странный. Чтобы еврей не знал, о чем плачут у Стены Плача? Наверное, сумасшедший.
Закон велит относиться к безумцам с жалостью, и Шмулик вежливо ответил бродяге, но, конечно, не на иврите (священный язык не предназначен для праздной болтовни), а на идиш:
– Мы плачем о разрушенном Храме.
Рав Шефаревич хоть и взглянул мельком на невежду, но ничего ему не сказал, потому что невместно ему, гаонуи, может быть, даже ламед-вовнику,разговаривать черт знает с кем.
Я плохо понимаю твой язык, сказал голоногий на своем смехотворном иврите, похожем на клекот птицы. Ты сказал, вы плачете о храме? О том храме, что стоял здесь раньше? И показал на Храмовую гору.
Шмулик кивнул, уже жалея, что ввязался в разговор.
Бродяга удивился. Что же, говорит, о нем плакать? Камни, они и есть камни. Лучше бы вы плакали, чтоб поскорей пришел Мешиха.
Кто такой «Мешиха», Шмулик понял не сразу, а когда догадался, что это перевранное слово «Мешиах», Мессия, то испугался. Тем более что рав перестал шептать молитву и развернулся. К нему подсеменил Берл, который все на свете знает, и шепнул:
– Ребе, это русский пророк Мануйла, тот самый... Его уже видели в городе, я вам рассказывал.
Лоб Учителя собрался грозными складками, он громко сказал по-русски:
– Я – Арон Шефаревич, член раввинского совета города Ерушалаима. А кто таков ты, ведущий пустые разговоры на языке молитвы, которого ты толком не знаешь? Откуда ты пришел и как тебя зовут?
Бродяга сказал, что его зовут Эммануилом, а пришел он с горы Хар-Зейтим, где провел ночь в одной из тамошних пещер. По-русски он тоже изъяснялся неважно – про таких говорят «каша во рту». И что это за пещеры на Масличной горе? Не погребальные же? Ну, сейчас рав задаст ему за кощунство!
Но Учитель про пещеру выяснять не стал, а вместо этого брезгливо спросил:
– Поэтому ты такой грязный в субботний день?
Я рыл землю, вот и перемазался, как чушка, беззаботно засмеялся Эммануил. Смешное слово «чушка», правда?
– Рыл землю? В субботу? И после этого ты называешь себя евреем?
Вокруг собралась целая толпа. Всем хотелось послушать, как великий талмудист, мастер словесных поединков расправится с горе-пророком.
Человек, назвавшийся Эммануилом, небрежно махнул рукой. Э, сказал, не человек для субботы, а суббота для человека.
– Евреи так не говорят – так говорит христианский бог Иисус, – в сторону, для учеников, заметил рав Шефаревич. – Нет, Эммануил, ты не еврей.
Бродяга присел на корточки, положил посох поперек колен и весело посмотрел на Учителя снизу вверх. Ответил он так. Никакого бога Иисуса, мол, не знаю, и я еврей, уж можешь мне поверить. А вот ты, сердитый человек, не еврей. Еврей ведь не тот, кто рожден еврейкой, носит пейсы и не ест свинины, а тот, кто хочет очистить душу. Евреем может стать каждый, кто заключит завет с Господом, и вовсе незачем для этого выдумывать глупые запреты и отрезать маленьким мальчикам кусочек мяса. Бог человеку и без этого поверит. Тут Эммануил зашелся смехом и завершил свою богохульственную речь совершенно безобразным, просто-таки хулиганским образом. Посуди, сказал, сам, о член раввинского совета, зачем Богу, которому принадлежат все сокровища неба и земли, этакое сокровище – кусочек твоей pipiske?
Потешное словечко прозвучало так неожиданно, что кое-кто из ешиботников хихикнул, а Шмулик зажмурился, чтобы поскорее изгнать картину, моментально нарисованную чересчур бойким воображением: Господь Бог разглядывает дар рава Шефаревича и решает, что Ему делать с этой малостью – то ли прибрать куда-нибудь, то ли выкинуть.
Хихиканье оборвалось. Воцарилась зловещая тишина. Никто и никогда не наносил почтенному раву такого ужасного оскорбления, да еще на виду у целой площади евреев. И не где-нибудь, а у самой Стены Плача!
Стоит ли удивляться, что Учитель вышел из себя?
– Евреи! – крикнул он, потрясая кулаками. – Бейте нечестивца камнями!
Мало кто из присутствующих поднял камень, а если и подняли, то больше для виду. Как это – взять и кинуть в живого человека камнем?
Бросил только Михл-Бык, самый бездарный из учеников, которого рав держал в ешиботе для всякой тяжелой работы. Михл был вдвое шире остальных ешиботников и вчетверо сильнее. Все боялись его злого и жестокого нрава. Шмулик один раз видел, как Бык схватил за хвост дворнягу и расшиб ей голову об стену. Притом собака его не укусила, даже не облаяла – просто лежала посреди дороги, как это любят делать собаки.
Камень попал сидящему в грудь. Он пошатнулся и проворно поднялся с корточек, держась рукой за ушибленное место.
Михл поднял еще камень, и тогда Эммануил, глядя обидчику в глаза, быстро-быстро произнес очень странные слова. Мальчик, жалобно воскликнул он, мне больно. Так же больно, как твоему отцу, когда его убивали.
И Бык выронил камень, а сам побледнел. Шмулик нипочем бы не поверил, что плоская медная рожа Михла может быть такой белой.
Еще бы! Откуда чужой человек узнал, что «Христовы опричники» во время полтавского погрома забили Михлова отца до смерти?
Тут и рав Шефаревич опомнился – махнул рукой, чтоб остальные тоже отбросили камни.
– Так ты утверждаешь, что ты еврей? – спросил он.
Конечно, еврей, пробурчал удивительный бродяга, оттягивая ворот своей хламиды книзу. На костлявой груди виднелась вмятина, быстро наливающаяся синим и багровым.
Учитель зловеще произес:
– Вот и отлично. Генэх, гей-но мит мир! 16
И скорым шагом направился к дзорцу Махкамэ, расположенному по соседству со Стеной Плача. Генэх, ученик из местных, знающий арабский и турецкий языки, бросился за ним.
Шмулик сразу догадался, куда и зачем спешит рав. В Махкамэ расположены городской суд и заптия,турецкая полиция. По закону все евреи подвластны раввинскому совету, и если член совета велит посадить кого-то из иудеев в тюрьму, это должно быть исполнено.
Но Эммануил этого, похоже, не знал и потому нисколько не встревожился. А никто из евреев его не предупредил.
Бык хрипло спросил:
– Откуда ты знаешь про моего отца?
Бродяга ему в ответ: прочитал.
– Где прочитал? В газете? Но это было семь лет назад!
Не в газете, сказал Эммануил, а в книге.
– В какой такой книге?
Вот в этой, с серьезным видом заявил оборванец и показал на лоб Михла. Я, говорит, умею читать лица, как другие читают книги. Это очень просто, только нужно буквы знать. Лицевых букв не тридцать семь, как в русской азбуке, и даже не двадцать две, как в еврейской, а всего шестнадцать. Лицо читать еще интересней, чем книгу – и расскажет больше, и никогда не обманет.
И тут вдруг Бык произнес молитву, которую положено говорить, если увидишь какое-нибудь прекрасное чудо или если посчастливится встретить выдающегося человека: «Барух ата Адонай Элохейну мелех ха-олам, ше-каха ло бе-оламо»–«Благословен ты, Господи Боже наш, Владыка Вселенной, в мире которого существует такое».
Чтобы Михл без принуждения, сам собой, прочел молитву? Невероятно!
Помолившись, Бык сказал:
– Вам надо уходить, ребе. Сейчас прибежит полиция, вас будут бить и посадят в тюрьму.
Эммануил с беспокойством оглянулся на большой дом, в котором скрылся рав Шефаревич. Ах, говорит, ах, сейчас ухожу. Совсем ухожу. И доверительно сообщил близстоящим, что в Ерушалаиме ему пока делать нечего. На фарисеев посмотрел, теперь пойдет смотреть на саддукеев. Мол, ему рассказывали, что саддукеи поселились в Изреэльской долине, где раньше был город Мегиддо.
Подхватил полы своей рубахи и заспешил прочь.
Михл догнал его, схватил за плечо.
– Ребе, я с вами! Дорога в Мегиддо дальняя, там всюду разбойники, вы один пропадете! Я сильный, я буду вас защищать. А вы за это научите меня шестнадцати буквам!
И посмотрел на Эммануила так, словно от ответа зависела вся его жизнь.
Однако тот помотал головой.
– Почему? – крикнул Бык.
Ты, сказал фокусмахер,не выучишься этим буквам. Тебе не нужно. И идти со мной тебе тоже не нужно. Со мной ничего не будет, Бог защитит меня от напастей. Меня, но не тех, кто со мной. Поэтому я теперь всюду хожу один. А ты, если хочешь стать евреем, станешь им и без меня.
И понесся вприпрыжку в сторону Навозных ворот.
Едва он скрылся за углом, полминуты не прошло, появился рав Шефаревич, с ним два турецких жандарма.
– Где он, евреи? – закричал великий человек.
– Там, там! – показали евреи.
Генэх перевел жандармам на турецкий: «Там, там», и турки побежали догонять нарушителя спокойствия.
А несколько минут спустя вернулись, охая и хромая. У одного голова разбита, другой выплевывает кровь и зубы.
Евреи не поверили своим глазам: неужто худосочный бродяга мог так отделать двоих здоровенных держиморд?
Полицейские же несли околесицу. Якобы совсем почти догнали они бродягу, он едва шмыгнул от них в закоулок. Служивые кинулись следом – и вдруг в темном проходе случилось ужасное. Дьявольская сила схватила за шиворот одного и с размаху приложила об стену, так что он упал без чувств. Второй не успел оглянуться – с ним приключилось то же самое. «Шайтан, шайтан!» повторяли перепуганные служаки, а рав Шефаревич процедил: «Га-Сатан!» и сплюнул.
Ловок оказался фокусмахер,а по виду не скажешь.
В тот же день, вечером, Михл-Бык ушел. Да и как ему было не уйти после того, что произошло около Стены Плача?
На прощание сказал: «Пойду, поброжу по земле. Посмотрю, что за Африка такая. И еще Америка».
Пришил к белой рубахе синюю ленту и ушел. Истребился из народа своего...
Вот что случилось в первую субботу после еврейской Пасхи. Но шиксе Шмулик не стал рассказывать ни про Михла-Быка, ни про голоногого фокусника, ворующего еврейские души, а сказал только:
– Человек, про которого вы спрашиваете, был здесь и ушел.
– Когда? – встрепенулась русская.
– Две недели назад.
– А не знаешь ли ты, куда он ушел?
Шмулик заколебался, говорить или нет. А что такого? Почему не сказать?
– Он говорил про Изреэльскую долину, про древний город Мегиддо и про каких-то саддукеев.
– Мегиддо? – переспросила шикса, и ее глаза испуганно расширились. – О, Господи! А где это и как туда попасть?
Достала из саквояжа малую книжечку. В ней раскладной листок с географической картой.
Шмулик хотел сказать глупой, что путь в Изреэльскую долину долог и труден, что Эммануил все равно туда не попадет, ибо в одиночку никто в те места не ходит – там полным-полно разбойников. А уж европейской женщине в такой глуши и подавно появляться незачем.
Хотел, да не успел, потому что ненароком оглянулся, и внутри все помертвело. Проклятый литвак, что давеча таращился на улице, оказался настырным: потащился следом и вон – выглядывает из-за угла. Страшно представить, что он наврет раву Шефаревичу. Единственная надежда: может, не распознал, из какого ешибота любитель болтать с шиксами?
И Шмулик стремглав дунул в ближайший переулок, нырнул в глубокий дверной проем, затаился.
Мимо процокали дамские каблучки – это прошла шикса. Через минуту в том же направлении прошелестели мягкие, приглушенные шаги.
Слава Тебе, Господи. Пронесло.
Жизнь в арабском гареме, увиденная изнутри
Мегиддо? Саддукеи?
Полина Андреевна быстро шла по щелеобразному переулку, эхо ее звонких шагов отлетало от стен, меж которыми было не более сажени.
Это он сионистов назвал саддукеями. В самом деле похожи. Те тоже отстаивали свободу воли и утверждали, что судьба человека – в его собственных руках. Полненькая девушка с парохода «Севрюга» поминала Изреэльскую долину и Город Счастья, что будет возведен близ древнего Мегиддо.
Ах, как нехорошо! Ах, как скверно!
И ведь целых две недели прошло!
Решение созрело в минуту, без малейших колебаний. Просто замечательно, что она догадалась на всякий случай прихватить саквояж с самым нужным: белье, складной зонтик от солнца, разные дамские необходимости. В гостиницу можно не заходить.
В паломническом путеводителе помимо карты Святой Земли имелась и схема Иерусалима. Вот еврейский квартал, внизу Старого Города. Нужно двигаться все время прямо – через христианскую часть, потом через мусульманскую – и выйдешь к Дамасским воротам.
Только вот быть прямым переулок не желал – его уводило то в одну сторону, то в другую, так что очень скоро госпожа Лисицына утратила всякое представление о сторонах света. Солнца же было не видно, потому что вторые этажи домов, забранные деревянными решетками и оттого похожие на курятники, выпячивались навстречу друг другу и почти смыкались.
Монахиня в нерешительности остановилась. Спросить дорогу было не у кого. Может быть, кто-нибудь выглянет из окна?
Задрала голову – и вовремя. Из открытой решетки высунулись две женские руки. В руках был таз. Из него вниз полилась блеснувшая серебром полоса мыльной воды.
В самый последний миг Полина Андреевна успела отскочить в какую-то щель да еще отпрыгнула, чтоб не замочиться отлетающими от мостовой брызгами.
Поскольку все равно заблудилась, возвращаться не имело смысла – пошла по ответвлению вперед. Только теперь то и дело пугливо поглядывала вверх. Судя по встречающимся на земле следам, из окон сливали отходы и менее безобидные, чем мыльная вода.
Поскорей бы выбраться на нормальную улицу!
Проулок вывел к какому-то монастырю, а там уже было проще. Следуя вдоль стены, Пелагия вышла к маленькой площади и у первого же прохожего, одетого в европейский костюм, спросила, как пройти к Дамасским воротам.
А отыскать дом Салаха и в самом деле оказалось нетрудно.
Монахиня остановилась возле уличной арабской кофейни, сказала «Салах» и изобразила, будто держит поводья. Ее отлично поняли и ответили на том же языке: прямо, потом направо, а там увидишь ворота (очерченный в воздухе полукруг, и рукой «тук-тук-тук»).
На стук открыл сам хозяин, расставшийся с Полиной Андреевной каких-нибудь три часа назад.
– Вы, наверное, удивлены, – произнесла запыхавшаяся гостья. – Но у меня к вам дело.
Увидев недавнюю пассажирку, Салах изумленно вытаращил свои карие, несколько навыкате глаза, однако услышав про дело, замахал руками.
– Нельзя! Нельзя дело! Гости пришла – добро жаловать. Кофе пить будем, пахлава кушать. Потом дело говорить.
Пелагия хотела сказать, что дело не терпит отлагательства, но вспомнила об обидчивом восточном этикете и покорилась. В конце концов, что изменят лишние несколько минут, а другого кучера в Иерусалиме она все равно не знает.
Снаружи дом Салаха смотрелся неважно: облупленные стены, прямо у ворот мусор и отбросы, поэтому Полина Андреевна приготовилась увидеть тягостное зрелище бедности и запустения. Однако гостью ждал сюрприз.
Дом представлял собой замкнутое прямоугольное пространство с открытым двором посередине. Внутренние стены строения сияли белизной, а посередине двора, под балдахином, возвышался весьма уютный помост, накрытый ковром.
Пелагии вспомнилось суждение, прочитанное в книге одного путешественника: азиатское жилище, в отличие от европейского, заботится не о внешней видимости, а о внутреннем удобстве. Именно поэтому восточные люди так флегматичны и нелюбознательны – мир их обитания заключен в стены собственного дома. Европейцам же, наоборот, под своим кровом неуютно, вот они и бродят по всему свету, исследуя и завоевывая дальние земли.
А ведь азиатский путь правильней, вдруг подумалось Полине Андреевне, с наслаждением опустившейся на мягкие подушки. Если жизнь – поиск себя, то зачем тащиться на край света? Сиди себе дома, пей кофе с медовыми лепешками и созерцай свой внутренний мир.
Толстая женщина с довольно заметными усиками поставила на ковер вазу с засахаренными фруктами, разлила кофе.
Салах перемолвился с ней несколькими фразами по-арабски, потом представил:
– Фатима. Жена.
На помост Фатима не поднялась – опустилась рядом на корточки с кофейником в руках и, всякий раз, когда гостья хоть на миг опускала чашку, подливала еще.
Потратив минут пять на этикет (красивый дом, чудесный кофе, милая супруга), Пелагия объявила о цели визита: нужно съездить в Мегиддо. Сколько это будет стоить?
– Нисколько, – ответил хозяин, покачав головой.
– Как так?
– Я не сумасшедший. Никакие деньги не еду.
– Двадцать пять рублей, – сказала Полина Андреевна.
– Нет.
– Пятьдесят!
– Хоть тысяча! – сердито всплеснул руками Салах. – Не еду!
– Но почему?
Он стал разгибать пальцы:
– Болотная лихорадка. Раз. Разбойники-бедуины. Два. Разбойники-черкесы. Три. Не еду ни за сколько.
Сказано было не для того, чтобы поднять цену, а окончательно – монахиня сразу это поняла.
Выходит, время пропало зря!
Раздосадованная Пелагия отставила чашку,
– А хвастался: отвезу, куда пожелаешь.
– Куда пожелаешь, но не туда, – отрезал Салах.
Видя, что гостья больше не притрагивается к кофе, Фатима о чем-то спросила мужа. Тот ответил – должно быть, объяснил, в чем дело.
– Значит, опять наврал, – горько констатировала Полина Андреевна. – Как мне тогда про русскую жену, а американцам про американскую.
– Кто наврал? Я наврал? Салах никогда не наврал! – возмутился палестинец. Хлопнул в ладоши, закричал:
– Маруся! Аннабел!
Из двери, ведущей вглубь дома, выглянула женщина, одетая по-восточному, но с таким румяным, курносым лицом, что не могло быть никаких сомнений в ее национальности. Волосы женщины были повязаны арабским платком, однако не на подбородке, как это делают туземки, а на затылке, по-крестьянски.
Отряхивая перепачканные мукой руки, славянка вопросительно уставилась на Салаха.
– Сюда иди! – приказал он и заорал еще громче. – Аннабел!
Когда отклика не последовало, поднялся на ноги и скрылся в доме.
Изнутри донеслись его призывы:
– Honey! Darling! Come out! 17
– Вы в самом деле русская? – спросила Полина Андреевна.
Круглолицая женщина кивнула, подходя ближе.
– Вы – Наташа, да? Ваш супруг мне рассказывал.
– Не, я Маруся, – протянула соотечественница густым голосом. – А «наташками» тутошние мужики всех наших баб зовут. Так уж повелось.
– Разве здесь много русских женщин?
– Полным-полно, – сообщила Маруся, беря с подноса цукат и отправляя его в полногубый рот. – Которые из баб-богомолиц помозговитей, не желают в Расею воротаться. Чего там хорошего-то? Горбать, как лошадь. Мужик пьет. Зимой нахолодуешься. А тут благодать. Тепло, свободно, плоды-ягоды всякие. Ну а кому свезет мужа найти, вовсе рай. Арап, он водки не жрет, ласковый, опять же не в одиночку с ним управляться. Когда баб три или четыре, много легше. Так, Фатимушка?
Она затараторила по-арабски, переводя сказанное.
Фатима кивнула. Налила себе и Марусе кофе, обе присели на край помоста.
Из дома все доносились англоязычные призывы.
Маруся покачала головой:
– Не выйдет Анька. Она об это время книжку пишет.
– Что-что? – моргнула Пелагия. – Какую книжку?
– Про бабскую жизнь. Она для того и замуж вышла. Говорит, поживу годик с арапским мужиком, а после книжку напишу, какой еще не бывало. Название у книжки такое. – И Маруся произнесла безо всякой запинки. – «Лайф-ин-арабиан-харем-син-фром-инсайд» 18. Это по-американски, а по-нашему: «Сказ про арапских мужиков». Говорит, вся Америка такую книжку купит, мильон денег заработаю. Анька баба ученая, а умная – страсть. Почти как Фатимка. Потом, говорит, поеду в страну Китай, выйду замуж за китайца. Тоже книжку напишу: «Сказ про китайских мужиков». Бабы должны знать, как нашей сестре где живется.
Заинтригованная Полина Андреевна воскликнула:
– Да как же она уедет? Ведь она замужем!
– Очень запросто. Здесь это легче легкого. Салаша три раза скажет: «Ты мне больше не жена», и все – езжай куда хочешь.
– А если не скажет?
– Скажет, куда ему деться. И не три раза, а тридцать три. Баба мужика завсегда доведет, если пожелает. А уж три бабы того паче...
Маруся перевела Фатиме, та опять кивнула.
Сидеть вот так втроем, пить крепкий вкусный кофе и разговаривать о женском для монахини было непривычно и увлекательно – на время она даже забыла о неотложном деле.
– Да как вы все уживаетесь с одним мужчиной?
– Очень отлично. Одной Фатимке с ним трудно было: и хозяйство веди, и за детями доглядывай. Вот она и позвала меня в жены – мы на базаре познакомились. Видит, баба я крепкая, работящая, с совестью.
– И Салах согласился?
Маруся засмеялась, передала вопрос товарке. Та тоже прыснула. Сказала (а Маруся перевела на русский):
– Кто же его спрашивал?
Полине Андреевне все это было ужас до чего любопытно.
– А чем у вас американка занимается?
– Анька-то? Детей учит и в постеле за нас отдувается, особенно по жаркому времени. Она молодая, тощая, ей нежарко. Опять же для книжки ейной польза. Когда допишет, уйдет – другую заместо ее возьмем, тоже молоденькую. Уже порешили. Какую ни то жидовочку из здешних. Они бойкие.
– Разве ислам дозволяет на еврейках жениться?
Маруся удивилась:
– А ты что ж, думала, я свою веру на ихнюю променяла? Нет уж, в какой родилась, в такой и помру. Салаша меня неволить не стал. Ислам – вера незлая, хорошая. Крестьянки и юдейки по-ихнему «люди Книги» считаются, Библии то есть. На них жениться не зазорно. Это на поганых язычницах нельзя, а кто их видел, язычниц-то?
Тут Фатима впервые произнесла что-то, не дожидаясь перевода.
– Спрашивает, зачем тебе так надо в Мегиддо? –
– Очень нужно одного человека отыскать, а Салах не хочет, боится. Даже за пятьдесят рублей.
Усатая толстуха внимательно смотрела на гостью, будто оценивала.
– Очень любишь его?
От неожиданного вопроса Пелагия смешалась, не зная, как объяснить. Проще всего было соврать:
– Да...
Сказала – и густо покраснела. Стыдно инокине врать-то.
Но Фатима поняла по-своему.
– Говорит: раз красная стала, значит, вправду сильно любишь.
Жены поговорили между собой по-арабски. Потом старшая погладила Полину Андреевну по щеке и сказала что-то короткое.
– Поедет, – перевела наташка Маруся. – А пятьдесят целковиков Фатимке отдай.
Закавыка
Длительное путешествие по волнам, горам и долинам настроило Якова Михайловича на философский лад. В его профессии нечасто выпадало этак вот мирно, неспешно перемещаться по лику матушки-Земли. Особенно отрадно было на водном отрезке пути. Следить за объектом незачем – куда она денется, с корабля-то. Наоборот, требовалось держаться подальше, чтоб не намозолить глаза. За время плавания Яков Михайлович даже покруглел от сытного питания и здоровой дремы на палубе.
Однако благоприобретенное жировое наслоение улетучилось быстро. Отмахайте-ка по жаре семьдесят верст на своих двоих.
Сойдя на берег, Яков Михайлович счел необходимым преобразиться – на пароходе был незаметным господином в панаме и полотняной паре, а стал еще более незаметным мужичком-паломником. Таких в пресветлый город Иерусалим по дороге тащится видимо-невидимо.
Объект следовал на конной тяге, но препаршивой, так что козликом бежать не пришлось.
В Иерусалиме же Якову Михайловичу целесообразней показалось обратиться в иудеи. Этой публики здесь имелось невиданное многообразие, причем все они дичились друг друга и изъяснялись каждый на своем наречии. Несколько раз к лже-литваку подходили такие же халатники в шляпах и о чем-то заговоривали по-своему, но Яков Михайлович лишь мычал в ответ – евреи ведь тоже глухонемые бывают. Литваки жалостно цокали языком и оставляли бедолагу в покое.
И все шло самым отличным манером, пока не случилась закавыка.
Следовал себе Яков Михайлович за объектом по узкой улочке. Держал дистанцию, не лип, но и из виду не выпускал, не доверялся одному только цок-цок каблучками.
И вдруг сверхъестественное происшествие, прямо фата-моргана, иначе не скажешь.
На секундочку всего и обернулся, посмотреть, не идет ли кто сзади. Вдруг впереди плеск. Глянул – со второго этажа из окошка льется вода, а монашка будто сквозь землю провалилась. Потер глаза – не сон ли. Только что здесь была, и здрасьте-пожалуйста: на мостовой одна лужа мыльной воды. Растаяла она, что ли, как Снегурка? Или заметила слежку, да и припустила со всех ног?
Он кинулся вперед, но через сотню шагов уперся в тупик. И лишь двигаясь в обратном направлении, обнаружил справа узенький проход, куда, должно быть, и шмыгнула Рыжуха.
Да поздно – не догонишь.
Потыркался немножко по закоулкам, употел весь. Другой, похлипче характером, непременно впал бы в отчаяние, но Яков Михайлович, как уже было сказано, свято верил в мощь человеческого разума. Не бывает неразрешимых задач, бывают бестолковые решальщики.
Остановился в тенечке, покумекал.
Нуте-с, нуте-с. Что подскажет в такой ситуации разум?
Идти на Русское подворье, в женскую гостиницу? Ждать резвушку там?
А саквояжик у ней в руке зачем? Если не собирается она возвращаться в гостиницу, тогда что?
Покумекал еще. Кивнул себе головой, сказал: «Умничка».
И повернул назад, в сторону еврейского квартала.
Сутулый жиденок оказался на том же самом месте, где его окликнула Рыжуха. Стоял, прислонившись спиной к стене, шмыгал носом. Потом сел на корточки, подобрал палочку и принялся чертить на земле какие-то каляки. Так увлекся, что и не заметил, как подошел Яков Михайлович.
Тот выждал, пока улица опустеет, и тронул мальчугана за плечо.
В устремленных на Якова Михайловича черных глазах отразился розовый отсвет заката, а еще там прочитался страх.
Заморыш залопотал на еврейском жаргоне, замотал головой – вроде как оправдывался.
– Пойдем-ка со мной, дружок, – сказал ему Яков Михайлович, слегка сжал худенькое плечо и рывком поставил еврейчика на ноги.
– Я ничего, – пролепетал паренек по-русски. – Я ей только воды дал...
– Пойдем, пойдем, – мирно повторял мнимый литвак, ведя мальчишку за собой. – Вот сюда, в закуточек. Потолкуем ладком, и никто нам не помешает. О чем она тебя спрашивала, рыжая-то?
Жиденок посмотрел в спокойные глаза Якова Михайловича и, похоже, увидел в них нечто особенное, потому что судорожно сглотнул, и губы его задрожали.
Это было хорошо, что он такой понятливый. Для пущей экономии времени Яков Михайлович еще и ткнул ему пальцем под ключицу, где нервный узелок, а другой рукой своевременно припечатал пареньку рот, чтоб не вышло лишнего крика.
Крика и не было, одно мычание. Зрачки у мальчишки расширились – это от боли. Якову Михайловичу по роду деятельности неоднократно доводилось наблюдать это примечательное явление, а недавно прочитал в одном научном журнале: это такая физиологическая реакция, происходящая от острого раздражения зрительного нерва.
– Так о чем она тебя спрашивала? – повторил Яков Михайлович, подождав, чтоб зрачки немножко сузились.
Ладонь со рта убрал, но недалеко – на пару вершков. Палец, которым ткнул в болезненное место, тоже держал на виду, для наглядности.
– О русском пророке, – быстро сказал еврейчик. – Об Эммануиле... Есть тут такой.
Яков Михайлович улыбнулся, одобрительно похлопал паренька по лбу – тот от страха зажмурился.
– Правду говоришь, верю. А куда она отправилась, знаешь?
У самого сердце так и екнуло. Ну как не знает, тогда что?
– Не знаю, дяденька... – расстроил Якова Михайловича еврейчик, но, увидев, как помрачнело лицо страшного человека, скороговоркой прибавил. – Она про Изреэльскую долину говорила. Спрашивала, как туда попасть. И еще про Мегиддо.
«Дяденька» облегченно вздохнул.
– А больше ничего сказано не было?
– Н-ничего...
Похоже, мальчишка и в самом деле был выдоен досуха.
Яков Михайлович задумался.
– Дяденька, я, честное слово, все вам рассказал...
– Помолчи, дружок, не мешай. Я думаю, можно ли оставить тебя в живых, – пробормотал тот, почесывая висок.
И тут еврейчик возьми и выпали – торжественно так, с убеждением:
– Меня убивать никак нельзя, я еще должен спасти человечество!
Это и решило. Если он из спасителей человечества, то точно разболтает, понял Яков Михайлович. Знаем мы ихний еврейский телеграф.
Успокаивающе улыбнулся пареньку, одной рукой погладил его по шишковатому затылку, другой взялся за узкий подбородок и коротко, сильно дернул в сторону.
В цыплячьей грудке что-то пискнуло, и, когда Яков Михайлович убрал руки, заморыш бесшумно сполз по стене. Раздутая от учености голова склонилась на плечо, и спаситель человечества приложился к народу своему.
X. ПАУЧЬЕ ЛОГОВО
Ай да Бердичевский
Глядя десятнику Киевского участка не в глаза, а на мокрые губы, собранные в гузку для лобызания, Матвей Бенционович брезгливо процедил:
– Поцелуй Иуды. Что, узнал, поджидок?
Вот пригодилось и полезное слово, позаимствованное у «есаула».
Савчук выпучил глаза, а Коля разобрал губы обратно, и нижняя отвисла вместе с челюстью.
Теперь главное было буря и натиск.
– Хороши у вас «апостолы»! – напустился Бердичевский на заводчика. – Я этого субчика в «Бристоле» видал! Жидовское гнездо, жид на жиде! А этот перед ними на карачках ползает. Они ему «ты» да «Колька», а он их по имени-отчеству! Когда я вижу, как русские люди сами свою гордость топчут, у меня в глазах темно делается!
«Есаул» кинулся заступаться за Колю:
– Да он нарочно! Это мы ему поручили! В «Бристоле» все важные жиды останавливаются. Николай – наши глаза и уши!
– Он за паршивый гривенник до земли гнется! – не желал ничего слышать разгневанный прокурор. – Может, это он тут у вас жидовские глаза и уши!
Гнев Матвея Бенционовича был великолепен. Изо рта летели брызги, а руки размахались столь яростно, что носильщик попятился, налетел на стул и грохнулся на пол.
Упавшего кинулись поднимать.
– Уверяю вас, господин Дичевский, вы ошиблись, это наш человек! – уговаривал Бердичевского «есаул». – Многократно проверен! Он и в секретных акциях участвовал.
В конце концов статский советник дал себя успокоить, но не сразу, не сразу.
И тут последовала контратака со стороны оскорбленного Коли. Звенящим от обиды голосом он закричал, тыча пальцем в Матвея Бенционовича:
– У них волос не такой был, а чернявый!
Прокурор презрительно бросил:
– Дурак! Про краску для волос слыхал?
– Ты, Колька, и вправду дурак, – пришел ему на помощь парикмахер. – Захаживай ко мне – я тебя враз в абрашку перекрашу.
– А зачем вы были перекрашены в еврея? – нахмурился Савчук.
Бердичевский сделал ему знак глазами – отойдемте-ка.
Зашептал «есаулу» на ухо:
– Завтра снова перекрашусь. У меня план. Хочу выдать себя за жида. Проникну в их круг, пощупаю, что они такое и с чем их кушать. Надеюсь получить от вас нужные сведения. Кто у них главный синедрионщик после отъезда Шефаревича?
– Вы с ума сошли! – всплеснул руками заводчик. – Да где вам с вашей внешностью за еврея сойти? Они чужого враз раскусят. И как ту девку – головой в омут...
– Двум смертям не бывать, а под лежачий камень – сами знаете, – со скромным мужеством, безо всякой рисовки сказал Бердичевский. – Давайте, Савчук, рассказывайте всё, что знаете.
«Инфернальная Зизи»
В пятницу с утра статский советник отправился на Большую Бердичевскую к начальнику губернского тюремного комитета, где навел кое-какие справки.
После обеда предпринял рейд номер два – но не в ешибот «Гоэль-Исраэль» (от которого, впрочем, осталось одно здание). Нашелся объект поинтересней.
Погода была отменная, почти летняя, и Матвей Бенционович решил пройтись, тем более что возникла потребность собраться с мыслями.
Как непохож был Житомир на любимый прокурором Заволжск!
Рай и ад, повторял Бердичевский, оглядываясь по сторонам. Здесь несомненный ад – невзирая на клейкие листочки, свежий ветерок и голубое небо. Наоборот, из-за природного благолепия мерзость города ранила взгляд еще больше. Сколь разительно отличался людской мир от Божьего!
Бог ниспослал житомирцам и упомянутое высокое небо, и пение птиц, и чудесный вид с Замковой горы на реку Тетерев.
Люди же от себя присовокупили к Божьему дару серые улочки с кривыми домами, загаженную навозом и плевками мостовую да еще собственные злые физиономии.
В Заволжске во всем ощущалась неброская прочность, добротность, здесь же главенствовали угрюмая нищета и какая-то рыхлость: того и гляди, домишки рассыплются в труху, и жители брызнут во все стороны, как ошпаренные тараканы. А еще чувствовалась особенная накаленность атмосферы, словно город был готов в любой момент вздыбиться и превратиться в место побоища.
Что за взгляды, что за лица, качал головой Бердичевский, тоскуя по заволжанам.
Житомирская толпа поражала своей пестротой. Помимо евреев, русских и украинцев в ней попадались и поляки, и немцы, и чехи, и раскольники, причем каждый одевался и держался по-своему, на инородцев смотрел свысока и мешаться с ними не желал.
Может, дело в разноплеменности? Нет, ответил себе Матвей Бенционович. В Заволжске тоже кого только нет – и татаре, и башкиры, и зытяки, и вотяки, и мордвины, и те же поляки. Одни придерживаются православия, другие старого обряда, третьи ислама, четвертые католицизма, пятые вовсе язычники. И ничего, уживаются, друг друга за глотки не хватают.
В голову Бердичевскому пришла неприятная антисемитская мысль, в самый раз для выкреста: а может, всё дело в евреях? Религия-то индивидуалистическая, каждый еврей существует наедине с Богом, то есть, считай, сам по себе. От этого евреи хороши, когда их мало. Если же их много или большинство, как в городе Житомире, то образуется слишком густая концентрация энергии, от этого атмосфера и искрит.
Хотя нет, в Петербурге евреев единицы, им там жить не дозволяется, а между тем в столице ощущение дремлющего вулкана поострей, чем в Житомире.
От воспоминания о Петербурге пришел и ответ. Не в евреях дело, и уж тем более не в разноплеменности и многоверии.
Дело во власти.
Вот в Заволжске власть правильная, и там все живут мирно, сосед на соседа зуб не точит, в штаны ему не заглядывает – обрезанный или необрезанный. А кому вздумается, сразу получит по загривку и от земной власти в лице губернатора, и от духовной в лице архиерея.
В Житомире же рознь между жителями поощряется, чему свидетельство тот же полицеймейстер Ликургович. То же и в Петербурге, а стало быть, и в масштабе всей великой империи.
Сверху производят сортировку национальностей и религий – какие получше, какие похуже, какие совсем никуда. Вот и выстраивается высоченная лестница, с которой Россия запросто может сверзнуться, переломать себе ноги, а то и шею.
На самой верхней ступеньке числятся православные великороссы, потом православные славяне нерусского корня, потом немцы-лютеране, потом грузины, армяне, мусульмане, католики, раскольники, евреи, а хуже евреев уже только запрещенные секты – какие-нибудь духоборы или хлысты. И каждый подданный знает, на какой из ступенек ему место, и каждый своим положением недоволен. В том числе и вроде бы привилегированные великороссы, потому что девять десятых из них голодны, неграмотны и живут хуже иных нижестоящих.
От этой аллегории попахивало социализмом, к которому Матвей Бенционович относился неодобрительно, почитая теорию насильственного равенства за вредный германский соблазн, покушающийся на неокрепшие умы. Посему прокурор со вздохом оставил философствования и вернулся к насущности. Да и пора было – Замковая гора осталась позади, начиналась Подгурка, которую инспектор губернских тюрем назвал «жутким еврейским клоповником».
Пожалуй, инспектор прав, думал Бердичевский, шагая по грязным улицам еврейских кварталов. Как это «опричники» умудряются при этакой нищете погромы устраивать? Тут и так всё разгромлено и разорено.
На чистого господина в котелке пялились с любопытством. Многие здоровались на идиш, кое-кто даже пытался вступить в беседу, но Матвей Бенционович вежливо уклонялся: уншулъдикен зи мир19,уважаемый, тороплюсь.
Статский советник перекрасился из ангелов обратно в брюнеты, для чего купил в знакомом «Salon debeaute» краску «Инфернальная Зизи», сулившую «шевелюру цвета воронова крыла с изумительно-антрацитовым отливом».
Природный колер волос восстановить не удалось (видимо, ангел и Зизи вступили друг с другом в какое-то химическое противоречие), и редеющая растительность на голове прокурора приобрела буро-красный цвет. Впрочем, евреи бывают и такой масти, поэтому Матвей Бенционович смирился. Даже порадовался новообретенной рыжине, которая словно бы приблизила его к Пелагии (сбереги ее Господь от всех бед и напастей).
У синагоги теснилась очередь из чудовищных оборванцев. Стоял шум, гам, но не русский, с матерщиной и бабьими взвизгами, а ноюще-жалобный, с причитаниями и воздеванием рук, одним словом, самый настоящий еврейский хипеш.Ах да, нынче вечер пятницы. Неимущим евреям раздают халяв —кринки с молоком и халы, чтоб было чем встретить субботу.
От синагоги рукой подать, вспомнил статский советник указания инспектора. Надо только повернуть на Малую Виленскую улицу.
Вот он – одноэтажный серый дом с кривым мезонином (по определению инспектора – «паучье логово»).
На вывеске по-русски, по-польски и по-еврейски написано «Ломбард и ссудная касса Эфраима Голосовкера».
Совет ценой в двадцать пять тысяч
Звякнув колокольчиком, Бердичевский вошел в контору, на первый взгляд производившую чрезвычайно запущенное, убогое впечатление. Однако, если повнимательней приглядеться, оказывалось, что пыльные, с трещинами стекла забраны прочнейшими стальными прутьями, в двери установлен тройной английский замок, а сейф отливает матовой крупповской сталью.
Прибедняться любим, мысленно заключил прокурор, разглядывая хозяина.
Господин Голосовкер был в засаленной ермолке, дужка очков скреплена веревочкой, на локтях пузырились тертые бухгалтерские нарукавники. Коротко взглянув на посетителя, он изобразил ужасную занятость, щелкнул костяшками на счетах.
Был в кассе и еще один человек – щеголеватый блондин с идеальным сияющим прибором. Этот стоял в углу, у конторки, и что-то переписывал в растрепанную учетную книгу.
– Шабат шолом, —поздоровался Матвей Бенционович по случаю приближающейся субботы. Молодой человек прошелестел:
– Здравствуйте.
Взгляд у него был мягчайший, прямо шелковый.
Ростовщик же только кивнул. Посмотрел на вошедшего еще раз, подольше, и протянул руку ладонью кверху.
– Показывайте.
– Что показывать? – удивился Бердичевский.
– Что принесли, то и показывайте.
– С чего вы взяли, будто я вам что-то принес?
Голосовкер закатил глаза, вздохнул и терпеливо, как малахольному, объяснил:
– Ко мне приходят либо-либо. Либо чтоб взять ссуду, либо чтоб заложить вещь. Вы же не цудрейтер,чтобы думать, будто я дам ссуду незнакомому человеку? Нет, вы не цудрейтер.Еврей, если он цудрейтерили, выражаясь культурно, идиот, не носит шляпу-котелок за двенадцать рублей и пиджак английского твида за сорок или даже сорок пять целковых. Значит, вы принесли вещь. Ну, что там у вас? Золотые часы? Кольцо с камнем?
Он сдвинул очки на кончик носа, вместо них спустил со лба на глаз лупу, пощелкал пальцами.
– Давайте, давайте. Я, конечно, не цадик и не раввин, но в пятницу вечером хожу в синагогу, а потом пою «Шалом алейхэм, мал'ахэй га-шалом»и сажусь за праздничный стол. Кеша, а вы что возитесь? – повернулся он к блондину. – Ей-богу, лучше бы я нанял какого-нибудь еврея-безбожника, чтобы сидел в конторе в пятницу вечером и в субботу.
– Сейчас-сейчас, Эфраим Лейбович, – кротко молвил Кеша и застрочил в книге с удвоенной скоростью. – Что-то я не вижу в описи бирюзовых бус мадам Слуцкер. Разве она не придет их выкупать? Завтра последний день.
– Придет, конечно, несмотря на субботу, и будет плакать, но денег у нее нет, а значит, отдавать бусы ей не придется. Я запираю их в сейф.
Пользуясь паузой, Матвей Бенционович разглядывал «паука», пытаясь определить, как с таким разговаривать. Наверное, лучше всего попасть в его же собственный тон.
– Ничего я вам не принес, мсье Голосовкер, – сказал статский советник, и голос сам собой заплел певучую интонацию, казалось, навсегда вытесненную долгими годами учебы и государственной службы. – Наоборот, хочу у вас кое-чего взять.
Ростовщик убрал руку, прищурился.
– Я буду давать кое-чего незнакомому человеку, хоть бы даже и в шляпе-котелке? По-вашему, я шлимазл?
Бердичевский сдержанно улыбнулся.
– Нет, мсье Голосовкер, вы не шлимазл.Великий Ибн-Эзра сказал: «Если шлимазлвздумает стать гробовщиком, люди перестанут умирать, а если шлимазлстанет продавать светильники, то перестанет заходить солнце». У вас же с коммерцией, насколько мне известно, всё в полном порядке.
– Насколькр вам известно? – переспросил Голосовкер. – А могу я поинтересоваться, насколько именновам известно? Вы, извиняюсь, кто такой будете и откуда?
– Мордехай Бердичевский, – поклонился прокурор, назвавшись именем, которое носил до крещения. – Из Заволжска. И я в самом деле о вас много кой-чего знаю. – Заметив, как напряглось при этих словах лицо хозяина, Матвей Бенционович поспешно добавил. – Не бойтесь, мсье Голосовкер. Я хочу попросить у вас то, что охотно даст любой еврей, – совета.
– И вы приехали в Житомир из Заволжска, чтобы спросить у Эфраима Голосовкера совета? – недоверчиво прищурился ростовщик.
– Вы засмеетесь, но так оно и есть.
Засмеяться Эфраим Лейбович не засмеялся, но улыбнулся – немножко встревоженно и вместе с тем польщенно.
Бердичевский покосился на молодого человека, который всем своим видом показывал, что занят работой, ничего вокруг не видит и не слышит.
– Говорите, мсье Бердичевский. Кеша хороший мальчик, а идише харц20,хоть и кацап. Он знает: что сказано в этих стенах, в этих стенах и останется.
Обладатель еврейского сердца будто и не слышал лестной аттестации – сосредоточенно зашуршал страницами, что-то там выискивая.
Прокурор тем не менее понизил голос:
– У меня в Заволжске ссудно-кредитное товарищество – вроде как у вас. Ну, может быть, немножко побольше.
Он показал большим и указательным пальцами, что совсем ненамного.
– И как вам это удалось? Ведь Заволжская губерния за чертой оседлости. Выкрестились?
– Нет, как можно, – укоризненно развел руками Бердичевский. – Как говорится, из свиного хвоста ермолки не сошьешь. Но это, скажу я вам, был еще тот макес.Пришлось записаться в купцы первой гильдии. Не подумайте, что быть купцом первой гильдии – цимес мит компот.Одно свидетельство стоило 565 рублей, да еще ведь нужно непременно вести оптовую торговлю, а какая в нашем ремесле оптовая торговля? Не хочешь опта – плати полицеймейстеру, а лох им ин коп21, —взял грех на душу Матвей Бенционович, оклеветав честнейшего заволжского полицеймейстера.
Сам на себя удивлялся – до чего легко из памяти выскакивали словечки и выражения из детства.
– Э, вы еще не видели нашей полиции, – печально улыбнулся Голосовкер. – Хуже урловя не встречал даже в Белой Церкви.
Прокурор озадаченно моргнул, потом вспомнил: урл —это то же самое, что гой.
Однако пора было переходить к делу. И Бердичевский осторожно начал:
– Обратился ко мне один человек. Хочет открыть свое дело, просит ссуду в двадцать пять тысяч.
Эфраим Лейбович закатил глаза в знак уважения к такой сумме.
– Я бы не дал, потому что человек он в Заволжске новый и недвижимого имущества там не имеет, однако тут особенное обстоятельство. Сам этот человек гой,дворянин, а поручительство привез от еврея, да не какого-нибудь лайдака,а от уважаемого рава Шефаревича из вашего города.
Голосовкер поднял брови, и Бердичевский сразу замолчал – не последует ли какого-нибудь комментария. Нет, не последовало.
– Господин Шефаревич такой человек, что о нем и об «Гоэль-Исраэль» знают даже в Заволжске. От поручительства ребе так просто не отмахнешься. Да и процент выгодный. Однако я человек обстоятельный. Решил съездить, проверить. И что же я здесь узнаю? Оказывается, ребе поднялся в Ерушалаим, елигер штат22, —произнося название священного города, Матвей Бенционович благоговейно воздел руки. – И еще выясняется, что мой клиент сидел здесь у вас в долговой яме.
– А, так я и знал, – с удовлетворением заметил ростовщик. – Проходимец.
– Погодите, не так всё просто. Сидел, но недолго. За него всё выплатили, до копейки. И как мне шепнули, выплатил долг не то сам ребе Шефаревич, не то его помощники. Значит, поручительству можно верить? К вам же, мсье Голосовкер, я пришел, потому что вы хорошо знаете моего клиента. Это некий Бронислав Рацевич, ваш бывший должник. Ведь это вы его упекли в яму?
– Я. – Хозяин кассы улыбнулся, как человек, вспоминающий прежнюю победу. – Умный коммерсант как распоряжается своими деньгами? Делит их на три части: основную вкладывает в дела надежные, но дающие небольшую прибыль. Другую часть пускает на предприятия средней рискованности – со средним же доходом. А малую часть тратит на прожекты совсем сомнительные, где запросто можно потерять все деньги, но зато при удаче и выиграешь много. В нашем с вами гешефте капиталовложение высокого риска – скупка безнадежных векселей. За десять, иногда за пять процентов. Ну да вы сами знаете. [Бердичевский кивнул, хотя эта ростовщическая премудрость была для него внове.] Чаще всего прогораешь, но иногда и повезет. Вот я скупил векселя Рацевича за тысячу целковых. Люди не надеялись вернуть свои деньги, потому что такой человек, в жандармском управлении служит. А я не побоялся. И получил сполна, все пятнадцать тысяч. Вот что такое вложение высокого риска.
Голосовкер со значением поднял палец.
Выразив восхищение тороватостью собеседника, Матвей Бенционович осторожненько осведомился:
– Кто же оплатил векселя? Почтенный ребе Шефаревич?
Эфраим Лейбович сделал презрительную гримасу.
– Шефаревич станет выкупать жандарма? А хиц ин паровоз!
– «Жар в паровозе»? – не понял Бердичевский. – Что означает это выражение?
Ростовщик рассмеялся:
– Вам с вашей фамилией следовало бы знать. Это пошло из Бердичева, когда туда провели железную дорогу. Я хочу сказать: нужен Шефаревичу этот жандарм, как лишний жар паровозу.
– Однако же у них могут быть какие-то особые, не известные посторонним отношения...
– Нет, нет и нет, – отрезал Голосовкер. – Отношения между людьми, конечно, могут быть какие угодно, но пятнадцати тысячам у Шефаревича взяться неоткуда. Уж кому знать, если не мне. Шефаревич – и пятнадцать тысяч! Не смешите меня. В такой умзин23можно поверить, только живя в Заволжске. Гоните Рацевича в шею, он мошенник. Не отдаст он вам денег, а поручительство он подделал – наверняка знает, что Шефаревич уехал и не вернется. Вот вам совет, цена которому двадцать пять тысяч!
И ростовщик сделал широкий, щедрый жест.
Триумф эмансипации
– Постойте, постойте, – заволновался Матвей Бенционович, у которого рушилась вторая и притом последняя версия. – Вы говорите, что у «Гоэль-Исраэль» не было денег, чтобы выкупить Рацевича. В это трудно поверить. Такой уважаемый человек, как ребе Шефаревич, не нуждается в капиталах. Ему достаточно приказать, и богатые евреи принесут столько, сколько нужно. Я слышал от человека, заслуживающего полного доверия, что почтенный ребе подобен пророку Иезекиилю. Люди говорят, что столь грозного и воинственного еврея не бывало со времен Иуды Маккавея, что в ребе Шефаревиче возродились сила и гнев Израиля.
– Плюньте тому, кто это вам говорил, в физиономию, Шефаревич обычный трескучий болтун, каких во множестве производит худосочная галутская земля. Они трясут бородой, сверкают глазами и грозятся, но при этом похожи на ужей – шипят громко, а кусают нестрашно. – Голосовкер тяжко вздохнул. – Маккавеи и в самом деле возродились, но они не носят пейсов и не соблюдают субботы, уж можете мне поверить.
– Вы о сионистах?
– О некоторых из них. – Ростовщик оглянулся на молодого человека и перешел на шепот. – Знаете, на что я потратил те пятнадцать тысяч, и даже еще пять тысяч сверху? – Он жалобно развел руками. – Вы не поверите. На осушение болот в какой-то палестинской долине. Как вам это понравится? Где Эфраим Голосовкер и где те болота?
– Это благородный поступок, – рассеянно обронил Бердичевский, думая о своем.
– Будешь благородным, если тебя просят так убедительно, аз ох-н-вей...
Интонация, с которой была произнесена эта фраза, заинтересовала статского советника.
– Вас заставили? Вымогательство?
– Нет, – горько усмехнулся Эфраим Лейбович. – Этот господин не вымогал. Он просто приехал ко мне в гостиницу. Такой вежливый молодой человек, при галстуке, в визитке. Сказал приятным голосом: «Голосовкер, вы богатый человек и разбогатели главным образом на том, что сосете кровь из еврейской бедноты. Пришло время поделиться со своим народом. Я буду вам очень признателен, если в течение трех дней вы внесете в кассу коммуны «Мегиддо-Хадаш» двадцать тысяч рублей. А если не внесете, мы увидимся снова». И таким, знаете, тихим голосом он это сказал, совсем не как говорит ребе Шефаревич. Я подумал: вот змея, которая не шипит, но уж если укусит – нешине гедахт24.И мне ужасно не захотелось, чтобы мы с молодым человеком увиделись вновь.
– Когда это было? Где? И кто этот человек?
– Вы спрашиваете когда? Четыре месяца назад. Вы спрашиваете где? В городе Одессе, зол дос фархапт верп25.Я поехал туда по коммерческим делам.
Матвей Бенционович напомнил:
– Я еще спросил, кто этот бандит?
– Вы сказали это слово, не я, – оглянулся на дверь ростовщик, хотя до Одессы отсюда было добрых пятьсот верст. – Многие евреи считают, что он герой. Если вы спросите меня, я вам скажу, что героев и бандитов пекут из одной муки, но это не важно. Вежливого молодого человека, который побывал у меня с визитом, звали Магеллан. Я навел справки у солидных людей. И они рассказали про этого Магеллана такое, что я подумал: пускай уже они будут, эти болота. То есть, пускай их уже не будет. Двадцать тысяч – очень большие деньги, но зачем они покойнику?
– Даже так? – усмехнулся Бердичевский, позабавленный рассказом. Кто бы мог ожидать от житомирского гобсека подобной впечатлительности?
– Я вам не буду пересказывать всё, что мне сообщили солидные люди про еврея по имени Магеллан, потому что это получится долго и ночью вам обязательно приснится кошмар, а кому нужны кошмары в ночь на субботу? Я расскажу вам только то, что я видел собственными глазами, а потом вы уже будете говорить «даже так?» и усмехаться, ладно? – Голосовкер передернулся от нехорошего воспоминания. – Вы думаете, я мишугенер,чтобы за здорово живешь или даже с большого перепугу отдавать на какие-то болота двадцать тысяч? Два дня – это два дня, подумал я. За два дня Господь Бог успел отделить свет от тьмы и воду от суши – если уж говорить о болотах. Я прочел в одесской газете, что завтра у «Мегиддо-Хадаш» митинг, и решил посмотреть, что это за люди. Если совсем страшные – нынче же сбегу в Житомир, пускай мсье Магеллан поищет ветра в поле. А если не очень страшные, то сначала закончу свои одесские дела, а сбегу уже потом.
Пришел. Ну, митинг как митинг. Один еврей кричит громкие слова, другие слушают. Потом выходит другой еврей, тоже кричит. Потом третий. Долго кричат и во всю глотку, а слушают не очень хорошо, потому что евреи любят сами говорить, других слушать не любят. А потбм вышел Магеллан. Говорил тихо и недолго, но слушали его так, как у нас в синагоге слушают кантора Зеевзона, когда он приезжает из Киева со своим хором из восемнадцати певчих. И когда Магеллан закончил и сказал: «Кто с нами – подписывайтесь под Хартией» (была у них какая-то там Хартия, вроде клятвы или присяги), то выстроилась целая очередь из парней и девушек. Все захотели осушать болота и сражаться с арабскими бандитами. И я подумал себе: Бог с ними, с одесскими делами, нынче же уезжаю в Житомир. Только вдруг расталкивает публику Фира Дорман и тоже начинает говорить речь. Вы, конечно, знаете Фиру Дорман?
– Это американская социалистка и суфражистка? Читал в газетах.
– Я не знаю, что такое «суфражистка», но если это те, кто говорит, что женщины не хуже мужчин, то это как раз про Фиру. Ее девочкой увезли в Америку, она набралась там всяких дурацких идей и приехала будоражить бедные еврейские головы, которые и так сикось-накось...
Значит, вышла Фира – стриженая, с папиросой, в каких-то шароварах, и как закричит зычным голосом – прямо фельдфебель на плацу: «Не верьте этому шмоку,девушки! Он тут врал вам про равноправие, про новое братство. А я у вас спрошу: что за слово такое – «братство»? Если равноправие, то почему не «сестринство»? И почему главный в коммуне – мужчина? А потому, что этот краснобай хочет заманить вас в новое рабство! К нам в Америку тоже приезжали такие, как он, устраивать коммуны! Я вам расскажу, чем это закончилось! Бедные девушки работали наравне с мужчинами, но еще и обстирывали их, и кормили, и рожали детей, а потом, когда они раньше времени состарились и утратили привлекательность, вчерашние «братья» привели новых жен, молодых, которым про равноправие больше не рассказывали!»
Фира еще немного всякого такого покричала, а потом как схватит ихнюю Хартию с подписями и порвала ее на мелкие кусочки. Шум, крик. А она встала напротив Магеллана, подбоченилась. «Что, язык проглотил, эксплуататор? » Он ей в ответ, еще тише обычного: «Я за равноправие полов. Я считаю женщин такими же людьми, как мужчины. И сейчас это докажу». Она ему: «Слова, опять слова!» Магеллан: «Нет, дела. Всякому мужчине, который посмел бы разорвать нашу святыню, я переломал бы его поганые руки. То же я сделаю и с тобой». Никто опомниться не успел – он схватил ее за рукав, дернул с такой силой, что Фира села на пол. А милый молодой человек взял и переломил ее руку о свое колено. Потом схватил Фиру за вторую руку – и то же самое. Ну, скажу я вам, это была картина! Хруст, треск! У Фиры рот разинут, глаза на лбу, а руки от локтей висят навроде плеток, один рукав задрался, видно, как течет кровь и сквозь порванную кожу торчит кость!
– М-да, субъект, – поморщился от натурализма описания Бердичевский. – И что, его арестовали? Это ведь, по Уложению о наказаниях, «нанесение телесных повреждений средней тяжести», тюремное заключение до пяти лет или каторжные работы до трех.
Сказал и смешался – очень уж по-прокурорски вышло. Но взволнованный страшным воспоминанием Голосовкер пропустил юридическую справку мимо ушей.
– Какой там! Фира в полицию жаловаться не стала. Назавтра приехала к этому Магеллану, обняла его загипсованными руками за шею и поцеловала – за то, что признал женщину равноправным существом. Только я этого сам не видел, потому что был уже на полпути в Житомир.
– Сбежали?
– Кинулся собирать деньги, – печально ответил Эфраим Лейбович.
– История, конечно, эффектная, но к моей проблеме касательства не имеет, – протянул Берди-чевский. – Если Рацевича выкупил не раввин, то кто же тогда?
Ростовщик пожал плечами:
– Деньги поступили на мой счет, переводом из Киевского отделения «Русского торгово-промышленного и коммерческого банка».
– Неизвестно от кого? – дрогнувшим голосом спросил Матвей Бенционович.
– Неизвестно. То есть я, конечно, попробовал выяснить, но «Русский торгово-промышленный» – банк гойский, ни одного знакомого. А! – философски пожал плечами Эфраим Лейбович. – Какое мне дело? Кеша, вы наконец закончили?
Таинственный знак
Обратно на Малую Виленскую прокурор вышел в полном расстройстве чувств. Получалось, что поездка в Житомир затеяна зря, драгоценное время потрачено попусту.
Обе версии, одна правдоподобней другой, закончились пшиком. Есть малюсенький кончик, тянущийся из киевского банка, но это утешение небольшое. Как юрист, Бердичевский хорошо знал, что такое банковская тайна, и относился к этому институту с почтением. Можно, конечно, послать официальный запрос через прокуратуру, но это писанина не на одну неделю, а результат может все равно оказаться нулевым. Если отправитель денег желал сохранить инкогнито, уловок на то имеется предостаточно.
Матвей Бенционович потерянно остановился, плохо понимая, что ему теперь делать и куда идти.
Неужто расследованию конец? А как же Пелагия!
Вдруг сзади послышался мягкий тенорок:
– Господин... Как вас... господин Бердичевский!
Обернувшись, статский советник увидел миловидного приказчика Кешу.
– Разве вам можно вот так оставить кассу? – удивился прокурор. – Господин Голосовкер уже ушел?
– Запирает сейф, собственноручно, – тонко улыбнулся блондин. – Мне в такие моменты положено находиться снаружи.
– Что вам угодно? Вы хотите мне что-то сообщить?
Кеша как-то неопределенно наклонил голову, с запинкой спросил:
– Послушайте... вы ведь не владелец ссудно-кредитного товарищества, верно?
– С чего вы взяли?
Бердичевский смотрел на приказчика всё с большим вниманием.
– На самом деле вас интересует Рацевич, я догадался. И, кажется, знаю, почему.
– Почему же?
Тут молодой человек выкинул странную штуку: взял Матвея Бенционовича за левую руку и пощекотал ему мизинцем ладонь.
Прокурор от неожиданности вздрогнул, хотел было возмутиться такой неслыханной фамильярностью, но сдержался. Диковинное щекотание напоминало некий тайный знак.
– Ага, так я и знал, – кивнул Кеша, тихонько рассмеявшись. – Теперь понятно, почему вы хотите знать, кто выкупил Рацевича. У меня есть одна верная догадочка по интересующему вас предмету. Только я не еврей, а потому бесплатных советов не даю.
– Сколько? – спросил Бердичевский осипшим от волнения голосом.
XI. ГОРОД СЧАСТЬЯ
Еврейское счастье-1
Произносить речей над могилой не стали. Плакать тоже. Такой у коммунаров был уговор. Да и сама Рохеле, прежде чем начался предсмертный бред, попросила: «Не плачьте».
Малярия оказалась совсем не такой, как думала Малке. Утром Рохеле встала, как обычно, подоила коров, потом сели вместе перебирать семена и пели на два голоса «Не пробуждай воспоминаний», и вдруг она говорит: что-то потемнело в глазах, сейчас пройдет. А через полчаса уже вся горела огнем.
Малке повела ее в хан, а Рохеле всё повторяла: я сама, сама, ты иди, а то мальчики с поля вернутся, а у нас обед не готов.
Прибежал Магеллан, пощупал ей лоб и поскакал в Зихрон-Яаков за доктором Шерманом. А к ночи, когда приехал врач, Рохеле уже скончалась. Оказывается, малярия бывает и скоротечной.
Самую лучшую, самую красивую похоронили в темноте, при свете факелов. Малке обмыла не успевшее окоченеть тело – белое-пребелое, без единой родинки, нарядила покойницу в шелковое платье, надела городские ботинки, которых Рохеле поносить так и не довелось.
Вырыли яму у берега речки, под эвкалиптом, коммунары посадили его всего неделю назад. Дерево было еще совсем маленькое, но когда-нибудь оно вырастет мощным и высоким.
Поодаль стояла кучка арабов из соседней деревни, пришли поглазеть, какие у евреев похороны.
Ничего особенно интересного арабы не увидели.
Вышел Магеллан, сказал: «Это первая смерть, будут и другие. Не раскисать».
Потом забросали землей тело, обернутое простыней, и вернулись в хан.
А поминок не было вовсе, потому что сухой закон, и вообще, как сказал Магеллан, нечего.
Пока могла, Малке крепилась, а когда почувствовала, что больше не выдержит, схватила ведро и вышла – вроде как за водой.
Убежала за ограду хана, подальше, и там, конечно, наревелась вволю.
Когда шла обратно, услышала, как в кустах тоже кто-то глухо вздыхал, всхлипывал. Кто бы это? Наверно, Сеня Левин – он всегда так смотрел на Рохеле. Хотя это мог быть кто угодно из оставшихся двадцати пяти. Даже сам Магеллан.
Мимо кустов Малке проскользнула мышкой.
Коммуна «Новый Мегиддо» только что отметила месяц со дня своего рождения.
За небольшой срок сделать успели немало.
Во-первых, починили и покрасили заброшенный хан, доставшийся вместе с землей. Хан – это дом-крепость: глухой прямоугольник с одними-единственными воротами. Внутри по одной стене – жилой барак, по другой – хлев, по третьей – склад для инвентаря, по четвертой – амбар.
Миша-агроном показал, где лучше сеять пшеницу, где высаживать апельсиновые деревья и кукурузу, где устроить пастбище. Земля, купленная вдоль берегов реки Киссон, была хорошей, тучной.
Магеллан, умница, всё предусмотрел. Даже эвкалиптовые саженцы закупил – чтобы высасывать из заболоченной почвы лишнюю влагу. А сколько умудрился собрать денег на коммуну! Просто волшебник. Хватило не только на большой участок, но и на необходимое оборудование, припасы, две повозки, четырех лошадей, две коровы, сборную механическую мельницу.
Согласно Хартии, имущество было общим и неделимым. Все коммунары равны, и всё у них поровну. На первом же собрании постановили: никаких флиртов и любовей. Не из-за ханжества, а потому что всего две девушки на двадцать пять парней, не хватало еще, чтобы начались ссоры и душещипательные драмы. Да и потом, семья – это дети, а заводить в Городе Счастья потомство было пока рано. В общем, любовь отложили на после, когда обустроятся и когда из России приедет побольше женщин.
Завесили для Малке и Рохеле угол – вот и вся сегрегация. Одевались они так же, как мужчины, никаких поблажек не просили и не получали.
Трудней оказалось выполнить другое постановление – говорить между собой только на иврите. Древнееврейский хорошо знал только один из коммунаров, Изя-ешиботник. Каждый вечер учил остальных, и все старались, но днем пока разговаривали по-русски... Как скажешь на иврите «спички», «ружье»? Изя изобретал какие-то новые слова, вроде «огневых щепок» или «гром-палки», но это уже был не древнееврейский, а черт знает что.
Какие еще были решения?
Не принимать помощи от барона Ротшильда, не уподобляться в этом другим переселенцам. Во-первых, Ротшильд – капиталист и эксплуататор, а, во-вторых, нужно привыкать во всем полагаться на собственные силы.
Никаких батраков – обрабатывать землю только своими руками. Не для того же они учредили коммуну, чтобы паразитировать на труде туземных пролетариев? (Из-за этого у коммунаров сразу же испортились отношения с соседней арабской деревней – феллахи надеялись, что евреи дадут им работу.)
Но самым чреватым оказалось решение отказаться от «охраны», поскольку черкесы, бедуины и оседлые арабы давно привыкли к этому источнику дохода и даже дрались между собой за право опекать каждое еврейское поселение.
В «Новый Мегиддо» явились посланцы и из бедуинского лагеря, и из черкесского аула, и от местного шейха, но Магеллан всем им дал от ворот поворот, сказал: у нас есть оружие, мы сами себя защитим.
Из-за этого жить пришлось, как в осажденной крепости.
Арабы – те больше воровали, а вот бедуины с черкесами оказались настоящими разбойниками.
Как-то ночью стали кричать из темноты, палить в стены. Было страшно, пули чмокали в глину. Но Магеллан раздал ружья и велел дать залп. Помогло – крики стихли.
Утром же выяснилось, что пропали три тягловые лошади, которые паслись за воротами. Исчез и бедуинский лагерь. Кочевники свернули шатры и скрылись в неизвестном направлении. Магеллан хотел погнаться за ними на единственном уцелевшем коне, едва отговорили.
Бедуины ушли, но арабы с черкесами остались и только ждали своего часа.
Доктор Шерман, живущий в ротшильдовском селении Зихрон-Яаков, говорил Магеллану: «Не уподобляйтесь библейскому царю Иосии, молодой человек. Он отказался подчиниться фараону и погиб, а заодно погубил и всё царство Иудейское. Между прочим, произошло роковое сражение в той самой Мегиддонской долине, где мы сейчас с вами находимся».
А Магеллан ему: «Здесь наше царство погибло, отсюда оно и возродится». Хорошо ответил, красиво.
Но сегодня, когда Рохеле закопали в илистую землю, доктор снова стал увещевать Магеллана, и теперь тот молчал, потому что ответить ему было нечего.
Доктор Шерман сказал: «В разбойников можно стрелять, иногда это помогает. Но в малярию стрелять бесполезно. Как вы могли купить землю в этом гиблом месте, не посоветовавшись с нами, старожилами? И ведь это только начало, главная беда придет летом, когда начнется пик лихорадки. Нужно было кроме низовой, пахотной земли купить еще и участок на холме. Разве вы не видите, что местные жители селятся только на возвышенностях? Там ветерок сдувает болотные миазмы. Впрочем, арабы вам участок на холме ни за что бы не продали. Они, хитрецы, дождутся, когда наступит малярийный сезон и большинство из вас перемрет, а тогда за бесценок выкупят землю обратно. Или так заберут... Это мы, евреи, их испортили. Раньше они жили своим трудом – скудно, но честно. А мы своими еврейскими деньгами свели их с ума. Зачем возделывать собственную землю, если можно заработать больше, обрабатывая нашу? Зачем вообще надрываться, если есть такие дурачки, как вы?»
Магеллан все больше и больше темнел лицом. Косился на остальных коммунаров, прислушивавшихся к мрачным пророчествам. А потом как рявкнет: «Вон отсюда, старый ворон! Нечего каркать!»
Доктор обиделся и уехал. Жалко его, он хотел как лучше, но Магеллан поступил правильно. Они же клятву давали: лечь в эту землю костьми, но от своего не отступиться.
А Рохеле уже легла костьми, подумала Малке и содрогнулась, вспомнив, как противно чавкала под лопатами гнилая могила.
Но скрепила сердце и сказала себе: пускай. Приедут другие. Уже едут. И даже если меня тоже закопают в болотную жижу, это все равно будет лучше, чем если бы я осталась дома и прожила там до пятидесяти или даже до ста лет. Что это была бы за жизнь? Бессмысленное бабье прозябание: муж, дети, повседневные заботы.
И потом, Магеллан такой красивый!
– Эй! Эй! Скорей сюда!– заорал с крыши хана Саша Брюн, дозорный. – Глядите!
Раньше, когда была собака, дозорного не выставляли. Магеллан говорит, надо нового пса завести, но где возьмешь другого такого, как Полкан?
Все бросились наверх, к вышке, стали вглядываться в сумерки.
Какие-то тени возились у реки – там, где час назад похоронили Рохеле.
– Разрывают могилу! – кричал Саша. – Я сначала не понял, что это они там, а потом пригляделся... Честное слово, разрывают!
Засуетились, заметались, не зная, что делать. Потом появился Магеллан, крикнул: «За мной!» И тогда все похватали кто топор, кто берданку и побежали к эвкалипту.
Рохеле лежала, полуприсыпанная мокрой грязью. Совсем голая. Даже нижней рубахи на ней не оставили – всё до нитки сняли.
Взвизгнув от ярости, Магеллан выхватил из кобуры револьвер и огромными прыжками понесся по тропе, что вела к арабской деревне. До нее было две версты.
Малке первая бросилась за ним. Задыхалась, размазывала по лицу слезы, но не отставала, даром что коротконожка. Остальные бежали сзади.
Когда преодолели половину расстояния, кто-то из задних крикнул:
– Магеллан! Гляди! Пожар!
Оглянулись, увидели черный силуэт хана, подсвеченный красным мятущимся пламенем.
Кинулись обратно. Теперь бежать было трудней, потому что выдохлись.
Дом спасли – благо в бочке была вода. Сгорел только навес для инвентаря. Но мешки с коллекционными семенами исчезли, обеих коров и коня в хлеву тоже не было. Из стены был выворочен несгораемый ящик, в нем неприкосновенный запас – три тысячи рублей. Пропала и новенькая американская борона, которая в Палестине на вес золота.
На земле отпечатались конские копыта.
– Подкованные, – сказал Магеллан, светя фонариком. – Значит, не бедуины – черкесы. Сидели в засаде, ждали ночи. А тут им такая удача – мы сами выскочили, даже ворот не заперли...
– Это называется «еврейское счастье», – вздохнул Колизей. – Как же мы теперь без семян, без бороны, без денег?
Кто-то (Малке не узнала голоса – так он дрожал) всхлипнул:
– В Зихрон-Яаков нужно. Пропадем мы здесь...
Одни причитали, другие трясли кулаками в бессильной ярости, третьи стояли, опустив голову.
Малке, например, плакала. Не от страха, а очень жалко было бедняжку Рохеле и еще коров, особенно Пеструху, что давала целых два ведра молока.
А Магеллан не ругался, руками не махал. Покончив со следами копыт, пошел проверять, добрались ли грабители до погреба, где хранилось оружие.
Когда вернулся, спокойно сказал:
– Оружие они не нашли. Значит, не всё потеряно. Хотят войны – будем воевать.
– С кем воевать? С Даниэль-беком? – недоверчиво спросил Шломо-аптекарь.
Еврейское счастье-2
Про черкесов было известно, что в Палестине они появились лет двадцать—двадцать пять назад по указу султана, который наградил своих верных башибузуков хорошими землями за храбрость в войне с русскими и сербскими гяурами. Перед тем как стать турецкими воинами, эти кавказские люди воевали под зеленым знаменем великого Шамиля и покинули родные горы, отказавшись стать подданными царя. Его османское величество решил по примеру северного соседа обзавестись собственными казаками, которые станут опорой султанской власти в неспокойных областях дряхлеющей державы. Абдул-Хамид рассчитывал, что даст воякам землю, освободит от податей, а дальше они прокормятся сами. Будут приглядывать за неспокойным арабским населением, возделывать пашню, выращивать баранов. Но казаками вчерашние башибузуки не стали – слишком долго, чуть не сто лет, жили одними войнами и набегами, так что от мирных занятий совсем отвыкли.
Их служба состояла в том, чтобы блюсти порядок на дорогах. Черкесы, однако, поняли эту миссию по-своему, так что вскоре каждый проезжающий должен был платить им мзду. Когда же торговые караваны начали объезжать черкесские аулы стороной и дорожные поборы иссякли, лихие люди нашли себе новые источники дохода: нанимались в те же караваны охранниками или ловили преступников, за чью голову власти обещали награду, а иной раз и сами занимались грабежом либо похищали богатых путешественников для выкупа.
Полиция с черкесами не связывалась, потому что каждый из них был прирожденным воином: с младенчества ездил верхом, без промаха стрелял и, как черт, рубился шашкой.
Аул, расположенный неподалеку от коммуны «Новый Мегиддо», слыл самым воинственным. Если черкесы из других селений понемногу втягивались в оседлый образ жизни и отходили от разбойных привычек, то клан Даниэль-бека по-прежнему считал любую работу для джигита зазорной и добывал пропитание исключительно винтовкой и кинжалом.
Дело было в самом беке. Уже глубокий старик, он всю жизнь провел на коне и часто говорил, что умрет тоже в седле. Умирать, однако, Даниэль-беку было еще рано. Несмотря на семьдесят с лишком лет, был он крепок и непоседлив, недавно взял себе новую жену, тринадцатилетнюю, и она, говорят, уже забеременела.
Под значок Даниэль-бека (шестиконечная звезда с полумесяцем и конский хвост) вставало до полусотни всадников. Свою деревню они выстроили так же, как на родном Кавказе: на вершине крутого холма поставили каменную дозорную башню, вокруг – низкие сакли. На башне днем и ночью стоял часовой, зорко смотрел во все стороны света. Собак черкесы не держали, потому что горские псы, которых они привезли с собой, палестинского климата не выдержали, а местную лядащую породу пришельцы презирали.
В этом-то обстоятельстве Магеллан и усмотрел слабину черкесской твердыни.
Когда коммунары поняли, что их предводитель не шутит и в самом деле хочет объявить войну Даниэль-беку, во дворе хана сделалось тихо. Даже Малке, готовая поддерживать Магеллана всегда и во всем, испугалась – не перегнул ли он палку, не отшатнутся ли от него остальные.
Но Магеллан держался так, будто подобная возможность даже не приходит ему в голову.
– Смотрим сюда, – деловито начал он, насыпав кучку земли и воткнув в нее сучок. – Это холм, это башня. Камешки – сакли.
– А это что? – спросил кто-то, показывая на извилистую черту.
– Речка. Тут склон крутой, почти обрыв. А на юго-западе, вот здесь, пологий спуск и дорога...
Это он здорово придумал, с макетом. Все сгрудились вокруг и вместо того, чтобы причитать и спорить, разглядывали Магелланово творчество.
– Задача ясная, – сказал он, вытирая руки об штаны. – Раз и навсегда отучить черкесов к нам соваться. Ну и, конечно, вернуть похищенное.
– Магеллан, они ведь добром не отдадут. Стрелять будут, – тоскливо произнес Колизей.
– И мы будем. Разве я вас не учил?
– Если хоть одного убьем, начнется кровная месть. Нам же рассказывали... И конца этому не будет...
Магеллан рубанул ладонью воздух:
– Постараемся обойтись без смертей. Но если не выйдет, придется уничтожить всех черкесов мужского пола. До последнего. Иначе – Колизей прав – вовек не развяжемся.
– Всех-всех? – переспросила Малке дрогнувшим голосом. – Даже маленьких мальчиков?
Раздался нервный смех. Саша Брюн сказал:
– Я и во взрослого-то вряд ли смогу выстрелить, не то что в ребенка. Брось, Магеллан, это жизнь, а не роман Фенимора Купера.
– В том-то и штука, Сашуля, что это не роман, а жизнь. Или она тебя на карачки поставит, или ты ее. – Магеллан тряхнул головой, на лоб упала каштановая прядь, и Малке залюбовалась – до того он сейчас был хорош. – Арабы называют евреев уляд-эль-мот,«сыны смерти», потому что мы всего боимся. Пора показать и арабам, и черкесам, и бедуинам, что пришли новые евреи, которые ничего не боятся. А вернее, не новые – старые. Те самые, которым принадлежала эта земля две и три тысячи лет назад. Не умеете стрелять в людей – научитесь. Итак, кто со мной?
Малке сразу подняла руку и крикнула:
– Я!
После нее, девушки, трусить было неловко. Один за другим коммунары потянули ладони кверху.
– Я и не сомневался, – пожал плечами Магеллан. – Действовать будем так. Шломо и Колизей остаются стеречь хан. Малке, ты с ними, за старшую. Смотрите, чтоб арабы не набежали, последнего не разворовали. Все остальные – за мной.
Ах, хитренький! Чтобы умаслить, назначил старшей, оставил дома с двумя дохляками! Ну уж нет!
– Ну уж нет! – объявила Малке. – Пускай Шломо с Колизеем запрутся и никому не открывают. А я с вами пойду. Равенство так равенство!
И настояла на своем, уж будьте уверены.
Двадцать четыре коммунара, вытянувшись цепочкой, шли по пустой дороге через широкую долину. Луны не было, звезд тоже – небо заволокло тучами. Магеллан вел свое войско быстрым шагом, почти бегом – надо полагать, нарочно, чтобы все силы уходили на движение, а думать и колебаться было некогда.
Винчестеры имелись только у шестерых, у остальных берданки или охотничьи ружья. Малке и вовсе достался дробовик для утиной охоты. Еле поспевая за Магелланом, она всё повторяла про себя: сначала взводишь две маленькие железки, потом нажимаешь указательным пальцем на крючок; сначала железки, потом крючок...
План (или, как его по-военному назвал Магеллан, «диспозиция») был такой: вскарабкаться на холм со стороны обрыва, потому что с башни в эту сторону обзор хуже. Затаиться в кустах и ждать рассвета. Едва достанет света, чтобы прицелиться, Магеллан подстрелит часового, и тут нужно со всех ног бежать в башню, засесть в ней и держать весь аул на прицеле. Чуть кто высунется из сакли – стрелять, сверху деревню будет видно, как на ладони.
– Заставим капитулировать, – бодро заявил Магеллан. – Вернем награбленное и еще штраф с них возьмем. Труп будет всего один, и тот на мне, а я ни кровной мести, ни черта, ни дьявола не боюсь.
Малке смотрела на него и вдруг подумала: если б он полюбил, за такое счастье ничего не жалко. Но сразу, конечно, прогнала вздорную мысль прочь, потому что нетоварищеская и вообще – как он ее полюбит, коротконогую, похожую на гусенка.
Про то, как лезли вверх по круче, можно было бы написать комедию в пяти актах. Или трагедию.
Янкель-скрипач укатился вниз, в реку. Вылез мокрый и всё икал, клацал зубами.
Меир Шалевич порвал штаны о колючки – белел в темноте прорехой на седалище.
Недотепа Брюн, подтягиваясь вверх, вместо корня ухватился за змею. Хорошо не укусила – перепугалась спросонья, шмыгнула в сторону. А еще повезло, что у Саши астма. Хотел он заорать, да только задохнулся. Иначе вся диспозиция была бы провалена.
Но всё же кое-как вскарабкались. Залегли на самом краю, хватая ртами воздух.
Скоро пот высох, коммунары начали зябнуть, а рассвет всё не приходил.
Это было самое тяжелое. Теперь, от неподвижности, в голову полезли разные нехорошие мысли. Если б не обрыв внизу, может, кто-нибудь и не выдержал бы, дал стрекача.
Магеллан это чувствовал. На месте не лежал – всё время перемещался вдоль цепочки. Одному шепнет пару слов, другого ободряюще похлопает по плечу.
А ей, Малке, сжал локоть, шепнул: «Малыш, ты у меня умница».
И сразу стало нисколечки не страшно. «Малыш», «у меня»!
Справа от Малке лежал Лёва Сац, самый молодой из коммунаров, ему едва исполнилось семнадцать. Он всё ворочался, вздыхал, а как только мрак начал светлеть, принялся строчить что-то на бумажке.
Подполз к Малке, губы прыгают.
– Меня убьют, – шепчет. – Я чувствую. На письмо, перешлешь маме, в Москву.
– Да что ты выдумываешь! – зашипела она.
– Я не выдумываю. Те, кого убьют, всегда чувствуют перед боем, я в книжке читал.
Малке письмо взяла, стала прислушиваться к себе – есть предчувствие смерти или нет. И тут же ощутила: есть. Умрет она сегодня, сто процентов умрет. Надо бы тоже своим написать. Будут читать всей улицей и плакать...
Попросила у Лёвы листок и карандаш, уже и начало написала: «Дорогие мои мама и папа! Знайте, что я ни о чем...»
И вдруг по цепочке прошелестело:
– Пора! Пора!
Магеллан, пригнувшись, побежал к изгороди, за которой виднелась первая сакля.
Остальные медлили. Малке, подхватив ружье, засеменила за командиром первой.
Двигались вроде журавлиного клина: в центре Магеллан, справа от него, чуть отстав, Малке, слева Лёва, прочие – по обе стороны.
Магеллан установил винтовку на плетень, осторожно вынул из тряпицы оптический прицел, вставил в паз.
Над плоскими крышами торчала башня грубой каменной кладки. Три яруса, в каждом по узкой бойнице. Наверху открытая площадка, и меж зубцами видно голову и плечи дозорного.
Неужто можно попасть с такой дали, усомнилась Малке. Тут ведь шагов сто, не меньше.
Магеллан приложился щекой к прикладу, зажмурил глаз.
Она зажала дробовик между коленей, уши прикрыла ладонями. Сейчас как жахнет! И тогда нужно будет скорей нестись к башне, пока не проснулись черкесы.
Но Магеллан не выстрелил. Толкнул Малке в плечо и, когда она отняла от ушей ладони, возбужденно прошептал:
– Спит! Ей-богу, дрыхнет, как сурок. В прицел видно! – И зло прибавил. – Не держат нас за мужчин. В голову не приходит, что мы способны мстить! А ну вперед! Попробуем обойтись без крови! Передай по цепочке: разуться.
Все сняли обувь и побежали за Магелланом, смешно задирая колени, как это бывает, если крадешься на цыпочках.
Двигались уже не клином, а гурьбой.
Малке закусила губу, чтобы не ойкать, когда в подошвы впивались острые камешки. В одной руке держала сапоги, в другой ружье. Шорты спереди вымокли от росы.
Во дворах было тихо, только где-то заголосил петух.
Вот и площадь – собственно, одно название, что площадь: просто широкий пустой треугольник между башней, маленькой глинобитной мечетью и двухэтажным каменным домом (должно быть, принадлежащим самому беку).
У крыльца стояла распряженная арабская повозка, хантур.
Вдруг Малке замерла на месте. Возле колеса повозки сидел прикованный за шею человек. Он не спал, смотрел на евреев выпученными от ужаса глазами.
Еще бы! Зрелище было не для малодушных.
В тусклом свете занимающегося дня неслышно ступающие коммунары, должно быть, выглядели сборищем огородных пугал.
Впереди – Магеллан в мексиканском сомбреро, на груди крест-накрест патронные ленты. У Менделя на голове колониальный пробковый шлем, у Брюна – фетровый котелок, прочие кто в арабских платках, кто в фесках. Малке – в мамином прощальном подарке, соломенной шляпке с фарфоровыми вишнями.
Магеллан погрозил рабу винчестером, и тот вжал голову в плечи, прикрыл ладонью рот – мол, молчу-молчу.
Только подобраться к башне бесшумно всё равно не получилось. Хромой Додик Певзнер споткнулся о камень, выронил берданку, и сонную тишину разодрал выстрел.
Громко выругавшись по-матерному, Магеллан огромными прыжками понесся к башне и исчез внутри. Остальные, вскинув ружья, бросились за ним. Задержались только Малке с Лёвой – пожалели беднягу, которого, как пса, держат на цепи.
Где-то закричала женщина. Потом, в другом конце аула, еще одна.
– Твою мать! Твою мать! – повторил вдруг за Магелланом раб – черноглазый, с живой, смышленой физиономией. – Вы русские! Я тоже русский! Спаси-сохрани!
И быстро-быстро закрестился по-православному.
– Что-то непохож, – заметил Лёва, пытаясь прикладом разбить цепь.
– Я русской веры! Араб, но русский!
– А мы евреи, – сказала ему Малке.
Лёва махнул рукой – чего уж теперь осторожничать. Приставил к цепи дуло, выстрелил. Цепь разлетелась надвое.
– Скорей! – крикнула Малке, хватая русского араба за руку.
Услышав про евреев, тот как-то обмяк, попытался уползти под повозку, но Лёва подхватил его с другой стороны, и все втроем добежали до башни.
Внутри ждали двое коммунаров – сразу же заложили дверь толстым брусом.
Потом все вместе кинулись вверх по лестнице.
Бойцы отряда толпились в третьем ярусе и на верхней площадке.
Молодец Магеллан! Успел-таки добраться до часового, прежде чем тот понял, что происходит. Дозорный, совсем мальчишка, сидел в углу на корточках, зажав разбитую прикладом голову, но, слава Богу, был жив.
Малке показала ему жестом, чтобы убрал руки – нужно перевязать, но черкешенок оскалился на нее по-волчьи.
– Двое с винчестерами к бойницам второго этажа, двое – на третий, – скомандовал Магеллан. – Остальным встать между зубцами и выставить стволы наружу. Пусть черкесы видят, что нас много и все вооружены. Никому без приказа не стрелять.
Малке высунулась в проем. Аул и его окрестности просматривались просто замечательно.
На улицах было пусто. Во дворах тут и там метались женские фигуры, но ни одного мужчины Малке не углядела.
– Где же джигиты? – озадаченно спросил Магеллан. – Ничего не понимаю...
Тогда освобожденный араб сказал:
– Мужчины все ночью скакали. На лошадь сели и скакали. Не вернулись еще.
– Ну конечно! – хлопнул себя по лбу Магеллан. – Как я не догадался! Они от нас отправились в Эль-Леджун, сбывать добычу. А что мы нападем, и думать не думали! Вот что такое настоящее еврейское счастье, поняли, маменькины сыночки? – И повернулся к отцепленному. – Ты кто такой? Откуда знаешь русский?
– Я араб, но моя невеста еврей, – поклонился тот. – Жениться на ней буду. Может, сам тоже еврей стану. Хорошая вера, мне нравится.
– Почему на цепи сидел?
– Русскую госпожу вез, из Ерусалим. Богатая госпожа, только немножко сумасшедшая. Черкес напал, сюда забирал. Выкуп хочет. Будет русский консул писать, чтоб десять тысяча франк давал. А за меня хотел тысяча франк, но я сказал, я человек совсем бедный. Тогда на цепь досадил... Хантур отбирал, два арабский конь отбирал. Когда вернется бек, прикажи ему, чтобы всё отдал: и хантур, и конь, и госпожу пускай тоже отдаст.
Магеллан смотрел не на араба, а вниз, на долину. Прищурился, процедил вполголоса:
– Вон он, твой бек. Сам ему всё и скажешь.
Малке тоже посмотрела вниз и увидела длинную вереницу всадников, рысью поднимающихся по дороге.
У самого уха грохнуло – это Магеллан выстрелил в воздух: раз, еще раз.
Женщины в ауле заголосили громче.
Отчего происходят войны
Выстрелы и крики не разбудили Пелагию, потому что она не спала. Всю ночь ходила взад-вперед по тесной комнатке с голыми стенами. На подушки, что лежали на полу, так и не прилегла.
То молилась, то ругала себя всеми доступными для монахини словами, но облегчения не давало ни первое, ни второе.
Как глупо! Всё погубить из-за собственного легкомыслия!
Нужно было нанять в русской миссии охранников. Там специально для сопровождения богомольцев, отправляющихся на Тивериадское озеро, в Вифлеем и прочие неспокойные места, имеются православные черногорцы – замечательно устрашающие, с пышными усами, в расшитых серебром куртках, с кривыми саблями и пистолетами за поясом. У черногорцев такая репутация, что ни один разбойник и близко не подойдет.
Прав Митрофаний, тысячу раз прав: в его духовной дочери проворства много, а основательности нуль. Сначала делает, потом думает.
А всё из-за того, что боялась потерять лишний день, даже лишний час. Подгоняло иррациональное, необъяснимое ощущение, что время уходити что его уже почти совсем не осталось. Так и видела перед собой последние крупицы, высыпающиеся из стеклянного конуса будущего в стеклянную же воронку прошлого.
Понадеялась на русский авось. Авось в первые два дня поманил, а на третий бросил.
Сначала долго ехали горами. На крутых подъемах приходилось вылезать и идти за хантуром пешком – слабосильные лошади не вытягивали. К третьему дню достигли Изреэльской долины, просторной и зеленой, верст в десять шириной. Гора Хар-Мегиддо, поблизости от которой следовало искать коммуну, находилась к западу.
Хар-Мегиддо, Армагеддон. Здесь, на этом заболоченном поле, произойдет самая последняя на Земле битва, когда войско Дьявола сразится с ангелами, подумала Полина Андреевна, но без приличествующего трепета. И когда увидела вдали геометрически правильный контур горы Фавор, место Преображения Господня, тоже не умилилась, а лишь пробормотала молитву, но как-то механически, без души. Мысли ее были слишком далеки от божественности.
До обиталища новоявленных «саддукеев» оставалось всего несколько верст, а как себя вести с их железноглазым предводителем Магелланом, монахиня еще не придумала.
Глупый, глупый Мануйла! Что же его несет, как мотылька на свечку! Магеллан еще на пароходе грозился горе-пророка «взять за ноги, да башкой об якорную тумбу». Может, и взял, а Стеклянный Глаз был вовсе ни при чем?
С Магеллана станется – байронический типаж, сверхчеловек. Для такого принцип или рисовка важней и собственной-то жизни, не говоря о чужих. Сказал же он своим мальчикам и девочкам, что Мануйла агент Охранки. А зачем, спрашивается? Может быть, задумал убить предполагаемого шпика, чтоб связать коммунаров кровью? Ведь проделал другой сверхчеловек, Нечаев, то же самое со студентом Ивановым...
Но вне зависимости от того, причастен Магеллан к убийству крестьянина Шелухина или нет, когда в коммуну заявится уже не фальшивый, а настоящий Мануйла, сионисты наверняка вообразят, что вездесущая Охранка разыскала их и в Палестине. Вдруг возьмут, да и прикончат неуемного пророка? Полиция ничего не узнает, да и какая тут, в турецком захолустье, полиция?
Салах своей болтовней отвлекал путешественницу от тревожных мыслей.
– Зря евреи тут стали жить, – вздыхал он, отгоняя комаров. – Летом все от лихорадка помрут. Зачем им земля? Евреи – народ городской. Сидели бы в город. Совсем с ума сошли, это их Аллах наказал. Даже жалко.
Как выяснилось далее, жальчей всего евреев ему за то, что они могут жениться только на еврейках, а это самые несносные женщины на свете. Коварные, лживые, во всё суют свой горбатый нос.
– Спать с еврейка – как совать свой мужество в нора, где живет скорпион, – сказал Салах, заставив Пелагию поморщиться от столь сильной метафоры.
Темой коварства еврейских женщин возница увлекся надолго. Разумеется, помянул подлую Юдифь, убившую спящего Олоферна, но более всего возмущался Иаилью, осквернившей священный закон гостеприимства. Разбитый в бою полководец Сисара (которого Салах именовал «предком арабов») попросил в шатре Иаили убежища. И что же она, вероломная, сделала? Согласно Книге Судей, «сказала ему: зайди, господин мой, зайди ко мне, не бойся. Он зашел к ней в шатер, и она покрыла его ковром. Сисара сказал ей: дай мне немного воды напиться, я пить хочу. Она развязала мех с молоком, и напоила его и покрыла его. Сисара сказал ей: стань у дверей шатра, и если кто придет и спросит у тебя и скажет: "нет ли здесь кого?", ты скажи: "нет". Иаилъ, жена Хеверова, взяла кол от шатра, и взяла молот в руку свою, и подошла кнему тихонько, и вонзила кол в висок его так, что приколола к земле; а он спал от усталости – и умер».
Слушая, как Салах пересказывает эту библейскую историю, украшая ее душераздирающими подробностями, Пелагия жалела бедняжку – не Сисару, который жил Бог знает когда и в конце концов получил по заслугам, а рассказчика. Не знает, простая душа, что за него уже всё решили: следующей его женой будет именно еврейка.
– Человек устал очень, совсем слабый был. Вот так лег – и сразу хр-р-р, – для наглядности захрапел Салах, положив щеку на сложенные ладони.
И вдруг дернулся, натянул поводья.
Из кустов на дорогу медленно выехали двое конных.
Увидев торчащие за их спинами ружья, Полина Андреевна вскрикнула:
– Это разбойники?
– Я не знаю, – ответил Салах и отпустил вожжи.
– Что же ты? Поворачивай назад!
– Нельзя. Увидят, что мы боимся, догонят. Надо ехать прямо и что-нибудь спросить. Это лучше всего.
– Что спросить?
– Дорога. Как ехать в Эль-Леджун. Скажу, ты едешь к главный полицейский начальник. Ты его теща.
– Почему теща? – удивилась и немножко обиделась Полина Андреевна.
– За теща нельзя выкуп брать.
– Потому что такой обычай, да?
– Потому что за теща выкуп не дадут, – отрывисто объяснил Салах, готовясь к разговору с вооруженными людьми
Он затараторил еще издали, кланяясь и показывая рукой куда-то в сторону холмов.
Всадники рассматривали повозку и седоков молча. Они были очень странного для Палестины вида: в черкесках с газырями, у одного на голове башлык, у второго папаха. Прямо как наши кубанские казаки, подумала Полина Андреевна и немножко воспряла духом.
– Не понимают арабски, – обернулся Салах. Он был бледен и напуган. – Это черкесы. Совсем плохие черкесы. Сейчас я им буду турецки говорить...
Один из конных подъехал и наклонился к Пелагии – пахнуло чесноком и бараньим жиром.
– Мускуби? – спросил он. – Руска?
– Да, я русская.
Черкесы гортанно заговорили между собой. То ли спорили, то ли бранились – не поймешь.
– О чем они? – нервно спросила Пелагия.
Салах только сглотнул.
Тот же разбойник снова нагнулся, схватил Полину Андреевну за подол платья. Она взвизгнула, но злодей не стал рвать на ней одежды, а только потер пальцами шелк, демонстрируя что-то своему товарищу. Потом взял с сиденья зонтик, показал ручку слоновой кости.
– Что он говорит? – испуганно пролепетала монахиня.
– Говорит, ты богатая и важная. Русские дадут за тебя много денег.
Салах подключился к дискуссии. Жалобно зачастил что-то, замахал руками. Его жестикуляция Полине Андреевне не понравилась: сначала палестинец плеснул на пассажирку рукой, как бы отмахиваясь, потом ткнул себя в грудь и показал куда-то назад. Кажется, уговаривает, чтоб забрали ее одну, а его отпустили. Негодяй! Еще Иаиль ему нехороша!
Но черкесы его слушать не стали. Коротко бросили что-то и поехали вперед.
Салах медлил.
– Они нас отпустили? – не поверила такому счастью сестра.
Но один из разбойников обернулся, погрозил нагайкой, и Салах со стоном тронул с места.
– Говорил ей, говорил, – причитал он. – Нельзя ехать Мегиддо, плохо. Нет, вези. Что будет? Что будет?
Вскоре стемнело, и дороги к черкесскому аулу Полина Андреевна толком не разглядела: какие-то холмы, лощина, потом довольно крутой подъем в гору.
Низкие плоские крыши и тускло освещенные окна – вот всё, что рассмотрела она в самом селении. Хантур остановился на темной треугольной площади, и две молчаливые женщины в белых платках отвели монахиню в маленький домик, находившийся в глубине двора. Хижина оказалась непростая – с наглухо закрытыми ставнями, снаружи замок. Должно быть, специально для «богатых и важных» пленников, догадалась Пелагия.
Догадка очень скоро подтвердилась. Пришел хозяин дома, а похоже, что и всего аула – длиннобородый старик в мерлушковой папахе, обвязанной чалмой, и почему-то в полном вооружении. Неужто так и ходит дома с шашкой, кинжалом и револьвером в кобуре?
Главный черкес сказал, что зовут его Даниэль-бек и что «княгине» дадут на ужин чурек и козье молоко. По-русски он говорил на удивление чисто и правильно, с совсем небольшим акцентом.
Полина Андреевна очень испугалась того, что она «княгиня».
– Я не княгиня! – воскликнула она. – Вы ошибаетесь!
Старик расстроился.
– Муса сказал, княгиня. Платье шелковое, лицо белое. А кто ты такая? Как тебя зовут?
– Я паломница. Пелагия... то есть, Полина Лисицына.
Даниэль-бек учтиво поклонился – только что ногой не шаркнул и ручку не поцеловал.
– Муж твой кто?
– У меня нет мужа. _
«Я монахиня», хотела она добавить, но как докажешь?
– Плохо, – поцокал языком бек. – Старая девка уже, а мужа нет. Потому что совсем тощая. Но жениться все равно надо. Пусть тебе отец жениха найдет.
– У меня нет отца.
– Брат пускай найдет.
– И брата нет.
Хозяин закатил глаза к небу – его терпение было на исходе.
– Мужа нет, отца нет, брата нет. А кто за тебя будет выкуп платить? Дядя?
Это прозвучало настолько странно, что Пелагия в первый момент опешила и лишь потом поняла: он и вправду имеет в виду дядю.
В самом деле, есть ли на свете кто-нибудь, готовый заплатить за нее выкуп? Разве что владыка Митрофаний. Но он далеко.
– Дяди тоже нет, – уныло ответила она, чуть не всхлипнув от жалости к себе. – Может быть, так, без выкупа, отпустите? Заложников брать грех, и по нашей религии, и по вашей.
Даниэль-бек удивился.
– Почему грех? Я мальчик был, мой папа [это слово он произнес смешно – как бы по-французски, с ударением на последнем слоге: papa] был большой наиб у Шамиля. Русские взяли в аманаты Джемал-ад-дина, Шамилёва сына, и меня. Джемал-ад-дин в Пажеский корпус попал, я в Кадетский корпус. Там русский язык выучил и еще много всякого. Но мой papaхрабрый был. Взял в аманаты русская княгиня с сыном, на меня поменял. А сын Шамиля в плену у царь Николай много лет был. Видишь, и русские аманатов берут. Я тоже беру. Иначе чем жить? Жены, дети кормить надо? – Он тяжело вздохнул. – Если у тебя мужа, отца, даже брата нет, нехорошо большой выкуп брать. Десять тысяч франков пусть русский консул шлет – и езжай, куда тебе надо. Завтра будешь консулу письмо писать: «Ай-ай-ай, присылай скорей десять тысяч франков, не то злой башибузук будет мне палец резать, потом ухо резать, потом нос».
– Правда будете? – вся сжалась Пелагия.
– Нет, только палец. Самый маленький. – Он показал мизинец левой руки. – Пальцев много, один не жалко. Через две недели, если консул деньги не пришлет, отправлю ему твой маленький палец. Э, э, зачем белая стала? Боишься пальчик резать? Купи у кого-нибудь из наших, за маленький палец недорого возьмут.
– Как это «купи»? – пролепетала несчастная пленница.
– Консул тебе пальцы целовал? – спросил бек.
– Н-нет...
– Хорошо. Не узнает. Женщина или мальчик отрежут свой палец, а консул не поймет, подумает твой. Если женщина – свое платье ей дай, рада будет. Если мальчик, купи хорошее седло или серебряный кинжал.
– А вдруг консул все равно не даст денег? Мы ведь с ним даже не знакомы...
Старик развел руками.
– Если и после пальца не пожалеет тебя – выдам замуж. За Курбана, у него жена померла. Или за Эльдара, у него жена совсем плохая, болеет, ему вторая нужна. Успокойся, женщина, чего тебе бояться?
Но Полина Андреевна не успокоилась. Во-первых, замуж выходить ей было никак нельзя, монашеский обет не позволял. А во-вторых, надолго застревать в этом разбойничьем логове в ее планы совершенно не входило. Время уходило, драгоценное время!
– Письмо будем завтра писать, – сказал Дани-эль-бек на прощанье. – Сейчас некогда. Едем уляд-элъ-мотграбить.
– Кого грабить?
Он вышел, не удостоив ответом.
Через несколько минут донесся топот множества копыт, а потом сделалось тихо. Пелагия осталась наедине со своим отчаянием. Так до рассвета и промаялась, а когда в щели ставен начал проникать блеклый рассвет, в деревне грохнул выстрел, и с разных сторон закричали женщины.
Что там происходило?
Полина Андреевна приникла ухом к двери, но понять что-либо было трудно. Выстрелили еще несколько раз, причем показалось, что звуки доносятся откуда-то сверху. Женщины покричали-покричали и перестали. Наступила полная тишина, изредка прерываемая одиночными выстрелами.
Полтора часа спустя во дворе раздались шаги. Лязгнул засов.
Она ожидала увидеть Даниэль-бека, но на пороге стоял Салах, рядом с ним одна из вчерашних женщин.
– Пойдем, – сказал палестинец, нервно шмыгнув носом. – Я тебя поменял.
– На что?
– Евреи дадут беку войти свой дом, за это бек тебя пускает.
Пелагия ровным счетом ничего не поняла, но палестинец взял ее за руку и потянул за собой.
В ауле создалась ситуация, которую шахматист Бердичевский назвал бы патовой.
В каменной башне засели коммунары. Оттуда просматривались и простреливались дворы, улицы, все подходы к деревне, поэтому женщины и дети попрятались по саклям, а джигиты залегли вкруг холма. Несколько раз пытались подобраться ближе, но тогда Магеллан начинал стрелять из своей оптической винтовки – клал пули близко, для острастки.
Когда стало ясно, что черкесы не могут в деревню войти, а евреи из нее выйти, из башни вышел парламентер – Салах. Ему было поручено передать Ультиматум: черкесы должны вернуть всё похищенное и выплатить штраф, тогда евреи уйдут.
Даниэль-бек сказал, что говорить с человеком, у которого на горле ошейник, не будет, а будет говорить с беком евреев, только для этого ему нужно войти в собственный дом, потому что уважаемым людям не пристало вести переговоры в кустах, словно двум шакалам.
– Я сразу понял, – гордо рассказывал монахине Салах. – Он хочет смотреть, живы его жены и дети или нет. И говорю: хорошо, бек, но за это пусти русская княгиня.
– Ну почему «княгиня»? – простонала Полина Андреевна. – Если победят черкесы, теперь десятью тысячами франков мы не отделаемся.
Они сидели в доме Даниэль-бека, ждали, когда прибудет хозяин.
Вот он и показался: медленно ехал по улице, держа обе ладони на виду. Лицо старого разбойника было совершенно неподвижным, белая борода слегка колыхалась на ветру.
У крыльца он упруго, как молодой, спрыгнул наземь и передал поводья женщине. Что-то вполголоса спросил у нее, она ответила, и лицо бека стало чуть менее застывшим. Наверное, узнал, что все целы, догадалась Пелагия.
Они с Салахом вышли из дверей, чтобы перебраться в башню, но Даниэль-бек вдруг схватил Полину Андреевну за руку и втащил обратно в дом.
– Э, э! – всполошился Салах. – Такой договор не было!
Старик ощерился:
– Княгиня со мной будет! Даниэль не дурак, давно на свете живет. Сейчас евреи выбегут и убьют меня. Я бы сам так сделал! Пойди к ним, скажи: княгиня со мной умрет! Пускай Магеллан-бек один сюда идет, говорить будем.
Усадил Пелагию рядом с собой за стол, крепко взял за руку. Монахиня скосила глаза и увидела, что вторая рука черкеса лежит на рукоятке кинжала.
– Если еврей войдет и станет меня стрелять, буду тебя резать, – сказал Даниэль-бек. – Ты не виновата, я не виноват. Судьба такая.
– Почему меня, а не его? – задала она логичный, хоть и совершенно нехристианский вопрос.
– Я уже старый, а он молодой, ловкий. Не успею его резать, – печально ответил бек.
На этом диалог прервался, потому что вошел Магеллан.
Пелагия сразу его узнала, хотя главарь коммунаров изменился. Загорел, усы стали длиннее и были подкручены кверху, а голову еврейского воителя украшало огромное опереточное сомбреро.
На женщину вошедший даже не взглянул, она его не интересовала. Положил руку на расстегнутую кобуру и, не садясь, объявил:
– Значит, так, старый бандит. Во-первых, всё нам вернешь. Во-вторых, отнимешь у арабов то, что они украли ночью. В-третьих, заплатишь штраф – двадцать баранов. Тогда мы уйдем.
– Отдать баранов? – ощерился Даниэль-бек. – Нет, еврей. Это вы отдадите мне все ваши ружья, и тогда мы вас выпустим. Зачем евреям ружья? Будете платить нам пятьсот франков каждую луну, и никто вас больше не тронет. Про украденную одежду мертвой еврейки я слышал. Скажу шейху Юсуфу, он вернет. Думай, еврей. Мои джигиты под пули лезть не будут. В башне нет воды. Завтра или послезавтра сами выползете, и тогда мы вас убьем.
Магеллан помолчал, поиграл желваками. Светлые глаза сузились.
– Черкес, твои сакли слеплены из глины и верблюжьего навоза. Пуля прошьет их насквозь. Я прикажу стрелять залпами, и скоро вместо домов здесь будут одни кучи мусора. Красные от крови.
Бек тоже помолчал, прежде чем ответить.
– Вы не похожи на уляд-элъ-мот.Может, вы ненастоящие евреи? Или те, что приехали сюда раньше вас, ненастоящие?
– Мы самые что ни есть настоящие. И таких, как мы, будет становиться все больше и больше.
– Тогда нужно вас всех убить. Даже если погибнут наши женщины и дети, – глухо произнес Даниэль-бек. Костяшки пальцев, сжимавших эфес, побелели. – Иначе вы захватите всю эту землю, не оставите здесь ни арабов, ни черкесов.
– Ты – бек. Тебе решать.
Мужчины смотрели друг на друга тяжелыми, неподвижными взглядами. Пелагия увидела, как кинжал бесшумно выползает из ножен. Рука Магеллана потихоньку забралась в кобуру.
– Да что же это такое! – возмущенно вскричала монахиня, ударив ладонью по столу.
Враги, совсем забывшие о ее существовании, дернулись и уставились на нее.
– Чуть у мужчин какое затруднение, вы сразу «убить»! И первыми, как водится, погибнут женщины и дети! Только дурак вышибает дверь лбом, когда ему не хватает ума повернуть ключ! Умные люди находят голове другое применение! Потом про вас скажут: два дурака не сумели между собой договориться, и из-за этого евреи с черкесами стали резать друг друга по всей Палестине! Отдайте ему то, что украли, – обратилась она к Даниэль-беку. – А вы, господин Магеллан, забудьте про штраф. Зачем вам бараны? Вы их и стричь-то не умеете!
Вроде бы ничего после этих слов в комнате не изменилось – бек по-прежнему держался за кинжал, а Магеллан за револьвер, и всё же напряжение неуловимо спало. Мужчины снова смотрели друг другу в глаза, но теперь, пожалуй, не грозно, а вопросительно.
– Я где-то вас видел, – проговорил Магеллан, не глядя на Пелагию. – Не помню где, но точно видел...
Впрочем, по тону было ясно, что это его сейчас не слишком интересует. И неудивительно.
Бек, как человек более зрелый и умудренный опытом, первым сделал полшажка к примирению.
Положил обе руки на стол и сказал:
– Княгиня правду говорит. Джигит с джигитом всегда договорится.
Магеллан тоже оставил кобуру в покое, сложил руки на груди.
– Хорошо, забудем про штраф. Но как быть с шейхом?
– Юсуф не джигит, он пес. Давно хочу его поучить. Мусульмане не грабят могилы, не раздевают мертвых. Садись, кунаками будем.
Черкес сделал приглашающий жест, и Магеллан сел, сомбреро положил на скамейку.
– Отправимся прямо сейчас, вместе, – потребовал он. – Рохеле не может лежать голая, в разрытой могиле.
Бек кивнул.
– Прямо сейчас. Окружим арабскую деревню со всех сторон...
– Нет, – перебил его еврей. – Оставим один проход.
У Даниэль-бека по-молодому сверкнули глаза.
– Да-да! Оставим проход к броду! Пусть бегут туда!
Оба склонились над столом, стали чертить по нему пальцами и говорить враз, перебивая друг друга. Антиарабская лига зарождалась прямо на глазах.
Полина Андреевна плохо понимала, что происходит, но всё это ей очень не нравилось. Какая-то разрытая могила, украденная одежда...
– Погодите! – воскликнула инокиня. – Послушайте меня! Я не знаю, кто такой шейх Юсуф, но если он шейх, то, наверное, человек небедный?
– У него пятьсот баранов, – ответил Даниэль-бек, мельком оглянувшись. – Его феллахи нищие, а сам Юсуф богатый.
– Если он богатый, зачем ему красть платье мертвой женщины? Это сделали какие-нибудь негодяи, и шейх наверняка сам их накажет, когда узнает. Не надо окружать деревню, не нужно оставлять проход к броду! А то люди потом скажут: три дурака не сумели между собой договориться, и...
– Женщина! – взревел бек. – Ты второй раз назвала меня дураком!
– Она права, – вмешался Магеллан. – Арабов в этих краях больше, чем евреев и черкесов, вместе взятых. Начнется война. Лучше мы вызовем шейха для переговоров. Так будет умнее.
– Ты не только храбр, Магеллан-бек, но и мудр, – прижал руку к груди черкес.
И мужчины церемонно поклонились друг другу, опять перестав обращать внимание на женщину.
Девичьи разговоры
В поход на Юсуф-бека выступили совместно: впереди черкесы на конях, следом евреи. Чтобы произвести впечатление на союзников, коммунары выстроились в колонну, ружья положили на левое плечо и попытались маршировать в ногу.
Объединенное войско, окутанное пылью, двинулось вниз по дороге. Черкесские женщины смотрели вслед. Не кричали, руками не махали – видимо, это было не заведено.
Бек сказал Полине Андреевне, что она свободна и может ехать на все четыре стороны, но на все четыре стороны ей было не нужно. Она улучила минутку, переговорила с Магелланом наедине. Пожаловалась, что после случившегося боится путешествовать без охраны, и попросила позволения заночевать в коммуне.
Тот великодушно позволил, еще раз повторив: «Где же я вас все-таки видел? Наверняка в России, но где именно?»
Пелагия сочла за благо промолчать, а ему самому копаться в памяти сейчас было некогда.
До полудня она ждала в ауле, пока из арабского городка Эль-Леджун доставят похищенное у коммунаров имущество. Принимала трофеи девушка по имени Малке, с которой монахиня некогда перемолвилась парой слов на пароходе.
Женщина есть женщина – Малке узнала Пелагию сразу, несмотря на светский наряд и веснушки. Узнала и обрадовалась, будто встретила старую подругу. Появление монахини в Изреэльской долине у жизнерадостной толстушки ни малейшего подозрения не вызвало.
Она сразу же стала называть Полину Андреевну на «ты» и сообщила множество подробностей и о себе, и о коммуне, и обо всем на свете. Правда, задавала и вопросы, но по большей части сама же на них и отвечала.
Например, спросила:
– Откуда ты здесь взялась? Ах да, ты ведь тоже плыла на нашем пароходе. В Палестину, да? На богомолье? А рясу сняла, чтобы не так жарко было? Конечно, по этой жарище в шелковом платье куда лучше. Ты ведь, наверно, не монахиня, а послушница, да?
Пелагии оставалось только кивать.
В «Новый Мегиддо» двинулись, когда солнце уже перебралось на западную половину неба.
Возвращенного коня Малке запрягла в черкесскую телегу, сзади привязала двух коров. На дно повозки положили борону и покореженный, но так и не вскрытый денежный ящик, поверх – мешки с семенами. Женщины сели рядышком, поехали.
Салах на хантуре катил сзади, распевая во все горло какие-то визгливые песни. Он был счастлив, что вернул свою упряжку, да безо всякого выкупа.
Полина Андреевна с восхищением смотрела, как ловко ее новая подружка управляется с тяжело груженной повозкой. Малке сидела, сложив ноги по-турецки (загорелые колени были похожи на двух обжаренных до коричневой корочки поросят), ружье перекинула поперек и знай пощелкивала кнутом, не умолкая ни на минуту.
Разговор был легкий, девичий.
– Поль, я вообще не понимаю, зачем тебе быть монашкой? Ладно бы еще уродина какая-нибудь была, а ты же просто красавица, честное слово. Это, наверно, из-за несчастной любви, да? Ну и все равно, даже если из-за несчастной – не стоит. Зачем запирать себя в монастыре, в малю-юсеньком мире, когда большой мир такой интересный? Я вот тоже могла в своем Борисове до старости прожить и не узнала бы, что я такое на самом деле. Я раньше думала, я трусиха, а я знаешь, какая оказалась храбрая? Ты, может, думаешь, Магеллан меня в арабскую деревню не взял, потому что я женщина? Ничего подобного! Там пальбы не будет, а то бы я обязательно с ним пошла. Говорит: ты у меня, Малютка, самая толковая, только тебе поручить могу. (Это он меня иногда так называет – не Малке, а Малыш или Малютка.) Доставь, говорит, всё в целости и проследи, чтоб два эти болвана, Колизей с Шломо (они, правда, немножко бестолковые), моего коня сразу не поили, а сначала поводили. И пусть семена положат просушить – отсырели от ночной росы.
Использовать открытость славной девушки было немножко совестно, и всё же при первой возможности (когда Малке принялась рассказывать, как уединенно живет коммуна) Пелагия как бы ненароком спросила:
– А чужие у вас бывают?
– Редко. Ротшильдовские евреи считают нас сумасшедшими безбожниками. С арабами отношения плохие. Черкесы – ты сама видела.
– Ну а какие-нибудь странники, паломники? Мне рассказывали, в Палестине полным-полно бродячих проповедников, – не очень ловко повернула монахиня к нужной теме.
Малке звонко расхохоталась.
– Был один пророк. Потешный. Между прочим, из России. Мануйлу помнишь, которого на пароходе убили? То есть, оказывается, убили не его, а другого – я тебе потом расскажу. Этот Мануйла, как в Святую Землю приехал, стал себя именовать Эммануилом, для звучности.
И снова засмеялась.
Смеется – значит, ничего плохого с ним не случилось, отлегло от сердца у Пелагии.
– А давно он у вас был?
Девушка стала загибать короткие пальцы:
– Семь, нет, восемь дней назад. Ах да, это в ту ночь Полкана убили. – Безо всякого перехода от веселости, всхлипнула, шмыгнула носом и снова улыбнулась. – Он тоже за Эрец Израэль погиб, Полкан.
– За кого?
– За израильское государство. Полкан – это пес. В Яффе к нам пристал. Ужасно умный и смелый, как солдатская полковая собака, поэтому и прозвали Полканом. Ночью замечательно сторожил, никаких часовых не нужно. Привяжешь его к воротам снаружи – никто не подойдет. Он такой лохматый был, черно-желтой масти, одна лапа немножко хромая, а на боку...
– И что этот пророк? – перебила Полина Андреевна, которую не интересовал портрет усопшего Полкана. – Откуда он взялся?
– Постучал в ворота, вечером. Мы работу уже закончили, сидим, песни поем. Открываем – бородатый дядька, в лаптях, с палкой. Стоит, Полкана за ухотреплет, а тот хвостом машет и даже не гавкнул ни разу, вот какие чудеса. Наверно, пророк его в свою веру обратил, – засмеялась Малке. – Здравствуйте, люди добрые, говорит. Хорошо поете. Вы что, русские? Мы ему: а ты кто такой? Из «найденышей» пророка Мануйлы? (Ана нем хламида с синей полосой, какую все они носят.) Он говорит: я самый Эммануил и есть. Хожу вот, смотрю. Был в Иудее, в Самарии, теперь в Галилею пришел. Пустите переночевать? Ну а что ж не пустить? Пустили. Я у него спрашиваю: как же, мол, так? Ведь тебя на пароходе убили. Воскрес, что ли? А он отвечает: не меня это убили, одного из моих шелухин.Полина Андреевна встрепенулась:
– Как-как?
– Шелухинна древнем арамейском значит «апостолы». Когда много – шелухин,когда один – шелуах.Это Магеллан рассказывал, он еврейскую историю ого-го как знает.
«Шелуяк», вдруг вспомнила Пелагия. Строгановские крестьяне говорили, что Мануйла звал своего друга именно так.
– А что Эммануил вам рассказал про убийство?
– Что шелуаххотел его защитить и потому погиб. А защищать его вовсе не нужно, потому что его Господь защищает. И стал про чудо рассказывать, которое с ним утром произошло. Врет – заслушаешься. Глазки голубые, широко раскрытые – прямо ангел непорочный! – прыснула Малке, вспоминая. – Когда, говорит, меня выгнали из Зихрон-Яакова... Там, в Зихроне-Яакове, зажиточные евреи живут, которые от барона Ротшильда деньги получают. Сами землю не пашут, феллахов нанимают... В общем, выгнали богатенькие евреи Эммануила, не стали его слушать. Пошел он долиной между гор, и напал на него разбойник-бедуин. – Девушка по-детски закартавила, очевидно, передразнивая Мануйлу. – «Очень сехдитый человек, саблей машет. Я по-бедуински хазговахивать еще не выучился, не умею ему объяснить, что у меня ничего нет. Он и сам это увидел, еще больше хазозлился, хочет мне голову саблей схубить. Совсем! И схубил бы, потому что у него вся нехвная система в дезохганизации...» Малке закисла от смеха.
– Он так и сказал: «нервная система в дезорганизации»? – поразилась Пелагия.
– Да, он вообще ужасно чудно говорит, это я еще плохо изображаю. Ну вот, а дальше как в сказке. Только разбойник на него саблей замахнулся, вдруг там-па-пам! – гром небесный. Злодей повалился мертвый, из головы кровь течет. «А вокхуг никого – тут гоха, тут гоха, а тут тхопинка. Ни души! Я поблагодахил Господа, закопал мехтвого хазбойника и пошел дальше». Мы так смеялись – чуть не лопнули. Но он необидчивый, Эммануил этот, тоже с нами смеялся.
– А что Магеллан? – спросила монахиня. Хотела добавить, не выказывал ли к пророку враждебности, но поостереглась.
– Ну, Магеллан сначала с ним строго. Вроде как допрос ему устроил. Зачем пришел? На пароходе твои вокруг нас крутились, теперь сам пожаловал? Что тебе от нас надо? И всё такое. А Эммануил ему: что вы моих шелухинна корабле встретили, неудивительно. Многие из них следом за мной в Святую Землю тянутся, хоть и говорил я им: где человек родился, там ему и Святая Земля. Что им Палестина? Я – другое, мне сюда по делу нужно. А они, говорит, меня не слушают. То есть слушают, но не слышат. И что мы с вами здесь встретились, тоже удивляться нечего. Палестина маленькая. Если кто решил ее обойти... Ах нет, – улыбнулась Малке, – он сказал: «по ней вояжировать». Если кто решил по ней вояжировать, то всюду побывает, и в самое недолгое время. А потом Эммануил стал про свое чудо врать, и Магеллан к нему интерес потерял. Махнул рукой, пошел спать.
– Значит, не он, – в задумчивости проговорила Пелагия.
– А?
– Нет-нет, ничего. Что еще рассказывал пророк?
– Да тут как раз началась беготня. – Малке посерьезнела. – Полкан залаял. Мы думали, на шакала. Вдруг слышим – лай удаляется, это он веревку оборвал. Побежали за ним. Кричим: «Полкан! Полкан!» А он мертвый лежит. Шагах в ста от хана. Зарубили его, саблей. Никакие это были не шакалы, а арабы или те же черкесы. Бедуины-то тогда уже ушли... Разбудили Магеллана. Он говорит: догнать! А как догонишь? В какую сторону бежать – в арабскую или черкесскую? Все спорят, шумят. Одни кричат: нас мало, их много. Перережут они нас, как Полкана! Плохое место, уходить отсюда нужно! Магеллан им: кто не умеет за себя постоять, тому все места на земле будут плохи. И пошло, и пошло... – Девушка махнула рукой. Вдруг вспомнила, всплеснула руками. – Ах да, Эммануил тогда чудную вещь сказал. Как это я забыла! На него никто внимания не обращает, все ругаются, кричат, а он вдруг говорит: вы победите и арабов, и черкесов. Вас мало, но вы сильные. Только, говорит, ваша победа (он сказал не «победа», а «виктохия») будет вашим поражением. Как это, спрашиваем, виктория может быть поражением? А он ответил непонятно: победа над другим человеком – всегда поражение. Настоящая виктория, это когда самого себя побеждаешь. Ну, наши его дальше слушать не стали, опять заспорили. А ведь получается, прав он был, про победу-то!
– Что было потом?
– Ничего. На рассвете выпил молока и пошел себе.
– И не сказал, куда?
– Почему не сказал. Он разговорчивый. Рохеле ему молока подливает, а он говорит: сначала пойду в Капернаум, потом еще куда-то, потом надо будет в Сиддимскую долину, к Аваримским горам заглянуть – там, говорят, новый Содом отстроили, интересно...
– Содом! – вскричала Полина Андреевна. – А где эти Аваримские горы?
– За Мертвым морем.
– Содом! Содом! – в волнении повторяла монахиня.
На пароходе было семейство мужеложцев, направлявшихся именно туда! Но при чем здесь Стеклянный Глаз? Непонятно. А всё же что-то тут есть!
Прошло целых восемь дней, но если Эммануил сначала собирался наведаться в Капернаум, то можно успеть. Шагает он, правда, ходко...
– Что это ты бормочешь, Поля?
Полина Андреевна достала путеводитель, вынула оттуда карту, развернула.
– Покажи, где Сиддимская долина. Как туда добраться?
– А тебе зачем? – удивилась девушка, но взяла карандаш и провела линию. – Вот так, до реки Иордан. Потом вниз до Мертвого моря, там всё берегом на юг. Видишь кружочек – селение Бет-Кебир? Содом где-то за ним. Нет, правда, Поль, зачем тебе? Из монашек да сразу в Содом! – залилась смехом Малке. – Русь, куда несешься ты? Не дает ответа!
Аккуратно сложив карту, Пелагия засунула ее обратно в книжку.
– Ты в самом деле туда собралась? – Глаза Малке расширились от ужаса и любопытства. – Ну, ты отчаянная! Представляю, что там творится! Напиши мне потом письмо, а? Только подробное!
Она толкнула Пелагию локтем, захихикала.
От толчка путеводитель упал на дно повозки. Монахиня подобрала ценную книжечку, спрятала в карман.
Тем временем телега въехала на вершину холма, откуда открывался вид на долину и окрестные горы.
– А вон вдали наш хан видно, – привстала, показывая, Малке. – Сейчас спустимся и вдоль речки. Минут через сорок доедем. Отдохнешь, умоешься.
– Нет, спасибо. – Полина Андреевна соскочила на землю. – Мне пора. Скажи, в какую сторону спуститься, чтобы попасть к Иордану?
Малке вздохнула – видно, жалко было расставаться.
– Поезжай вон по той дорожке. Она ухабистая и травой заросла, но зато выведет прямо к развилке. В сторону Иордана – это направо. А как же разбойники? Ты ведь говорила, что боишься без охраны?
– Ничего, – рассеянно ответила Пелагия. – Бог милостив.
Бог есть!
Дорога из Иерусалима в Изреэльскую долину была всего одна, так что объект удалось догнать в первый же день. Яков Михайлович пристроился сзади и шел-пошагивал, дышал горным воздухом.
Солнышко в Святой Земле было ох какое лютое, весь обгорел что твой араб. И очень кстати, потому что для путешествия именно арабом и нарядился. Самая удобная одежда по здешнему климату: тонкую длинную рубаху продувает ветерком, а платок (называется «куфия») закрывает от жгучих лучей шею и затылок.
Когда кто-нибудь встречался по дороге и обращался с арабским разговором, Яков Михайлович почтительно прикладывал ладонь ко лбу, потом к груди и шел себе дальше. Понимай как хочешь: может, не желает с тобой человек разговаривать или обет у него такой, ни с кем попусту лясы не точить.
Незадача приключилась на третий день, когда Рыжуха повернула налево и поехала по дороге, что вытянулась меж долиной и холмами.
Яков Михайлович видел, как черкесы забирают хантур в плен, но вмешиваться не стал. Люди серьезные, с карабинами, а у него только пукалка шестизарядная. С ней в городе хорошо, где всюду углы и стенки, а в чистом поле вещь малополезная. Да и нельзя ему было себя обнаруживать.
С вечера он засел под черкесским холмом и наблюдал всю еврейскую операцию. Ишь ты, думал, как развоевались-то. А если они у нас в России-матушке этак вот осмелеют?
Сказано: тише едешь – дальше будешь. Потому Яков Михайлович не торопился. Переждал, пока черкесы с евреями договорятся и уйдут, а некоторое время спустя всё устроилось самым славным образом.
Монашка выехала из аула в сопровождении пухляшки-жидовочки и своего верного арапа. Порядок вещей восстановился.
Место было ровное, гладкое, и дистанцию пришлось увеличить – человека на голом пространстве далеко видно. Так и ему их, слава Богу, тоже хорошо видать. Никуда не денутся.
Когда повозки стали подниматься на холм, Яков Михайлович сделал себе послабление. Видел, что после возвышенности дорога спускается в лощину, и рассудил: умный в гору не пойдет, умный гору обойдет.
Чем зря потом обливаться, лучше обойти холм лужком-низиной. Бывает, что на своих двоих ловчей, чем на колесах.
Этак еще и время выиграешь, можно будет в ручье ножки ополоснуть. Засесть там в ивняке, где тень, и подождать, пока объект мимо проедет.
Так и сделал. И ополоснулся, и свежей водички попил, и даже наскоро покушал.
Едва крошки смахнул – скрип, стук. Едут.
Нуте-с, нуте-с.
Высунулся из кустов и обмер.
Вместо двух повозок одна. В ней сидит жидовочка, кнутом помахивает, а Рыжухи нет!
Сердце так и екнуло. Идиот вы, Яков Михайлович, а никакой не умный! Теперь обратно в гору бегом бежать.
Пригнулся, пропуская телегу. Та проехала чуть подальше и свернула к речке – видно, евреечка тоже решила остудиться.
Яков Михайлович рысцой понесся вверх по дороге. Пот лил в два ручья: один ручей по лицу, второй по спине. В пять минут взбежал на самую вершину.
Час от часу не легче!
Там оказался перекресток: одна дорога вела вправо, другая влево. А приглядеться – в сторону ответвлялась еще и заросшая тропка. Трава на ней жесткая, мертвая, и не видно, проехала тут давеча повозка или нет.
Что же делать? Куда бежать?
Обратился к разуму, и тот, молодчага, как всегда, не подвел.
Понесся Яков Михайлович обратно к речке. Под горку бежать было легче.
Жидовка успела коня помыть, тянула его за повод к телеге.
Услышала топот ног, обернулась, потянула с плеча дробовик.
– Беда, девонька! Беда! – издали заорал Яков Михайлович по-русски.
Она рот разинула: как это – араб, а по-русски кричит?
Про ружьишко и думать забыла.
– Ты кто? – кричит. – Какая беда?
Он остановился перед ней, перевел дух, вытер пот со лба.
– Потерял я ее, вот какая беда.
– Кого потерял? Ты кто такой?
– Дай-ка. Не ровен час...
Он взялся за дуло дробовика. Девка не хотела отпускать оружие, но Яков Михайлович легонько стукнул ее кулаком под ложечку, и евреечка согнулась напополам, зашлепала губами, как выдернутая из воды рыбеха.
Ружьишко он отшвырнул в кусты, толстушку шлепнул по затылку – она плюхнулась на задницу.
Сказала:
– Сволочь!
И обожгла глазами – черными, бесстрашными.
Ай-ай-ай, придется повозиться, понял опытный человек. И не стал тратить время на пустые разговоры. Сначала нужно было «коровку» в разумность привести, избавить от упрямства. «Коровка» – это у Якова Михайловича был такой термин, для собственного употребления. «Коровку» полагается доить на предмет разных полезных сведений, а потом, смотря по обстоятельствам, или обратно на лужок отпустить, или в бифштекс разжаловать.
Строптивая жидовочка, конечно, пойдет на бифштекс, это было ясно, но сначала пускай даст молочка.
Немножко побил ее ногами – без размаха, потому что жарко. По лодыжной костяшке ударил, потом два раза по почкам, а когда свернулась от боли, по копчику. Когда обратно развернулась – по женскому месту.
Что орала громко, это нестрашно, всё равно вокруг никого.
Решил, что пока хватит. Сел девке на грудь, пальцами сдавил горло, чтоб решила – конец ей настал.
Но когда она вся посинела, глаза из орбит полезли, Яков Михайлович ее отпустил, дал вздохнуть, вкус к жизни почувствовать. И только теперь приступил к беседе.
– Куда она поехала? По какой дороге?
– Сволочь, – сказала «коровка». – Магеллан тебя под землей...
Снова пришлось зажать ей горло.
Яков Михайлович огорчился – его всегда расстраивало тупое упрямство, наихудший из человеческих грехов. Ведь так на так всё расскажет, только лишнюю муку устраивает и себе, и занятому человеку.
Он поглядел по сторонам. Подобрал валявшийся неподалеку сук, обломил.
– Я тебе, дура глупая, сейчас этой деревяшкой глаз выковыряю. – Яков Михайлович показал девке расщепленный конец. – Потом второй. Мало покажется – стану тебе эту штуковину через задние ворота полегоньку кверху забивать. Ты пойми, девонька, я не зверь – дело у меня больно важное. Говори, голубушка, говори. Куда рыжая отправилась?
Снова приотпустил ей горло. А она, неблагодарная, в него плюнула. Плевок до Якова Михайловича не долетел, упал ей же на подбородок. А хоть бы и долетел – большая беда.
Ну что с ней будешь делать?
– Да кто она тебе – сестра, подруга? – посетовал он. – Ладно, пеняй на себя.
Сел поупористей, придавил жидовке руки коленками, локтем прижал к земле шею. Взял сук поближе к острому концу, поднес дуре к самому носу.
– Ну?
По тому, как сверкнули ее глаза, понял – не скажет.
Ткнул суком в глазницу – запузырилась кровь, потекла по круглой щеке. Из горла у «коровки» вырвался всхлип, оскалились белые, ровные зубы.
И тут евреечка учудила. Яков Михайлович приготовился, что она станет затылком в землю вжиматься, а она вдруг рванулась суку навстречу, да с такой силой, какой от пухляшки ожидать не приходилось.
Палка вошла в глаз по самый кулак. Яков Михайлович ее, конечно, сразу выдернул, но поздно – голова девки безжизненно стукнулась о землю. Вместо глаза зияла багровая яма, смотреть противно, а с кончика стекало серое – это сук ее до мозга пронзил.
Вот стерва!
В первый миг Яков Михайлович не поверил своему несчастью.
Ай, беда! Вот уж беда, так беда! Господи Боже, за что наказываешь? Помоги, вразуми! Что теперь делать, как Рыжуху отыскать?
Переживать Яков Михайлович переживал, но и без дела не сидел. Мало ли кого по дороге принесет?
Мертвую еврейку сунул в воду, под бережок. Заодно смыл кровь с руки.
Подошел к повозке. Задумался, как с ней быть? Может, на ней поехать? Всё легче, чем пешком. Сначала попробовать по одной дороге – ехать до первого встречного и спросить, не проезжала ли баба в хантуре. Если не повезет – вернуться, и то же самое по второй дороге. Коли опять мимо – тогда по той заросшей тропе.
Сам понимал, что план паршивый. Тут можно час или два проехать, прежде чем человека встретишь. И как еще с ним объясняться? А если на дороге будут новые развилки?
Мешки с зерном утопил в речке, борону и сейф тоже. Насчет денежного ящика, правда, немножко поколебался. Эх, сюда бы палочку динамита, да внутрь заглянуть. Но большим тыщам у голодранцев взяться неоткуда, а таскать с собой лишнюю тяжесть ни к чему.
Коров просто хлестнул кнутом по задницам.
Хотел уже сесть и ехать наудачу, как вдруг заметил на дне телеги сложенный листок. Развернул – карта Палестины, маленькая, какие в путеводители вкладывают. И у Рыжухи такая книжечка была, он видел. Обронила?
На карте красным карандашом был обозначен маршрут.
«Бет-Кебир», прочитал Яков Михайлович название точки, в которую упиралась красная линия.
Размашисто перекрестился.
Есть Бог, точно есть.
XII. ЗАМОК ШВАРЦВИНКЕЛЬ
Версия номер три
– Катенька, – прошептал красивый молодой человек, оглянувшись.
– Сто рублей?! – возмутился Матвей Бенционович, но более для порядка, потому что готов был сейчас заплатить любые деньги, даже и такие большие. Легко сказать – сто рублей. Четверть месячного жалования. Конечно, жизнь в Заволжске дешевле, чем в других местах, не говоря уж о столицах, но когда у вас семья сам-пятнадцатый, поневоле приучишься к экономии. Главное, расписки не возьмешь, мимоходом посетовал Бердичевский, а значит, не получится включить в казенные траты.
– Давайте-давайте, – протянул Кеша узкую, ухоженную руку. – Если мой совет будет нехорош – получите обратно.
Это было справедливо. Прокурор достал бумажку с Екатериной Великой, передал. Блондин не спешил прятать гонорар – держал кредитку легонько, двумя пальцами, как бы демонстрируя готовность вернуть по первому требованию.
– Так кто выкупил Рацевича? – хрипло спросил Матвей Бенционович.
– Полагаю, тот, кто его любил.
Романтическая история? Прокурор встрепенулся. Это был совершенно новый поворот, пока еще неизвестно, в каком направлении ведущий.
– Вы хотите сказать «та, кто его любила»?
– Нет, не хочу, – улыбнулся Кеша. Матвей Бенционович схватился за нос.
– Я что-то не...
– Вы думаете, Рацевича из жандармов за долги поперли? Как бы не так. Если б всех за этакие пустяки со службы гнать, мало кто остался бы. Да и не позволило бы начальство заслуженного офицера в яму сажать. Нет, это был только предлог.
– А в чем была настоящая причина?
Молодой человек улыбнулся еще загадочней:
– Этого никто не знает – только местное жандармское начальство и наши.
– Наши?
Приказчик опять взял Бердичевского за левую руку и повторил странную манипуляцию – пощекотал ладонь пальцем. Видя на лице собеседника полнейшее недоумение, Кеша фыркнул:
– Что, трудно поверить? Представьте себе, и среди жандармов есть такие, кому нравятся мужчины.
У Матвея Бенционовича от изумления сам собой раскрылся рот.
– Вижу, свои сто рублей я заработал, – удовлетворенно заметил блондин и спрятал бумажку в портмоне.
А прокурор всё не мог прийти в себя. Возможно ли?
И тут его как громом ударило. Да-да! Пелагия рассказывала, что на пароходе плыла компания мужеложцев, переселенцев в восстановленный Содом. Но это... Но это поворачивало расследование совсем в другую сторону!
Статский советник крепко взял молодого человека за локоть.
– Вы еще не сказали мне, кто внес выкуп.
– Наверняка не знаю, но уверен, что Чарнокуцкий, больше некому.
– Кто это – Чарнокуцкий?
– Вы не слышали про графов Чарнокуцких? – недоверчиво спросил Кеша.
– Слышал. Знатная польская фамилия.
– Знатная! Мало ли знатных! Чарнокуцкие – богатейший род на всей Волыни. Тут в двадцати верстах начинается Чернокутский уезд, так уездный город, Черный Кут, весь целиком принадлежит графу.
– Целый город? Разве такое бывает? – удивился Матвей Бенционович. – Ведь не средние века.
– На Волынщине очень даже бывает. Город Ровно принадлежит князю Любомирскому, Старо-Константинов княгине Абамелек, Дубно – княгине Барятинской. А Чарнокуцкие на Волыни семьсот лет. Вон, видите утес? – Кеша показал на видневшуюся вдали живописную скалу, нависшую над рекой. – Житомирская достопримечательность. Называется «Голова Чацкого».
Утес действительно отчасти напоминал гордо склоненную голову.
– При чем здесь Чацкий?
– Совершенно ни при чем. Раньше скала называлась «Голова Чарнокуцкого». Здесь в шестнадцатом столетии гайдамаки срубили голову предку нынешнего графа. А после шестьдесят третьего года скалу велели переименовать. Дело в том, что некоторые из Чарнокуцких участвовали в польском восстании, и одному это даже стоило головы. Вот, во избежание двусмысленности, и переделали в Чацкого.
– Так граф из повстанцев 63-го года?
– Вот еще! У его сиятельства совсем другие интересы. Примерно такие же, как у нас с вами. – Приказчик засмеялся. – Жалко, он евреев терпеть не может, а то бы я непременно вас с ним свел.
– А я вовсе не еврей, – объявил Бердичевский. – Это я прикинулся, чтобы войти в доверие к Голосовкеру.
– Хорошо прикинулись, – заметил Кеша, скептически оглядывая лицо прокурора.
– Нет, правда! Волосы крашеные. Вообще-то я блондин. Если повезете к графу – смою краску. И зовут меня не Мордехай Бердичевский, а Матвей Берг-Дичевский. Вы правильно догадались, никакой я не ростовщик. Я... я уездный предводитель дворянства, – соврал Матвей Бенционович, не придумав ничего более аристократичного. – Из Заволжской губернии.
Поверил молодой человек или нет, было неясно. Однако, поразмыслив, сказал:
– Двести рублей.
– Вы с ума сошли! – ахнул статский советник, пытаясь сообразить, есть ли у него столько денег. На худой конец, можно послать телеграмму владыке.
– Заплатите, когда поедем обратно. Если я ошибаюсь и граф Рацевича не выкупал, можете вообще не платить, – ловко ввернул оборотистый юноша.
На такое условие Матвей Бенционович охотно согласился. Если след окажется верным, а поездка результативной, пожалуй, все-таки можно будет записать расходы в счет расследования.
– Вы где остановились? – спросил Кеша.
– В «Версале».
– Я закрываю кассу в семь. Только уж вы не поскупитесь, наймите карету на пружинном ходу, а то все бока себе отобьем. Я сговорюсь с Семеном Почтаренко, у него хороший экипаж. Путь-то неближний...
Дорожные размышления о печальном будущем человечества
Статский советник снова прибег к помощи «Белокурого ангела», но светловолосие восстановилось не полностью. Получилось нечто золотисто-красноватое. Ничего, для вечернего освещения сойдет, успокоил себя Бердичевский.
Кеша приехал вовремя, в весьма приличном фаэтоне, обошедшемся прокурору в восемь целковых. Приказчика было не узнать. Он разоделся по самой последней моде, надушился, в пробор же можно было смотреться, как в зеркало. Кто бы поверил, что этот франт подрабатывает субботним сидельцем в еврейской лавке?
– Куда едем? – спросил Матвей Бенционович, усевшись на мягкое сиденье.
– В замок графа, в Шварцвинкель.
– «Черный угол»? – перевел название прокурор.
– Ну да. По-волынски Черный Кут, а по-великорусски «Черный Закут», что-то вроде этого. Дед его сиятельства выстроил, в готическом стиле. Очень любил рыцарские романы.
Бердичевский успел расспросить гостиничного портье о графе, но наслушался черт знает каких небылиц, только распалил любопытство. Нужно было проверить, что из этих сказок правда, а что нет.
– Этот магнат, кажется, человек необычный? – небрежно спросил Матвей Бенционович. Кеша прыснул:
– Нас с вами тоже ведь обычными не назовешь, верно? Но до его сиятельства нам, конечно, далеко. Это субъект единственный в своем роде.
Жаждущий подробностей прокурор с глубокомысленным видом заметил:
– У отпрысков древних фамилий пристрастие к мужеложству в крови. Должно быть, от блазированности. Или вследствие вырождения.
– А граф не всегда мальчиками интересовался. Он в юности был куда как увлечен женским полом – до умопомрачения, или, как он выражается, до обсессии. Это такой медицинский термин, вроде навязчивой идеи.
– Я знаю.
– Он ведь по образованию медик. Так женщинами интересовался, что после Пажеского корпуса не в гвардию пошел и не в дипломаты, а поступил на медицинский факультет, гинекологию изучать. Не для заработка, разумеется. Говорит, хотел знать про женщин всё: как они устроены, что у них внутри, каким ключиком заводятся. Узнал во всех подробностях, – снова хохотнул Кеша. – Да, видно, перекормился. Выйдя из университета, открыл было женскую больницу, да скоро забросил. Теперь баб видеть не может, прямо до судорог.
У Матвея Бенционовича были несколько иные сведения. Портье сказал: «Граф пока не свихнулся, больницу держал, лечил бесплатно бабские хвори. Сначала одну на операции зарезал, потом другую, третью. До суда дошло. Обычного лекаря беспременно засудили бы, а этот известно – Чарнокуцкий. Но больничку все же закрыли».
– Тогда его сиятельство отправился путешествовать, – продолжил свой рассказ Кеша. – Долго по миру разъезжал. Где только не был – и в Амазонии, и в Голландской Ост-Индии, и у папуасов. У него дома такая коллекиця – сами увидите...
И про коллекцию Бердичевский слышал: якобы там, в стеклянных банках, головы отрезанные. «Вроде как из дикарских стран привез, а там кто его разберет», – сказал портье.
– В конце концов графу странствовать тоже прискучило. Он уж который год безвылазно живет в Шварцвинкеле. Преоригинально обустроил свое обиталище, сами увидите. Считайте, вам повезло. Мало кого в замок допускают. Эксклюзивите – слово такое французское. Значит...
– Знаю я, что оно значит, – перебил Бердичевский. – Вы дальше рассказывайте. Я наслушался о вашем графе такого...
Кеша, кажется, надулся, что ему не дали блеснуть ученостью. Пробурчал:
– Без меня ни в жизнь бы вам туда не попасть. А что болтают всякое, так это от зависти и невежества.
И умолк.
Так и не узнал прокурор, правда ли, что вокруг замка дремучий лес, куда ходить строго-настрого запрещено, и чтобы никто не сунулся, в том лесу полно волчьих ям, ловушек и капканов. Будто бы несколько девок и ребятишек, кто польстился на тамошние грибы-ягоды, пропали бесследно. Полиция искала и в лесу, и в замке. Капканы с ямами видела, а следов не нашла. «Во рву под стенами, – шептал портье, – живет огромная болотная змеюка длиною в пять саженей. Целого человека заглотить может». Ну, дальше Бердичевекий слушать не стал, поскольку это уж были явные побасенки. А теперь пожалел, что не дослушал.
Экипаж катил по холмам, по полям. Постепенно стемнело, на небе проступили звезды – сначала блеклые, но с каждой минутой прибавлявшие яркости.
Куда меня несет, содрогнулся вдруг Матвей Бенционович, оглядывая этот гоголевский пейзаж. Что я скажу графу? Что меня вообще там ждет? Особенно в случае, если гомосексуальная версия подтвердится и магнат действительно связан с убийцами.
Во всем виноват охотничий азарт, заставивший благоразумного человека, отца семейства, забыть об осторожности.
Не повернуть ли, засомневался прокурор. Ведь, если пропаду, никто даже не узнает, что со мной произошло.
Но вспомнилась Пелагия. Как она поднималась по трапу, как шла по палубе, опустив голову, и на беззащитные плечи падал свет фонаря...
Статский советник выпятил вперед подбородок, грозно сдвинул брови. Еще поглядим, кто кого должен бояться: Бердичевский волынского магната либо наоборот.
– У вас профиль красивый, – нарушил молчание Кеша. – Как на римской монете.
И потерся коленкой о ногу соседа. Матвей Бенционович строго взглянул на распущенного юнца, отодвинулся.
– Это из-за Рацевича, да? – вздохнул молодой человек. – Так его любите? Что ж, уважаю однолюбов.
– Да, я однолюб, – сурово подтвердил прокурор и отвернулся.
Что такое гомосексуализм, зачем он людям, размышлял Матвей Бенционович. И ведь что примечательно: чем выше уровень цивилизации, тем больше людей, предающихся этому осуждаемому обществом и всеми религиями пороку. И порок ли это? А может быть, закономерность, связанная с тем, что, двигаясь от первобытного костра к электрическому сиянию, человечество отдаляется от природности? В какой большой город ни приедешь – в Питер ли, в Москву ли, в Варшаву – всюду они, и с каждым годом их всё больше, и держатся всё открытее. Это неспроста, это некий знак, и дело тут не в падении нравов и не в распущенности. С человеком происходят какие-то важные процессы, смысла которых мы пока не постигаем. Культура влечет за собой утонченность, утонченность приводит к противоестественности. Мужчине уже не нужно быть сильным, это становится пережитком. Женщина перестает понимать, с какой стати она должна уступать первенство, если мужчина более не является сильным полом. Через каких-нибудь сто лет общество (во всяком случае, его культурная часть) будет сплошь состоять из женственных мужчин вроде Кеши и мужеподобных женщин вроде Фиры Дорман. То-то перепутаются все инстинкты и плотские устремления!
Мысль Матвея Бенционовича забредала всё дальше, в совсем уж отдаленное будущее. Человечество вымрет оттого, что в конце концов разница между полами вовсе исчезнет и люди перестанут размножаться. Если, конечно, научная мысль не изобретет какого-нибудь нового способа воспроизводства человеческих особей, наподобие почкования. Берешь, к примеру ребро, как Господь Бог у Адама, и выращиваешь нового человека. Всё травоядно, пристойно. Никаких африканских страстей, никакого огненного сплетения мужского и женского начал.
Какое счастье, что в этом земном раю меня уже не будет, поежился статский советник.
– Вон он, Шварцвинкель, – показал куда-то вверх Кеша.
Уникальная коллекция
Высунувшись из коляски, Матвей Бенционович увидел вдали большой темный конус, на верхушке которого подрагивали огни.
– Что это там, костры? – удивился он.
– Факелы на башнях. Я же говорил, средневековый замок.
С разбитого, ухабистого шляха в сторону непонятного конуса свернула дорога, узкая, но зато вымощенная гладким камнем.
Это большой холм, поросший лесом, понял про конус Бердичевский. А на самой вершине замок. Теперь можно было разглядеть зубчатые стены, подсвеченные пляшущими язычками пламени.
В следующую минуту фаэтон въехал в лес, и замок исчез. Стало совсем темно.
– Хорошо, что на оглобле фонарь, – заметил прокурор, чувствуя, как фаэтон кренится набок. – А то не видно ни зги.
На миг представилось: сейчас перевернемся на крутом склоне, покатимся кубарем в чащу – и в какую-нибудь волчью яму, утыканную острыми кольями...
– Ничего, Семен хорошо знает дорогу.
Просека опоясывала холм спиралью, постепенно забираясь в гору. Деревья с обеих сторон подступали вплотную, словно частокол, и трудно было поверить, что совсем близко, в какой-нибудь сотне шагов, горит свет и живут люди.
И Кеша как назло молчал.
– Что-то едем, едем... – не выдержал Матвей Бенционович. – Долго еще?
Спрошено было без особого смысла, только чтоб услышать человеческий голос, но молодой человек, прежде столь разговорчивый, ничего не ответил.
Экипаж выровнялся и покатил по горизонтальной поверхности. Сделав последний поворот, дорога вывела на большую площадку, выложенную булыжником. Впереди показалась массивная башня, ворота с двумя горящими факелами. Перед воротами – подъемный мост, под мостом ров – тот самый, в котором, по уверениям портье, обитала болотная гадина...
Бр-р, готический роман, передернулся статский советник. Провал во времени.
Откуда-то сверху донесся грубый, зычный голос:
– Хто?
Кеша открыл дверцу со своей стороны, высунулся.
– Фома? Это я, Иннокентий! Открывай. Да освещение включи, ни черта не видно.
На площадке зажглись два фонаря, самых что ни на есть современных, электрических, и время утратило зыбкость, вернулось из середины второго тысячелетия в его конец. Бердичевский с удовлетворением отметил столбы с проводами, почтовый ящик на воротах. Какое к лешему средневековье, какая болотная змея!
Открылась узкая дверь, вышел здоровенный мужчина, одетый сплошь в черную кожу. Из кожи была и рубашка с вырезом на волосатой, мускулистой груди, и высокие сапоги, и облегающие штаны с кожаным мешочком в паху, как на картинах шестнадцатого столетия. Гульфик, вспомнил Бердичевский название этого нелепого атрибута средневековой одежды. Только это был не гульфик, а целый гульфище.
Кеша легко спрыгнул на землю, по-кошачьи потянулся.
– Хтой-то? – спросил Фома, показывая на Матвея Бенционовича.
– Со мной. Гость. Я сам скажу его сиятельству. Отпустите Семена, – обратился молодой человек к прокурору. – Для обратной дороги граф даст свой экипаж.
Когда Бердичевский расплачивался с кучером, тот замялся, словно хотел что-то сказать, да, видно, в последний момент передумал. Лишь крякнул, сдвинул шапку на глаза и покатил восвояси.
Статский советник проводил фаэтон тоскливым взглядом. Не нравился Матвею Бенционовичу замок Шварцвинкель, даже незвирая на электричество и почтовый ящик.
Вошли внутрь.
Двор и постройки Бердичевский толком не рассмотрел, потому что в темноте архитектурные подробности разглядеть трудно. Кажется, что-то затейливое: башенки, грифоны на водостоках, каменные химеры на фоне звездного неба. В главном доме, за шторами, горел электрический свет: в окнах первого этажа тусклый, второго – яркий.
В дверях приехавших встретил другой слуга, которого Кеша назвал Филипом. Одет он был в точности как Фома, из чего следовало, что это у графской челяди такие ливреи. Опять впечатлили размеры гульфика. Вату они туда набивают, что ли, подумал прокурор, покосившись украдкой. И только теперь, наивный человек, сообразил, что эти жеребцы, должно быть, используются его сиятельством не только для ухода за домом.
Скрипя черной кожей, Филип повел гостей по мраморной лестнице, украшенной изваяниями рыцарей. На втором этаже, в просторной, со вкусом обставленной комнате, поклонился и вышел, оставив Матвея Бенционовича и Кешу вдвоем.
Молодой человек кивнул на высокую дверь, что вела во внутренние покои.
– Я скажу о вас графу. Посидите пока здесь, в приемной.
Прокурору показалось, что Кеша нервничает. Он поправил перед зеркалом галстук, пригладил куафюру, потом вдруг достал фарфоровый тюбик и ловко подкрасил губы. Бердичевский от неожиданности заморгал.
Едва блондинчик скрылся в соседней комнате, статский советник вскочил с кресла и на цыпочках подсеменил к двери. Приложил ухо, прислушался.
Доносился шустрый Кешин тенорок, но разобрать слов Бердичевский не смог.
Неестественно упругий, словно подкачиваемый насосом голос произнес:
– В самом деле?
Снова неразборчивая скороговорка.
– Как-как? Берг-Дичевский?
Кеша в ответ: трень-трень-трень-трёнь.
– Что ж, давай поглядим.
Матвей Бенционович развернулся, в три бесшумных прыжка скакнул назад к креслу, упал в него, небрежно закинул ногу на ногу.
И вдруг увидел в дверях, что вели на лестницу, Филипа. Тот смотрел на гостя с непроницаемым лицом, сложив на груди крепкие, оголенные по локоть руки.
Проклятье! Мало того, что ничего полезного не услышал, так еще перед слугой осрамился!
Прокурор почувствовал, что лицо заливается краской, однако рефлексировать было некогда.
Открылась дверь гостиной, и вышел хозяин.
Бердичевский увидел изящного господина с очень белой кожей и очень черными волосами. Подкрученные усы издали выглядели жирной угольной чертой, рассекающей лицо напополам. Э, да тут не обошлось без какой-нибудь инфернальной Зизи, подумал наторевший в окрашивании волосяного покрова статский советник.
Чарнокуцкий был в шелковой китайской шапочке с кистью и черном халате с серебряными драконами, из-под которого белела рубашка с кружевным воротником. Неподвижное лицо магната казалось лишенным возраста: ни единой морщинки. Лишь выцветший оттенок голубых глаз позволял предположить, что их обладатель ближе к закату жизни, нежели к ее восходу. Впрочем, взгляд его сиятельства был не пресыщенным, а острым и пытливым, как у любознательного мальчугана. Состарившийся ребенок – так мысленно определил графа Матвей Бенционович.
– Добро пожаловать, господин Берг-Дичевский, – сказал хозяин уже знакомым прокурору резиновым голосом. – Прошу извинить за наряд. Не ждал гостей в столь позднее время, У меня редко бывают без предварительной договоренности. Но я знаю, что Иносан случайного человека не привезет.
Это он Кешу так называет, не сразу сообразил Матвей Бенционович, «Иннокентий» – «Innocent».
Чарнокуцкий чуть шевельнул крыльями носа, будто подавлял зевок. Стало понятно, отчего голос звучит так неестественно: граф почти не шевелил губами и избегал какой-либо мимики – должно быть, во избежание морщин. Шевеление ноздрей несомненно заменяло ему улыбку.
На вопрос, не родня ли он покойному фельдмаршалу графу Бергу, статский советник осторожно ответил, что очень, очень дальняя.
– Другим полякам об этом лучше не говорить, – опять дернул ноздрями его сиятельство. – Мне-то все равно, я совершенный космополит.
Вследствие этой реплики Матвей Бенционович, во-первых, вспомнил, кто такой фельдмаршал Берг – притеснитель Польши времен Николая Павловича и Александра Второго, а во-вторых, понял, что осторожный тон его ответа был воспринят хозяином неправильно. И слава Богу.
– Ты что, Филип? – воззрился граф на слугу.
Тот с поклоном приблизился, пошептал графу на ухо.
Наябедничал, скотина.
Брови Чарнокуцкого чуть поднялись, в глазах, обращенных на прокурора, мелькнула веселая искорка.
– Так вы – предводитель дворянства? Из Заволжской губернии?
– Что же здесь смешного? – нахмурил брови Матвей Бенционович, решив, что лучшая оборона – нападение. – По-вашему, Заволжье – такой медвежий угол, что там и дворянства нет?
Граф шепнул что-то Филипу и ласково похлопал его по тугой ляжке, после чего подлый лакей наконец убрался.
– Нет-нет, меня развеселило совсем другое. – Хозяин откровенно и даже, пожалуй, вполне бесцеремонно разглядывал гостя. – Забавно, что у Бронека Рацевича сердечный друг – дворянский предводитель. Этот проказник нигде не пропадет. Расскажите, как вы с ним познакомились?
На этот случай у Бердичевского имелось придуманное по дороге объяснение.
– Вы знаете Бронека, – сказал он, добродушно улыбнувшись. – Он ведь озорник. Попал у нас в глупую историю. Хотел для смеха попугать одну монашку, но немного перестарался. Угодил под суд. Как человек приезжий и никого в городе не знающий, обратился за помощью к предводителю – чтобы помог подобрать адвоката... Я, разумеется, помог – как дворянин дворянину...
Матвей Бенционович красноречиво умолк – мол, о дальнейшем развитии событий можете догадаться сами.
На лице графа вновь появилась зевкообразная улыбка.
– Да, он всегда был неравнодушен к особам духовного звания. Помнишь, Кеша, черницу, что забрела в замок просить подаяния? Помнишь, как Бронек ее, а?
К подрагиванию ноздрей прибавилось задушенное всхлипывание – это, очевидно, был уже не смех, а заливистый хохот.
Кеша тоже улыбнулся, но как-то криво, даже испуганно. А статский советник, услышав про черницу, внутренне напрягся. Кажется, горячо!
– Да что же мы стоим, прошу в гостиную. Я покажу вам свою коллекцию, в некотором роде совершенно уникальную.
Чарнокуцкий сделал приглашающий жест, и все переместились в соседнюю комнату.
Гостиная была обита и задрапирована красным бархатом самых разных оттенков, от светло-малинового до темно-пунцового, и поэтому производила странное, если не сказать зловещее, впечатление. Электрическое освещение, подчеркивая переливы кровавой гаммы, создавало эффект не то зарева, не то пламенеющего заката.
Первым, на чем задержался взгляд Бердичевского в этой удивительной гостиной, был египетский саркофаг, в котором лежала превосходно сохранившаяся мумия женщины.
– Двадцатая династия, одна из дочерей Рамсеса Четвертого. Купил в Александрии у грабителей гробниц за три тысячи фунтов стерлингов. Как живая! Вот взгляните-ка.
Граф приподнял кисею, и Матвей Бенционович увидел узкое тело, совершенно обнаженное.
– Видите, здесь прошел нож бальзамировщика. – Тонкий палец с полированным ногтем провел вдоль полоски, что тянулась по желтому морщинистому животу, и, дойдя до лобка, брезгливо отдернулся.
Статский советник отвел взгляд в сторону и чуть не вскрикнул. Из стеклянного шкафа на него, блестя глазенками, смотрела негритянская девочка – совсем как живая.
– Что это?!
– Чучело. Привез из Сенегамбии. Из-за татуировки. Настоящее произведение искусства!
Граф включил над стеллажом лампу, и Матвей Бенционович увидел на темно-коричневой коже лиловые узоры в виде переплетенных змеек.
– Там есть племя, в котором женщин украшают прелестными татуировками. Одна девчонка как раз умерла. Ну, я и выкупил труп у вождя – за винчестер и ящик патронов. Туземцы, кажется, решили, что я поедатель мертвечины. – Ноздри графа задергались. – А дело в том, что один из моих тогдашних слуг, Фелисьен, был превосходным таксидермистом. Впечатляющая работа?
– Да, – сглотнув, ответил Бердичевский.
Перешли к следующему экспонату.
Он оказался менее пугающим: обыкновенный человеческий череп, над ним – портрет напудренной дамы с глубоким декольте и капризно приспущенной нижней губой.
– А это что? – с некоторым облегчением спросил Матвей Бенционович.
– Вы не узнаете Марию-Антуанетту? Это ее голова. – Граф любовно погладил череп по блестящей макушке.
– Откуда он у вас?! – ахнул Бердичевский.
– Приобрел у одного ирландского лорда, оказавшегося в стесненных обстоятельствах. Его предок во время революции был в Париже и догадался подкупить палача.
Статский советник переводил взгляд с портрета на череп и обратно, пытаясь обнаружить хоть какое-то сходство между человеческим лицом при жизни и после смерти. Не обнаружил. Лицо существовало само по себе, череп сам по себе. Ну и сволочь же парижский палач, подумалось Матвею Бенционовичу.
Дальше стоял стеклянный куб, в нем кукольная головка с курчавыми волосами – сморщенная и маленькая, как у новорожденного младенца.
– Это с острова Новая Гвинея, – пояснил граф. – Копченая голова. Не бог весть какая редкость, в европейских коллекциях таких немало, но сия примечательна тем, что я, можно сказать, был лично знаком с этой дамой.
– Как так?
– Она провинилась, нарушила какое-то табу, и за это ее должны были умертвить. Я был свидетелем и умерщвления, и последующего копчения – правда, ускоренного, потому что по правилам обработка должна продолжаться несколько месяцев, а я не мог столько ждать. Меня честно предупредили, что сувенир может через несколько лет протухнуть. Но пока ничего, держится.
– И вы ничего не сделали, чтобы спасти эту несчастную?
Вопрос Чарнокуцкого позабавил.
– Кто я такой, чтобы мешать отправлению правосудия, хоть бы даже и туземного?
Они подошли к большой витрине, где на полочках были разложены мешочки разного размера, стянутые кожаными тесемками.
– Что это? – спросил Матвей Бенционович, не находя в этих экспонатах решительно ничего интересного. – Похоже на табачные кисеты.
– Это и есть кисеты. Работа индейцев американского Дикого Запада. Ничего не замечаете? А вы рассмотрите.
Магнат открыл дверцу, вынул один из кисетов и протянул гостю. Тот повертел вещицу в руках, удивляясь тонкости и мягкости кожи. В остальном ничего примечательного – ни узора, ни тиснения. Только в середине подобие пуговки. Присмотрелся – и в ужасе отшвырнул кисет обратно на полку.
– Да-да, – заклекотал его сиятельство. – Это сосок. У воинов некоторых индейских племен есть милый обычай – приносить из набега мужские скальпы и женские груди. Но бывают трофеи и похлеще.
Он снял с полки нечто, похожее на связку сушеных грибов. На веревку были нанизаны темные колечки, некоторые почему-то с волосками.
– Это из бразильских джунглей. Я гостил у одного лесного народца, который воевал с женщинами-амазонками, кровожаднейшими тварями, которых, по счастью, впоследствии полностью истребили. Сию гирлянду я выкупил у главного храбреца, который лично убил одиннадцать амазонок. Видите, тут ровно одиннадцать колечек.
– А что за колечки? – спросил непонятливый Бердичевский, тут же всё понял сам, и его замутило. Из глубины дома донесся тихий звон гонга.
– Готовы закуски, – объявил граф, прерывая ужасную экскурсию. – Не угодно ли?
После увиденного прокурору было не до закусок, но он поспешно сказал:
– Благодарю, охотно.
Куда угодно, только бы подальше из этой комнаты.
Загнали волка в кут
В соседней зале, столовой (слава богу, самой обыкновенной, без копченых голов и вяленых гениталий), Матвей Бенционович один за другим осушил два бокала вина и лишь тогда избавился от противного дрожания в пальцах. Съел виноградину. Желудок содрогнулся, но ничего, выдержал.
Кеша как ни в чем не бывало уплетал фаршированных перепелок. Граф же к еде не притронулся, только пригубил коньяк и сразу закурил сигару.
– Что ж, в Заволжске имеется общество? —спросил он, произнеся последнее слово таким образом, что было ясно, о каком именно обществе идет речь.
– Небольшое, но есть, – ответил Бердичевский, готовясь врать.
Чарнокуцкий с живейшим интересом задал еще несколько вопросов, иные из которых заволжец совсем не понял. Что могло означать: «Есть ли у вас цыплячья ферма?» К птицеводству вопрос отношения явно не имел. Или еще: «Устраиваете ли карусель?» Что за карусель имелась в виду, черт ее разберет. Какие-нибудь педерастические пакости.
Чтоб, как говорят воришки, не запалиться,прокурор решил перехватить инициативу.
– На меня сильное впечатление произвела ваша коллекция, – сменил он тему. – Скажите, отчего вы коллекционируете лишь... э-э-э... останки прекрасной половины человечества?
– Женщина – не прекрасная половина человечества и вообще никакая не половина, – отрезал граф. – Это пошлая карикатура на человека. Говорю вам как медик. Уродливое, несуразное существо! Медузообразные молочные железы, жировые подушки таза, нелепое устройство скелета, писклявый голос...
Чарнокуцкого передернуло от отвращения.
Эге-ге, подумал Матвей Бенционович, хоть ты и медик, а по тебе самому плачет больничная палата. Та, что запирается снаружи.
– Позвольте, но совсем без женщин тоже нельзя, – мягко возразил он. – Хотя бы с позиции продолжения человеческого рода...
Графа этим аргументом он не сбил.
– Из самых плодовитых нужно вывести специальную породу, как это делают с коровами или свиноматками. Держать в хлеву. Оплодотворять, разумеется, при помощи шприца, не иначе.
По лицу женоненавистника пробежала гримаска отвращения.
Издевается он, что ли, засомневался вдруг Бердичевский. Дурака валяет? Ладно, черт с ними, с идиотскими теориями этого психопата. Пора повернуть к делу.
– Как это было бы чудесно – жить в исключительно мужском обществе, в кругу себе подобных, – мечтательно произнес статский советник. – Вы слышали, что некий американский миллионщик восстанавливает библейский Содом?
– Слышал. Занятный плод американской назидательности. С точки зрения филантропии, конечно, следовало бы потратить эти миллионы на хлеб для нищих, но этим мир не удивишь. Да и что проку? Съедят нищие дармовой хлеб и завтра потребуют еще, не напасешься. А тут урок человечеству. Мистер Сайрус – добропорядочный семьянин и «извращенцев» терпеть не может, но хочет явить современникам образец терпимости и милосердия к париям. О, американцы всех нравственности научат, лишь дайте срок.
– Должно быть, у Содомской затеи немало врагов? – подступился Матвей Бенционович к ключевой теме. – Из числа ханжей и религиозных фанатиков. Сейчас развелось столько сект, призывающих к ветхозаветной нетерпимости.
Собирался отсюда вывернуть на Мануйлу – прощупать, как относится его сиятельство к пророку, которого пытался убить одноглазый Бронек.
Но разговор прервался. В гостиную, хрустя блестящей кожей, вошел Филип и с поклоном протянул хозяину длинную бумажную ленточку.
Оказывается, в средневековом замке есть телеграф? Эта новость прокурору почему-то не понравилась.
Чарнокуцкий пробежал глазами довольно длинную депешу и вдруг сказал Кеше:
– Иносан, глупый мальчишка, придется тебя высечь. Кого ты привез?
Красавчик блондин подавился ломтиком апельсина, а у Бердичевского скакнуло сердце. Он дрогнувшим голосом воскликнул:
– Что вы хотите этим сказать, граф?
– До чего же вы, жиды, наглая порода, – покачал головой магнат и более к Матвею Бердичевскому не обращался – только к Кеше. – Послушай-ка, что пишет Микки: «Губернским предводителем в Заволжске граф Ростовский. Уездные предводители: князь Бекбулатов, барон Штакелъберг, Селянинов, Котко-Котковский, Лазутин, князь Вачнадзе, Бархатов и граф Безносое, еще три уезда предводителей не имеют за малым числом природного дворянства. Лицо, о котором ты запрашиваешь, действительно жительствует в Заволжске, но фамилия перепутана и должность не та. Не Матвей Берг-Дичевский, а Матвей Бердичевский, окружной прокурор. Статский советник, сорока лет, выкрест».
Щеки у Кеши из розовых сделались зеленоватыми. Он рухнул на колени и всхлипнул:
– Я знать не знал, клянусь!
Граф толкнул его носком туфли в лоб – молодой человек опрокинулся на ковер и захныкал.
– Кто вам прислал эту ерунду? – спросил Матвей Бенционович, еще не успев приспособиться к катастрофическому изменению ситуации, ведь до сего момента всё шло так гладко!
Граф выпустил струю сигарного дыма. Прокурора разглядывал с гадливым любопытством, словно какое-то невиданное насекомое или раздавленную лягушку. Всё же удостоил ответом:
– Микки, один из наших. Большая фигура. Не сегодня-завтра министром станет. И правильно – золотой работник. Такому можно и в полночь телеграмму слать – наверняка застанешь на службе.
Приходилось срочно менять тактику – отказываться от тупого запирательства и, что называется, выкладывать карты на стол.
– Ну раз вы теперь знаете, что я прокурор, то должны понимать: я приехал к вам не шутки шутить, – строго молвил Бердичевский, испытывая даже некоторое облегчение, что не нужно больше ломать комедию. – Немедленно отвечайте, это вы внесли долг за Рацевича?
И тут случилось невообразимое.
Статского советника сзади схватили за локти, больно вывернув руки.
– Оставь, Филип, – поморщился граф. – Зачем? Пускай еврейчик покукарекает.
– У него в кармане тяжелое, – объяснил лакей. – Вот.
Без труда обхватив оба запястья пленника одной лапищей, он вытащил из прокуророва кармана «лефоше», протянул графу.
Тот взял револьвер двумя пальцами, кинул на него один-единственный взгляд и отшвырнул в сторону со словами:
– Дешевая дрянь!
Бердичевский тщетно извивался в стальных тисках.
– Пусти, мерзавец! Я статский советник! Я тебя за это в Сибирь!
– Отпусти, – разрешил Чарнокуцкий. – Ядовитый зуб выдернут, а махать кулаками у жидов не заведено. Жидковаты, – скаламбурил он. – Знаете, еврейский советник, за что я вашу породу не люблю? Не за то, что вы Христа распяли. Туда ему, жиду, и дорога. А за то, что вы, как и бабы, карикатура на человечество. Вы только прикидываетесь мужчинами.
– Я представитель власти! – крикнул Матвей Бенционович, держась за онемевшее запястье. – Вы не смеете себя так со мной...
– Нет, – перебил граф с внезапным ожесточением. – Ты крыса, проникшая в мой дом воровским манером. Если б ты не был жидом, я бы просто выкинул тебя за ворота. Но за то, что я, Чарнокуцкий, битый час перед тобой распинался и поил тебя тридцатилетним коньяком, ты заплатишь мне жизнью. И никто об этом не узнает. Не ты первый, не ты и последний.
– Вы фигурант в деле! – попытался втолковать сумасшедшему Бердичевский. – Хоть я прибыл сюда конспиративно, но я веду важное расследование! Вы – главный подозреваемый! Если я не вернусь, здесь завтра же будет полиция!
– Врет он про расследование, – пискнул не решавшийся подняться с ковра Кеша. – Он про вас от меня услыхал, а раньше даже имени не знал.
– А кучер? – напомнил прокурор. – Он привез меня сюда и вернулся в город! Если я исчезну, кучер всё расскажет!
– Кто вез, Иносан? – спросил Чарнокуцкий.
– Семен. Что ж я, чужого кучера возьму?
Граф раздавил сигару в пепельнице и весело объявил Матвею Бенционовичу, снова переходя с ним на «вы», но явно в издевательском смысле:
– Наши волынские мужички, у которых в лексиконе намешано двунадесять языков, говорят: «Загнали волка в кут, там ему и капут». Не вешайте свой кривой нос, господин Бердичевский. Ночь впереди длинная, вас ожидает много интересного. Сейчас спустимся в подвал, и я покажу вам секретную часть моей коллекции, самую интересную. Там не те экспонаты, что я купил, а те, что создал сам.
Присовокупить вас к коллекции не смогу – сами видели, у меня только женщины. Разве что какой-нибудь небольшой кусочек, в порядке исключения?
Допрос с пристрастием
Глядя на вытянувшееся от ужаса лицо пленника, граф зашелся в приступе своего квохчущего, застывшего смеха.
– Нет, не тот кусочек, о котором вы подумали. Это было бы кощунством по отношению к мужскому телу. Иносан, друг мой, как тебе экспонат «еврейское сердце»? В банке со спиртовым раствором, а?
Кеша не ответил, только судорожно дернул узел галстука.
Чарнокуцкий же подошел к столу, взял из вазы персик, любовно погладил его бархатную щечку.
– Нет! – продолжал веселиться он. – Есть идея получше! Фунт жидовского мяса! – И продекламировал с безупречным итонским выговором. – «Equal pound of your fair flesh, to be cut off and taken in what part of your body pleaseth me» 26. Я даже предоставлю вам выбор, не то что Шейлок бедному Антонио. Откуда предпочитаете?
Матвей Бенционовкч не умел так красиво говорить по-английски, а потому ответил по-русски:
– Мне подачек не надо. Пусть будет, как в вашей юдофобской пьесе – «сколь можно ближе к сердцу».
Расстегнул пиджак и похлопал себя по левому боку, где в жилетном кармане лежал «подарок от фирмы», однозарядная капсюльная безделушка с дулом ненамного толще соломинки. Что ж, утопающий, как известно, хватается и за соломинку.
Именно так прокурор и поступил – схватился за пистолетик, да так яростно, что сломал о курок ноготь на большом пальце.
– Это что такое? Клистирная трубка? – ничуть не испугался граф. – Что-то маловата.
В эту секунду с Бердичевским случилась удивительная метаморфоза – он вдруг совершенно избавился от страха и впал в чудовищную, небывалую для себя ярость. На то была своя причина.
Мы уже упоминали о перемене, произошедшей в характере этого мирного и даже боязливого человека в результате нежданной влюбленности, однако в данный момент искрой, от которой приключился взрыв, послужило обстоятельство куда менее романтическое. Дело в том, что Матвей Бенционович всегда чрезвычайно мнительно относился к своим ногтям. Микроскопический заусенец или, не дай бог, трещинка совершенно выводили его из равновесия, а пресловутое «ногтем по стеклу» повергало в дрожь. Обязательная гигиеническая операция, которую цивилизованная часть человечества производит над своими ногтями раз в четыре дня, была для Бердичевского мукой, особенно в заключительной своей фазе, предполагающей обработку пилкой. А тут от ногтя отломился целый кусок и торчал самым отвратительным образом! Эта маленькая неприятность, сущий пустяк по сравнению с ситуацией в целом, оказалась последней каплей: у статского советника потемнело в глазах от лютой злобы, страх уступил место остервенению.
– Это жилетный пистолет! – прорычал Матвей Бенционович, наливаясь кровью. – Незаменимая вещь при нападении ночного грабителя! Обладает поразительной для такого калибра убойной силой!
Граф чуть-чуть поморщился.
– Филип, отбери у него эту мерзость.
Тут бы и пальнуть в подлого аристократа, продемонстрировать ему замечательные качества оскорбленного пистолета, но прокурору вспомнилось, как приказчик из оружейного магазина предупреждал: «Конечно, при расстоянии более двух саженей убойность ослабевает, а с пяти саженей и вовсе нечего зря патрон тратить».
До магната было не пять саженей, но, увы, и не две.
Посему Бердичевский резво скакнул в сторону и наставил дуло на буйволоподобного Филипа. Времени на глупые предостережения («Стой! Стрелять буду!» и прочее) тратить не стал, а просто взвел курок и сразу же спустил.
Хлопок был негромкий, потише, чем от шампанского. Отдачи рука почти не ощутила. Дым, выметнувшийся из крошечного ствола, был похож на клочок ваты – такой разве что в ноздрю засунешь.
Однако – невероятная вещь – детина согнулся пополам и схватился обеими руками за живот.
– Ваше сия... – охнул Филип. – Он мене в брюхо! Больно – силов нет!
На несколько мгновений столовая обратилась в подобие пантомимы или па-де-катр. На лице графа отразилось бескрайнее изумление, чреватое появлением по меньшей мере двух или трех морщин; руки его сиятельства плавно разъехались в стороны. Кеша застыл на полу в позе умирающего и даже почти уже умершего лебедя. Раненый слуга качался на каблуках, согнутый в три погибели. Да и сам Бердичевский, в глубине души мало веривший в действенность своего оружия, на миг окоченел.
Первым опомнился статский советник. Отшвырнув бесполезный пистолетик, он бросился к валявшемуся на полу «лефоше», подхватил его и задергал пальцем в поисках спускового крючка. Ах да, он же складной!
Взвел курок, переложил револьвер в левую руку, сломанный ноготь сунул в рот – ощупывать языком.
Пусть «лефоше», как выразился граф, и «дешевая дрянь», но шесть пуль – это вам не одна. Да и бьет не на две сажени.
– Ой, больно! – взвыл Филип во весь голос. – Утробу мне стрелил! Мамочка, горячо! Помираю!
Перестал раскачиваться, повалился, засучил ногами.
– Молчать! – противным, визгливым голосом заорал на него белый от бешенства Бердичевский. – Лежи тихо, не то еще раз выстрелю!
Верзила немедленно умолк и более никаких звуков не производил – только кусал губы да вытирал слезы, странно выглядевшие на грубом бородатом лице.
Кеше прокурор приказал, зализывая ноготь:
– Ты, пафкудник, барф под фтол, и фтоб тебя тове быво не флыфно!
Молодой человек немедленно передислоцировался на указанную позицию, причем выполнил этот маневр на четвереньках.
Теперь можно было заняться и главным объектом.
Объект всё еще не вышел из остолбенелости – так и стоял на месте с надкушенным персиком в руке.
– Ас баби, бафе фияфельство, бы пофолкуем, – сказал Матвей Бенцконович, не вынимая пальца изо рта, к улыбнулся так, как никогда еще в жизни не улыбался.
Со статским советником творилось что-то малопонятное, но при этом восхитительное. Всю жизнь Бердичевский считал себя трусом. Иногда ему доводилось совершать смелые поступки (прокурору без этого нельзя), но всякий раз это требовало напряжения всех душевных сил и потом отдавалось сердечной слабостью и нервной дрожью. Сейчас же никакого напряжения Матвей Венционович не испытывал – размахивал револьвером и чувствовал себя просто великолепно.
Бывало в детстве, шмыгая разбитым в кровь носом, он, сапожников сын и единственный жиденок во всей мастеровой слободке, воображал, как убежит из города, поступит на военную службу и вернется назад офицером, при эполетах и сабле. То-то расквитается и с Васькой Прачкиным, и с подлым Чухой. Будут ползать, умолять: «Мордка, миленький, не убивай». Он взмахнет саблей, скажет: я вам не Мордка, я поручик Мордехай Бердичевский! А потом, так и быть, простит.
Почти что в точности всё и сбылось, только за минувшие с тех пор тридцать лет Матвей Бенционович, видно, ожесточился сердцем – прощать графа Чарнокуцкого ему не хотелось, а хотелось убить эту гнусную тварь прямо здесь и сейчас, причем желательно не наповал, а чтобы покорчился.
Должно быть, это желание слишком явно читалось в глазах осатаневшего прокурора, потому что его сиятельство вдруг выронил персик и схватился за край стола, словно ему стало трудно удерживаться на ногах.
– Если вы меня застрелите, вам живым из замка не выйти, – быстро сказал магнат.
Бердичевский взглянул на мокрый палец, поморщился:
– Я и не собираюсь никуда идти, на ночь глядя. Первым делом прикончу вас, потому что вы оскорбляете своим существованием Вселенную. Потом ваш Филип, если не хочет получить еще одну пулю, сходит со мной на телеграфный пункт и отстучит депешку господину начальнику полиции. Как, Филя, отстучишь депешку?
Лакей кивнул, ответить вслух побоялся.
– Ну вот. Там я забаррикадируюсь и подожду полицию.
– За убийство графа Чарнокуцкого попадете на каторгу!
– После того как полиция обнаружит в подвале вашу секретную коллекцию? Орден мне будет, а не каторга. Ну-ка!
Матвей Бенционович прицелился его сиятельству в середину фигуры, потом передумал – навел дуло в лоб.
Лицо Чарнокуцкого, и без того белое, сделалось вовсе меловым. Один иссиня-черный ус непостижимым образом поник, второй еще хорохорился.
– Чего... чего вы хотите? – пролепетал хозяин замка.
– Сейчас у нас будет допрос с пристрастием, – объявил ему Бердичевский. – О, я к вам очень, очень пристрастен! Мне будет невероятно трудно удержаться, чтобы не прострелить вашу гнилую голову.
Граф смотрел то на перекошенное лицо статского советника, то на прыгающее в его нетвердой руке дуло.
Быстро проговорил:
– Я отвечу на все вопросы. Только держите себя в руках. У вас спуск достаточно тугой? Выпейте мозельского, оно успокаивает.
Идея показалась Матвею Бенционовичу неплохой. Он приблизился к столу. Не сводя с графа глаз, нашарил какую-то бутылку (мозельское или не мозельское – все равно), жадно отпил из горлышка.
Впервые в жизни Бердичевский пил вино прямо из бутылки. Это оказалось гораздо вкусней, чем из стакана. Поистине сегодня у статского советника была ночь удивительных открытий.
Он поставил бутылку, вытер мокрые губы – не платком, а прямо рукавом. Хорошо!
– Что вас связывает с штабс-ротмистром Рацевичем?
– Он мой любовник, – ответил граф без секунды промедления. – То есть был любовник... Я полгода его не видел и никаких сведений не имел – до вашего появления.
– Так я вам и поверил! Ведь это вы внесли за него залог!
– Ничего подобного. С какой стати? Если я за каждого из своих любовников буду платить по пятнадцати тысяч, всего состояния Чарнокуцких не хватит.
– Не вы?! – С прокурора разом слетел кураж. – Не вы?! А... а кто же?
Граф пожал плечами.
Версия номер три, столь блистательно возникшая на обломках двух предыдущих, рухнула. Время потрачено впустую! Опять получился пшик!
– На вас лица нет, – нервно сказал владелец замка. – Выпейте еще вина. Честное слово, я не знаю, кто выкупил Рацевича. Бронек не сказал.
Когда до прокурора дошел смысл последней фразы, он спросил:
– Значит, вы с ним виделись после его освобождения?
– Только один раз. Он держался загадочно, говорил непонятное. Был очень важен. Говорил: «Выкинули Рацевича, как рваный башмак. Ничего, господа, дайте срок». У меня создалось ощущение, что под «господами» он имел в виду своих начальников.
– Еще что? Да вспоминайте же, черт бы вас взял!
От крика Чарнокуцкий вжал голову в плечи, заморгал.
– Сейчас-сейчас. Он очень туманно изъяснялся. Будто бы его навестило в тюрьме какое-то значительное лицо. Это он так сказал: «Значительное лицо, очень значительное». Ну а потом за него внесли деньги. Вот и всё, что я знаю...
Не Пелагия
Сзади раздался шум.
Бердичевский обернулся и увидел, что подстреленный лакей, воспользовавшись тем, что о нем забыли, поднялся и полусогнувшись бежит по направлению к гостиной.
– Стой! – ринулся за ним прокурор. – Убью!
Филип рухнул ничком, закрыл голову руками.
– Кровь вытекает! Моченьки нет! Помираю!
И снова донесся стук бегущих ног – теперь уже с другой стороны.
На сей раз Матвей Бенционович не успел. Увидел лишь, как фигура в черном халате, блеснув серебряным драконом на спине, выскальзывает в дверь. Лязгнул засов, и главный пленник был таков.
– Лежи, скотина! – рявкнул статский советник на слугу и ринулся вдогонку за графом.
Подергал дверь – тщетно.
Тогда подбежал к столу, выволок из-под него Кешу.
– Что за той дверью?
– Кабинет.
– Слуг оттуда вызвать можно?
– Да. Там электрический звонок. И внутренний телефон...
Бердичевский и сам уже слышал пронзительную трель звонка и истеричный голос магната, кричащего что-то не то в трубку, не то просто из окна.
– Слуг в замке много?
– Человек десять... Нет, больше.
А патронов только шесть, подумал Матвей Бенционович, но не панически, а деловито.
Подбежал к окну, увидел внутренний двор. Из дальнего конца бежали какие-то тени. Бросился на другую сторону – там чернел лес, а внизу поблескивала вода
Распахнул раму, высунулся.
Да, это ров. Высоконько. Ну да выбора нет.
Вскарабкался было на подоконник, но кое-что вспомнил – спрыгнул обратно.
Сначала подбежал к двери в гостиную, запер ее на ключ. Потом схватил за лацканы Кешу.
– А ну-ка, юноша, отдавайте деньги. Ваша гипотеза не подтвердилась.
Блондин дрожащей рукой протянул прокурору весь бумажник. Матвей Бенционович вынул свою сотенную.
Послышался топот ног, дверь затряслась – в нее толкались плечами.
Оглядев напоследок комнату, Бердичевский цапнул со стола недопитую бутылку и лишь после этого вернулся к окну.
В дверь размеренно колотили чем-то тяжелым. С филенки отлетела золоченая завитушка.
Поскорей, чтоб не успеть испугаться, прокурор шагнул в пустоту.
– Ы-ы!!! – вырвался из его горла отчаянный крик, а в следующую секунду рот пришлось закрыть, потому что статский советник с головой ушел в пахучую черную воду.
Ударился ногами о мягкое дно, оттолкнулся, вынырнул.
Выплюнув склизкую тину, запрыгал к берегу. Плыть было невозможно, потому что в одной руке Бердичевский держал бутылку, в другой – «лефоше». Пришлось скакать наподобие кузнечика: толкнулся ногами, глотнул воздуха, снова ушел с головой. Правда, глубина была небольшая, кисти рук оставались над поверхностью.
Скачков в пять-шесть добрался до мелкого места. Наткнулся костяшками пальцев на что-то скользкое, круглое, податливое – и заорал в голос, вспомнив о болотной гадине. Но ни бутылку, ни револьвер не выпустил.
Слава Богу, это была не змея – старые, размокшие бревна, которыми оказались выложены стенки рва.
Бердичевский кое-как уперся ногой, вылез из воды и дополз до кустов. Только тогда оглянулся на замок.
В освещенном окне (и вовсе не так уж высоко, как казалось сверху) торчали две головы, потом между ними влезла третья.
– Догнать! – послышался голос графа. – Тысячу рублей даю!
Сил бегать по ночному лесу у прокурора не было – полет из окна и прыганье в воде порядком поубавили в нем пыл к физическим упражнениям. Следовало остудить в слугах прыть, пусть сообразят, что жизнь дороже тысячи целковых.
Матвей Бенционович вылил из револьверного ствола воду и дважды пальнул в стену.
Головы из освещенного прямоугольника немедленно исчезли.
– Лампы гаси! – истошно крикнул кто-то. – Ему нас видно! Убьет!
Свет в гостиной, а затем и во всем втором отаже погас.
Ну то-то.
Продравшись через кусты, мокрый и грязный прокурор спустился на мощеную дорогу. Отхлебнул из горлышка, припустил рысцой – чтобы согреться.
Бежать вниз было легко и приятно. Шагов с полста одолеешь – и глоток. Еще полста шагов – еще глоток.
Настроение у статского советника было просто чудесным.
В Житомир он добрался только на рассвете, в крестьянской телеге.
В номере помылся, переоделся. Купил у ночного портье из-под прилавка бутылку портвейна – оказал преступное пособничество нарушителю закона о правилах винной торговли.
Половину вылакал сразу – по-новому, прямо из горлышка. Однако не опьянел, а, наоборот, собрался с мыслями.
За окном занимался день. Прокурор сидел на кровати в подтяжках, тянул из бутылки портвейн и прикидывал последовательность дальнейших действий.
Искать на графа управу в полиции бесполезно. За ночь Чарнокуцкий, конечно, перепрятал, а то и уничтожил секретную часть своей коллекции (интересно, что у него там за гадости?). За этого выродка нужно будет взяться основательно, через Киев и генерал-губернаторскую канцелярию. Дело долгoe, а чем закончится, ясно заранее: не каторгой – комфортабельной психиатрической лечебницей.
Ладно, это подождет. Есть дело куда более срочное.
Во сколько у них тут по субботам начинается присутствие?
Ровно в девять Бердичевский был в тюремном комитете, где от знакомого инспектора получил записку к смотрителю губернского узилища.
В тюрьме в долгие разговоры вступать не стал, спросил сразу:
– Книга посещений арестантов ведется?
– Так точно, ваше высокородие. С этим строго. Кто ни приди, хоть сам губернатор, обязательно записываем, – доложил дежурный надзиратель.
Вот с чего нужно было начинать, укорил себя Матвей Бенционович, чем в грязных канавах-то барахтаться. Скверный из меня сыщик. Не Пелагия.
Открыл журнал за 19 ноября прошлого года (в тот день выпустили Рацевича). Заскользил пальцем по строчкам, двигаясь снизу вверх.
18 ноября заключенного из одиннадцатой «дворянской» никто не навещал, хотя в тюрьме побывали двадцать шесть человек.
17 ноября было тридцать два посещения, но к Рацевичу опять никого.
16 ноября... Вот, вот оно!
В графе «К кому» аккуратным писарским почерком выведено: «В 11-ую к несостоятельному должнику Рацевичу». И напротив, в графе «роспись посетителя: имя, фамилия, звание», какие-то каракули.
Прокурор поднес регистрационную книгу к окну, где светлее.
Принялся разбирать небрежно написанные буквы.
Когда буквы сложились в имя, Бердичевский уронил журнал на подоконник и часто-часто захлопал ресницами.
XIII. МОРЕ МЕРТВЫХ
Будет Новейший Завет
Путь до Бет-Кебира был утомителен и однообразен.
Река Иордан жесточайше разочаровала паломницу своей худосочностью и неживописностью. Полина Андреевна отчасти даже обиделась на Провидение, которому отчего-то заблагорассудилось поместить величайшее событие в истории человечества у этого жалкого ручья, а, скажем, не на величественных берегах ее родной Реки, где небо и земля не щурятся от пыли и зноя, а смотрят друг на друга широко раскрытыми глазами.
Но когда Иордан влился в Мертвое море, иначе именуемое Асфальтовым, пейзаж стал еще скучней.
Справа горбилась лысыми холмами Иудейская пустыня, слева простиралось окутанное дымкой зеркало воды. Сначала Пелагии померещилось, что море затянуто панцирем серебристого льда, что при такой жаре было совершенно немыслимо. Монахиня спустилась к берегу и протянула к воде руку. Даже вблизи иллюзия ледяного покрова была абсолютной. Но пальцы коснулись не холодной твердой корки, а погрузились в теплую, совершенно прозрачную влагу, под которой лежал сплошной слой белой соли. Полина Андреевна лизнула мокрую руку и ощутила вкус слез.
Глаза болели от нестерпимого блеска. Мерцало не только море, но и зазубренные скалы, пустыня, дорога. А тишина была такая, какой Пелагия не встречала нигде и никогда. Не шуршал песок, не плескалась вода, и когда Салах остановил лошадей, чтобы дать им отдых, безмолвие окружающего мира стало просто невыносимым. «Мертвая тишина на Мертвом море», сказала про себя Пелагия, безо всякого намерения скаламбурить.
По мере приближения к южной оконечности соленого озера, вокруг становилось всё безжизненней и противоестественней. Из земли повылезали острые утесы, похожие не то на гигантские занозы, не то на ощеренные зубы Земли. Горы подступили почти вплотную к воде, будто хотели спихнуть повозку в едкий соляной раствор.
Полине Андреевне сделалось страшно. Не от бесприютности ландшафта, а от мысли о том, какое чудовищное злодеяние свершилось здесь много веков назад.
Тут была цветущая страна, которая «вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля Египетская». Но разгневанный Бог пролил на Содом и Гоморру серу и огонь с неба, и появилась эта огромная воронка, наполненная горькими слезами. На дне ее, покрытые толстым слоем соли, лежат тысячи мертвых нечестивцев, а возможно, и несколько праведников. Ведь перед тем как свершиться страшной каре, у Бога был торг с Авраамом. «И подошел Авраам и сказал: неужели Ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе пятьдесят праведников? Неужели Ты погубишь, и не пощадишь места сего ради пятидесяти праведников в нем? Не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же былос праведником, что с нечестивым; не может быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно? Господь сказал: если Я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то Я ради них пощажу все место сие. Авраам сказал в ответ: вот, я решился говорить Владыке, я, прах и пепел: может быть, до пятидесяти праведников недостанет пяти, неужели за недостатком пяти Ты истребишь весь город? Он сказал: не истреблю, если найду там сорок пять. Авраам продолжал говорить с Ним и сказал: может быть, найдется там сорок? Он сказал: не сделаю того и ради сорока. И сказал Авраам: да не прогневается Владыка, что я буду говорить: может быть, найдется там тридцать? Он сказал: не сделаю, если найдется там тридцать. Авраам сказал: вот, я решился говорить Владыке: может быть, найдется там двадцать? Онсказал: не истреблю ради двадцати. Авраам сказал: да не прогневается Владыка, что я скажу еще однажды: может быть, найдется там десять? Он сказал: не истреблю ради десяти. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом».,
Пелагия всей душой была на стороне Авраама, который, дрожа от ужаса, бился с Вседержителем за спасение страны Содомской, но Божественный предел оказался суровей человеческого. Что же это получается, Достоевскому из-за одной-единственной слезы ребенка не в радость спасение всего мира, а Всевышнему мало девяти праведников, да еще рассердился – ушел, перестал говорить? Должно быть, в те далекие времена Бог был молод, а по молодости бескомпромиссен и жесток. Он еще не научился терпимости и милосердию, явленному в Новом Завете.
Бог меняется, открылось вдруг Пелагии. Как и человечество, Он с веками взрослеет, мягчеет и мудреет. А если так, то можно надеяться, что со временем вместо Нового Завета нам будет явлен Новейший, еще милосердней и просветленней предыдущего. Ведь люди и общество так переменились за две тысячи лет!
И она попыталась представить, каким станет Новейший Завет Господень. Ветхий был про то, что еврей должен хорошо относиться к другим евреям. Новый – про то, что всем людям следует любить друг друга. А Новейший, наверное, распространит любовь и на зверей. Разве нет души у лошади или собаки? Конечно, есть!
Славно было бы, если б Новейший Завет дал людям надежду на счастье в этой жизни, а не исключительно после смерти, в Царствии Небесном.
И еще... Но тут Пелагия осеклась, дала себе укорот. Какой еще Новейший Завет? Ее ли это ума дело? Да и сами эти мысли, об устарелости прежнего Завета, не сатанинское ли искушение, насланное мертвой пустыней?
Разбили лагерь в маленьком оазисе, где возле ручья росло несколько деревьев. Это была уже третья ночевка после того, как путешественники покинули Изреэльскую долину.
А утром, едва хантур отъехал от места ночлега, случилось чудо. Салах, в последний раз проезжавший в этих местах два года назад, был поражен еще больше, чем Пелагия.
Из Иудейской пустыни к морю выползло прямое, как стрела, шоссе, поглотило убогую прибрежную дорогу и повернуло на юг. Чахлые Салаховы лошадки приободрились, часто-часто заклацали копытами по асфальту. Тряски как не бывало, хантур задвигался втрое быстрее.
Полина Андреевна только диву давалась.
Мир вдруг перестал быть заброшенным и безлюдным. То и дело навстречу попадались одинаковые белые фургоны, запряженные дюжими мохнатоногими першеронами. На брезенте красовалась эмблема: изображение акрополя и буквы «S&G Ltd». Пелагия пораскинула мозгами, что бы это могло значить, и догадалась: «Содом энд Гоморра лимитед», вот что это такое. Даже поежилась от нехорошего названия.
Вскоре после полудня достигли арабского селения Бет-Кебир. За время пути Полина Андреевна досыта насмотрелась на туземные деревни, как две капли воды похожие одна на другую: слепые глинобитные домишки едва выше человеческого роста; стены и крыша непременно облеплены лепешками сохнущего верблюжьего навоза, который используется в качестве топлива; улочки узкие и грязные; к проезжим сразу же кидается толпа голых детишек, орущих «Бакшиш! Бакшиш!», а зловоние такое, что хочется зажать нос.
И вдруг – новые беленькие домики с верандами, мощеные улицы, свежевысаженные кусты! Никаких попрошаек, оборванцев, прокаженных. А постоялый двор, куда Салах завернул, чтобы разузнать дальнейшую дорогу, показался измученной путешествием Пелагии истинным дворцом.
Она помылась в настоящем душе, выпила крепкого чаю, расчесала волосы, переменила белье. Салах тем временем вел важные переговоры с хозяином. Прежде чем выяснил всё, что поручила Пелагия, выпил семь или восемь чашек кофе.
Оказалось, что нововыстроенный город Усдум (так по-арабски произносится «Содом») от Бет-Кебира недалеко, всего пятнадцать верст, но женщинам туда ход заказан. Лути —люди хорошие, за работу и поставки платят щедро, но у них свои правила.
– Кто такие «лути»? – спросила Полина Андреевна.
– Лути —это народ Лута. Того Лута, кто ушел из Усдума, а город сгорел.
А, народ Лота, поняла Пелагия, то есть мужеложцы.
Салах объяснил, что рабочие из Бет-Кебира входят в Усдум по специальному пропуску, а женщинам нельзя попасть дальше заставы, которая в пяти верстах от города. Дорога только одна, зажата между озером и длинной горой Джебель-Усдум. На заставе турецкие солдаты, начальника звать Саид-бей. Турки стерегут дорогу очень хорошо, даже ночью не спят, что для турецких солдат удивительно. И бакшиш не берут, что удивительно вдвойне. А всё потому, что лутиим очень хорошо платят. Раньше Саид-бей со своими солдатами ютились в палатках, посреди пустыни. Они ловили контрабандистов и жили очень-очень плохо, а теперъ лутипопросили почтенного юзбаши перенести свой пост на дорогу, и турки стали жить очень-очень хорошо.
Сведения были неутешительными, Пелагия занервничала.
– А нельзя ли обойти заставу через пустыню, с другой стороны горы?
Салах пошел к хозяину пить еще кофе.
– Нет, нельзя, – сказал он, вернувшись. – Днем солдаты с гора увидят, у них там вышка. А ночью через пустыня не проехать, не пройти: ямы, камни, ноги сломаешь, шея свернешь.
– Скажи хозяину, я дам двадцать франков тому, кто проведет меня через заставу.
Верный помощник снова отправился на переговоры. Через четыре чашки кофе вернулся с довольным и загадочным видом.
– Можно. Гора Джебель-Усдум дырявая. Весной ручей течет, дырка находит. Тысяча лет вода течет – пещера. Хозяин знает, как через гора пролезть, но двадцать франк мало. Хочет пятьдесят. Пещера страшная, там джинны огня живут.
Услышав про пещеру, Полина Андреевна содрогнулась. Снова лезть в земное чрево? Ни за что – хоть с джиннами, хоть без джиннов.
Салах понял ее гримасу по-своему. Подумал немного, почесал затылок.
– Да, пятьдесят франк очень много. Дай мне двадцать пять, я тебя без пещера провезу.
– Но как?!
– Мой дело, – ответил палестинец с хитрым видом.
И вот они ехали мимо невысокого хребта, который, наверное, был единственным в своем роде: гора, расположенная ниже уровня моря. Впереди показалась большая парусиновая палатка и шлагбаум – турецкий пост.
Полина Андреевна оглянулась.
Сзади тащилась большая фура с эмблемой «S&G Ltd» на бортике, груженная рыхлой черной землей.
– Куда ты меня спрячешь? – уже в сотый раз спросила монахиня у таинственно молчаливого Салаха.
– Никуда. Повернись сюда. Он достал из дорожной сумки лаковую коробочку.
– Что это?
– Подарок. Марусе купил. Три франк платил – отдашь.
Пелагия увидела в маленьких ячейках белила, помаду, пудру и еще что-то вязкое, черное.
– Не верти башка, – сказал Салах, придерживая ее рукой за подбородок.
Окунул палец и быстро намалевал Полине Андреевне что-то на щеках. Растер. Провел кисточкой по бровям, ресницам. Потом намазал помадой губы.
– Зачем?! – пролепетала оцепеневшая монашка.
Достала зеркальце и пришла в ужас. На нес смотрела чудовищно размалеванная физиономия: свекольные щеки, огромные брови вразлет, подведенные глаза, вульгарно сочный рот.
– Ты сошел с ума! Поворачивай назад! – крикнула Пелагия, но хантур уже подъезжал к шлагбауму.
– Молчи и улыбайся, всё время улыбайся и делай вот так. – Салах подвигал бровями вверх-вниз, глаза закатил под лоб. – Шире улыбайся, совсем шире, чтоб все зубы видно.
Бунтовать было поздно. Пелагия раздвинула губы, сколько было возможности.
Подошли двое солдат в линялых синих мундирах и офицер при сабле – не иначе, тот самый Саид-бей.
Он сердито ткнул пальцем на Пелагию, заругался. А на фуру с землей даже не посмотрел, та преспокойно проехала под качнувшимся кверху шлагбаумом.
Полина разобрала слово «кадын» – кажется, по-турецки это значит «женщина». Ну конечно, сейчас офицер завернет их обратно, и путешествию конец.
Салах брани не испугался, а сказал что-то, смеясь. Саид-бей посмотрел на Пелагию с любопытством, задал какой-то вопрос. В его голосе звучало явное сомнение.
Вдруг палестинец ухватил пассажирку за подол платья и потянул кверху. От ужаса Пелагия заулыбалась так, что шевельнулись уши.
Солдаты заржали, офицер тоже расхохотался, махнул рукой – ладно, проезжай.
– Что... что ты ему сказал? – боязливо спросила Пелагия, когда застава осталась позади
– Что ты мальчик, одетый как баба. Что лутикупили тебя в Яффо. Юзбаши сначала не верил. Я говорю: «Не веришь – между ног ему смотри». И хочу тебе юбку поднять. Саид-бей не станет у мальчик между ног смотреть, а то солдаты думают, их юзбаши тоже лути.
– А... если бы все-таки посмотрел? – спросила бледная Пелагия.
Салах философски пожал плечами:
– Тогда плохо. Но он не посмотрел, застава мы проехали, с тебя еще двадцать пять франк.
Долг Полины Андреевны ее кучеру, проводнику и благодетелю со дня отъезда из Иерусалима увеличился до астрономических размеров. Деньги, выплаченные Фатиме, были только началом. К этой сумме Салах приплюсовал плату за страх, пережитый им во время черкесского приключения, потом стоимость проезда до Мертвого моря и отдельно от Бет-Кебира до Усдума. Были по пути и другие поборы, помельче. Пелагия уже сама не знала, каков общий итог, и начинала опасаться, что ей с этим вымогателем никогда не расплатиться.
Внезапно она заметила, что он разглядывает ее с каким-то странным, вроде бы даже взволнованным выражением лица.
– Что такое? – удивилась Полина Андреевна.
– Ты умная и храбрая, – с чувством сказал Салах. – Я сначала думал, какая некрасивая. Это потому что красные волосы и худая. Но красные волосы можно привыкнуть. И худая не будешь, если дома сидеть, много спать, хорошо кушать. А если пудра-помада мазать, ты почти красивая. Знаешь что?.. – Его голос дрогнул, глаза влажно блеснули. – Иди ко мне четвертая жена. Тогда можно долг не платить.
Это он делает мне предложение, поняла Пелагия и, к собственному удивлению, была польщена.
– Благодарю, – ответила она. – Мне приятно, что ты так говоришь. Но я не могу стать твоей женой. Во-первых, у меня есть Жених. А во-вторых, что скажет Фатима?
Второй довод, кажется, подействовал сильнее, чем первый. К тому же в процессе объяснения Полина Андреевна достала флягу и стала смывать с лица косметику, отчего ее красота, должно быть, померкла.
Салах вздохнул, щелкнул кнутом, и хантур покатил дальше.
Гора закончилась резким, почти вертикальным уступом, и из-за поворота безо всякого предупреждения вынырнул город.
Он лежал в небольшой котловине, с трех сторон окруженной холмами, и был невообразимо красив, словно перенесенный сюда из древней Эллады.
Не веря глазам, Полина Андреевна смотрела на украшенные статуями фронтоны, на стройные колоннады, мраморные фонтаны, красные черепичные крыши. Опоясанный цветущими садами, город словно покачивался в знойном струящемся воздухе.
Мираж! Мираж в пустыне, подумала восхищенная путешественница.
Подъехали к зеленой аллее, где лежали груды тучного чернозема. Там уже стояла давешняя фура, пока еще не разгруженная. Возница исчез – наверное, отправился за указаниями. Несколько арабов копали ямы для деревьев, поливали клумбы, стригли траву.
– Это настоящий элизиум, – прошептала Пелагия, вдыхая аромат цветов.
Спрыгнула на землю, встала за розовыми кустами, чтобы не привлекать к себе внимания, и всё не могла наглядеться на волшебное зрелище.
Когда первый восторг прошел, спросила:
– Но как же я попаду в город?
Салах пожал плечами:
– Не знаю. Я только обещал везти тебя через застава.
Танец Иродиады
Скользя по мраморному полу, она всё пыталась ухватить гаснущую мелодию.
Прам-пам-пам, прам-пам-пам, два раза покружиться, взметнув невесомым облаком газовый пеньюар, потом присесть в книксене и взлететь, воспарить, а руки – как лебединые крылья.
Раньше она танцевала под граммофон, но теперь механическая музыка стала ей уже не нужна. Божественные мелодии, которых не смог бы воспроизвести сам Паганини, зарождались у нее внутри. Жизнь их была коротка, не предназначена для повторения и оттого особенно прекрасна.
Но сегодня что-то мешало музыке, гасило ее, не позволяло волшебной силе развернуться.
Пара-пара-рам-па-пам, пара-пара-рам-па-пам... Нет, не так!
В благословенном оазисе, надежно укрытом от грубого мира, Иродиада открыла в себе два источника каждодневного наслаждения, два новых таланта, о которых прежде и не подозревала.
Первым был танец – не для домашних, не для гостей и уж тем более не для посторонних зрителей, а исключительно для самой себя.
Превратиться в гармонию, в грациозное движение. Ощутить, как тело, прежде такое непослушное, ржавое, скрипучее, делается легче пуха, пружинистей змеи. Кто бы мог подумать, что на пятом десятке, когда от собственной плоти, кажется, уже ничего нельзя ожидать кроме предательства и разочарований, только и начнешь сознавать, что за совершенный организм твое тело!
В доме тихо-тихо. Левушка и Саломея нежатся в спальне, они встанут ближе к вечеру, когда смягчится зной. Антиноша плавает в бассейне, его из воды артелью бурлаков не вытащишь.
Каждый день, в послеобеденный час, предоставленная сама себе, Иродиада танцевала перед зеркалом, в полной тишине. Электрический вентилятор гонял по атриуму волны ароматизированного воздуха. Танцовщица выделывала pasнеописуемого изящества, по лицу ее сбегали капельки пота и тут же высыхали.
Полчаса абсолютного счастья, потом принять восхитительно холодный душ, выпить бокал смолистого вина со снегом, накинуть шелковый хитон – и на встречу со вторым наслаждением, в сады.
Но целиком отдаться движению сегодня никак не получалось, а в голове, которая должна быть полна одной лишь музыкой, вихлялась мышиным хвостиком какая-то смутная, тревожная мысль.
П'опадет, погаснет,послышался вдруг Иродиаде картавый голос, и она остановилась.
Ах вот оно что.
Вчерашний разговор.
Нелепого человека в перепоясанном синей веревкой рубище привезли в город Збышек и Рафек, двое сумасбродных варшавян. Они гоняли наперегонки в колесницах вдоль моря и подобрали на шоссе бродягу, рассмешившего их своим видом. Выяснив, что странник прибыл из России, повели к своим русским друзьям – показать.
Она была дома одна. Левушка заседал в Ареопаге, дети ушли на пляж.
Когда оборванец назвался Мануйлой, предводителем «найденышей», хозяйка развеселилась. Бедняге было невдомек, что по воле случая ей известно о смерти настоящего Мануйлы, которого убили, можно сказать, почти на ее глазах.
Иродиада не спешила с разоблачением, поджидала эффектного момента. Когда шалопаи-варшавяне повели бродягу смотреть город, Иродиада отправилась с ними.
Лже-Мануйла вертел головой во все стороны, беспрестанно ахал и удивлялся, сыпал вопросами. Збышек с Рафеком больше гоготали и валяли дурака, так что роль гида исполняла Иродиада.
А женщин вы что же, совсем не признаете, недоумевал самозванец.
– Признаем и уважаем, – отвечала она. – У нас на Западной площади есть Памятник жене Лота – нашли на берегу соляную колонну и заказали скульптору высечь из нее статую. Многие, правда, возражали против нагой женской фигуры, но большинство проявили терпимость. Мы ничего не имеем против женщин, только нам лучше без них, а им без нас.
Что же, и женский город тоже где-нибудь ееть, спросил «пророк».
– Пока нет, – объяснила Иродиада, – но скоро будет. Наш благодетель Джордж Сайрус намеревался купить для дев-женолюбиц землю на острове Лесбос, но греческое правительство не позволило. Тогда он придумал отстроить Гоморру – работы там уже начались. Мы будем дружить с нашими соседками, как дружат люди и дельфины. Однако стихия дельфина – море, а стихия человека – суша, и потом, зачем же человеку и дельфину совокупляться?
Забавный пройдоха восхищался красотой построек и техническими усовершенствованиями, которых в Содоме имелось неисчислимое множество: и электрический трамвай, ходивший от Акрополя до пляжа, и синематограф, и каток с искусственным льдом, и многое-многое другое.
Но больше всего фальшивого Мануйлу заинтересовали отношения между содомцами: есть ли у них семьи, или всяк живет сам по себе?
Иродиада, предвкушавшая миг разоблачения, вежливо ответила, что семей с детьми вроде ее собственной здесь очень мало. Некоторые живут парами, а большинство просто наслаждаются свободой и безопасностью.
Потом Рафек и Збышек стали звать в Лабиринт, особенное место, где молодежь в темноте творит всякие непристойности. Иродиада не пошла, она уже вышла из возраста, когда человека занимают плотские безобразия, – теперь больше ценила чувства. К ее удивлению, бродяга в Лабиринт тоже не захотел, сказал, что ничего нового в этих забавах нет, они были и у римлян, и у греков, и у вавилонян.
Так и получилось, что Иродиада осталась с ним вдвоем.
– Что, Божий человек, обрушит на нас Господь огнь и серу за эти прегрешения? – насмешливо спросила она, кивая в сторону Лабиринта, из которого доносились хохот и дикие вопли.
За это навряд ли, пожал плечами «пророк». Они ведь друг друга не насильничают. Пускай их, если им так радостней. Радость свята, это горе – зло.
– Ай да пророк! – развеселилась Иродиада. – Может, ты тоже из наших?
Как же он ответил-то?
Нет, сказал, я не из ваших. Мне вас жалко. Путь мужчины, любящего мужчин, печален и ведет к отчаянию, потому что бесплоден.
Он какими-то другими словами это сказал, менее складно, но смысл был именно такой, и Иродиада от неожиданности вздрогнула. По инерции попробовала пошутить:
– Бесплоден – оттого что у нас не может произойти детей?
А он серьезно так: и от этого тоже. Но не только. Мужчина – черная половинка души, женщина – белая. Знаешь, от чего возникает новая душа? Оттого, что из Божьего огня высекается маленькая искорка. А высекается она, когда две половинки души, белая и черная, тычутся друг в друга, пытаются понять, одно они целое или нет. Вам же, бедным, своей половины никогда не сыскать, потому что черное с черным не соединяется. Пропадет твоя полудуша, угаснет. Тяжкая это доля – вечное одиночество. Сколько ни тычьтесь друг в друга, искры не будет. Вот в чем беда-то: не в блуде тела, а в заблуждении души.
Иродиада и забыла, что собиралась посмеяться над самозванцем. Какая, в сущности, разница, кто он таков на самом деле? Бродяга заговорил о том, что она чувствовала и сама, только не знала, как обозначить.
Стала возражать.
Разумеется, дело совсем не в телесном. Когда дурман запретности растаял и стало не нужно прятаться от общества, обнаружилось, что не так уж ей и нужны страстные соития с любимым. Важнее нежность, защищенность, каких никогда не познаешь с женщиной, потому что женщины другие. А тут не надо прикидываться, тебя понимают с полуслова, даже и вовсе без слов – вот что важно. Мы вместе, мы одинаковые. Никакого столкновения противоположностей, никакого раздира. Блаженство и покой.
Втолковывала всё это чужому человеку, волнуясь и горячась, – вот как зацепили Иродиаду его речи.
Тот слушал-слушал, потом грустно покачал головой и говорит: а искры все равно не будет. Нет искры – нет и Бога.
Вчера Иродиада с ним не соглашалась, стояла на своем, а сегодня, когда лже-Мануйлы рядом уже не было, оброненные им слова – «вечное одиночество», «заблуждение души» – вдруг выплыли из памяти и прогнали музыку.
Что-то Левушка всё больше времени проводит с Саломеей.
Нет, это не ревность, а то самое, о чем говорил странник: страх одиночества. И Антиной дома почти не бывает – у него новые увлечения, новые друзья. Возможно, они ему не только друзья...
А ведь всего месяц, как приехали сюда, в мужской рай. Говорят, семьи в Содоме долго не держатся. И что тогда останется?
Нетак мало, подбодрила себя Иродиада. Останутся танцы и сады.
Кстати, о садах.
Подошло время проведать пионы и мушмулу. Да и к розам заглянуть – не переусердствовал ли Джемаль с поливкой.
Иродиада прогнала печальные мысли прочь. Надела невесомый хитон, обвязала волосы голубой лентой.
Солнце еще палило вовсю, но с Аваримских гор уже веяло ветерком, обещавшим вечернюю прохладу.
Прошла тенистой улочкой к Западным воротам, приветливо кивая встречным, а с некоторыми и целуясь.
Все мысли теперь были только о саде.
Перед вечерней зарей нужно будет разрыхлить клумбы, чтобы рассада подышала. Завтра из Хайфы должны доставить земляных червей. Тогда можно будет всерьез взяться за персиковую аллею. Через год-другой в Содоме будут такие сады, каких этот злосчастный край не видал и во времена Лота.
Вот чему надо было посвятить жизнь! Не гимназистов латыни учить, а сады и цветники выращивать. В России растениям благодать. Там и воды сколько пожелаешь, и земля живая, не то что здесь.
Впрочем, такого чернозема, какой доставляют сюда фурами, не найти и в России. Особой пропитки, больших денег стоит. Слава Богу, у мистера Сайруса денег много.
За городской стеной походка Иродиады стала энергичной, деловитой. Позабыв о жаре, она обошла деревья, кусты, клумбы. Пожурила старшего садовника – так и есть, он поливал розовые кусты равномерно, а с восточной стороны, куда по ночам дует бриз, нужно бы поменьше. Джемаль слушал внимательно – знал, что у старого лутиособый дар от Аллаха понимать жизнь растений, и относился к этому таланту с почтением.
В университете среди прочих ненужных премудростей Иродиада изучала и древнееврейский, поэтому арабский язык ей давался на удивление легко. Уже на второй неделе совместной работы они с Джемалем отлично понимали друг друга.
– Это что такое? – недовольно показала Иродиада на повозку с черноземом. – Где возница? Почему не разгрузил?
– Там женщина, – сказал Джемаль, показывая на крайний из розовых кустов. – Как проехала, неизвестно. Садык отправился сказать караульному.
Поклонился и пошел поливать клумбы.
Иродиада обернулась. За кустом в самом деле кто-то прятался.
Подошла ближе – действительно, женщина. Издалека видно, что не ряженка, а натуралка. Не столько даже по фигуре, сколько по наклону головы, по чуть отставленной в сторону руке. Это не подделаешь, сколько ни старайся.
Надо ей сказать, чтоб уезжала подобру-поздорову. Начальник службы безопасности – бывший британский полковник, с ним шутки плохи. Сдаст нарушительницу турецкому караулу, да еще оштрафует Саид-бея за нерадивость, а тот выместит злобу на любопытной дурехе, у азиатов ведь джентльменство не в заводе.
Яков Михайлович подслушивает
И не думалось, и не гадалось, что так ловко получится, с фурой-то. Повезло – оказался в нужном месте, в нужное время.
А сначала клял себя, что перемудрил – когда, можно сказать, заживо в сырую землю лег. Пока тащились по шоссе, проклял все на свете. Жарко, червяки под одежду лезут. Один, стервец, даже в ноздрю прополз – чудо, что не расчихался.
Дышал через камышинку, просунув ее сквозь чернозем. Потом и смотреть приладился. Был у Якова Михайловича при себе глиняный кувшин с длинным горлышком, воду пить. Содержимое мало-помалу вылакал (заодно и земли-матушки накушался), а сосуду придумал полезное применение. Горлышко у основания переломил пальцами – получилась трубка. Высунул ее наружу, обрел зрение. Кувшин земляного цвета, так что снаружи горлышко и с двух шагов не разглядишь. По правде сказать, не ахти какие обзоры открывались через сию малую дырку, но лучше, чем вовсе безглазым быть. Повернешь туда, сюда – вроде как через подзорную трубу смотришь. Или как через оптическую палку на субмарине, перископ называется.
Про везение стало ясно, когда фура уже прибыла, куда ей положено, и остановилась. Тут обнаружилось, что Рыжуха, за которой Яков Михайлович всю дорогу через свой перископ приглядывал, топчется здесь же, рядышком. Вылезла из своей таратайки, встала за розовым кустом, а от того куста до яковмихайлычева наблюдательного пункта рукой подать.
Монашка повздыхала, попричитала, как же ей теперь в город попасть. Ее арап (Салахом звать) сочувствия никакого не выразил.
Мальчишкой надо было одеться, коза ты безмозглая, мысленно укорил Рыжуху тайный созерцатель. Еще и теперь, может, не поздно, соображай.
Но та всё переминалась с ноги на ногу да вздыхала.
Он, однако, за нее не волновался. Знал по опыту – никакая она не безмозглая и что-нибудь обязательно придумает, от своего не отступится. Верный был расчет, на рыжую ставить. Не дураки придумали.
Немножко тревожился он из-за другого – не улизнула бы снова, как в прежние разы. Очень уж шустра и непредсказуема. Не всё ж Господу Богу ради Якова Михайловича на чудеса расщедриваться.
Вдруг шаги. И голос – высокий, с подвзвизгом, полубабий-полумужской:
– Madame, vous n'avez pas le droit de rester id27. —И потом по-русски, удивленно. – Вы?!
Яков Михайлович развернул свою подзорную трубу в направлении странного голоса. Увидел в кружочке немолодую накрашенную бабу в парике, легком платьишке и сандалиях (что-то ступни широковаты). Понятно: ряженый бабой содомит.
Монашка обрадовалась старому педерасту, как родной маме.
– Ах, какая удача, что я вас встретила! Здравствуйте, милая Ираида!
– Иродиада, – поправил баба-мужик и тоже всплеснул руками, затараторил. – Откуда вы взялись, милая? И почему не в рясе? Что вы здесь делаете?
Рыжуха ответила не сразу, и Яков Михайлович перевел трубку на нее. Она морщила лоб, словно не могла решить, правду говорить или наврать что-нибудь.
Сказала правду.
– Понимаете... Мне очень нужно найти одного человека.
– Кого?
– Это довольно странный человек. Необычно одевается, необычно говорит... В Бет-Кериме сказали, что он был там вчера утром и двинулся в сторону Содома. Обратно не возвращался. Вот я и подумала, что он, должно быть, остался здесь... Такой тощий, с всклокоченной бородой, в белой хламиде с синим поясом...
– Мануйла? Вам нужен человек, который называет себя Мануйлой? – изменившимся голосом произнес извращенец.
– Да! Вы видели его? Скажите, видели? Мне необходимо с ним поговорить! Если бы вы вызвали его сюда...
– Его нет.
– Как?! – ахнула монашка. – Что вы с ним сделали?
Яков Михайлович поскорей нацелился в ряженого, увидел, как тот машет рукой в сторону моря.
– Он уплыл на катере в Аин-Джиди. Еще на рассвете, пока не начало печь.
– Слава Богу! – почему-то воскликнула монашка. – Аин-Джиди – это оазис к северу от Бет-Керима? Мы там проезжали.
– Да, оттуда идет дорога на Иерусалим.
– Так он направляется в Иерусалим?
Педераст развел руками:
– Понятия не имею... Он говорил про какой-то сад.
– Ради Бога, вспомните! – вскричала монашка. – Это очень важно!
Яков Михайлович тоже весь обратился в слух – даже трубку приставил не к глазу, а к уху.
Иродиада неуверенно протянул:
– Кажется, он сказал так: «В ночь на пятницу мне обязательно нужно быть в одном саду».
Ну же, ну же, мысленно подбодрил его Яков Михайлович. Давай, вспоминай.
– Вот и всё. Больше он ничего про это не говорил.
– Ах! – воскликнула рыжая.
Наблюдатель поскорей приставил кувшинное горлышко к глазу. Монашка прикрыла рот ладонью, брови выползли чуть не на середину лба.
Удивилась чему-то? Или что-то смекнула?
Что за сад, Яков Михайлович, само собой, знать не мог, но это было не важно. Главное, что ты, золотце мое, поняла, прошептал он Рыжухе и сплюнул прилипшего к губе червяка.
Ночь на пятницу – это завтра или послезавтра? Со всеми этими палестинскими блужданиями дни недели в голове перепутались.
И, похоже, не только у него.
– Сегодня у нас что? Среда? – спросила монашка,
– Не знаю, милая, мы здесь живем по античному календарю. Сегодня день Луны, завтра будет день Марса, послезавтра...
– Да-да, среда! – перебила его рыжая. – Скажите, нельзя ли и мне воспользоваться вашим катером?
– Что вы! Вам нужно побыстрей уносить ноги, иначе вас арестуют. Уже побежали за стражей. Это частное владение, очень строго охраняемое.
– Сколько отсюда до Иерусалима? – не слушала его монашка.
– Право, не знаю. Верст сто-полтораста.
– Салах, завтра к вечеру довезешь?
– Кони испорчу, – проворчал арап. – Неделю работать не будут.
– Сколько стоит неделя твоей работы?
– Двести франк.
– Разбойник!
– Если для жена, бесплатно, – непонятно ответил арап.
– Ладно. Поехали!
– Что ладно? – спросил Салах. – Двести франк ладно или жена ладно?
– Там видно будет! Поехали!
И монашка выбежала из зоны обзора. Полминуты спустя донесся стук копыт, скрип колес. Покатили в Иерусалим.
Пора было выбираться из чертовой телеги. Охо-хо, полтораста верст на своих двоих, да через пустыню... Ничего, сдюжим.
Опять же можно в Бет-Кериме приобрести двуколку. С парусиновым верхом, навроде тента. И парочку этих самых тентов про запас прихватить, разного цвета. Время от времени менять один на другой, чтоб не заметили слежку.
Ну давай уже, уходи, поторопил Яков Михайлович педераста.
А тот как назло медлил.
Еще через пару минут застучали сапоги, зазвякали сабли. Это прибежали двое турецких солдат и с ним возница фуры, что доставила в Содом Якова Михайловича – зайцем.
Загалдели что-то по-своему. Содомит им ответил с запинкой, успокоительным тоном. Не иначе, наврал, что не было тут никакой бабы, потому что один из солдат размахнулся и отвесил вознице оплеуху, да еще заругался. По-ихнему Яков Михайлович, конечно, не понимал, но догадаться было нетрудно: ах, мол, такой-рассякой шайтан, врешь невесть что, бегай из-за тебя по жаре.
Солдаты ушли, всхлипывающий арап тоже, а чертов содомит всё торчал возле куста. Зачем-то трогал цветы и листья, сокрушенно качал головой.
Ну же, черт тебя дери, время дорого!
От нетерпения Яков Михайлович шевельнулся, из фуры просыпалась земля.
Баба-мужик озадаченно оглянулся на повозку – показалось, что смотрит прямо в трубку, в самый глаз Якову Михайловичу.
Тот мысленно предупредил, по-хорошему: отвернись, болван. Целее будешь.
Нет, подошел.
Встал так близко, что в дырку можно было рассмотреть лишь полбюста (ишь, ваты-то напихал) и руку с гладко выбритыми волосками.
Лысая рука раскрыла ладонь, вовсе заслонившую обзор.
– Это что за тряпка? – раздалось бормотание, и в следующую секунду Якова Михайловича дернули за рукав.
Ну, пеняй на себя.
Он ухватил дурня за запястье, резко выпрямился.
Увидев, как из земли поднимается черный человек, старый извращенец выпучил глаза. Потом закатил их кверху и мягко повалился.
В самом деле, как баба. В обморок бухнулся.
Яков Михайлович наклонился над недвижным телом, соображая.
Переломить шейный позвонок, да сунуть труп вон в ту большую кучу земли. День кончается, раньше завтрашнего утра ее не разроют, утром же мы будем далеко, на полпути к Иерусалиму.
А вдруг все-таки разроют? Вон у них на башне гелиограф установлен. Дадут сигнал на заставу.
Зачем рисковать?
Яков Михайлович попрыгал, стряхивая налипшие комья. Аккуратно подобрал их, ссыпал обратно в фуру. Потом восстановил очертания земляного конуса, пригладил ладонями. Большим скачком, без разбега, сиганул на газон, чтоб не оставить в пыли следов.
Оглянулся.
Содомит по-прежнему лежал кулем.
Ладно, пускай живет.
Что он скажет? Что из-под земли вылез черный человек, а потом бесследно исчез? Да кто ему поверит? Он и сам себе не поверит. Решит, что на солнце перегрелся.
Яков Михайлович подтянул шальвары и пружинистой, мускулистой побежкой затрусил по дороге вдогонку за садящимся солнцем.
Для ритмичности дыхания приговаривал:
– Ать-два, ать-два, что-за-сад, что-за-сад, ать-два, ать-два, что-за-сад, что-за-сад...
Глотнул ртом вместо воздуха горячей пыли, заплевался.
Ох, треклятая сторонка.
Ничего, завтра вечером, похоже, конец.
XIV. ЭТЮД БЕРДИЧЕВСКОГО
Старый знакомый
«Дсс Долинин; чл.Совета Мин. вн. дел» – вот что было написано неровным, трудночитаемым почерком в графе «посетитель».
– Действительный статский советник Долинин? – пробормотал Матвей Бердичевский, ероша свою золотисто-красноватую шевелюру. – Долинин?!
– Так точно, – подтвердил надзиратель. – Их превосходительство был у нас с инспекцией. Удостоил беседой. Говорил, что надобно тюрьмы разделить: для подследственных одну, для закоренелых преступников другую, для мелких нарушителей третью. Составом арестантов изволил интересоваться. Ну, я ему и расскажи про жандармского офицера, грозу разбойников и нигилистов. Мол, вот до чего доводит невоздержанность в привычках. Их превосходительство пожелал самолично взглянуть. Изволил разговаривать с господином Рацевичем, не менее часа.
Не надо больше никаких версий, со всей определенностью понял Бердичевский. Всё сходится, одно к одному, хоть еще не вполне ясно, каким именно образом.
Покинув тюрьму, долго шагал по улицам, не видя ничего вокруг. Сумбур постепенно прояснялся, факты выстраивались в стройную цепочку.
Помедленней, помедленней, то и дело одергивал себя прокурор. Без скороспелых умозаключений, одну голую последовательность событий.
Голая последовательность выходила такая.
Полгода назад несостоятельного должника Рацевича навещает «очень значительное лицо» – судя по всему, без предварительного намерения, случайно. Или не вполне случайно? Нет-нет, предположения оставим на после.
Чиновного инспектора и реформатора следственно-дознательной системы чем-то заинтересовал изгой с навыками волкодава. Чем именно? Может быть, Долинин тоже мужеложец? Однако вряд ли узник сразу же стал бы признаваться важному петербургскому чиновнику в своих пристрастиях. Маловероятно. Даже совсем невероятно.
Но факт несомненен: заинтересовал.
Настолько, что три дня спустя из «Русского торгово-промышленного и коммерческого банка», главная контора которого, между прочим, находится в Санкт-Петербурге, поступает сумма, покрывающаявсю сумму долга. Рацевич выходит на свободу и вскоре исчезает из Житомира – навсегда.
Вопросы: зачем Долинин это сделал и откуда у него столько денег? Пелагия рассказывала, что он не из аристократов, выбился наверх за счет таланта. Раз так, большому богатству взяться у него неоткуда.
Факты, только факты, вновь напомнил себе Бердичевский.
Хорошо-с. Пять месяцев после освобождения Рацевича – пробел. О местопребывании и занятиях лихого жандарма в этот период мы ничего не знаем. Но известно, что вечером 1 апреля он оказывается на пароходе «Севрюга» и убивает крестьянина Шелухина, приняв его за «пророка» Мануйлу.
В ту же ночь на пароход является Долинин, по совпадению оказавшийся в ближайшем уездном городе с очередной инспекцией. Примечательное совпадение, особенно если вспомнить житомирское рандеву в тюрьме.
Действительный статский советник самолично возглавляет дознание, убийца же таинственным образом с корабля исчезает. А кто, спрашивается, руководил поисками? Он же, Долинин. Матвей Бенционович вспомнил рассказ Пелагии: в каюту мнимого господина Остролыженского следователь наведался сам, после чего сообщил, что она пуста, велел выставить перед дверью караул, не входить и никого не пускать. Уж не сидел ли житомирский знакомец хитроумного следователя внутри? И очень просто. А потом Долинин его потихоньку выпустил на берег – при смене караула или еще как-нибудь. Для начальника расследования, которому все подчиняются и все доверяют, дело нетрудное.
Что было дальше?
Большой человек из Петербурга непременно пожелал лично отправиться в отдаленную деревню, сопровождая труп какого-то проходимца. Как странно! То есть тогда сестре Пелагии и всем прочим участникам дознания показалось, что следователь соскучился на бюрократической работе, да и вообще, будучи человеком добросовестным, привык любое дело доводить до конца. А между тем следом за экспедицией отправился убийца, связанный с Долининым некими непонятными узами. Не исключено, что, пока плыли на барже, Рацевич прятался прямо там же, в трюме. Потом двигался своим ходом через лес, всё время держась поблизости. Когда Пелагия по случайности наткнулась на соглядатая, Долинин заморочил ей голову разговором о нечистой силе, и так ловко это проделал, что многоумная монахиня ничего не заподозрила.
Дальше самое существенное.
Установив личность убитого, Долинин уехал, но Рацевич за ним не последовал, остался.
Зачем?
Ясно: чтобы умертвить Пелагию. Но почему он не сделал этого раньше – хотя бы при той самой встрече в лесу?
Немного подумав, Матвей Бердичевский нашел ответ и на этот вопрос.
А потому что раньше приказа не было. Значит, приказ убить монашку поступил лишь после того, как уехал следователь.
От кого?
Разумеется, от Долинина, больше не от кого.
Бердичевский уже забыл, что оставил умозаключения на потом, и вовсю предался гипотезированию – впрочем, отнюдь не безосновательному.
Может быть, следователь хотел, чтобы Пелагию убили, когда его, Долинина, не будет рядом? Для обеспечения алиби, а возможно, и из-за чувствительности – не хотел этого видеть.
А еще вероятнее другое. Должно быть, в Строгановке Пелагия что-то такое сделала или сказала, отчего Долинин понял: она близка к разгадке пароходного убийства. Вероятнее всего, следователь для того и позвал ее с собой в экспедицию, чтобы по дороге определить, насколько она опасна. И вот определил: опасна, в живых оставлять нельзя.
Кстати, в ходе дедукции сам собой явился ответ и на первый из отложенных вопросов. Изгой с навыками волкодава понадобился господину Долинину именно потому, что он, во-первых, изгой, а во-вторых, волкодав, то есть мастер по тайным делам. А гомосексуализм тут скорее всего ни при чем. Очень может быть, что петербуржец так и не узнал об этом обстоятельстве. Да и так ли оно существенно?
Теперь другой вопрос из неотвеченных: случайно ли Долинин попал в одиннадцатую «дворянскую» камеру губернской тюрьмы? Что, если в своих инспекционных поездках по империи он нарочно присматривал людей, которые могут быть полезны для его пока еще не установленных целей? Это было предположение, всего лишь предположение, но весьма и весьма правдоподобное.
В мозгу Матвея Бенционовича словно прорвало плотину: мысли, догадки и озарения хлынули таким потоком, что прокурор начинал захлебываться в этом половодье.
А впереди уже виднелась новая преграда, покрепче первой, и там кипела, пенилась бурливая вода.
Что такое действительный статский советник Долинин?
Бердичевский стал вспоминать всё, что ему было известно об этом человеке от Пелагии и из иных источников.
Много лет Долинин служил следователем по уголовным делам. Была семейная драма – ушла жена. Пелагия рассказывала про это сочувственно, видно, знала какие-то подробности, но Матвея Бенционовича в них не посвятила. Сообщила лишь, что брошеный муж от горя был на грани отчаяния, но ему встретился какой-то мудрый, добрый человек и обернул к Богу, избавил от саморазрушительных мыслей. Тут у Долинина как раз случился и прорыв в карьере – взлетел высоко и счастливо забылся, погрузившись в большое государственное дело.
Так-так. Всё здесь вызывало вопросы.
Во-первых, что за мудрец спас мятущуюся душу следователя?
Во-вторых, ничего себе «спас душу» – стал вербовать профессиональных убийц.
В-третьих, случайность ли, что «просветление» Долинина и его карьерный взлет совпали по времени?
Наконец, четвертое и самое главное: что движет Долининым? Кли кто?И какова цель этого движения?
Голова шла кругом. Но ясно было одно – в Житомире больше делать нечего. Как сказал принц Гамлет, есть магнит попритягательней.
Американский шпион
Матвей Бенционович сошел с поезда на Царскосельском вокзале и первым делом отправился на Главный петербургский почтамт – нет ли весточки от преосвященного. Из Житомира прокурор послал владыке краткий отчет о случившемся, не вдаваясь, однако, в подробности – не по телеграфу же. Про Долинина, к примеру, объяснить не решился. Сообщил лишь, что нить «известного вашему преосвященству дела» тянется в столицу империи.
Письма из Заволжска не было, зато статского советника дожидался денежный перевод на пятьсот рублей, а в сопроводительном бланке приписка: «Храни тебя Господь».
Ай да преосвященный. Никаких излишностей, только то, что Бердичевскому сейчас было необходимей всего: деньги и благословение.
От соученика по университету, ныне служившего в Министерстве внутренних дел, прокурор узнал, что Сергей Сергеевич Долинин нынче вечером возвращается из инспекционной поездки в нижневолжские губернии и завтра ожидается в присутствии. Это было очень кстати. Вот и посмотрим, кого он посетит сразу после приезда, решил Матвей Бенционович. Наведался на Николаевский вокзал, узнал из расписания, что поезд прибывает в половине двенадцатого ночи.
Получалось, что свободен почти весь день.
Студентом Бердичевский провел в Петербурге несколько лет и неплохо знал этот красивый, холодный город. С точки зрения провинциала, столицу сильно портило обилие казенных построек – их желто-белая гамма сбивала и заглушала истинный цвет города, серый и голубой. Если б убрать отсюда министерства и присутствия, размышлял Матвей Бенционович, Питер и помягчел бы, и помилел, сделался бы уютнее для жителей. И потом, что это за место для столицы – на самом краешке гигантской империи? Вот Россию от этого флюса и перекашивает на сторону. На восток бы перевести вместилище власти, да не в Москву, которая и так не пропадет, а куда-нибудь в Уфу или Екатеринбург. Глядишь, государственный корабль и выровнялся бы, перестал бортами зачерпывать воду.
Впрочем, нельзя сказать, чтобы Матвей Бенционович предавался подобным монументальным думам во все время своей прогулки.
Середину дня он провел в Гостином дворе, выбирая подарки жене и детям. На это ушло несколько часов, потому что дело было хлопотное, ответственное. Не дай Бог забыть, что Анечка не терпит зеленого, Ванюша признает только игрушечные паровозы, у Машеньки чихание от шерстяных тканей, и прочее, и прочее.
Покончив с этим приятным, но утомительным занятием, прокурор устроил себе маленький праздник: прошелся по лавкам, воображая, какой бы гостинец он купил Пелагии, если бы она была не монахиня и если бы их отношения позволяли ему преподносить ей подарки. Несбыточные мечты повлекли статского советника в парфюмерный ряд, оттуда заставили повернуть в галантерейный, и опомнился он лишь в отделе кружевного dessous. Вспыхнул до корней волос и поскорей вышел на улицу, остудиться сырым балтийским ветром.
День клонился к вечеру. Пора было подготовиться к приезду Долинина.
Согласно адресной книге, господин член министерского совета проживал в доме Шольца по Загородному проспекту. Матвей Бенционович посмотрел на здание (обычный доходный дом в четыре этажа, квартира генерала на втором), определил окна.
Снял комнату в номерах «Гельсингфорс», расположенных очень удобно – почти напротив.
А тут потихоньку и стемнело. Скоро ехать на Николаевский вокзал.
* * *
С извозчиком Бердичевскому исключительно повезло. Номер 48-36 оказался парнем молодым, понятливым. Когда уяснил, что от него требуется, глаза так и загорелись, даже забыл о цене поторговаться.
Московский поезд прибыл вовремя. С Долининым прокурор в Заволжске виделся и даже разговаривал, потому глаза мозолить не стал, подождал за газетным киоском, пока Сергей Сергеевич пройдет мимо, и пристроился сзади.
Никто действительного статского не встречал – увы. А Бердичевскому рисовалась какая-нибудь таинственная карета и еще рука, которая приоткроет дверцу навстречу инспектору. Не просто рука, а с каким-нибудь особенным перстнем и непременно в мундирном рукаве с золотым шитьем.
Ничего этого не было, ни руки, ни кареты. Долинин скромненько взял извозчика, пристроил рядом свой неказистый саквояж, да и поехал себе.
Номеру 48-36 объяснять второй раз не понадобилось – он взял с места еще до того, как к нему подбежал Бердичевский. Прокурор вскочил на ходу и только шепнул: «Не жмись к нему, не жмись».
Извозчик соблюдал идеальную дистанцию, шагов этак в сто, пропускал вперед себя два-три экипажа, но не больше, чтоб не слишком заслоняли.
На Невский коляска с Долининым не поехала, свернула на Литовскую улицу. Похоже, домой, разочаровался Матвей Бенционович. Так и есть – повернул на Звенигородскую.
У дома Шольца пришлось какое-то время подождать.
В окнах долининской квартиры сначала загорелся свет, потом погас – остался только в одном. Готовится ко сну, пишет отчет? Или переодевается, чтсбы отправиться куда-нибудь среди ночи?
Прокурор не знал, как быть. Торчать, что ли, здесь до утра?
Ну, по крайней мере до тех пор, пока горит свет. Вдруг Долинин ждет позднего посетителя?
Но свет в последнем окне погорел сорок две минуты и потух.
Кажется, всё же улегся.
– Это кто, шпиён? – вполголоса спросил извозчик.
Бердичевский рассеянно кивнул, прикидывая, не устроиться ли на ночлег прямо в коляске.
– Мериканской? – допытывался 48-36.
– Почему американский? – удивился прокурор.
Парень только шмыгнул носом. Черт знает, что у него делалось в голове и почему он назначил предполагаемому врагу отечества столь экзотическое подданство.
– Нет, австро-венгерский, – назвал Матвей Бенционович более правдоподобную страну. Извозчик кивнул.
– Ваше благородие, а желаете, я тут за окошками покараулю? Хоть до утра. Мы привычные, не проспим. А чего? Овес у меня в торбе есть. И возьму недорого. Три рублика. Два с полтинничком, а?
Было видно, что ему ужасно хочется покараулить австрийского шпиона. Главное, идея была очень даже недурна. Да и цена божеская.
– Ладно. Я буду вон в тех номерах. Видишь окно? Угловое, на первом этаже? Если он куда или к нему кто, даже если просто вдруг зажжется свет – сразу дай мне знать. – Бердичевский задумался. – Только вот как?
– Свистну, – предложил 48-36. – Я по-особенному умею, как Соловей-разбойник.
Сложил пальцы колечком и оглушительно свистнул – аж лошади присели, из двери «Гельсингфорса» высунулся швейцар, а с двух сторон откликнулись дальние свистки городовых.
– Нет, свистеть не надо, – сказал прокурор, вжимаясь в сиденье и испуганно глядя на долинин-ские окна – не дрогнет ли штора. – Ты лучше подбеги и камешек брось.
Лег в кровать не раздеваясь и не разуваясь. Отхлебнул купленного в Гостином дворе мозельского – из горлышка, но немного. Не хватало еще в зрелом возрасте втянуться в пьянство.
Лежал, закинув руку за голову. Время от времени прикладывался к бутылке. Думал то о Маше, то о Пелагии. Обе женщины, совершенно друг на друга не похожие, непонятным образом сливались в одно существо, от нежности к которому у Матвея Бенционозича на глазах выступили слезы.
* * *
Проснулся Бердичевский от прозрачного, неземного звука и не сразу сообразил, что это такое. Лишь когда в окно ударил второй камешек – и сильно, так что стекло треснуло, – прокурор заполошно вскочил и спросонья заметался по комнате.
В номере было светло. Утро.
Матвей Бенционович рванул раму, высунулся.
У тротуара ждала пролетка.
– Скорей, барин, скорей! – махнул рукой 48-36. – Сигайте, не то уйдет!
Статский советник так и поступил – схватил сюртук и шляпу, да и «сиганул» прямо через подоконник. Отшиб ноги, зато сразу проснулся.
– Где? – выдохнул он.
– За угол повернул! – Извозчик хлестнул лошадь. – Ничего, враз догоним!
Бердичевский выдернул из кармана часы. Половина восьмого. Что-то рановато Сергей Сергеевич на службу собрался.
Сон как рукой сняло, в груди прокурора восхитительно запузырился азарт погони.
– Вон она! – показал 48-36.
Впереди катила закрытая черная карета казенного вида из тех, что обыкновенно возят на службу чиновников генеральского звания.
Она повернула на Забалканский, немного проехала по набережной, но поворот на Измайловский проспект миновала.
Ага, не на службу! Канцелярия министерства-то на Морской!
– Ночью что? – отрывисто спросил Бердичевский.
– Ничего, ваше благородие. Я ни минуточки не спал, вы не думайте.
– На-ка.
Сунул не два с полтиной и даже не три, а четыре, за усердие. Но извозчик не посмотрел, сколько дают, – просто положил деньги в карман. Тебе бы, братец, в сыскное, подумал Матвей Бенционович. Отличный бы агент получился.
Карета проехала по набережной Фонтанки, через мост выкатила на Екатерингофский и вскоре остановилась около дома с большими окнами.
– Что это?
– Гимназия, ваше благородие.
А Матвей Бенционович уже и сам узнал. Точно, гимназия. Кажется, пятая мужская. Что Долинину может там быть нужно?
Сергей Сергеевич из экипажа не вышел, да еще шторки задвинул.
Любопытно.
Ничего примечательного около гимназии не происходило. Высокая дверь то и дело открывалась, впуская учеников и преподавателей. Служитель снял фуражку и низко поклонился, приветствуя какого-то надутого господина – директора или, может, инспектора.
Один раз Бердичевскому показалось, что занавеска чуть дрогнула, но через полминуты была задернута обратно, а еще секунду спустя экипаж тронулся с места.
Что за оказия? Зачем Долинин приехал сюда в такую рань? Не на детей же смотреть?
Именно что на детей, сообразил вдруг Матвей Бенционович. Вернее, на одного из них. Пелагия говорила, что жена при разводе забрала у Сергея Сергеевича сына.
Ровным счетом ничего таинственного. Родитель был в отъезде, соскучился. Сам сыну на глаза не показывается – то ли обещание такое дал, то ли от гордости, а может быть, не хочет терзать мальчика, привыкающего к новому отцу.
Казалось бы, ничего особенного, обычный человеческий поступок, но Бердичевский был озадачен. Как-то не ожидаешь обычных человеческих поступков от злодея, который нанимает убийц и проливает невинную кровь.
Или Долинин никакой не злодей?
Вроде бы не восемнадцать лет было прокурору, жизнь и служба могли бы научить, что не все злодеи так черны, как граф Чарнокуцкий, а все же Матвей Бенционович пришел в смущение – никак не предполагал, что в изверге, задумавшем погубить Пелагию, может быть что-то человеческое.
«Что ж, и гадюка любит своих гаденышей», – пробормотал статский советник, изгоняя неуместное сомнение.
Город окончательно пробудился. Улица наполнилась экипажами, по тротуарам деловито вышагивала непраздная утренняя толпа.
Дистанцию до объекта слежки пришлось сократить, иначе можно было и отстать.
Перед Мариинским дворцом именно это и произошло. Полицейский регулировщик махнул рукой, остановив движение, и черная карета укатила в сторону конного памятника Николаю Первому, а Бердичевский застрял на мосту. Он уж хотел броситься вдогонку бегом, но это привлекло бы внимание: приличный господин неюных лет несется по мостовой, придерживая шляпу.
Извозчик привстал на козлах, а потом и возсе влез с ногами на сиденье.
– Что, на Морскую повернул? – нетерпеливо спросил прокурор.
– Нет, прямо покатил, к Исаакию!
Опять не на службу, не в министерство!
Наконец движение восстановилось.
48-36 стегнул лошадь, ловко обошел фиакр, срезал нос четырехконной маршрутке и через минуту уже грохотал по Сенатской площади.
Вдруг натянул поводья, затпрукал.
– Ты что?!
Парень мотнул головой в сторону. Навстречу неспешно ехала знакомая черная карета. Занавеска на окошке отодвинута. Внутри никого.
Сошел! Но где?
Справа – площадь и памятник Петру. Впереди – Нева. Высадить седока на Английской набережной и вернуться обратно карета не успела бы.
Значит, Долинин вошел в одно из массивных присутствий, расположенных слева, между бульваром и набережной: или в Правительствующий Сенат, или в Святейший Синод. Скорее всего в Сенат, высший судебный орган империи. Что следователю делать в Синоде?
– Ваше благородие, куда теперь? – спросил извозчик.
– Жди вон там, – показал Бердичевский на решетку сквера.
К кому в Сенате отправился Долинин, едва вернувшись из служебной поездки? Человек, которого он навестил раньше, чем собственное начальство, наверняка является во всей этой зловещей конспирации ключевой фигурой.
Вот что нужно сделать! Подойти к дежурному чиновнику, что ведет запись посетителей, и сказать: «К вам должен пожаловать действительный статский советник Долинин из Министерства внутренних дел, Он забыл важные бумаги, я его подожду, чтобы передать». Чиновник скажет: «Его превосходительство уже прибыл, он у такого-то». А если сам не скажет, к кому отправился Долинин, так можно и спросить. Нахально, конечно, но зато сразу всё выяснится.
Или лучше обождать и продолжить слежку?
Из мучительных колебаний прокурора вывело чье-то деликатное покашливание.
Вздрогнув, Матвей Бенционович обернулся. Рядом стоял важного вида швейцар – в треугольной шляпе, мундире с галунами и белых чулках. Просто не швейцар, а фельдмаршал. Разглядывая здание Сената, Бердичевский и не заметил, как этот истукан к нему приблизился.
– Ваше высокородие, вас просят пожаловать, – сказал швейцарский фельдмаршал почтительно, но в то же время и строго, как умеют говорить только служители, состоящие при самом Олимпе власти.
Бердичевский опешил.
– Кто просит?
– Да уж просят, – произнес привратник так внушительно, что прокурор больше ни о чем спрашивать не стал.
– Барин, ждать? – крикнул 48-36.
– Жди.
Матвей Бенционович до такой степени настроился идти в Сенат, расположенный ближе к набережной, что не сразу сообразил, в чем дело, когда сопровождающий тактично тронул его за рукав.
– Сюда пожалуйте, – показал он на подъезд Святейшего Синода.
Дежурному регистратору, сидевшему у входа и лениво отгонявшему мух, швейцар важно обронил:
– К Константину Петровичу. Ожидают.
И с поклоном пригласил Бердичевского проследовать к лестнице.
К Константину Петровичу?
Ах... ах, тупица!
Матвей Бенционович остановился и пребольно хлопнул себя по лбу – в наказание за слепоту и непроницательность.
Привратник обернулся на звук.
– Мушку прихлопнули? Беда от них. Расплодились – страсть.
Сомысленники и единодушники
Провожатый сдал притихшего Матвея Бенционовича пожилому чиновнику, который ожидал на нижней ступеньке. Тот коротко поклонился, но представляться не стал. Жестом предложил следовать за ним.
В приемной великого человека, которого считали могущественнейшей персоной в империи – не столько даже по должности, сколько по духовному влиянию на государя, – ожидало десятка полтора посетителей: были здесь и генералы в парадных мундирах, и два архиерея при орденах, однако имелась публика и попроще – дама с красными, заплаканными глазами, взволнованный студент, молодой офицерик.
Чиновник подошел к секретарю и произнес те же магические слова:
– К Константину Петровичу. Ожидают.
Секретарь внимательно взглянул на Бердичевского, выпорхнул из-за стола и исчез за высокой белой дверью. Полминутки спустя снова появился.
– Просят пожаловать...
Не придумав, куда деть шляпу, Матвей Бенционович решительно положил ее на секретарский стол. Раз уж ему такой почет, что без очереди впускают, то пускай и шляпе окажут уважение.
Закусил нижнюю губу, пальцы правой руки непроизвольно сжались в кулак.
Вошел.
В дальнем конце необъятного кабинета, подле гигантских размеров стола сидели двое. Один лицом к Бердичевскому, и хоть Матвей Бенционович обер-прокурора раньше вживую не видел, сразу узнал по портретам аскетичное лицо, строго сдвинутые брови и несколько оттопыренные уши.
Второй, в расшитом золотом статском мундире, расположился в кресле и на вошедшего взглянул не сразу. Когда же обернулся, то не долее чем на мгновение. Потом вновь отворотил лицо к Победину.
Константин Петрович, известный своей старомодной петербургской учтивостью, поднялся со стула. Вблизи обер-прокурор оказался высоким и прямым, с иссохшим лицом, со впалыми глазами, которые светились умом и силой. Глядя в эти удивительные глаза, Бердичевский вспомнил, что недоброжелатели называют обер-прокурора Великим Инквизитором. Око и неудивительно – похож.
Долинин (а в кресле сидел, разумеется, он) не встал – наоборот, демонстративно глядел в сторону, будто показывая, что не имеет к происходящему никакого отношения.
Мягким, звучным голосом Константин Петрович произнес:
– Удивлены, Матвей Бенционович? Вижу, что удивлены. А зря. Сергей Сергеевич – слишком дорогой для России человек, чтобы оставлять его без защиты и присмотра. Знаю, всё знаю. Мне докладывали. И о вчерашней слежке, и о сегодняшней. Вчера вас беспокоить не стали – нужно было выяснить, что вы за птица. А сегодня, когда выяснилось, задумал с вами поговорить. Начистоту, по душам. – Победин приязненно и даже сочувственно улыбнулся тонкими сухими губами. – Нам с Сергеем Сергеевичем понятна причина, побудившая вас заняться самопроизвольным расследованием. Человек вы умный, энергичный, храбрый – всё равно докопались бы, не сегодня, так завтра. Вот я и решил вызвать вас сам. Так сказать, для встречи с открытым забралом. Не к лицу мне прятаться-то. Вы, поди, господина Долинина каким-нибудь ужасным злодеем вообразили или заговорщиком?
Матвей Бенционович на это ничего не ответил, только опустил голову, но взгляд при этом опускать не стал – в общем, что называется, набычился.
– Прошу вот сюда, напротив Сергея Сергеевича, – пригласил садиться обер-прокурор. – Не бойтесь, он никакой не злодей, да и я, его наставник и руководитель, тоже никому зла не желаю, что бы ни врали про меня господа либералы. Знаете, Матвей Бенционович, кто я? Я слуга и печальник народа. А что до чудовищного заговора, который вам наверняка померещился, то признаюсь честно: есть, есть заговор, но отнюдь не чудовищный, а священный, ставящий целью спасение Родины, Веры и Престола. Из тех, знаете, заговоров, в которых должны участвовать все верующие, добрые и честные люди.
Бердичевский открыл рот, чтобы сказать: большинство заговоров, в том числе и чудовищных, преследуют какую-нибудь священную цель вроде спасения Родины, однако Константин Петрович властно поднял ладонь:
– Погодите, ничего пока не говорите и ни о чем не спрашивайте. Прежде я должен многое вам объяснить. Для великой задачи, которую я назвал, мне нужны помощники. Подбираю их год за годом – по крупице, по золотнику, уже много лет. Люди это верные, мои единодушники. А они тоже подбирают себе помощников, из числа людей полезных. Как мне докладывали, именно по следу такого полезного человекавы и направили свое расследование. Как, бишь, его звали?
– Рацевич, – впервые разомкнул уста Сергей Сергеевич.
Сидя прямо напротив заволжца, он каким-то чудом умудрялся все же на него не смотреть. Лицо у Долинина было хмурое, отсутствующее.
– Да-да, благодарю. Идя по следу этого Рацевича, вы, господин Бердичевский, вышли на Сергея Сергеевича, одного из моих помощников – недавно приобретенного, но уже превосходно себя зарекомендовавшего. И знаете, что я вам скажу?
Матвей Бенционович не стал отвечать на риторический вопрос, тем более что он понятия не имел, какое направление может принять эта поразительная беседа.
– Я верю в Провидение, – торжественно объявил Победин. – Это Оно привело вас к нам. Я сказал Сергею Сергеевичу: «Можно этого прокурора, конечно, истребить, чтобы не принес вреда нашему делу. Но поглядите на его поступки. Этот Бердичевский действует как человек целеустремленный, умный, бескорыстный. Разве не таков набор драгоценных качеств, какие мы с вами ценим в людях? Давайте я поговорю с ним, как добрый пастырь. Он посмотрит в глаза мне, я ему, и очень может статься, что у нас появится еще один сомысленник».
При слове «истребить» Бердичевский чуть вздрогнул и остаток речи обер-прокурора слушал не очень внимательно – в голове задергалась паническая мыслишка: сейчас, в эту самую минуту решается твоя судьба.
Кажется, Константин Петрович понял скованность собеседника не совсем верно.
– Вы, должно быть, слышали, будто я юдофоб, враг евреев? Неправда это. Я далек от того, чтобы сортировать людей по национальности. Я враг не евреям, а еврейской вере, потому что она – ядовитый плевел, произрастающий из одного с христианством корня и во сто крат опаснейший, нежели мусульманство, буддизм или язычество. Худший из врагов не тот, кто чужд, а тот, кто тебе родня! И потому еврей, который подобно вам отринул ложную веру отцов и принял Христа, мне дороже русского, обретающегося в лоне истинной веры по милости рождения. Однако я вижу, что вы хотите меня о чем-то спросить. Теперь можно. Спрашивайте.
– Ваше высокопревосходительство... – начал Матвей Бенционович, стараясь справиться с дрожанием голоса.
– Константин Петрович, – мягко поправил его обер-прокурор.
– Хорошо... Константин Петрович, я не вполне понял про заговор. Это в фигуральном смысле или же...
– В самом что ни на есть прямом. Только обычно заговор устраивают для свержения существующего строя, а мой заговор существует для его спасения. Наша с вами страна висит на краю бездны. Не удержится, ухнет в пропасть – всему конец. Тянет ее, многострадальную, к погибели могучая сатанинская сила, и мало тех, кто пытается этой напасти противостоять. Разобщенность, падение нравственности, а пуще всего безверие – вот гоголевская тройка, что несет Россию к обрыву, и близок он, воистину близок! Пышет оттуда огнь и сера!
Переход от мягкоречивой рациональности к пророческому пафосу произошел у Константина Петровича естественно, безо всякой натужности. Обер-прокурор несомненно обладал незаурядным даром публичного оратора. Когда же страстный взгляд неистовых глаз и весь заряд духовной энергии устремлялся на одного-единственного слушателя, сопротивляться этому натиску было невозможно. А ему и не нужно выступать перед толпами, подумал Бердичевский. Ему достаточно аудитории из одного человека, ибо человек этот – самодержец всероссийский.
И стало Матвею Бенционовичу поневоле лестно. Как это сам Победин тратит на него, мелкую сошку, весь пыл и жар своей государственной души?
Пытаясь все жене поддаться обер-прокуророву магнетизму, статский советник сказал:
– Простите, но я не понимаю вот чего... – Он сбился и начал сызнова – тут нужно было очень осторожно выбирать слова. – Если выстроенная мною версия верна, то причина всех случившихся... деяний господина Долинина – намерение во что бы то ни стало уничтожить сектантского пророка Мануйлу. Для того чтобы достичь этой цели, а также замести следы, господин действительный статский советник не остановился ни перед чем. Понадобилось устранить ни в чем не повинную монахиню – пожалуйста. Даже крестьянскую девочку не пожалел!
– Что еще за девочка? – прервал его Победин, недовольно взглянув на Сергея Сергеевича. – Про монахиню знаю, про девочку – ничего.
Долинин отрывисто ответил:
– Это Рацевич. Профессионал, но увлекающийся, к тому же оказался с гнильцой. Я уже говорил: это была моя ошибка, что я привлек его к нашему делу.
– Ошибки могут случаться с каждым, – вздохнул обер-прокурор. – Господь простит, если заблуждение было искренним. Продолжайте, Матвей Бенционович.
– Так вот, я хотел спросить... Что в нем такого особенного, в этом мошеннике Мануйле? Почему ради него понадобились все эти... всё это?
Константин Петрович кивнул и очень серьезно, даже торжественно произнес:
– Вы и в самом деле умнейший человек. Прозрели самую суть. Так знайте же, что субъект, о котором вы упомянули, заключает в себе страшную опасность для России и даже более того – для всего христианства.
– Кто, Мануйла? – поразился Бердичевский. – Полноте, ваше высокопревосходительство! Не преувеличиваете ли вы?
Обер-прокурор грустно улыбнулся.
– Вы еще не научились верить мне так, как верят мои единодушники. Я могу ошибаться или умом, или сердцем, но никогда и тем, и другим сразу. Это дар, ниспосланный Господом. Это мое предназначение. Верьте мне, Матвей Бенционович: я вижу дальше других людей, и мне открывается многое, что от них закрыто.
Победив смотрел Бердичевскому прямо в глаза, чеканил каждое слово. Заволжский прокурор слушал как завороженный.
– Всякий, кого касается Мануил, заражается смертельной болезнью неверия. Я сам говорил с ним, почувствовал эту обольстительную силу и спасся одной лишь молитвой. Знаете, кто он? – перешел вдруг на страшный шепот Константин Петрович.
– Кто?
– Антихрист.
Слово было произнесено тихо и торжественно.
Бердичевский испуганно моргнул.
Вот тебе на! Самый влиятельный человек в государстве, обер-прокурор Святейшего Синода – сумасшедший. Бедная Россия!
– Я не сумасшедший и не религиозный фанатик, – словно подслушал его мысли обер-прокурор. – Но я верую в Бога. Давно знал, что грядет Нечистый, давно его ждал – по всем объявленным приметам. А он, оказывается, уже здесь. Невесть откуда взялся, бродит по Руси, принюхивается, приглядывается, ибо спешить ему некуда – дано ему три с половиной года. Сказано ведь в Иоанновом Откровении: «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира».
Эти грозные и смутные слова взволновали Матвея Бенционовича. Победин уже не казался ему безумцем, однако и поверить в то, что жалкий проходимец Мануйла – тот самый апокалиптический Зверь, было невозможно.
– Знаю, – вздохнул Константин Петрович. – Вам, человеку практического ума, поверить в такое трудно. Одно дело про Антихриста в духовной литературе читать, и совсем другое – представить его среди людей, в наш век пара и электричества, да еще в России. А я вам вот что скажу, – вновь воспламенился обер-прокурор. – Именно в России! В том и смысл, и предназначение нашей страны, что ей предписано стать полем битвы между Светом и Тьмой! Зверь выбрал Россию, потому что это особенная страна – она, несчастная, дальше всех от Бога, а в то же время всех прочих стран к Нему ближе! И еще оттого, что давно уже идет у нас шатание – и порядка, и веры. Наша держава – слабейшее из звеньев в цепи христианских государств. Антихрист увидел это и приготовил удар. Мне ведомо, что это будет за удар, – он сам мне признался. Вам с Сергеем Сергеевичем про то знать не надобно, пусть уж на мне одном будет тяжесть знания. Скажу лишь одно: это удар, от которого наша вера не оправится. А что Россия без веры? Дуб без корней. Башня без фундамента. Рухнет и рассыплется в прах.
– Антихрист? – нерешительно повторил Бердичевский.
– Да. Причем не иносказательный, вроде Наполеона Бонапарта, а самый что ни на есть настоящий. Только без рогов и хвоста, с тихой, душевной речью и ласкательным взором. Я чувствую людей, знаю их. Так вот, Мапуил – не человек.
От того, как просто, буднично была произнесена эта фраза, по спине Матвея Бенционовича пробежали мурашки.
– А сестра Пелагия? – слабым голосом проговорил он. – Разве она в чем-то виновата?
Обер-прокурор сурово сказал:
– В любом государстве существует институт смертной казни. В христианских странах она применяется в двух случаях: когда некто нанес тяжкое оскорбление человечности или же являет собой серьезную опасность для общества. В первом случае это отпетые уголовники, во втором – разрушители устоев.
– Но Пелагия не убийца и не революционерка!
– И тем не менее она представляет собой огромную опасность для нашего дела, а это еще хуже, чем оскорбление человечности. Оскорбление можно простить, это нам и Христос велел. – Тут лицо Победина отчего-то дернулось, но он тут же совладал с собой. – Можно и даже должно помиловать жестокого, но раскаявшегося убийцу. Однако не уничтожить человека, пускай полного благих намерений, но представляющего собой угрозу для всего мироустройства, – преступление. Это все равно что врач не отсечет гангренозный член, от которого смертоносная гниль перекинется на все тело. Таков высший закон общины: пожертвовать одним ради спасения многих.
– Но вы могли бы с ней поговорить, как говорите сейчас со мной! – воскликнул Матвей Бенционович. – Она умнейшая, искренне верующая женщина, она бы вас поняла!
Обер-прокурор взглянул на Долинина. Тот поднял лнцо – застывшее, мрачное – и покачал головой:
– Я сразу почувствовал, что она опасна. Не отпускал ее от себя, присматривался. Уже понял: слишком умна, непременно докопается, а всё медлил... Я знаю эту породу. Такие не отступятся от ребуса, пока его не решат. И она уже близка к разгадке.
– С вами, Матвей Бенционович, договориться можно, потому что вы мужчина и умеете за частностями видеть главное, – подхватил Константин Петрович. – Женщина же не поймет меня никогда, потому что для нее частность важнее Цели. Вы и я пожертвуем одним человеком ради спасения тысяч и миллионов, даже если этот человек нам бесконечно дорог и если сердце будет истекать кровью. Женщина же никогда на такое не пойдет, и миллионы погибнут вместе с тем несчастным, кого она пожалела. Я видел вашу Пелагию и знаю, что говорю. Она молчать не захочет и не сможет. Мне очень жаль, но она приговорена, ничто ее не спасет. Над ней уже занесена десница. Я скорблю об этой незаурядной женщине, а Сергей Сергеевич еще более меня, потому что успел ее полюбить.
Бердичевский с ужасом посмотрел на Долинина, но у того на лице не дрогнул ни единый мускул.
– Будем скорбеть по ней вместе, – закончил обер-прокурор. – И пусть утешением нам будет то, что она упокоится в Святой Земле.
От отчаяния Матвей Бенционович чуть не застонал. Знают, всё знают!
– Да, знаем, – кивнул Константин Петрович, кажется, владевший искусством понимать собеседника без слов. – Она пока жива, потому что так нужно. Но скоро, очень скоро ее не станет. Увы, иного выхода нет. Иногда собрание единодушников с горечью и болью принимает подобные тягостные решения – даже если речь идет не о простой инокине, а о людях куда более заслуженных.
Бердичевскому вспомнились давние слухи о скоропостижной смерти молодого генерала Скобелева, якобы приговоренного тайной монархической организацией под названием «Священная Дружина».
– «Священная Дружина»?..– неуверенно выговорил он.
Победин поморщился:
– У нас нет названия. А «Священная Дружина» была ребячеством, глупой затеей придворных честолюбцев. Мы же не честолюбивы, хотя каждый из моих помощников назначается на видное место, где может принести родине максимум пользы. Я устрою и вашу судьбу, можете в этом быть уверены, но я хочу, чтобы вы примкнули к нам не из карьерных видов, а по убеждению... Вот что. – Обер-прокурор пристально посмотрел на статского советника, и Бердичевский поежился под этим пронизывающим взглядом. – Я вам расскажу то, что известно лишь самому близкому кругу моих друзей. Нами разработан план чрезвычайных мер на случай, если опасность революционного взрыва станет слишком серьезной. Вся беда в том, что власть и общество по-детски беспечны. Люди склонны недооценивать угрозу, которой чреваты теории и идеи. До тех пор, пока не прольется кровь. Что ж, мы откроем обществу глаза! Мы перехватим инициативу! Сейчас в России язва терроризма выжжена каленым железом, но это временное облегчение. Когда новая волна революционного насилия станет неотвратимой, мы опередим ее. Начнем террор сами.
– Будете убивать революционеров?
– В этом нет смысла. Так мы лишь вызовем к ним сочувствие. Нет, мы убьем кого-нибудь из почтенных сановников. Если понадобится, не одного. И выдадим это за начало революционного террора. Выберем достойного, уважаемого человека – такого, чтобы все ужаснулись... Погодите, Матвей Бенционович, не вздрагивайте. Я еще не всё вам сказал. Будет мало убийства министра или генерал-губернатора, устроим взрывы на вокзалах, в жилых домах. С множеством невинных жертв. Чудовищная провокация, скажете вы. Да, отвечу я вам. Чудовищная и отвратительная. А «Революционный катехизис» Нечаева вы читали? Наши враги дозволяют себе и провокации, и жестокость. Значит, и мы имеем право воспользоваться тем же оружием. Молю Бога, чтоб до этого не дошло. – Победин истово перекрестился. – А чтоб вы не считали меня адским исчадием, скажу вам еще кое-что... До того как начнутся взрывы, убит будет еще один весьма высокопоставленный сановник, которого почитает и слушает сам государь. К сожалению, слушает недостаточно...
– Вы?! – ахнул Бердичевский.
– Да. И это не худшая из жертв, которую я готов принести ради человечества! – с болью воскликнул Константин Петрович, и из его глаз потекли слезы. – Что такое отдать свою жизнь? Пустяк! Я же приношу в жертву нечто куда более драгоценное – свою бессмертную душу! Вот наивысшая цена, которую, в случае необходимости, обязан заплатить вождь человеческий ради счастия людей! Что ж я, по-вашему, не понимаю, какое проклятье на себя беру? Нет служения жертвенней, чем мое. Я скажу ужасную, даже кощунственную вещь: моя жертва выше, чем Иисусова, ибо Он-то Свою душу сберег. Иисус призывал возлюбить ближнего, как самого себя, я же люблю ближних больше,чем себя. Ради них я не пожалею и своей бессмертной души... Да, приказывая убивать невинных, но опасных для нашего дела людей, я гублю свою душу! Но ведь это ради любви, ради правды, ради други своя!
Глаза обер-прокурора в эту минуту смотрели уже не на Бердичевского, а вверх – на потолок, посередине которого мерцала величественная хрустальная люстра.
Это он не мне говорит, а Господу Богу, понял Матвей Бенционович. Стало быть, всё же надеется на Его прощение.
Константин Петрович вытер платком слезы и сказал Бердичевскому – сурово и непреклонно, на «ты»:
– Если готов идти со мной по этому крестному пути – подставляй плечо под крест и пойдем. Не готов – отойди, не мешай! Так что? Остаешься или уходишь?
– Остаюсь, – тихо, но твердо ответил Бердичевский после самой короткой паузы.
Прогулка его превосходительства
Из здания Святейшего Синода Матвей Бенционович вышел час спустя – и уже не статским советником, а особой четвертого, генеральского класса. Производство свершилось с фантастической легкостью и быстротой. Константин Петрович протелефонировал министру юстиции, поговорил с ним не долее трех минут, потом связался с Дворцом, где имел беседу с Таким Собеседником, что у Бердичевского вспотели ладони. «Ценнейший для государства человек, на полное мое ручательство» – вот какие слова были сказаны про безвестного заволжца. И кому сказаны!
Другие чиновники, даже выслужив полный срок производства, ожидают утверждения долгие месяцы, а тут всё решилось в мгновение ока, и даже указ должен был воспоследовать нынче же, сегодняшним числом.
Матвею Бенционовичу было обещано в самом скором времени назначение на ответственную должность. Пока же обер-прокурор подберет новому сомысленнику достойное поприще (на это понадобится неделька-другая), Бердичевскому предписывалось быть в столице. В Заволжск возвращаться Константин Петрович не советовал. «К чему вам лишние объяснения с вашим духовным отцом? – сказал он, лишний раз продемонстрировав исчерпывающую осведомленность. – Заволжского губернатора известят депешей, вашу семью переправят. Через день-два министерство предоставит вам казенную квартиру, при полной меблировке, так что заботиться о бытоустройстве не нужно».
А его новоиспеченное превосходительство о бытоустройстве и не заботился.
Бердичевский вышел из Синода на площадь. Зажмурился на яркое солнце, надел шляпу.
У решетки ждала коляска. 48-36 пялился на борца с австро-венгерским шпионажем, ждал знака. Поколебавшись, Матвей Бенционович подошел к нему, лениво сказал:
– Прокати-ка меня, братец,
– Куда прикажете?
– Право, не знаю, да вот хоть по набережной.
Вдоль Невы катилось просто замечательно. Солнце, правда, спряталось за тучи, и с неба брызнул мелкий дождик, но седок поднял кожаный верх и заслонился им от внешнего мира. Потом снова просветлело, и верх был спущен обратно.
Его превосходительство ехал себе, улыбался небу, реке, солнечным зайчикам, прыгавшим по стенам домов.
– Поворачивай на Мойку, – велел он. – Или нет, постой. Лучше пройдусь. Тебя как звать? Второй день ездим, а так и не спросил.
– Матвей, – сказал извозчик.
Бердичевский удивился, но несильно, потому что за нынешне утро успел существенно поистратить способность к удивлению.
– Грамотный?
– Так точно.
– Молодец. Держи-ка вот за труды.
Сунул в широкий карман извозчичьего кафтана несколько бумажек.
Возница даже не поблагодарил – так расстроился.
– И всё, ваше благородие, боле ничего не нужно?
Даже голос дрогнул.
– Не «благородие», а «превосходительство», – важно сказал ему Матвей Бенционович. – Я тебя, 48-36, сыщу, когда понадобишься.
Похлопал просиявшего парня по плечу, дальше отправился пешком.
Настроение было немножко грустное, но в то же время покойное. Бог весть, о чем думал бывший заволжский прокурор, идя легким, прогулочным шагом по Благовещенской улице. Один раз, у берега Адмиралтейского канала, загляделся на бонну, гулявшую с двумя маленькими девочками, и пробормотал непонятное: «А что им, лучше будет, если папенька – подлец?»
И еще, уже на Почтамтской улице, прошептал в ответ на какие-то свои мысли: «Простенько, но в то же время изящно. Этюд Бердичевского». Весело хмыкнул.
Поднимаясь по ступенькам Почтамта, даже напевал лишенным музыкальности голосом и без слов, так что распознать мелодию не представлялось возможным.
Быстро набросал на бланке телеграммы: «Срочно разыщите П. Ее жизнь опасности. Бердичевский».
Протянул в окошко телеграфисту, продиктовал адрес:
– В Заволжск, на Архиерейское подворье, преосвященному Митрофанию, «блицем».
Заплатил за депешу рубль одиннадцать копеек.
Вевнувшись на улицу, его превосходительство немного постоял на ступеньках. Тихонько сказал:
– Что ж, прожито. Можно бы и подостойней, но уж как вышло, так вышло...
Видно, Матвею Бенционовичу очень хотелось с кем-нибудь поговорить, вот он за неимением собеседника и вступил в диалог с самим собой. Но проговаривал вслух не всё, а лишь какие-то обрывки мыслей, без очевидной логической связи.
Например, пробормотал:
– Рубль одиннадцать копеек. Ну и цена. – И тихо рассмеялся.
Посмотрел налево, направо. На улице было полно прохожих.
– Прямо здесь, что ли? – спросил неизвестно кого Бердичевский.
Поежился, но тут же сконфуженно улыбнулся. Повернул направо.
Следующая реплика была еще более странной:
– Интересно, дойду ли до площади?
Неспеша двинулся в сторону Исаакиевского собора. Сложил на груди руки, стал любоваться посверкивающей брусчаткой, медным блеском купола, кружащей в небе голубиной стаей.
Прошептал:
– Merci. Красиво.
Казалось, Матвей Бенционович чего-то ждет или, может, кого-нибудь поджидает. В пользу этого предположения свидетельствовала и следующая произнесенная им фраза:
– Ну, сколько можно? Это по меньшей мере невежливо.
Что именно он находил невежливым, осталось неизвестным, потому что в это самое мгновение на действительного статского советника с разбега налетел спешивший куда-то молодой человек крепкого сложения. Крепыш (он был в полосатом пиджаке), впрочем, вежливо извинился и даже придержал ойкнувшего Матвея Бенционовича за плечо. Приподнял соломенную шляпу, затрусил себе дальше.
А Бердичевский немного покачался с улыбкой на губах и вдруг повалился на тротуар. Улыбка стала еще шире, да так и застыла, карие глаза спокойно смотрели вбок, на радужную лужу.
Вокруг упавшего собралась толпа – хлопотали, охали, терли виски и прочее, а крепкий молодой человек тем временем быстро прошагал улицей и вошел в Почтамт через служебный ход.
У телеграфного пункта его ожидал чиновник почтового ведомства.
– Где? – спросил полосатый.
Ему протянули листок с телеграммой, адресованной в Заволжск.
Содержание полосатому, очевидно, было известно – читать депешу он не стал, а аккуратно сложил бумажку и сунул в карман.
XV. ПОЛНОЛУНИЕ
Близ сада и в саду
Перед Яффскими воротами Пелагия велела поворачивать направо. Старый город объехали с юга вдоль Кедронского оврага.
Справа белело надгробьями еврейское кладбище на Масличной горе, издали похожее на огромный каменный город. Полина Андреевна едва взглянула на сей прославленный некрополь, обитатели которого первыми восстанут в день Страшного Суда. Утомленной путешественице сейчас было не до святынь и достопримечательностей. Круглая луна забралась в небо уже довольно высоко, и монахиня очень боялась опоздать.
– Если через пять минут не будем, где велено, двухсот франков не получишь, – ткнула она кучера кулаком в спину.
– А жениться? – обернулся Садах. – Ты сказала «ладно».
– Сказано тебе, у меня уже есть Жених, другого не нужно. Погоняй, не то и денег не получишь.
Палестинец надулся, но лошадей все же подстегнул.
Хантур прогрохотал по мосту и повернул вправо, на улочку, уходившую резко вверх.
– Вот он, твой сад, – пробурчал Салах, показывая на ограду и калитку. – Пять минут не прошло.
С сильно бьющимся сердцем смотрела Полина Андреевна на вход в священнейший из всех земных садов.
На первый взгляд в нем не было ничего особенного: темные кроны деревьев, за ними торчал купол церкви.
Эммануил уже там или еще нет?
А может быть, она вообще ошиблась?
– Подожди здесь, – шепнула Пелагия и вошла в калитку.
Какой же он маленький! От края до края полсотни шагов, никак не больше. Посередине заброшенный колодец, вокруг него с десяток кривых, узловатых деревьев. Говорят, оливы бессмертны, во всяком случае, могут жить и две, и три тысячи лет. Значит, какое-то из этих деревьев слышало Моление о Чаше? От этой мысли сердце монахини сжалось.
А еще более стиснулось в груди, когда Пелагия увидела, что в саду кроме нее никого нет. Луна светила так ярко, что спрятаться было невозможно.
Не нужно отчаиваться, сказала себе Полина Андреевна. Может быть, я пришла слишком рано.
Она вышла обратно на улицу и сказала Салаху:
– Спустимся вон туда. Подождем.
Он отвел лошадей вниз, к дороге. Там в осыпавшейся стене образовался провал, сверху нависали густые ветви деревьев, так что разглядеть повозку можно было, только если знать, где она стоит.
Салах спросил, тоже шепотом:
– Кого ждем, а?
Она не ответила, только махнула рукой, чтоб молчал.
Странная вещь – в эти минуты Пелагия уже нисколько не сомневалась, что Эммануил придет. Но волнение от этого не ослабело, а, наоборот, усилилось.
Губы монахини шевелились, беззвучно произнося молитву: «Коль возлюбленна селения Твоя, Господи сил! Желает и скончавается душа моя во дворы Господни, сердце и плоть моя возрадоваться о Бозе живе...» Моление родилось само собой, безо всякого участия рассудка. И лишь дойдя до слов «Яко лучше день един во дворех Твоих паче тысящ: изволих приметатися в дому Бога моего паче, неже жити ми в селениих грешничих», она осознала, что произносит мольбу о перемещении из жизни земной в Вечные Селения.
Осознав, задрожала.
С чего это душа вдруг исторгла псалом, который предписан человеку, находящемуся у порога вечности?
Но прежде чем сестра Пелагия могла прочесть иную, менее страшную молитву, с дороги на горбатую улочку свернул человек в длинном одеянии и с посохом.
Это всё, что успела разглядеть монахиня, потому что в следующий миг луна спряталась за маленькое облако, и стало совсем темно.
Путник прошел близко, в каких-нибудь пяти шагах, но инокиня так и не поняла, тот ли это, кого она ждет.
Стала смотреть вслед – повернет в сад или нет.
Повернул.
Значит, он!
Тут и луна высвободилась из недолгого плена, так что Пелагия разглядела спутанные волосы до плеч, белую рубаху и темный пояс.
– Он! – воскликнула она уже вслух и хотела кинуться за вошедшим в сад, но здесь случилось непредвиденное.
Кто-то схватил ее за руку и рывком развернул.
Пелагия и Салах так сосредоточенно смотрели в спину человеку с посохом, что не заметили, как к ним подкрался еще один.
Это был мужчина устрашающего вида. Бородатый, широкоплечий, с плоским свирепым лицом. За плечом его торчал приклад карабина. На голове был повязан арабский платок.
Одной рукой незнакомец держал за шиворот Салаха, другой – за локоть Пелагию.
– Что за люди? – прошипел он по-русски. – Почему таитесь? Против негоумышляете?
Кажется, он лишь теперь разглядел, что перед ним женщина, и локоть выпустил, но зато схватил палестинца за ворот обеими руками, да так, что почти оторвал от земли.
– Русские, мы русские, – залепетал перепуганный Салах.
– Что с того, что русские! – рыкнул ужасный человек. – Еговсякие сгубить хотят, и русские тож! Зачем тут? Егоподжидали? Правду говорите, не то...
И взмахнул таким здоровенным кулачищем, что бедный палестинец зажмурился. Богатырь без труда удерживал его на весу и одной своей ручищей.
Оправившись от первого потрясения, Пелагия быстро сказала:
– Да, мы ждали Эммануила. Мне нужно с ним говорить, у меня для него важное известие. А вы... вы кто? Вы из «найденышей», да?
– «Найденыши» – это которые свою душу спасают, – с некоторым презрением молвил бородач. – А я егоспасать должон. Моя душа ладно, пускай ее... Только бы онживой был. Ты сама кто?
– Сестра Пелагия, монахиня.
Реакция на это вроде бы совершенно безобидное представление была неожиданной. Незнакомец швырнул Салаха наземь и схватил инокиню за шею.
– Монахиня! Ворона черная! Это он, кощей, тебя прислал? Он, он, кто ж еще! Говори, не то глотку разорву!
Перед лицом помертвевшей Пелагии сверкнуло лезвие ножа.
– Кто «он»? – выдохнула полузадушенная, переставшая что-либо понимать сестра.
– Не бреши, змея! Он, самый главный над вашим крапивным семенем начальник! Вы все на него шпиёните, заради него пролазничаете!
Главный над крапивным семенем, то есть над духовенством начальник?
– Вы про обер-прокурора Победина?
– Ага! – возликовал бородатый. – Созналась! Лежи! – пнул он попытавшегося сесть Салаха. – Я раз уж спас Мануилу от старого упыря, и сызнова спасу! – Широкий рот оскалился в кривозубой улыбке. – Что, поминает, поди, Кинстянтин Петрович раба божьего Трофима Дубенку?
– Кого? – просипела Пелагия.
– Неужто не сказывал тебе, как святого человека облыжно в покраже обвинил да в кутузку упек? А меня сторожить приставил. Я при Кинстянтин Петровиче сколько годов псом цепным прослужил! Так и сдох бы собакой, не поднялся бы до человеческого звания! «Ты, говорит, Трофимушка, постереги этого вора и смутьяна, он человек опасный. Нет у меня доверия к полицейским стражникам. Дозавтра постереги в участке, не давай ему ни с кем разговоры разговаривать, а утром я приказ добуду, в Шлисельбурскую крепость его перевести».
Пелагия вспомнила рассказ Сергея Сергеевича о краже у обер-прокурора золотых часов. Вот что на самом деле-то произошло! Не было никакой кражи, и не отпускал великодушный Константин Петрович мнимого воришку, а совсем напротив. Усмотрел многоумный обер-прокурор в бродячем пророке какую-то нешуточную для себя опасность. Для начала засадил в полицейский участок и приставил своего подручного, а потом озаботился бы и поосновательней упечь – побединские возможности известны.
– Вы Эммаунилу с другими стражниками разговаривать не позволили, а сами с ним поговорили, да? – произнесла сестра с интонацией не вопросительной, а утвердительной. – Пустите, пожалуйста, горло. Я вам не враг.
– Поговорил. Никогда в жизни со мной никто так не говаривал. Уж на что Кинстянтин Петрович языком плести мастер, а только его слова против Мануйлиных – одна шелуха.
Пальцы Трофима Дубенко остались на шее монахини, но уже не сжимали так сильно, да и рука с ножом опустилась.
– И вы вывели арестанта из полицейского участка? Но как вам это удалось?
– А просто. По ночному времени там у дверей всего один мундирный сидел. Стукнул его кулаком по загривку, и вся недолга. А потом говорю Мануйле: на край света за тобой пойду, потому что ты постоять за себя не умеешь. Пропадешь один, а тебе жить должно, с человеками разговаривать. Только не взял он меня. Не нужно, говорит, и не положено. Один я должон. А за меня, говорит, не бойся – меня Бог обережет. Ну, не хочет – я насильно вязаться не стал. С ним не пошел, а заним пошел. Куды он, туды и я. Бог, он то ли обережет, то ли нет, а Трофим Дубенко точно в обиду не даст. Который месяц за Мануйлой хожу. По Расее-матушке, по морю-океану, по Святой Земле. Он человек блаженный, никакой подозрительности в нем нету. Веришь ли – чуть не полземли за ним прошел, а ему невдомек. Только на глаза ему не лезь, вот и вся хитрость. Он знаешь, как ходит? Никогда назад не оглянывается. Идет себе, палкой отмахивает. Даже под ноги не глядит. Только вперед или вверх, на небо. Еще, правда, по сторонам башкой крутить любит. Одно слово – блаженный.
В голосе Мануйлиного телохранителя звучали нежность и восхищение, а Пелагия вдруг вспомнила про «чудо Господне», о котором рассказывала Малке.
– Скажите, а это вы в Иудейских горах разбойника-бедуина убили?
– С саблей-то который? Я. Вот, карабин у меня, в городе Яффе сменял. Часы у меня были именные, Кинстянтин Петровичем за службу даренные. Тьфу и на ту службу, и на него, кощея, и на часы его поганые. Да что разбойник! Мануйла что ни день беду на себя накликает. Если б не Трофим Дубенко, давно бы уж лихие люди его в землю зарыли, – похвастался бородач и вдруг осекся. – Ах ты, ловкая какая! Ишь, язык мне развязала. Давно по-нашему не говорил, вот и прорвало меня. Говори: ты от Победина или нет?
И снова взмахнул ножом.
– Нет, я сама по себе. И зла Эммануилу... Мануйле не желаю. Напротив, хочу его предостеречь.
Трофим Дубенко посмотрел на нее в упор. Сказал:
– Дай-ка.
И всю обшарил лапищами – искал, нет ли спрятанного оружия. Пелагия подняла руки кверху, терпела.
– Ладно, – разрешил он. – Иди. Только одна. Этот твой пускай тут останется. Но уговор: про меня молчок. Не то прогонит он меня, а ему без охранителя нельзя.
– Обещаю, – кивнула сестра.
В первую минуту показалось, что внутри ограды опять пусто.
Монахиня прошла, озираясь, из конца в конец, но никого не увидела. А когда в недоумении остановилась, из самой середины сада донесся голос, мягко спросивший что-то на неизвестном Пелагии наречии.
Лишь теперь она разглядела фигуру, сидевшую в траве у старого колодца.
– Что? – вздрогнула инокиня, остановившись.
– Ты 'усская?–произнес голос, по-детски картавя на букве «р». – Я сп'осил, что ты ищешь? Или кого?
– Что это вы делаете? – пролепетала она.
Человек сидел на земле совершенно неподвижно, весь залитый белым лунным светом. От этой самой неподвижности она его и не заметила, хоть давеча прошла совсем рядом.
Нерешительно приблизившись, Пелагия увидела худое лицо с широко раскрытыми глазами, клочковатую бороду (кажется, с проседью), выпирающий кадык и высоко поднятые брови, словно пребывающие в постоянной готовности к радостному изумлению. Стрижен пророк был по-мужичьи, в кружок, но давно, не менее полугода назад, так что волосы отросли и свисали почти до плеч.
– Жду, – ответил Мануйла-Эммануил. – Луна еще не совсем в се'едине неба. Это называется «в зените». Нужно немножко подождать.
– А... ачто будет, когда луна окажется в зените?
– Я встану и пойду вон туда. – Он показал в дальний угол сада.
– Но там же забор.
Пророк оглянулся, словно их кто-то мог подслушать, и заговорщическим шепотом сообщил:
– Я п'оделал в нем ды'ку. Когда был здесь 'аньше. Одна доска отодвигается, и тогда че'ез монастый можно подняться на го'у.
– Но почему нельзя подняться по улице? Она тоже ведет в гору, – тоже понизила голос Пелагия. Он вздохнул.
– Не знаю. Я п'обовал, не получается. Наве'но, всё должно быть в точности, как тогда. Но главное, конечно, полнолуние. Я совсем п'о него забыл, а тепей вспомнил, 'аньше-то Пасха всегда в полнолуние, это тепей евъеи всё пе'епутали.
– Что перепутали? – наморщила лоб сестра, тщетно пытаясь найти в его словах смысл. – Зачем вам полнолуние?
– Я вижу, ты п'ишла сюда, чтобы погово'ить со мной, – сказал вдруг Эммануил. – Гово'и.
Пелагия вздрогнула. Откуда он знает?
А пророк поднялся на ноги, оказавшись на целую голову выше монахини, и заглянул ей в лицо. В его глазах поблескивали лунные искорки.
– Ты хочешь меня о чем-то п'евенти'овать, – произнес картавый щурясь, словно читал вслух в полутьме и от этого ему приходилось напрягать зрение.
– Что?
– Ты долго искала меня, потому что хочешь п'евенти'овать о чем-то плохом. Или о том, что тебе кажется плохим. Мне будет инте'есно гово'ить с тобой. Но тепей уже по'а. Если хочешь, пойдем со мной. Погово'им до'огой.
Он поманил ее рукой и направился к изгороди.
Одна из досок и в самом деле оказалась прибитой лишь на верхний гвоздь. Эммануил отогнул ее и протиснулся в щель.
Пребывающая в странном онемении Пелагия поступила так же.
Они прошли темным двором какого-то монастыря, потом через калитку вышли в переулок, всё время поднимаясь в гору.
По обеим сторонам были арабские лачуги, свет ни в одной из них не горел. Один раз, на повороте, монахиня оглянулась и увидела напротив Храмовую гору, увенчанную круглой нашлепкой Омаровой мечети. Освещенный луной Иерусалим казался таким же мертвым, как расположенное напротив еврейское кладбище.
Спохватившись, что так и не назвала себя, инокиня сказала:
– Я Пелагия, монахиня...
– А, Х'истова невеста, – засмеялся Эммануил. – У Божьего сына столько невест! Больше, чем у ту'ецкого султана. И хоть бы одна сп'осила, хочет ли он на ней жениться.
Богохульная шутка покоробила Пелагию, сбила особенное, полумистическое настроение, возникшее под влиянием луны и Гефсиманского сада.
Какое-то время они поднимались молча. Пора всё ему объяснять, подумала сестра и начала – сдержанно и сухо, еще не забыв остроту насчет Христовых невест:
– У меня плохая весть. Вам угрожает смертельная опасность. У вас есть могущественные враги, которые хотят вас убить и ни перед чем не остановятся. То, что вы уехали из России, ваших врагов не...
– В'ажда – субстанция обоюдная, – легкомысленно перебил ее предводитель «найденышей». – 'аз я никому не в'аг, то и у меня не может быть в'агов. По-моему, 'езонно. Люди, о кото'ых ты гово'ишь, ошибаются, думая, что я могу п'ичинить им зло. Мне бы нужно с ними погово'ить, и всё 'азъяснится. Я с ними обязательно погово'ю – если сегодня опять не удастся. А если удастся, меня здесь больше не будет, и тогда они успокоятся.
– Что удастся? – спросила сбитая с толку Пелагия.
– Я бы тебе объяснил, но ты все 'авно не пове'ишь.
– Ах, да не станут они с вами разговаривать! Они хотят вашей смерти. Ваши враги легко, без малейших колебаний, убивают всякого, кто оказывается у них на пути! Это означает, что уничтожить вас для них очень-очень важно.
Здесь пророк покосился на Пелагию, но не с испугом, а как-то озадаченно, словно не очень понимая, из-за чего она так разволновалась.
– Тс-с-с! – зашептал он, прикладывая палец к губам. – Мы п'ишли. И луна как 'аз в самом-са-мом зените.
Он толкнул створку полусгнивших ворот, и они вошли во двор, заросший сухой травой. Пелагия разглядела в глубине хибару с плоской проваленной крышей.
– Чей это дом? – тихо спросила сестра.
– Не знаю. Тут больше никто не ква'ти'ует. Боюсь, здесь случилась беда – я такие вещи чувствую...
Эммануил зябко поежился, обхватив себя за плечи.
Заброшенная лачуга Пелагию нисколько не интересовала. Ее одолевали досада и раздражение. Сколько времени искала она этого человека, сколько потратила сил, а он и слушать не желает!
– Может быть, вы думаете, что, покинув Россию, избавились от опасности? – сердито заговорила монахиня. – Как бы не так! Они разыщут вас и здесь! Я, кажется, знаю, от кого исходит угроза, но это настолько невероятно... И потом, с чего это он на вас так остервенился? То есть, у меня есть одно предположение, но оно до такой степени...
Пелагия сбилась. Глядя на смехотворную фигуру «найденышевского» пророка, стоявшего на одной ноге (другой он почесывал лодыжку), сестра готова была первая признать свое «предположение» чудовищной нелепостью.
– Нет, Победин просто сумасшедший... – пробормотала она.
– Ты гово'ишь непонятно. – Эммануил отложил свой посох, подобрал с земли дощечку и принялся разгребать кучу мусора – в стороны полетели ветки, черепки, комья земли. – И ты не гово'ишь мне главного.
– Чего главного? – удивилась Пелагия, наблюдая за его странными действиями.
Он выдернул из-под мусора какие-то доски, и под ними открылась яма, а на дне ямы – черная дыра.
– Это подземный ход?
Эммануил осторожно спустился в яму, одновременно доставая что-то из заплечного мешка.
– Нет, это г'обница. Пеще'а. Тут похо'онены люди, кото'ые жили давно, две тысячи лет назад и даже много 'аныне. Знаешь, что такое «энеолит»? А «халколит»? – с важностью произнес он звучные слова.
Пелагии приходилось читать о древнееврейских захоронениях. Все иерусалимские холмы изрыты пещерами, в которых когда-то погребали мертвых. Ничего удивительного, что один из склепов находится во дворе заброшенного крестьянского дома. Но что нужно там Эммануилу?
Он чиркнул спичкой, зажег скрученную и пропитанную маслом тряпку.
Из ямы на Пелагию смотрело бородатое лицо, освещенное багровым пламенем. Ночь вокруг сразу сделалась чернее.
– Мне по'а, – сказал Эммануил. – Но я вижу, ты хочешь меня о чем-то сп'осить и не 'ешаешься. Не бойся, сп'ашивай. Если я знаю ответ, я скажу тебе п'авду.
Там, внизу, пещера,вдруг пронзило Пелагию. Пещера!
Монахиня и не вспомнила, что навсегда зареклась лазить по подземельям.
– Можно я спущусь с вами? Пожалуйста!
Он посмотрел на луну, стоявшую ровно в середине неба.
– Если пообещаешь, что ско'о уйдешь. И не будешь ждать меня сна'ужи.
Пелагия кивнула, и он подал ей руку.
Сначала лаз был совсем узким. Под ногами оказались каменные ступени, местами раскрошившиеся от древности, но совсем не стертые. Да и с чего им было стереться?
Когда лестница закончилась, Эммануил высоко поднял руку с тряпичным факелом, и стало видно, что склеп довольно широк. В его стенах темнели какие-то ниши, но из-за тусклого освещения разглядеть их толком не представлялось возможным.
Пророк повернулся лицом к Пелагии и сказал:
– Посмот'ела? Тепей задавай свой воп'ос и уходи.
Вдруг его брови, и без того высоко посаженные, уползли еще выше к волосам. Эммануил смотрел не на собеседницу, а поверх ее головы, словно узрел там нечто очень интересное.
Но Пелагия не следила за его взглядом. Отчаянно волнуясь, она набрала полную грудь воздуха, непроизвольно вскинула руку к виску и дрожащим голосом задала свой вопрос.
Сколько веревочке ни виться
Когда хантур доехал до Яффских ворот и там повернул направо, Яков Михайлович сразу сообразил, что это они наладились огибать стену. Стало быть, никуда не денутся, можно отбить телеграммку в Питер. Долее недели не выходил на связь, нехорошо. А тут как раз круглосуточный телеграф был рядом – через него и идея возникла.
Воистину явил чудо расторопности: всего две минутки понадобилось, чтоб сунуть в окошко заранее написанную депешу и расплатиться.
Депешка была следующего содержания: «Получу оба груза сегодня. Нифонтов». Это такая условная фамилия была – «Нифонтов», подписываться, пока задание не выполнено. А как будет выполнено, тогда в телеграмме можно написать все равно что, но подпись беспременно должна быть «Ксенофонтов». Кому надо, поймет.
Яков Михайлович (пока еще пребывая в звании Нифонтова) отлично со всем управился: и донесение отправил, и хантур догнал – близ расщелины, которая называлась Геенной. Той самой, Огненной, где, по речению святого апостола, «червь не умирал и огонь не угасал». Жители древнего Иерусалима бросали в овраг трупы казненных и сверху заваливали их нечистотами, а чтоб из поганой ямы на город не наползла зараза, днем и ночью там горели костры.
Вот она, вся жизнь человеческая, вздохнул Яков Михайлович, погоняя лошадку. Живем в нужнике, на других гадим, а подохнешь – на тебя самого дерьма навалят, да еще огнем подпалят, чтоб не вонял. Вот какое невеселое философствование пришло на ум.
Это было просто замечательно, что полнолуние и туч немного. Исключительно повезло. Надо сказать, вся эта командировка, долгая и хлопотная, проходила словно бы под неким Высшим покровительством. Мог и в Иерусалиме след потерять, и у горы Мегиддо, и в Содоме, но прилежание и везение каждый раз выручали. Яков Михайлович и сам не плошал, и Бог о нем не забывал.
А теперь оставалось всего ничего. Если Рыжуха скумекала правильно (а она баба ушлая), то, глядишь, нынче же всё и обустроим, после чего переименуемся из недотепы Нифонтова в триумфального Ксенофонтова.
Вот интересно, какая за такое мудреное задание может быть награда?
Обычно, пока дело не сделано, он не позволял себе рассуждать о таких приятных вещах, но лунный вечер настраивал на мечтательность. Да и конец уже совсем близко, это Яков Михайлович нутром чувствовал.
Окончательное забвение историйкисполным уничтожением всей касательной следовательской документации – это обещано твердо. Отслужил, отбелил. Не будет долее сей Дамоклов клинок над головушкой висеть. Ныне отпущаеши, Господи. Но, пожалуй, можно и сверх того себе чего-ничего испросить, в виде шуршащих и приятно похрустывающих бумажечек. Чутье подсказывало, что дадут премиальные, обязательно дадут. Вон как начальников из-за Мануйлы этого разобрало. Чем он им наперчил, Бог весть, не нашего ума дело.
Попробовал прикинуть, сколько могут дать деньжонок и как ими распорядиться. Прикупить домик где-нибудь на Охте? Или лучше в процентные бумаги вложить? А на покой рано. Теперь, когда с историйкойпокончится, можно будет не за страх служить, а за совесть – в смысле, за настоящее вознаграждение. Станут скупиться – вот им Бог, а вот им порог. На высококлассного мастера деликатных дел заказчики всегда сыщутся. Вот если б, к примеру, за палестинские мытарства по полной таксе брать – со всеми морскими плаваниями, пустынными блужданиями и прочими страстями – сколько бы это можно заломить?
В голове у Якова Михайловича затеснились нули, но в единую колбасу сложиться не успели, потому что монашкин хантур свернул с широкой дороги на мост и сразу исчез в узком переулке.
Нужно было сокращать дистанцию.
И опять Яков Михайлович не сплоховал – не поперся в переулок, а отъехал по дороге чуть дальше. Угадал, что конные прогулки закончились, дальнейшее передвижение будет на своих двоих.
Соскочил на землю, шлепнул бет-кебировскую кобылку по крупу: ступай, куда пожелаешь, эквинус. Спасибо за службу, больше не нужен. Двуколку можешь забрать себе.
Осторожненько высунулся из-за угла.
Арап состоял при лошадях, монашка отсутствовала. Однако через минутку-другую появилась и она, вышла из какой-то калитки и направилась к своему Салаху. Переговорили о чем-то, да и спустились ниже по склону, а хантур поместили в тень, где его стало совсем не видно.
Эге, смекнул Яков Михайлович. Никак засада?
Нуте-с, нуте-с.
Кисть так и зудела – очень требовалось похрустеть суставами, но производить звуки сейчас было нельзя.
Путника он заметил раньше, чем те двое. Высокий, тощий человек шел по лунной дорожке, стуча посохом.
Он, догадался Яков Михайлович и в тот же миг превратился из Нифонтова в Ксенофонтова. Прочее-последующее было проблемой технической, то есть вообще никакой не проблемой.
Он прижался к забору, выжидая, пока Мануйла свернет в переулок.
Но тут выяснилось обстоятельство, которое следовало отнести к разряду неприятных сюрпризов.
За Главным Объектом, отстав на полсотни шагов, кто-то крался. Луна как на грех зашла за тучу, и этого второго рассмотреть удалось не сразу. Видно было только, что настоящий медведище и ступает тоже по-медвежьи, вразвалку и бесшумно.
Это что еще за новости?
Конкурент?
Красться Яков Михайлович умел не хуже, чем Медведь. Пристроился сзади и по стеночке, по стеночке.
О чем Рыжуха с Медведем разговаривали, он не слыхал, но беседа была горячая. Досталось и арапу, и монашке. Однако потом они вроде договорились. Рыжая шмыгнула в калитку, а детина остался с кучером, о чем-то они промеж собой толковали.
Яков Михайлович подобрался ближе.
Разговор шел на русском. Ишь ты!
– ...Пропадет он без охранителя, – донесся приглушенный бас. – Ведь чисто дитенок малый! Как такого одного пустить?
– Я тоже хранитель, – важно отвечал арап. – Ее охраняю. Женщина! Без меня сто раз бы пропала.
– Оно конечно. Баба есть баба, – согласился Медведь.
Ах вот мы, оказывается, кто. Про то, что у Мануйлы есть телохранитель, Яков Михайлович извещен не был и оттого немножко обиделся на начальство. Это ведь, господа, не шутки, предупреждать нужно.
Весь подобрался, поджался. Техническая проблема получалась сложней, чем он думал вначале.
Вглядываясь в темноту, попытался оценить противника.
Кажется, очень силен и довольно опасен. Эту кряжистую породу Яков Михайлович знал хорошо, такого одним ударом не положишь, очень уж в них жизни много. А надо непременно сработать его аккуратно, безо всякого шума.
Арапа в расчет можно было не брать. Мужичонка хлипкий, трусоватый, на него только шикнуть. За время странствий Яков Михайлович привык к этому шебутному Салаху. Можно сказать, даже привязался. Веселый, все время белозубый рот до ушей. Во время ночевок Яков Михайлович, бывало, подбирался к хантуру поближе – послушать, как арап песни поет.
Заранее решил, что кончать его не будет. Жалко. То есть, если бы для дела, кончил бы и не задумался. Но этот заячий хвост уж точно не донесет – так получалось по психологии, науке, к которой Яков Михайлович относился с большим уважением.
От арапа требовалось одно: чтобы не заорал. Тоже, между прочим, задачка.
Вот именно. Задачка с двумя неизвестными: как заткнуть рот арапу и как уложить Топтыгина – само собой, в полной бесшумности.
Подумал-подумал с полминутки и придумал.
Попятился вниз, до угла. Там, на дороге, подобрал палку – похоже, спица от большого тележного колеса, аршина в полтора. Кончик расщепился, вот и бросили. Как раз то, что надо.
Обратно в переулок Яков Михайлович вошел прихрамывая. Плечи согнул, невнятно забормотал под нос. Еле шел, опираясь на палку. Кто такого калеку убогого напугается?
Медведь с арапом тем не менее обернулись и смотрели на ночного прохожего настороженно.
Яков Михайлович подковылял ближе, сделал вид, что только сейчас их приметил. Испуганно ойкнул – мол, не лихие ли люди?
Подхромал совсем вплотную, поклонился. Левой рукой оперся на палку, правую, как по-местному полагается, приложил к груди и ко лбу.
Сказал арапу писклявым, жалобным голосом:
– Джамаль ли валлахи ибн хуртум?
О чем спрашивал, и сам не знал, потому что слова никакого смысла не имели, но русскому Топтыгину должны были показаться арабским наречием.
Медведище, услышав тарабарщину, плечи приспустил – не усмотрел в ночном туземном инвалиде угрозы-опасности.
Зато Салах белиберде изумился.
– Эйш?
Яков Михайлович снова ему поклонился, медленно, а вот распрямился резво-резиново и костяшками пальцев арапу под основание носа – хрясь! Двинул сильно, но не чрезмерно, а то носовая косточка в мозг войдет, и человеку хана.
У Салаха из ноздрей кровь так и брызнула, а сам опрокинулся навзничь и лежит. Причем молча, без звука, как следовало.
Ни на миг не задерживая винтового движения, Яков Михайлович повернулся к Медведю.
Тот лишь и успел, что рот разинуть. У топтыгиных, кого природа-матушка наделила богатырской статью, в восприятии есть некоторая замедленность, по-научному называется «реактивная ретардия». Но это только в самую первую секундочку, так что сильно обнадеживаться насчет ихней ретардии не стоит. Раз, еще в ссыльно-поселенческую пору, после каторги, Яков Михайлович видел, как мишка на реке рыбу ловит. Куда там рыболову с острогой! С косолапым зевать ни-ни, порвет – чихнуть не успеешь.
А Яков Михайлович и не зевал. В изумленно разинутую пасть ткнул концом палки – так вогнал, что только зубы хрустнули. Это чтоб не заорал.
В левом рукаве у Якова Михайловича имелся удобный ножик, финской работы, на специальном пружинном ходу. Выщелкнул лезвие и ударил – да не в сердце, потому что такого детину пыром в сердце не успокоишь, и не в горло – хрипеть и булькать станет. Ударил в подвздошье, где в утробе крик рождается.
Сделал дело – и отскочил шагов на пять, чтоб не угодить в мертвую хватку растопыренных лапищ.
Топтыгин изо рта палку выдрал, отшвырнул. Кровища так и полилась на бороду.
Разинул пасть, а крикнуть не может – воткнутая в подвздошье железка не позволяет. Тут, как и было рассчитано, Медведь сам себя погубил. Всякому охотнику известно: поддетый на рогатину топтыгин непременно ее из себя выдерет и тем самым рану распотрошит. Вот и этот вырвал. Если б оставил нож торчать, жизнь из него еще не скоро бы вылетела. А он, дурень, схватился за рукоятку, закряхтел, да и выдернул. Пошел на Якова Михайловича, шатаясь. Тот ступил назад шажок, другой, третий, а больше не понадобилось. Ноги у детины подломились, рухнул на колени. Постоял так, раскачиваясь взад-вперед, будто молился своему медвежьему богу, – и бух лицом вниз.
Уф!
А тем временем очухался арап. Приподнялся на локте, рукой расквашенный нос затыкает, шмыгает.
Яков Михайлович, благостный от хорошо исполненного дела, нагнулся к нему и тихо сообщил:
– Я сейчас пойду, тех двоих тоже убью. Ты как сам, жить-то хочешь?
Салах кивнул, сверкая белками выпученных глаз.
– Живи, я не возражаю, – позволил Яков Михайлович. – Катись отсюда подобру-поздорову. И чтоб никому. Понял?
Тот быстро встал на четвереньки.
– Давай-давай, – похлопал его по плечу великодушный человек.
– Она мой невеста! – сказал вдруг арап.
– Что?
Якову Михайловичу показалось, что он не так услышал.
Арап же, тихо взвизгнув, обхватил своего благодетеля вокруг коленок и попытался свалить наземь. Это было до того неожиданно, что Яков Михайлович и в самом деле чуть не грохнулся.
Ошибся, выходит, в человеке. Неправильную определил ему психологию.
Если уж такой герой, лучше бы заорал во всю глотку, вот тогда, действительно, было бы осложнение, а за коленки хватать – это что ж.
Яков Михайлович стукнул неблагодарного кулаком по темени, а когда тот зарылся носом в землю, припечатал ногой пониже затылка, только хрустнуло.
На будущее дал себе зарок: больше никаких психологий-милосердий. Тоже еще доктор Гааз выискался.
За калиткой оказался какой-то пустырь с несколькими кривыми деревьями. Кому только пришло в голову огораживать бесполезный участок хорошим забором?
Яков Михайлович сразу увидел, что здесь никого нет, однако не растерялся. Обежал по периметру, выискивая другой выход. Второй калитки либо двери не нашел, зато обнаружил отодвинутую доску. Здесь-то они, голубчики, и пролезли, более негде.
Пробежал через монастырский двор, оказался на уходящей вверх улочке. Там упал, прижался ухом к земле.
Звуки шагов доносились справа. Туда и кинулся.
Вон они, драгоценные. Тень повыше – это Мануйла, а рядом еще одна, женская, метет землю подолом.
А вот и я, милые мои объекты, ваш Ксенофонтов.
Рука потянула из кармана револьвер. Нечего мудрить, место прямо идеальное – ни души вокруг, ни огонечка. И церемониться нечего. Кто тут будет следствия затевать?
Догнать, бах ему в затылок, бах ей. Потом еще по разу, для верности.
И все же Яков Михайлович не спешил.
Во-первых, длил мгновение, которое, как сказал великий литератор, было прекрасно.
А во-вторых, стало интересно, куда это они карабкаются. Что им там понадобилось, на вершине Масличной горы?
Пророк и монашка свернули в какой-то двор.
Яков Михайлович через забор увидел, как Мануйла разгребает кучу мусора, и взволновался: неужто клад? Даже вспотел от такой мысли.
Потом оба – и Малахольный, и Рыжуха – исчезли в яме.
Очень любезно с их стороны, одобрил Яков Михайлович. Потом яму опять мусором присыпать, и всё шито-крыто будет.
Полез в дыру, на горящий внутри огонек.
Оружие держал наготове.
Мануйла заметил выплывшего из тьмы Якова Михайловича, уставился поверх Рыжухиной макушки. А монашка ничего – как стояла спиной, так и осталась.
Нервно провела пальцами пониже уха, спросила дрожащим голосом:
– Вы были... там?
Часть третья,
ТАМ
XVI. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ПЕЛАГИИ
Письмо с того света
Сначала пришло телеграфное сообщение, письмо потом.
Служебная депеша, присланная в канцелярию заволжского губернатора из Министерства юстиции, с телеграфно-лаконичным прискорбием извещала, что действительный статский советник Бердичевский скоропостижно умер в Санкт-Петербурге от разрыва сердца.
В первый миг возникла слабая надежда, что это недоразумение, ибо Матвей Бенционович был всего лишь статским советником, а не «действительным», но за первой телеграммой последовала и вторая: о том, что тело отправлено таким-то поездом на казенный счет и прибудет на ближайшую к Заволжску железнодорожную станцию тогда-то.
Ну, поохали, поужасались, многие и поплакали, потому что в Заволжске у новопреставленного было немало доброжелателей, не говоря уж об обширном семействе.
К вдове Марье Гавриловне, которая не плакала, а лишь повторяла: «Да нет же, нет, нет, нет!» и, как заведенная, всё мотала головой, приставили лучшего доктора. Сироток временно забрала к себе губернаторша, и город стал готовиться к торжественной встрече тела и еще более торжественному с ним прощанию.
Владыка Митрофаний словно закоченел от горя. Слезного облегчения ему, как и вдове, Бог поначалу не дал. Архиерей расхаживал по своему кабинету, сцепив за спиной белые от судорожного сжатия пальцы, и лицо у него было такое, что челядь заглядывала через щелочку и тут же пятилась. Полночи прометался сраженный горем епископ, а перед рассветом сел к столу, упал головой на скрещенные руки и наконец разрыдался. Хорошее было время – сумрачное, глухое, так что никто этой его слабости не видел.
Утром преосвященному сделалось плохо. Он задыхался и хватался за сердце. Испугались, не приключится ли и с ним, по примеру любимого крестника, разрыва сердечной мышцы. Секретарь отец Усердов бегал советоваться к викарию – не соборовать ли. Но вечером с парохода принесли письмо, прочитав которое Митрофаний задыхаться перестал, сел и спустил ноги с кровати.
Перечел. Потом сызнова.
На конверте корявым почерком, с ошибками, было накалякано: «Город Заволжск Заволжской же губерни архерею Митрофану скорей и штоб сам прочол а боле никто» – потому, собственно, и принесли больному, что «скорей» и «боле никто».
Внутри мятый листок. На нем рукой Бердичевского написано: «48-36, отправь эту записку почтой, сверхсрочным тарифом по адресу: Заволжская губерния, город Заволжск, архиерею преосв. Митрофанию в собств. руки». Что означает это загадочное обращение, почему оно выведено печатными буквами и в каком смысле «48-36», Митрофаний не понял, но было ясно, что послание чрезвычайной важности и, возможно, содержит разгадку петербургского несчастья.
Владыка так внимательно разглядывал малосодержательную записку, что не сразу догадался повернуть листок другой стороной.
Там-то и оказалось само послание, вкривь и вкось написанное уже не печатными буквами, а лихорадочной скорописью.
«Буквы скачут – пишу в коляске. Хорошо, что дождик – закрыл верх, и не видно. Пелагия в опасности. Спасайте. Кто виновник знаю, но вам знать не нужно, и не пытайтесь. Поезжайте к ней, увезите как можно дальше, на край света. Сам больше ничего не смогу. Следят и, конечно, будут следить. Пускай. Я придумал отличную комбинацию. «Этюд Бердичевского» – с жертвой фигуры в обмен на надежду спасти безнадежную партию. За семью не прошу. Знаю, и так не оставите. Прощайте. Ваш сын Матвей».
Тут владыке оказалось довольно и одного прочтения. Он не стал ни гипотезировать, ни вдумываться в смысл не слишком-то вразумительного письма, а воспринял его как прямое и ясное указание к действию. В преосвященном пробудился бывший кавалерийский офицер: когда горн трубит «в атаку» и началась сабельная сшибка, не до рассуждений – слушайся лишь своего инстинкта да бешеного тока крови.
Слабости как не бывало. Епископ вскочил с постели, зычно кликнул келейников и секретаря.
Минуту спустя архиерейское подворье превратилось в пробудившийся вулкан. Один келейник скакал на пристань, заказывать паровой катер до Нижнего. Другой сломя голову бежал на телеграф бронировать железнодорожный билет от Нижнего до Одессы и каюту на скоростном морском пароходе. Третий был отправлен к губернатору с наскоро писанной запиской, которой Митрофаний извещал, что должен срочно уехать и что отпевать Бердичевского будет викарий. Бог весть, что должны были подумать его превосходительство и все заволжское общество по сему поводу, но преосвященного это сейчас совершенно не занимало.
Отдав вышепоименованные распоряжения, владыка занялся одеванием и спешными сборами в дорогу. Усердов же, улучив минутку, когда архиерей уединился в гардеробной комнате, не совладал с любопытством – стянул со стола письмецо, от которого с Митрофанием свершилась такая чудодейственная перемена. Записка от покойника чрезвычайно заинтересовала отца Серафима – до такой степени, что секретарь даже решил сделать списочек себе в книжицу. Увлекшись этим занятием, архиереев письмоводитель не услышал, как в кабинет вернулся преосвященный, уже в дорожной рясе, но пока еще необутый, в одних чулках.
Когда Усердов обнаружил, что застигнут, лицо его исказилось от страха, побледнело. Он попятился от бесшумно подступавшего к нему епископа, затряс головой, но не смог вымолвить ни слова.
– Ах вот оно что, – зловеще протянул Митро-фаний. – Мы с Матюшей голову ломали, откуда наши секреты делаются известны зложелателям, а это всё ты, Иуда. И про сапожный след донес, и про Палестину. Кому служишь? Ну!!!
Это самое «Ну!!!» владыка гаркнул так, что зазвенела люстра, а секретарь бухнулся на колени. Его замечательно красивое лицо сейчас было не особенно хорошо.
– Говори, паскудник!!!
Секретарь молча ткнул дрожащим пальцем в потолок.
– Начальству? Из карьерных видов? Знаю, епископом хочешь стать, оттого и не женился. Кому доносительствуешь? В Охранку? В Синод?
Преосвященный взял трепещущего Усердова за шиворот, тот зажмурился и наверняка выдал бы свой секрет, но Митрофаний разжал пальцы.
– Ладно. Матюша не велел допытываться – не буду. Он министерская голова, зря не запретит. А это тебе напоследок мое пастырское благословение.
Коротко размахнулся – точь-в-точь как много лет назад, во времена юнкерских драк – и двинул отца Серафима по физиономии, да безо всякого символизма, а самым убедительным образом, так что нос хрустнул и съехал набок.
Бедняга повалился на ковер, залившись кровью.
Будет епископом, мельком подумал Митрофаний, направляясь к выходу. Непременно будет. Только с кривым носом.
В прихожей ждал келейник с наскоро собранным чемоданом. Преосвященный размашисто перекрестился на висевшую против входа икону особо почитаемого им святого – апостола Иуды Фаддея, утешителя отчаявшихся и покровителя безнадежных начинаний. Схватил посох, широкополую дорожную шляпу и выбежал во двор, где уже томилась запряженная четверка.
С тех пор как принесли письмо, не минуло и получаса.
Владыка читает еще одно письмо и видит два сна
Двумя днями позднее, перед тем как сесть на одесский пароход, Митрофаний отбил телеграмму отцу архимандриту, в иерусалимскую миссию: известно ли его высокопреподобию о местопребывании и здравии паломницы Лисицыной?
Успел получить ответ. Архимандрит докладывал: да, была такая, остановилась в гостинице, однако уже восемь дней, как отъехала в неизвестном направлении, и с тех пор не объявлялась, хотя ее вещи по-прежнему в комнате.
Митрофаний заскрипел зубами, но отчаиваться себе запретил.
Все пять дней, пока пароход плыл до Яффы, молился. Никогда еще, кажется, не предавался этому занятию столь продолжительное время, почти вовсе без перерыва.
Богомольцы толпились у окна каюты, взирали на кладущего земные поклоны епископа с почтением. Меж ними даже возник уговор – не докучать святому человеку личными просьбами о благословении, пускай благословит всех разом, перед высадкой.
На восьмой день после отъезда из Заволжска преосвященный был уже в Иерусалимской православной миссии. Сразу же направился в канцелярию, узнать, не вернулась ли духовная дочь.
Как же, сказали ему. Была, на следующий же день после запроса вашего преосвященства. Мы немедля отправили в Одессу повторную телеграмму, да, видно, она вас уже не застала.
– Слава Тебе, Господи! Где Пелагия? – вскричал Митрофаний, у которого от облегчения чуть не подкосились ноги. – Здорова ли?
Не можем сказать, отвечают. Саму ее никто из наших не видел. Однако в прошлую субботу из гостиницы от госпожи Лисицыной приходил мальчишка-рассыльный и принес пакет для вашего преосвященства. Назавтра отец архимандрит послал к постоялице сообщить, что владыка Митрофаний тревожится о ее здравии, но Лисицыной в нумере не было. И впоследствии застать ее ни разу не удалось, сколько ни посылали.
Поняв, что больше ничего не добьется, владыка сослался на усталость после долгой дороги и уединился в покоях, предназначенных для особенно почетных гостей. Не сняв даже шляпы, сел за стол и трясущимися руками вскрыл конверт.
Увидел целую стопку листков, исписанных знакомым почерком. От волнения уронил пенсне и крест-накрест разбил правое стеклышко. Так и читал, через распятье трещин.
«Владыке Митрофанию света, силы, радости.
Надеюсь, что Вам не придется читать это письмо. Или, наоборот, надеюсь, что прочтете? Сама не знаю. Но, если Вы его прочтете, это будет означать, что всё правда, а этого быть никак не может.
Плохо начала. Только Вас запутала. Простите.
А еще простите за обман, за то, что воспользовалась Вашей доверчивостью. Вы отправили меня в дальнее богомолье, желая укрыть от опасности, я же утаила, почему из всех мест выбрала именно Святую Землю. Не за покоем и миром отправилась я в Палестину, а чтобы довести до конца начатое дело. Правду Вы сказали тогда: нет во мне монашеского таланта – смиренно Бога за людей молить. Из всех Христовых невест я самая непутевая. Но про невесту я в конце напишу, пока еще не время.
Как Вы помните, меня трижды пытались убить: раз в Строгановке, да два раза в Заволжске. И когда стала я об этом думать, сделалось мне ясно, что сама по себе никаким могущественным злодеям я до такой степени ненавистна быть не могу. Не с чего. Стало быть, не во мне дело. А в чем тогда? Или в ком?
С чего все началось? С убийства некоего мнимого пророка, да и впоследствии события так или иначе были связаны с пресловутым Мануйлой. Что он за человек, мне было непонятно, однако я видела, что одни люди хотят его убить, а другие защитить, причем первые явно сильнее и своего рано или поздно добьются. Что же до меня, то я в этой истории вроде несчастной Дурки – попалась у них на пути и чем-то им помешала. Вот они и вознамерились убрать меня, как убирают камень с дороги, чтоб более об него не спотыкаться. Никакого иного интереса для врагов Мануйлы я представлять не могу.
Как Вы знаете, мне не раз доводилось расследовать убийства, но разве не стократно важнее не датьубийству свершиться?И если ты думаешь, что это тебе под силу, разве не смертный грех бездействовать? Если я и солгала Вам умолчанием, то лишь из боязни, что, узнав всю правду, Вы нипочем меня не отпустили бы.
И была еще одна причина, помимо спасения Эммануила (теперь мне больше нравится звать его так). Нас с ним связывает известное Вам удивительное происшествие, случившееся в пещере. Происшествие, которому я не могла найти объяснений, а между тем оно всё не давало мне покоя. Эммануил был в той же самой пещере, по словам деревенских, он вообще оттуда взялся.Так, может быть, он разъяснит мне эту тайну?
Ясно было две вещи.
Во-первых, что искать этого пророка или лжепророка (не мне о том судить) нужно в Святой Земле. Он то ли уже там, то ли вот-вот туда прибудет – об этом говорили «найденыши», да и Шелухин, псевдо-Эммануил, направлялся в Палестину неспроста.
И, во-вторых, что искать Эммануиловых ненавистников нужно среди тех, кто плыл вместе с нами на пароходе «Севрюга». (Сразу скажу, что второй вывод оказался не вполне верным, но выяснила я это, лишь пропутешествовав по Иудее, Самарии, Галилее и Идумее.)
Перечень подозреваемых у меня составился так.
Чье задание мог выполнять бывший жандарм Рацевич, рассуждала я.
«Варшавские воры», о которых говорил Матвей Бенционович, исключаются. Грабители, даже самые изощренные, не стали бы истреблять меня столь затейливо и настырно. А уж чтоб им до такой степени мешал какой-то проповедник, тем более невообразимо.
Но вот полоумным человеконенавистникам, которые именуют себя «Христовыми опричниками», вероучитель, уводящий русских людей от православия в «жидовствование», может казаться лютым и опасным врагом.
То же касается и противного лагеря – фанатичных сторонников обособленного иудаизма, которые смотрят на Эммануила как на злого шута, глумящегося над их верой.
Еще на пароходе была компания сионистов, весьма решительных молодых людей, которые подозревали Эммануила в связи с Охранным отделением. Хорошо известно, что среди сторонников идеи еврейского государства попадаются люди одержимые, готовые идти на крайности ради скорейшего достижения своей цели.
Впоследствии, когда я уже находилась здесь, в Палестине, у меня возникла еще одна версия, но в нее я посвящать Вас не буду, чтобы не приводить в смущение, тем более что она, как и предыдущие, оказалась несостоятельной.
Руководствуясь перечнем подозреваемых, я составила план действий и по сошествии с корабля немедленно приступила к осуществлению. Меня подгонял страх, что могущественные враги Эммануила отыщут его раньше и я опоздаю.
Первым делом я направилась в Иерусалим...»
Владыка стал читать, как Пелагия одну за другой проверяла и отметала свои версии, одновременно сокращая временную дистанцию, отделявшую ее от неугомонного пророка, которому никак не сиделось на месте.
С Митрофанием происходило что-то странное. Он с самого начала находился в сильнейшем волнении, которое с каждой страницей всё усугублялось. Руки дрожали сильней и сильней, так что в конце концов пришлось положить листки на стол и придавить очешником. По лицу преосвященного стекал пот, но он этого не замечал. Лишь рассеянно снял шляпу, положил рядом. Потом ненароком спихнул ее локтем на пол и тоже не заметил.
Наконец, нервное возбуждение достигло предельной точки и обратилось в свою противоположность. У владыки закружилась голова, неудержимо заклонило в сон.
Один раз, много лет тому назад, будущий епископ, а в ту пору командир эскадрона, видел, как в сражении под Балаклавой прямо на наблюдательном пункте уснул генерал, командовавший войсками. Сидел перед складным столиком сосредоточенный и напряженный, смотрел в подзорную трубу, отдавал приказания и вдруг, в самый решительный момент боя, сомлел – опустил голову на скрещенные руки и уснул. К нему кинулись перепуганные адъютанты, а начальник штаба, старый и опытный воин, сказал: «Не трогайте. Это сейчас пройдет». И в самом деле, пять минут спустя генерал пробудился бодрым и, как ни в чем не бывало, продолжил руководство сражением.
То же случилось сейчас с Митрофанием. Строчки расплелись в длинную узловатую нить, и эта нить утянула архиерея в темноту. Мгновение назад еще читал, а тут вдруг поник головой, приложился правой щекой к лежащему на столе локтю и сразу погрузился в глубокий сон.
Преосвященному один за другим приснилось два сна.
Первый был сладостный.
Мятрофаний узрел перед собой Господа Бога в виде некоего сияющего облака, и облако сказало ему звенящим голосом: «На что Мне, архиерей, твои постные моления? На что Мне монашество и монахи? Глупость одна и досада. Любите друг друга, человеки, муж жену, а жена мужа, вот и будет Мне наилучшая от вас молитва».
И сразу после того оказался Митрофаний в каком-то доме. Дом был на берегу озера, вдали виднелись горы, снизу синие, а поверху белые. Светило солнце, в саду на ветвях свисали тяжелые яблоки, и тихий женский голос напевал колыбельную песню. Митрофаний обернулся и увидел детскую кроватку, а рядом с ней Пелагию, но не в рясе и апостольнике – в домашнем платье, и бронзовые волосы распущены по плечам. Пелагия взглянула на Митрофания и ласково улыбнулась, а он подумал: «Что же я, столько лет потратил зря! Если бы Облаку заговорить со мной раньше, когда я был моложе! Но ничего, я пока крепок, мы еще долго будем счастливы».
Тут он перевернулся с правой щеки на левую, и от этого ему стал сниться совсем другой сон.
Будто бы проснулся он и читает письмо своей духовной дочери дальше (хоть на самом деле никакого пробуждения еще не было). Сначала читает глазами, а потом вроде как уже не читает, а слушает – и не бумага перед ним, а сама Пелагия.
«Нет меня больше среди живых, – шепчет ее голос. – На Земле ты меня больше не увидишь, потому что я теперь пребываю в Жизни Вечной. Ах, до чего же здесь хорошо! Если б вы, живые, про то знали, то нисколько бы не боялись умереть, а ждали бы смерти с радостным нетерпением, как ребенок ожидает Рождества или Дня ангела. Бог совсем не такой, как учит церковь, он добрый и всё-всё понимает. Вы, глупенькие, нас жалеете и по нам плачете, а мы жалеем вас. Очень уж вы мучаетесь, очень уж всего боитесь».
Спящий теперь не только слышал голос Пелагии, но видел и ее саму. Она была окружена сиянием – не таким ярким, как Бог-Облако, но зато радужно-переливчатым, отрадным для глаз. «Что же мне делать? – вскинулся Митрофаний. – Я к тебе хочу! Надо умереть – я пожалуйста, это пустяки. Только возьми меня к себе!» Она тихо рассмеялась, как мать лепету несмышленыша: «Быстрый какой. Так нельзя. Ты живи, сколько тебе полагается, и не бойся: я буду ждать. У нас ведь здесь времени нет».
От этих слов на душе у Митрофания сделалось спокойно, и он проснулся.
Протер глаза, надел упавшее с носа пенсне.
Стал читать дальше.
Красный петух
«...Вы были там? – спросила я Эммануила и хотела добавить: «в той пещере», но в этот миг сзади послышался шорох. Я обернулась и увидела мужчину, стоявшего сзади. Он был одет по-арабски, и в первую секунду я подумала, что это кто-то из местных жителей, случайно увидевший, как мы спускаемся в подземелье. Но круглое, толстогубое лицо незнакомца расплылось в насмешливой улыбке, и он сказал на чистом русском языке: «Ну-ка, что тут у вас, шерочка с машерочкой? Сокровище? Мне, мне пожалуйте. Вам оно более не понадобится».
«Какое сокровище?» – пролепетала я и вдруг увидела, что в руке он держит что-то, сверкнувшее черным матовым блеском.
Поняла: вот оно – то самое, чего я так страшилась. Опоздала. Настигли, сейчас его убьют. Странно, но в ту минуту я совсем не подумала, что и меня тоже убьют, до того стало досадно на себя. Сколько дней потрачено на поиски! А ведь чувствовала, знала, что время уходит!
Круглолицый убийца нанес мне еще один удар. «Спасибо, сестрица. Нюх у тебя, как у лягавой. Вывела прямо на зверя». Когда он это сказал, сделалось мне совсем скверно. Выходит, они Эммануила благодаря мне нашли? Это я во всем виновата!
И хуже всего, что в ту ужасную минуту я повела себя позорно, по-бабьи: взяла и разревелась. Обида и стыд придавили и раздавили меня, я чувствовала себя самой жалкой тварью на всем белом свете.
«Что, нет сокровища? Жалко. Но я всё равно рад нашей встрече, чрезвычайно, – насмешничал злодей, – Покалякал бы с вами еще, да дело есть дело». И уж поднял свое оружие, готовясь стрелять, но Эммануил вдруг отстранил меня и шагнул к убийце.
«Ты зарабатываешь деньги тем, что убиваешь людей? Такое у тебя ремесло?» – спросил он безо всякого гнева или осуждения, а скорее с любопытством и даже, как мне показалось, с радостным удивлением.
«К вашим услугам». Круглолицый шутливо поклонился, словно принимая заслуженный комплимент. Он явно чувствовал себя полным властителем ситуации и был не прочь немного потянуть с исполнением своего зловещего намерения.
«Как хорошо, что мы встретились! – вскричал Эммануил. – Ты-то мне и нужен!»
Он сделал еще шаг вперед и распростер руки, будто собирался заключить душегуба в объятья.
Тот проворно отступил и поднял дуло кверху, так что теперь оно целило пророку прямо в лоб. Выражение лица из глумливого сделалось настороженным.
«Но-но», – начал было он, но Эммануил его перебил. «Ты нужен мне, а я нужен тебе! Я ведь к тебе пришел, за тобой!» «В каком-таком смысле?» – вовсе озадачился убийца. Я с ужасом ждала – сейчас выстрелит, сейчас! Эммануил же на оружие вовсе не смотрел и, по-моему, нисколько не боялся. Сейчас, задним числом, я думаю, что это было поистине диковинное зрелище: безоружный подступает к вооруженному, а тот всё пятится, пятится мелкими шажками.
«Несчастней тебя нет никого на свете. Твоя душа на помощь зовет, потому что Дьявол в ней совсем Бога задавил. Хорошее в душе – это и есть Бог, а злое – Дьявол. Разве тебе в детстве не говорили?» «А, – осклабился убийца. – Вот оно что. Проповедь. Ну, это не по адресу...»
Я услышала щелчок взводимого курка и вскрикнула от ужаса. Эммануил же как ни в чем не бывало обернулся ко мне и говорит: «Смотри, сейчас я покажу тебе его детское лицо».
Я не поняла, что он имеет в виду. Не понял и палач.
«Что покажешь?» – переспросил он, немного опуская дуло, и его маленькие глаза недоуменно моргнули. «Твое детское лицо, – увлеченно сказал пророк. – Знаешь, каждый человек, в любом возрасте, сохраняет свое первое лицо, с которым входил в мир. Только это лицо бывает трудно разглядеть. Ну как тебе объяснить? Вот встречаются два однокашника, которые не видели друг друга тридцать или даже пятьдесят лет. Случайно. Смотрят друг на друга – и узнают, и называют прежними смешными прозвищами. Их старые лица на мгновение становятся такими, какими были много лет назад. Детское лицо – оно и есть самое настоящее. Оно никуда не девается, просто с годами прячется под морщинами, складками, бородами...»
«В другое время с удовольствием поболтал бы с таким интересным собеседником, – опомнился убийца, прерывая речь Эммануила. – А теперь отвернись».
С этим ужасным человеком что-то произошло, внезапно поняла я. Он уже не может выстрелить в пророка, глядя ему в глаза. И мысленно воззвала к Эммануилу: «Не молчи, говори еще!»
Но тот, как назло, умолк.
Медленно поднял руку ладонью вперед, провел ею слева направо, и случилось чудо.
Убийца вдруг замер, рука с пистолетом опустилась, а взгляд завороженно уставился в раскрытую ладонь.
Я читала про гипноз и чудом его не считаю, но здесь произошло истинное чудо, прямо у меня на глазах.
Облик этого человека стал меняться. Одутловатые щеки поджались, нос сделался чуть более вздернутым, морщины разгладились, и я увидела лицо мальчишки – круглое, смешное, доверчивое лицо семилетнего сладкоежки и маменькиного сынка.
«Яша, Яшечка, что же ты с собой сделал?» – сказал Эммануил тонким голосом, похожим на женский.
По лицу убийцы пробежала судорога, и странное видение исчезло. Это опять была морщинистая физиономия трудно и грешно пожившего мужчины, но глаза остались широко раскрытыми, детскими.
Он махнул на Эммануила рукой, по-прежнему сжимавшей оружие. Махнул и второй, пустой – словно хотел отогнать призрак или наваждение.
Потом развернулся и опрометью бросился вон из склепа.
«Он не вернется, чтобы убить нас?» – спросила я, потрясенная увиденным. «Нет, – ответил Эммануил. – У него теперь будет чем заняться и без нас».
«Откуда вы знаете его имя? – спросила я еще. – Его в самом деле зовут «Яша»?»
«Так я услышал. Когда я смотрю в лицо человека, я многое слышу и вижу, потому что готов видеть и слышать. Это очень интересный человек. Совсем-совсем черный, а все-таки с белым пятнышком. Так не бывает, чтобы в человеке не было хотя бы крошечного белого пятнышка. У белых-пребелых то же самое, хоть капелька черная, да есть. Без этого Богу неавантажно».
Он так и сказал – «неавантажно».
Я не в силах передать его своеобразную манеру изъясняться и потому сглаживаю ее, а между тем речь Эммануила чрезвычайно колоритна. Начать с того, что он очень смешно картавит. Говорит гладко, но любит к месту и не к месту вставлять книжные слова – знаете, как крестьянин-самоучка, читающий запоем всё подряд и понимающий прочитанное по собственному разумению.
В первые минуты после того, как убежал страшный человек, я была не в себе, лепетала всякий бабий вздор. Например, спрашиваю: «Неужто вам не страшно было вот так на оружие идти?»
Он ответил смешно: «Я привык. Такая у меня оккупация, с мизераблями разговаривать».
Как ни странно, я его поняла. Слово «оккупация» в значении французского occupation 28 он, должно быть, вычитал в какой-нибудь книге восемнадцатого столетия, «мизерабли» же несомненно пленили его красотой звучания.
«Хорошим людям, – сказал он далее, – я не нужен, а плохим («мизераблям») нужен. Они опасные и поранить могут, но что ж тут поделаешь? К ним входишь, как укротитель в клетку ко льву. – Тут Эммануил вдруг оживился, глаза заблестели. – Это я в Перми видел, в цирке Чинизелли. Какой храбрый человек укротитель! И какой красивый! Лев пасть разевает, зубы – как ножи, аукротитель только усы поправил и кнутом щелк!»
И забыл про мизераблей, стал взахлеб рассказывать про циркового дрессировщика, а я смотрела на него, увлеченно жестикулирующего, и не знала, что думать, вновь охваченная сомнением.
Теперь, когда я рассказала Вам, как Эммануил совладал с убийцей, и Вы поняли, что это человек поистине незаурядный, пришло время коснуться темы, которую до сего момента я обходила, чтобы не вызвать Вашего возмущения.
Помните, как, повествуя о своей поездке в Содом, я написала: «Стоило мне услышать слова «пятница» и «сад», как всё сразу встало на свои места. Я поняла, где и когда найду Эммануила. Моя гипотеза подтвердилась».
Так вот, о гипотезе – настолько несуразной, что я осмеливаюсь изложить ее только теперь.
Сейчас, сейчас. Соберусь с духом.
Итак.
А ЧТО, ЕСЛИ ЭТО ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ?
Так и вижу, как гневно взметнулись Ваши косматые брови, и потому спешу поправиться.
Нет, я, конечно, не думала, что «пророк Мануйла» – это Иисус, два тысячелетия спустя вновь посланный к людям. Но что, если этот человек искренне верит, что он – Христос?
Весь образ его жизни, все его слова и дела, самое имя (Вы, конечно, помните, что нареченное имя Спасителя – Эммануил) подталкивали меня к этой мысли.
Не проповедник, проникшийся Иисусовой правдой, а человек, который ощущает себя Мессиейи оттого преспокойно перекраивает законы и основы христианства, как это сделал бы и Иисус, Который Сам Себе законодатель и преобразователь.
За дни странствий по Святой Земле я так свыклась с этой фантастической гипотезой, что временами стала закрадываться кощунственная мысль: а может быть, он и правда Иисус?
Откуда он взялся, этот «дикой татарин»? Возможно ли, чтобы вятский или заволжский мужик знал древнееврейский и арамейский языки?
Совсем уж заплутав между действительностью и фантазией, я возражала себе: если это житель древней Палестины, каким-то чудом перенесенный в Россию наших дней, не мог он за три года до такой степени овладеть русским языком. И тут же вздрагивала: это Он-то не мог? Да если это Он, то Ему под силу и не такое!
Когда я услышала, что Эммануилу во что бы то ни стало нужно в ночь на пятницу быть в некоем саду, мне сразу вспомнилась пятничная ночь, когда Спасителя предали и схватили в Гефсиманском саду.
Туда, стало быть, и лежал мой путь.
И ведь нашла я его не где-нибудь, а именно в Гефсимании!
Немного оправившись после пережитого страха, я взяла себя в руки. Прервав рассказ о льве и дрессировщике, спросила в лоб:
– Ты – Иисус Христос?
Не странно ли, что такой вопрос невозможно задать, сохранив обращение на «вы»? А ведь до этого момента я называла Эммануила, как положено по правилам вежливости.
Спросила и внутренне содрогнулась. Сейчас лицо моего собеседника исказится гримасой безумия, и я услышу лихорадочный бред больного, в мозгу которого определенное слово – в данном случае имя Спасителя – вызывает приступ маниакальности.
Вот что он мне сказал (повторяю, что передаю лишь содержание, ибо не смогу воспроизвести всё своеобразие его речи).
«Родители нарекли меня Эммануилом, что означает «с нами Бог». Именем Ёхошуа меня называли мои шелухин,по-русски это значит «Помощь Иеговы», а слово «Христос» я впервые услышал только здесь, у вас, и долго не догадывался, кто этот распятый бог, которому все молятся. Но когда выучился русской грамоте и прочел Новый Завет, меня как громом ударило. Многое в этой книге перепутано и пересказано неверно, там полно всяких небылиц, но чем дальше я читал, тем яснее становилось: это про меня, это я – Распятый! Я – Распятый!»
Услышав, как сердито он повторяет: «Я – 'аспятый, я – 'аспятый», я убедилась, что передо мной скорбный рассудком. Однако этот человек, пускай даже психически ущербный, все равно был мне симпатичен и интересен. Желая вернуть его разум из помутнения в ясность, я осторожно сказала: «Как же ты можешь быть Иисусом? Разве тебя распинали?»
Но от этого вопроса он пришел в еще большее возбуждение.
«Не меня, не меня! Я не сразу понял, но потом разобрался! Всё это ужасная ошибка, которой две тысячи лет!»
«Кого же распяли?» – еще мягче спросила я.
«Я не знаю. Может быть, Дидима, а может быть, Ехуду Таддая. С тех пор как я понял, что там произошло, я всё пытаюсь угадать, кого убили. Дидим – вылитый я, его потому так и прозвали, по-гречески это слово значит «близнец». И Ехуда Таддай тоже на меня похож, ведь он мой брат. (Точнее, Эммануил употребил комичное в подобных обстоятельствах слово «кузен», и я вспомнила, что апостол Иуда Фаддей в самом деле приходился Иисусу двоюродным братом.)Дидим такой отчаянный! И упрямый... Но нет, это был не он. Я очень смеялся, когда прочитал в Евангелии, как он погрузил персты в дырки от гвоздей. Именно так бы Фома-Дидим и поступил, а значит, распяли не его. Наверняка то был Ехуда, племянник моей матери. А может быть, Нафанаил? У него тоже голубые глаза. В Иерусалиме меня мало кто знал в лицо, так что любой из шелухинмог выдать себя за меня... Нет, мне не угадать, кого из них казнили. Но зато я твердо знаю, кто всё это придумал – второй Ехуда, тот, что из Кериота. Он иудеянин, а они хитрее нас, галилеян. Ехуда, сын Шимона, подговорил Кифу, а тот убедил остальных. Они всегда его слушались! Знаешь, ведь это они привели меня сюда и заперли, Кифа с Ехудой».
Он показал рукой на пещеру.
Его дальнейший рассказ я передам сжато, опуская свои вопросы, его восклицания, а также мои мысли относительно достоверности описываемых событий. Будет лучше, если о правдоподобии этой истории Вы составите себе мнение сами.
Итак, если верить рассказчику, он (то есть бродячий проповедник Эммануил-Ёхошуа, живший в Палестине девятнадцать столетий назад) пришел в город Иерусалим в канун праздника Пасхи. Его сопровождали двенадцать учеников, приставших к нему во время странствий. Большинство из них были рыбаками с Галилейского моря, а прочих можно отнести к категориии «мизераблей» – очевидно, Эммануил всегда испытывал слабость к «черным людям».
В Иерусалиме, где об Эммануиле прежде слыхом не слыхивали, он, по своему обыкновению, разговаривал с разными людьми, и одни его ругали, а другие слушали со вниманием. В конце концов кто-то донес городским властям на еретика, подрывающего основы веры, и проповеднику пришлось скрываться. В ночь на пятницу он и его ученики собрались за городом, в Гефсиманском саду и держали совет, как быть. Бежать из города? Но дороги известны наперечет, и конным стражникам будет легко настигнуть беглецов.
Тогда старший из шелухин, Кифа, сказал: «Учитель, здесь поблизости есть место, где можно спрятаться. Ты побудешь там два или три дня, пока те, кто тебя ищет, не прекратят поиски». Кифа и еще один шелуахпо имени Ехуда, сын Шимона, которого Эммануил назвал «очень умным и хитрым», отвели своего предводителя на вершину Масличной горы, во двор некоей бедной вдовы. Там, под землей, недавно открыли древнюю пещеру, в которой когда-то хоронили умерших, а потом перестали, потому что в склепе не осталось свободного места.
Ученики оставили Эммануилу светильник, воду, хлеб, а сами удалились. Однако через некоторое время он, охваченный раскаянием (как же он будет отсиживаться в убежище, когда шелухинподвергают себя опасности?), захотел вернуться в сад, и тут оказалось, что ученики завалили выход камнями.
А потом произошло что-то вроде землетрясения. Эммануил на миг потерял сознание и очнулся от того, что услышал голос девочки, которая повторяла непонятное слово: «Пе-етя! Пе-етя!»Это была строгановская Дурка, разыскивавшая своего петуха.
«Сначала я думал, что умер во время землетрясения и попал в мир мертвых, – рассказывал мне он. – Там всё не так, как в мире живых: другая природа, другие люди, другой язык, другие обычаи. И только не мог взять в толк, рай это или ад. В разное время мне казалось по-разному. То – что это несомненный рай: много деревьев, много воды, нет зноя. А иногда думал: нет, это ад. Только в аду бывает так холодно и земля становится белой и жесткой, как мертвое тело. Потом решил: не ад и не рай, а другой мир, куда попадаешь после смерти и где надо жить так же, как в прежнем мире – делать угодное Богу и одолевать в себе Нечистого. После же, наверное, снова умрешь, и будет еще мир, а потом еще, и еще, и так до тех пор, пока душа не пройдет до конца весь путь, назначенный ей Господом».
Я говорила Вам, что пережила в строгановской пещере нечто подобное. Там тоже дрожала земля и что-то странное случилось с временем. Как сказано в одном старинном трактате, обнаруженном мной в Вашей библиотеке: «А еще есть Пещеры, именуемые Особенными, где нет проистечения времени, и человек, попавший туда, может сгинуть на веки вечные либо же быть выброшен в другое время и даже в другую Особенную Пещеру».
Меня, помнится, больше всего заинтриговали эти самые «Особенные Пещеры», где «нет проистечения времени». Эммануила же, человека совсем иного устройства, сверхъестественность случившегося нисколько не удивила и даже не слишком заинтересовала. «У Бога чудес много», заметил он мельком и потом почти всё время говорил о другом – как несправедливо Евангелие по отношению к его любимым шелухин.Эта тема занимала его гораздо больше.
«Не предавал меня Ехуда из Кериота! Меня никто никогда не предавал! Он придумал всю эту хитрость (Эммануил сказал: «эту авентюру»),чтобы меня спасти. Пошел к первосвященнику и сказал: «Я укажу вам, где прячется Ёхошуа из Назарета, дайте мне обещанную награду». Он нарочно так сделал, чтобы они распяли другого и успокоились. И повесился потом тоже нарочно, чтобы никто не усомнился в его предательстве. О, ты не знаешь, какой он был хитрый, мой Иуда! И какой благородный! А теперь все проклинают его и плюют на его прах! Это невыносимо!
Иуда показал стражникам на одного из моих шелухин —на Дидима, или на второго Ехуду, или еще на кого-то, – и тот сказал: «Да, я – Ёхошуа из Назарета», а остальные подтвердили. Наверное, это всё-таки был Таддай, мы с ним оба пошли лицом и ростом в нашего деда. Неужели они его распяли? Знаешь ли ты, что такое распятие? Это самая ужасная из казней. Даже умирать на колу менее мучительно, там жизнь вытекает вместе с кровью. А тут все приподнимаешься, приподнимаешься на носках, чтобы вдохнуть воздуха, а солнце впивается прямо в мозг, и палач подставляет влажную губку на копье. Ты знаешь, что пить нельзя – это только продлит твои страдания, но сухие губы сами тянутся... И так много часов, пока толпе и караулу не надоест. Тогда сломают голени, чтоб ты больше не мог приподниматься, и скоро задохнешься...»
Тут он заплакал, и мне пришлось его утешать. Он размазывал слезы по лицу и всё повторял: «Я должен вернуться. Я должен вернуться к своим. Но проклятая пещера не пускает меня! Я три года ходил по стране России. Сначала ничего не знал, не понимал, что произошло. Потом догадался, но не знал, что нужно делать. А недавно вдруг услышал голос. Это со мной иногда бывает, я слышу Голос. Его голос. (Эммануил показал на свод пещеры.)Голос сказал мне: «Вернись к себе. Распяли не того, кого следовало, и из-за этого люди ничего не поняли. Хуже – они поняли всё неправильно! И почти две тысячи лет всё мучают, мучают друг друга!» И я понял: я должен вернуться и всё исправить.
Я уехал из России, я спешил попасть сюда в канун еврейской Пасхи. Мне удалось найти пещеру. Повезло, что двор заброшен и здесь никто не живет. Я долго рыл, прежде чем нашел вход – за две тысячи лет он ушел на семь локтей под землю. В ночь на пятницу я спустился в пещеру и сидел там до утра. Ничего не произошло.
В следующий четверг я решил в точности повторить весь путь из масличного сада – может быть, дело в этом. Опять ничего. Я пробовал еще несколько раз, но мое время не хотело забирать меня обратно, его ворота закрылись. Тогда я пошел ходить по родной земле – смотреть, думать и разговаривать с людьми.
А третьего дня вдруг вспомнил. Тогда ведь было полнолуние! В мои времена Пасху всегда отмечали в пятнадцатый день месяца, в полнолуние. Я вошел в пещеру как раз в ночь с четырнадцатого на пятнадцатое нисана».
Здесь Эммануил спохватился, замахал руками: «Ах, женщина, я заговорился с тобой! Что луна?»
Он бросился наружу. Я – за ним.
Луна уже зашла, и Эммануил застонал от досады. «Я упустил ее! Ну вот, всегда я так – заговорюсь с кем-нибудь...»
Издали донесся крик петуха – было уже недалеко до рассвета.
Эммануил снова заговорил, сердито: «И Кифу тоже оклеветали. Не мог он от меня трижды отречься, прежде чем пропоет петух. Что Кифа пошел в дом первосвященника, верю. Должно быть, хотел проверить, заметили ли мои гонители подмену. Но что он «исшед вон и плакася горько», не верю. Представить, чтобы Кифа плакал, заслышав крик петуха?»
И только в этот миг я наконец вспомнила. «А что значит петух? Нет, не евангельский, а другой, красный? В чем его значение?»
Он вытаращил глаза, из чего я сделала вывод, что про магические свойства красного петуха он ничего не знает и я зря морочила себе голову старинными трактатами и нелепыми гипотезами. В самом деле, какой еще петух?
Но Эммануил вдруг хлопнул себя руками по бокам и закричал так громко, что с дерева, маша крыльями, сорвалась какая-то ночная птица: «Петух! Ну конечно! Петух!» И еще добавил что-то на еврейском или арамейском.
«Что? Что?» – закричала и я, испугавшись.
«Не в полнолунии дело! – захлебываясь, стал объяснять он. – Дело в петухе! Я совсем про него забыл! Вот почему пещера меня не пускает! Ах, как я тебе благодарен, женщина! Но откуда ты узнала про петуха?»
Я ужасно заволновалась – вот сейчас, сейчас мне откроется непостижимая тайна, и от этого, быть может, переменится весь мой взгляд на мир. Говорю ему: «Из одной книги. Там написано, что, если в рассветный час в Особенной Пещере закричит красный петух, человек повисает душой и телом между мирами, и его может выбросить в другое время и место. Это в самом деле так?»
Спросила – и замерла.
А он пожал плечами: «Про это я ничего не знаю. Но мне нужно раздобыть петуха!» «Красного?» «Да-да, он был красный. У тебя есть деньги?»
Я вздрогнула от неожиданного вопроса. «Есть». «Купишь мне на базаре красного петуха? У меня совсем нет денег». «Конечно, куплю. Должно быть, значение красного петуха очень велико?»
«Еще бы не велико! – воскликнул он. – Без него старая Мириам просто пропадет!»
Я испугалась, что он бредит. «Кто?» «Мириам, бедная вдова, которой принадлежит, то есть в мое время принадлежала эта земля. Мириам держит кур и живет тем, что продает яйца. А ее петух забрался ко мне в склеп. Они, петухи, такие любопытные! Я обнаружил его, только когда Кифа с Ехудой уже ушли. Старушке без петуха нельзя! Кто будет топтать ее кур? Теперь понятно, почему Бог не пустил меня обратно! Как Он справедлив и милосерден!»
Я переспросила: «Так в пещере с тобой был петух? И он закричал перед тем, как задрожала земля?» «Кажется, да».
Я замолчала, пытаясь вникнуть в смысл этого диковинного явления. Не сумела. Спрашиваю: «Но что это за нелепость – красный петух? Как такое может быть?»
Эммануил улыбнулся. «Разве есть мудрец, который знает все законы, по которым устроен мир? Ну так чего ж удивляться, если Бог преподает еще один урок или являет нам новую притчу?»
«В чем же может заключаться смысл такой странной притчи?!»
Он немножко подумал и спрашивает: «Скажи, верить в чудеса глупо?»
«Нет, – ответила я. – То есть да. Я не знаю. Надеяться на то, что в жизнь вмешается чудо и решит все твои печали, глупо».
«Да, надежда на чудо – глупость, – согласился он. – И бессмыслица. Такая же, как кричащий в Особенной Пещере красный петух».
Больше мы ни о чем не говорили, потому что я вдруг ощутила неимоверную усталость и едва могла удерживаться на ногах. Должно быть, сказались потрясения этой удивительной ночи.
Мы спустились обратно в склеп и проспали там до утра. Земля была жесткой, но никогда еще я не почивала так крепко и мирно.
Когда же в отверстие проникли лучи солнца, мы отправились на городской базар покупать красного петуха.
* * *
Птицу нужной окраски мы нашли без труда – это весьма распространенная здесь порода, должно быть, выведенная не одно тысячелетие назад.
Взяли первого же красного петуха, который нам попался. Купили, не торгуясь, не присматриваясь, и покупка вышла неудачной – птица оказалась скандального нрава. Эммануилу пришлось ходить в обнимку с петухом целый день, и паскудник исцарапал ему клювом и шпорами все руки. Но мой спутник безропотно всё сносил и только увещевал красноперого разбойника. Увы, петух оказался менее податлив на речи чудесного проповедника, чем закоренелые злодеи.
Кстати, о злодеях. Один раз в уличной толпе я почувствовала на себе чей-то взгляд. Резко обернулась и увидела круглолицего убийцу по имени Яша. Он спрятался за угол, но я успела его разглядеть.
Хотела схватить Эммануила за рукав и бежать, утащить его от опасности, но круглолицый вдруг снова высунулся и приложил палец к губам.
Тогда я вспомнила Трофима Дубенко и успокоилась. Что ж, подумала я, пускай у Эммануила будет не один охранитель, а двое.
Ах, владыко, какой это был чудесный день! Если б еще не треклятый петух, изводивший нас своими подлыми выходками! Нужно было купить его не рано утром, а ближе к вечеру, и выбрать какого-нибудь характером поспокойней.
Мы разговаривали о самых разных вещах, всего в письме не изложишь. Я приведу Вам лишь несколько его суждений, особенно врезавшихся в память.
Эммануила необычайно интересно слушать, многие его мысли неожиданны и даже парадоксальны. В нем – поразительная вещь для проповедника – нисколько нет ханжества. Например, увидев публичных женщин, которые ближе к вечеру вышли на свой промысел к Сионским воротам, он завел со мной речь о физической любви, хоть и знал, что я монахиня. Сказал: в плотских ласканиях греха нет, и, наоборот, грех против Бога совершают те, кто свою плоть иссушает воздержанием. Единственно, не нужно унижать и оскорблять это радостное таинство, разменивая его на медяки. Это все равно что глумиться над другими великими таинствами – рождением или смертью. И тут же кинулся вразумлять иерусалимских блудниц, чтоб не грязнили Божью радость. Насилу я его увела от разъяренных девок, собиравшихся задать ему трепку.
Была одна тема, которой я старалась избегать, чтобы не вызвать у него нового приступа маниакальности: Иисус Христос. Но вышло так, что мы остановились напиться воды на Виа Долороза, возле деревянного изваяния Господа, согнувшегося под тяжестью креста. Эммануил долго разглядывал статую, будто примеривался к чему-то, а потом вдруг повернулся и говорит: «Знаешь, а ведь ты не первая, кто меня узнал. Был еще один человек, прокуратор».
Снова началось, мысленно вздохнула я и обреченно спросила: «Две тысячи лет назад?» «Нет, три месяца назад, в Петербурге».
То, что он рассказал мне вслед за этим, постараюсь передать как можно точнее, потому что Вы несомненно поймете, о ком идет речь.
«Прокуратор призвал меня к себе и долго говорил со мною о Боге, о церкви и разном прочем.
Прокуратор человек умный, и слушать умеет. Разговаривать с ним было приятно и интересно. Называться ему я не стал, чтобы не огорчать – у него вся комната (а это была очень большая и очень красивая комната) увешана изображениями Распятого.
Про церковь я сказал ему, что ее вовсе не нужно. И попов не нужно. Всякий должен свой путь пройти сам, и поводырем может стать любой хороший человек, а иногда даже и плохой, такое тоже бывает. И что это за ремесло такое – поп? Еще неизвестно, сам-то он хороший человек или нет. И почему только мужчины могут быть попами? Разве женщины не добрее и не самоотверженнее мужчин?
А про Бога я сказал прокуратору, что это раньше, в прежние времена, Он был очень нужен, чтобы внушать людям Божий страх. Как в семье: пока ребенок маленький и сам хорошее от дурного отличить не может, родитель должен на него воздействовать страхом наказания. Но за две тысячи лет человечество подросло, гнева Божьего бояться перестало, и теперь нужно по-другому. Не оглядываться на грозного Вседержателя, а вслушиваться в собственную душу. Там Бог, в душе, а не на небе, не на облаке. Говорю прокуратору: мол, хожу по земле, смотрю на людей и вижу, насколько они стали лучше, чем раньше. Разумнее, добрее, милосердней. Не совсем еще взрослые, но уже и не малолетки неразумные, как во времена Моисея или Иоанна Крестителя. Теперь надобен другой завет меж Богом и людьми, совсем другой.
Вдруг старик взмахнул рукой, чтоб я замолчал. Нахмурил свои густые седые брови и долго, минуту или две, всматривался в мое лицо, а потом пронзительным голосом спросил: «Это ты? Ты?!» Сам же себе и ответил: «Ты...» И я понял, что он догадался.
«Зачем ты пришел мне мешать? – говорит. – Мне и без тебя очень трудно. Ты ошибаешься насчет людей, ты ничего в них не понял. Они пока еще совсем несмышленыши, без строгих пастырей им нельзя – погибнут. Клянусь, человек слабее и ниже, чем ты думал! Он слаб и подл. Ты пришел слишком рано».
Я ему хотел объяснить, что так вышло само, но он мне не поверил. Упал на колени, руки вот так сложил и плачет. «Вернись, откуда пришел. Христом-Богом... нет, Отцом Небесным Тебя молю!» Я честно отвечаю, что рад бы вернуться, но не могу.
«Да-да, я знаю», – сказал он со вздохом.
Поднялся, прошел по комнате и говорит как бы сам себе, горько так: «Ах, душа моя, душа... Но ведь не себя ради, а за други своя...» Потом как зазвонит в колокольчик и велел меня увести. А я еще многое хотел ему сказать».
Вот Вам, владыко, и вся разгадка нашего «ребуса», как говорил Сергей Сергеевич Долинин. Да только что с нею делать, с этой разгадкой?
Я уже жалею, что написала. Вы с Вашей неустрашимостью начнете изобличать преступника, и ничего у Вас не получится, только сумасшедшим прослывете.
Молю Вас, ничего этого не нужно. «Прокуратор» думает, что на самого Божьего Сына замахнулся, и готов за то бессмертием души заплатить. Пускай заплатит. Не нам с Вами заплатит – Ему.
Ах, вечер уже! За окном совсем темно. Я за письмом просидела весь день, а еще столького не написала!
Перед тем как объяснить про самое трудное, чего сама толком не понимаю, приведу Вам еще несколько Эммануиловых речений, потому что всё время их вспоминаю.
Он поразил меня, сказав, что не знает, есть Бог или нет, да это и не важно.Что ж, говорит, если Бога нет, то человеку и свинствовать можно? Не дети же мы, чтоб вести себя пристойно только в присутствии взрослых.
Еще он так сказал: «Не стремись любить весь мир, на это мало у кого любви достанет. Когда желаешь возвести высокую башню, сначала сядь и вычисли, хватит ли у тебя средств, чтобы завершить строительство. А то многие сулятся любить весь мир и всех человеков, а и знать не знают, что такое любовь, даже сами себя любить не умеют. Не разжижай свою любовь, не мажь ее тонким слоем, как капельку масла по широкому блину. Лучше люби родных и друзей, зато всей душой. Если совсем мало сил – люби самого себя, но только искренне и верно. Не изменяй себе. То есть не изменяй Богу, потому что Он – твое истинное «я». И если будешь верен себе, то уже этим спасешься».
А про самое интересное мы не договорили. Я спросила его, верит ли он в загробную жизнь. Есть что-то после смерти или нет? Он удивился: «Откуда же мне знать? Вот умру, тогда и узнаю. Пока живешь здесь, надо об этой жизни думать, а не о той. Хотя, конечно, интересно помечтать. Мне кажется, что другая жизнь обязательно должна быть и что смерть телесная – это не конец человека, а как бы новое рождение. – Тут он сконфузился и говорит. – У меня про это есть даже целая гипотенуза...» «Гипотеза? – догадалась я, поняв, что он перепутал «ученые» слова. – Пожалуйста, расскажи, мне очень важно это знать!» Эммануил начал было отвечать: «Мне думается, то есть я даже почти совсем уверен, что каждая душа в момент смерти...» И в это время гнусный петух вырвался у него из-под мышки и припустил по пустырю! Пришлось его догонять, ловить. Можете вообразить: истошное кукареканье, свист и улюлюканье зевак, во все стороны летят перья. Так я и не узнала, что хотел мне открыть Эммануил про загробную жизнь.
* * *
Теперь, когда я одна, я вижу, что слишком беспечно тратила драгоценные часы, которые мы провели вместе. Много болтала сама, вместо того чтобы слушать. Иной раз заводила разговор о пустяках, а бывало, что мы и просто молчали.
Как отличается сегодняшний день от вчерашнего! Как ненужновсё, на что падает мой взгляд! Как сиротливо вокруг! Мир стал пустым.
Почему я отпустила его? Почему не остановила?
Я думала, он придет ко мне в гостиницу под утро, смущенный и, возможно, вразумившийся. И мы вместе посмеемся над этим дурацким петухом.
Всю минувшую ночь я не спала. Я улыбалась, предвкушая, как буду подшучивать над ним. Думала, о чем буду его спрашивать, когда он вернется.
Но он, конечно, не вернулся.
Господи, что я натворила!
А вдруг всё это правда?
Тогда он – это Он, тогда Его схватят, и будут бичевать, и наденут терновый венец, и изломают на кресте!
А я его отпустила!
Но разве смогла бы я его остановить? Он мягкий, добрый, нескладный, но остановить его невозможно. Многоумный «прокуратор» очень хорошо это понял.
Вчера ночью Эммануил вошел в пещеру с красным петухом под мышкой. И не вернулся.
Сегодня суббота.
Сначала я ждала его, потом поняла: он не придет, и села писать это письмо. Прервалась всего один раз – сходила на базар и купила красного петуха.
Теперь я опытная. Новый петух смирный и еще краснее вчерашнего. Вон он косится на меня круглым глазом и клюет с блюдца просо.
Письмо я оставлю в миссии, хотя уверена, что завтра утром придется забирать его обратно.
Все деньги, какие у меня остались, сейчас отправлю Салаху. Он, бедняга, не дождался меня той ночью. Наверное, думает, что я скрылась, не поблагодарив и не расплатившись.
Если Вы все-таки читаете письмо, пожалуйста, не считайте меня беглой монашенкой, предавшей свой Обет. Я ведь Христова невеста, за кем же мне идти, если не за Ним?
Я окажусь тамна день позже Него. И если Он распят, омою тело слезами, умащу составом из смирны и алоя.
Не морщитесь, не морщитесь! Я не сошла с ума, просто от бессонной ночи и тревожного ожидания тянет на экзальтацию.
Я ведь всё отлично понимаю. И знаю, что произошло на самом деле.
Три года назад чудаковатый мужичок, бродяга, забрался в уральскую пещеру переночевать, а пещера была странная, где людей посещают диковинные видения, и бродяге пригрезилось нечто такое, отчего у него отшибло язык и память, и он вообразил себя Иисусом Христом. Это безусловно род помешательства, но не злого, а доброго, какое бывает у блаженных.
Так, да?
И ведь что самое поразительное: доказать и проверить что-либо в этой истории невозможно, как это и всегда бывает в вопросах веры. Как сказано в одном романе, весь мир стоит на нелепостях, они слишком нужны на земле. Если хочешь и можешь верить в чудо – верь; не хочешь и не можешь – избери рациональное объяснение. А что на свете много явлений, которые сначала представляются нам сверхъестественными, а после находят научное разъяснение, так это давно известно, хоть бы даже и на собственном нашем с Вами опыте. Помните Черного монаха?
И что вчера ночью произошло, я ведь тоже знаю.
Эммануил-Мануйла меня обманул. Решил избавиться от прилипчивой бабы, потому что любит ходить по земле один. Просто сказать «уйди от меня, женщина» не захотел – он же добрый. Оставил мне на память возможность чуда и пошел себе странствовать по земле.
Ничего со мной, конечно же, не случится. Не будет никакого перемещения во времени и пространстве. Чушь и бред.
Но все же сегодня ночью я войду в пещеру, и под мышкой у меня будет красный петух.
1.Апикойрес – безбожник (идиш).
2.Что и требовалось доказать (лат.)
3.«Трактат о пещерах» (лат.)
4.«Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли» (лат.).
5.кряхтения и внутренних звуков (лат.).
6.«Главы ХХХVIII повествующей об Особенных Пещерах» (лат.).
7.«Предположительном рассуждении об избранности красного петуха» (лат.)
8.Петух домашний (лат.).
9.Вы еврейка! (идиш)
10.Святая Земля (англ.).
11.Мистер, миссис, мы отправляемся в Иерусалим! (искаж. англ.)
12.Великолепно! (англ.)
13.Наш Коран? (англ.)
14.Чтоб всем евреям так было! (идиш)
15.Еврейская голова (идиш).
16.Генэх, идем со мной! (идиш)
17.Милая! Любимая! Выйди! (англ.)
18.«Жизнь в арабском гареме, увиденная изнутри» (англ.)
19.извините (идиш).
20.еврейское сердце (идиш).
21.дырку ему в голову (идиш)
22.Иерусалим, священный город (идиш).
23.чушь (идиш)
24.не приведи Господь (идиш).
25.чтоб ему провалиться (идиш).
26.«Фунт вашего прекраснейшего мяса, чтоб выбрать мог часть тела я любую и мясо вырезать, где пожелаю» (пер. Т. Щепкиной-Куперник).
27.Мадам, вам нельзя здесь находиться (фр.).
28.Занятие, профессия (фр.)
