Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин
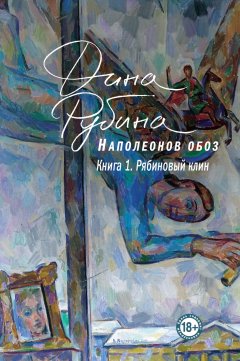
© Д. Рубина, 2018
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2018
Часть первая
Серединки
Глава 1
Ноу-халяу
Две любимые песни есть у Изюма: про чёрного во́рона и про сизого голубка. Да их каждый знает: Си-и-изый, лети-и, голубо-о-о-к, в небо лети голу-бо-о-е… Ах, если б крылья мне тоже пожаловал бог, я-а б уле-тел за тобо-ою…
А про ворона иносказательно так: А ну-ка, парень, подними повыше ворот, подними повыше ворот и держись! Чёрный ворон, чёрный ворон, чёрный ворон переехал мою маленькую жизнь.
Такая вот занятная орнитология…
А если вдуматься: выходит, несчастный ворон всю горечь горькую народной души в себя вобрал, всё яростное омерзение? А сизый голубок, тот – просто дух небесного простора, вестник несбыточной воли, даром что серит где ни попадя?
– Это ж как птице обидно, ворону-то, – поясняет Изюм.
– Да ладно тебе! – отмахивается Надежда. – Ты видал, какие они тут летают? Я когда по грунтовке еду, близко их вижу, они прямо над машиной ухают: зловещие, размах крыльев, как у птеродактиля, и оперенье тусклое и нехорошее такое, просто жуть!
Это соседские посиделки на веранде Надеждиного дома. Там у нее стол стоит дубовый-помещичий, явно старинного боровского семейства имущество, у Бори-Канделябра прикуплен и накрыт тканой скатертью, привезенной аж из Иерусалима; друзская работа, говорит Надежда и не забывает уточнить: «не рус-ская, а друз-ская», будто Изюм должен непременно запомнить это слово: «друзы» – вот, тоже народ.
А в Иерусалиме живет эта, как её… ну писательница эта, к которой Надежда в гости ездит и привозит оттуда разные штуковины Востока: медную турку, бронзового (тяжеленного!) козла с витыми острыми рогами, янтарные чётки – возьмёшь их, они переливаются в пригоршню тёплой виноградной гроздью. Или вот ту же скатерть.
Изюм почтительно проводит ладонями по плотной и лоснистой, как новенькая кожа, материи – вся она сплошь в лошадях да всадниках: скачут они, скачут, лук натягивают, целятся в лань, а та шею гнёт до земли в бесконечном, неуловимо женском изнеможении…
Ну, это когда Надежда пускает на свою веранду. Может и не пустить: поднимет от стопки листов свою рыжую копну, блеснёт очками, прям как Берия, и бросит: «Занята – работаю – сгинь!» Она вообще женщина с характером. Редактор в большом издательстве, с писателями хороводится, и эти самые писатели в её рассказах – то ли дети малые, то ли тепличные растения, то ли буйно помешанные. Надежда, когда заходит разговор, имён обычно не называет, любопытство праздное пресекает, очень строга; обронит только: «некий известный автор». И тогда похожа на старшую медсестру психдиспансера или на главного садовника в курортном ботаническом розарии. Куда-то она ездит на встречи с ними, носится с их… даже не книгами, а чем-то вроде рассады: «рукописи» называются, и из них, как из луковицы – тюльпан, книги ещё только надо выращивать.
Книжки вообще-то Изюм уважает, кое-какие в детстве почитывал, любит о них порассуждать:
– Костику по программе надо «Хоббита» читать, – делится он с Надеждой. – Я в шоке! Он в третьем классе!
– Да ладно тебе, «Хоббит» – хорошая книжка.
– Хорошая?! Ты знаешь, какие там твари?! Я хочу спросить: где Пастернак?!
Натыкается на изумлённое лицо Надежды и суетливо себя поправляет:
– …в смысле, Мамин-Сибиряк! ГДЕ САВРАСКА? Я Костику говорю: «Сынок, давай почитаем про Незнайку!» А он мне: «Пап, ты что, травы -обкурился?»
Изюм – ближайший Надеждин сосед через забор. Он рукастый и поможливый, когда в настроении. Когда в настроении, он и собеседник забавный, и насмешит кого угодно до икоты. Идеи и разные технические усовершенствования мира прут из него, как дрожжевое тесто из кастрюли.
– Петровна! – говорит. – Раньше мне всё было пофиг. Теперь я не пью, не курю, похудел на восемь кило, и мне всё стало не пофиг, – на трезвую-то голову. Вот, думаю, неплохо бы миллионов десять заработать.
– Интересно, на чём бы это? – Надежда насмешливо посматривает поверх своих очков, спущенных на кончик симпатичного носа.
– Ну-тк!.. Мозгами надо шевелить, нащупать какое-нибудь… ноу-халяу, до чего никто ещё не допёр! Петровна, ты вот ночью, когда в туалет идёшь, сразу тапочки находишь?
– Да я их и не ищу. Мне главное очки не искать, а то сразу проснусь. Можно и босиком, на ощупь, – там пара шагов до туалета. И знаешь, я навострилась: когда ложусь, оставляю тапочки ровнёхонько перед кроватью, встаю и ноги ставлю прямо в то же место.
– Ну, у меня так не получается. И я вот что придумал: надо простегать тапки светящимися нитями. Фосфоресценция – если знаешь слово. Проснулся, а они в темноте сияют…
Или прибежит вечером в самый разгар снегопада, весь облеплен снежной жижей, топает по ступеням веранды и дышит, как довольная дворняга:
– Петровна! Ноу-халяу! Страшная экономия времени! Если на твои ворота приделать дополнительные петли вверху, можно домкратом поднимать их из нижних петель в верхние. И тогда не нужно чистить снег! Это ж пустейшее занятие – снег чистить!
Нынешней зимой идеи и усовершенствования одолевают его преимущественно по ночам. Каждое утро, как собака – хозяину, приносит он на крыльцо Надежды очередной продукт бессонницы.
Спит он плохо ещё с позапрошлого месяца: отравился на поминках Гоголя.
Нет, ну эту историю надо в деталях живописать, страстным и убедительным голосом самого Изюма:
– У меня тут одноклассник помер, Гоголь. Гоголь – это потому, что у него носяра значительный. Ну, звонят – на поминки ехать. И такая неохота мне, Петровна! Ведь что такое хорошие поминки? Все ужрутся и давай шапито крутить! А я, как пить бросил, у меня даже чирьи на жопе зарастать стали, и печень не жужжит, и язык поострел.
Но – поехал. Гоголя всё-тки жалко… А они, такие, давай: выпей да выпей. И одноклассники, и жена его. А я и не знал, что водка у них тульская палёная, по семьдесят пять рэ. Маханул раза два этого пойла, чувствую: звук гаснет, зрение заскучало… и кровь будто замёрзла во всех протоках. Мирообозрение, короче, поблекло: ни бэ, ни мэ, ни куролесу…
Ну, «Скорую» вызвали. Промыли желудок, ввели глюкозу. Хотели везти меня в наркологическую больницу. Кое-как отбился, отказ подписал. И два дня валялся у гоголевской вдовы… В общем, чуть не ушёл за школьным товарищем. Главное, спать не могу! В голову за полсекунды лезет миллиард мыслей. Блллин-блинович! – думаю, – это пипец, сейчас гением заделаюсь!
Ну, пошел я на приём в нашу боровскую больничку, к психиатру. Почему – к психиатру? А к ко-му ж ещё? Не сплю, мысли прут и прут. Тот посмотрел на меня: «Давно бухаем?» По коленке – херак! – молотком и… «У вас, – говорит, – наб-людается некая активность мозга». – «Точно, доктор: у меня мозг как самолёт: я только прикорну и – хоба! – цветные мысли стеной прут!»
«А вы махните водочки, – говорит. – Рюмку за едой».
И тут, Петровна, понял я, что он сам – синяк, и никакой от него клятвы Гиппократа. Вернулся домой, полез в Интернет, а там то же самое: примите водочки. Да не хочу я пить! Теперь представь: тело устало, глаза, как у Вия – пудовые, а в мозгу идей – на три конструкторских бюро.
Слушать Изюма можно с заткнутыми ушами, жестикуляцией он дублирует каждое слово своих монологов, как актер японского театра «Кабуки»: простирает обе руки (если хочет призвать к сочувствию), прижимает ладони к печени (подчеркнуть высокую степень ответственности), плавно поводит подбородком справа налево… и так далее. В нём, как в императоре Нероне, умер актёр, но не великий, а поселковый, с подмоченной репутацией и вчерашним перегаром. Однако даже и так от Изюма невозможно глаз отвести: он жестикулирует даже бровями, а брови наведены от рождения первоклассным гримёром: чёрные, длинные, как приподнятое крыло, – это брови любимой наложницы султана. И голосом он владеет достойно: сочный такой баритональный тенор, с некоторым пережимом и дрожью в минуты восторга или возмущения.
– Тут ночью, оказывается, интересные передачи идут по телику. Но я их смотреть не могу: телик – справа от койки, шея затекает. Так я что: надыбал сайт с радиоспектаклями, лежу и слушаю… Постановки всё старые, без модной придури, артисты не портянку жуют, говорят тренированными голосами. Я слушаю, слушаю… и погружаюсь. Раза два аж с кровати слетел: там у них речь такая устрашающе-внятная, – представляешь, как в мозгу преображается? И какие сны потом снятся! Тут вот «Ревизора» прослушал – это коллапс и ужас!
– Ужас? – рассеянно уточняет Надежда, вытирая мытую чашку полотенцем. Вот человек: сервиз-то кузнецовский, у Бори-Канделябра за бешеные деньги купила, а запросто ставит его на стол буквально каждый вечер, и прямо вот так невозмутимо чай пьёт и соседа угощает! Без всякого благоговения. – Почему же – ужас? Там же вроде всё смешно?
– Смешно там? А где ужас?
– Может, ты «Мёртвые души» слушал?
– Нет, то был «Ревизор», – убеждённо говорит Изюм.
– Так в «Ревизоре» всё смешно.
– Ну, знаешь, кому смешно, а кому не очень. Там в хлебе нос нашли!.. Чего ты ржёшь! – возмущается он, рассматривая зашедшуюся в конвульсиях смеха Надежду. Но руки держит на коленях, боится жестикуляцией смахнуть со стола дорогие предметы чаепития. – Ты что, не помнишь эту великую книгу?! Я от страха чуть не обоссался: ночь за окном, даже псы не брешут, а мне прямо в уши задушевный голос: нос в хлебе! Живой, шевелится!!! Ты что?! Гоголь, это же – кровавый нос в хлебе!
Из себя Изюм, как посмотришь – пузатенький горбоносый крепыш с близко поставленными серыми глазами. Когда увлечённо что-то рассказывает, глаза выпучивает и доверчиво моргает, а ресницы девчачьи, пушистые; опускает их – они как веера.
Рот он старается поменьше разевать, ибо у него там, сам говорит: «последний день Пномпеня».
Лет десять назад, когда был богатеньким («когда у меня был майонезный цех!»), он начал было строить импланты, но по жизненным показаниям не довел дело до конца, и теперь вместо некоторых зубов у него пеньки. И потому, даже смеясь, он старается делать губы жопкой. Надежда бы и не заметила, но когда он признался, заглянула-таки в пригласительно разинутую пасть и пеньки эти узрела.
Изюм – брехун отчаянный, изюмительный. Куда ни кинь, где ни копни, отовсюду лезет его суетливая брехня: брехня художественная, упоительная, вдохновенная, забывчивая и дармовая.
На днях, заглянув к нему по очередному ремонтному делу, Надежда углядела под шкафом электронные весы. Не поленилась, встала на карачки, вытянула их, обмахнула подолом пыль и взгромоздилась; а там – минус одиннадцать кэгэ от правдивого веса.
– У тебя даже весы брешут! – заявила она и рукой махнула, своей пухлой величавой рукой.
Надежда вообще-то вся целиком женщина величавая: высокая, полная, и лицо – так у рыжих бывает – белое и гладкое, как на портретах разных императриц.
– Императрицы?! – презрительно щурясь, отвечает она Изюму. – Да они все были немки, Изюм, все – немчура худосочная. А я – мордва, прикинь? Настоящая ядрёная мордва-мордовская, плоть от плоти родной картофельной ботвы…
И оба хохочут. Посмеяться она тоже любит – когда в настроении.
Но главное, они – Надежда и Изюм – дружбаны по животной теме: у обоих собаки, а у Надежды ещё и кот Пушкин.
Пёс у Надежды ангельской кротости, и оно понятно: лабрадор. Однажды, в начале счастливой совместной жизни, она повезла своего Лукича на какую-то собачью тусовку. Не то чтоб уж прямо наград возжаждала, а вот, покрасоваться хотелось: ну, такой он был распрекрасный мальчик, с блестящими персидскими очами.
Получив двусмысленную запись «перспективный лабрадор», Надежда на всю эту собачью аристократию обиделась, и участие в смотрах собачьих статей прекратила. Перспективный лабрадор, вообще-то белый (но на солнце – с редким золотисто-луковым отливом), остался обаятельным неучем, добряком и рубахой-парнем. С Изюмом у них отношения трогательные, так как, уезжая к себе в Москву, Надежда частенько оставляет Лукича на попечение Изюма, ни к чему, считает, лишать собаку здорового деревенского климата. А щедрый Изюм уж кормит так кормит: и кашку замутит, и котлетки замастырит, а на третье – шарлотка, так что Лукич за Изюма душу свою бессмертную собачью ежеминутно готов продать. Сидит тот за столом у Надежды, а Лукич встанет на задние лапы и пошёл за Изюмовым ухом ухаживать, вылизывать его не за страх, а за совесть.
– Ну, ладно, дуся, – уговаривает его Изюм, поглаживая и отпихивая, – дышишь, как грубиян, вот, сердце бьётся. К чему эти излишества!
У самого-то Изюма собачина будьте-нате: Нюха, алабайка тигровой масти. Он зовёт её «свиньёй» и уверяет, что стоит Нюха двести тыщ.
– Мы тут пошли на рыбалку с соседом. И он мне: «Продай собаку». Я ему говорю: «У тебя жена есть? Продай мне её».
Нюха, в отличие от деликатного Лукича, собака безрассудная и склочная: рвёт и грызёт всех псов по округе. Недавно порвала собачку Юрки-пожарника. Тот ворвался с берданкой в руках:
– Всё, Изюм, щас я буду её убивать!
Но Изюма так просто не уцепишь. Он же вертлявый, как Буратино.
– Давай, Юр, убивай. Только помни, у меня тут всюду камеры натыканы.
Долго Юрка ярился, – слюни веером, сопли пузырями, – весь двор Изюму заплевал. Пришлось, куда денешься, откупаться. Договорились, что Изюм ему у Витьки, собачьего заводчика по кличке «Неоновый мальчик», купит щенка хаски.
Не успел это дело уладить, другой сосед с порванными джинсами:
– Сделай укол своему динозавру, блять!
А Изюм-то к любому свой подход имеет. Головушку понурил и смиренно так:
– Давай, делай укол мне. Делай, Мишка, мне укол.
Нет, намордник-то у Нюхи имеется. Уж не знаю – у каких рыцарей такой был: металлическая сетчатая труба устрашающих размеров. Выбегает несчастная псина с такой вот дурой на башке, а зима в этом году снежная, но мокрохлябистая. Нюха морду в сугроб опускает, в трубу набивается снег, и бежит алабайка, бежит, башкой мотает. Своей «свиньёй» Изюм гордится, всё ему кажется, что она достойна более широкого признания и незаурядной судьбы. Вот и придумывает разные эпизоды героического эпоса:
– Мы сегодня со свиньёй поехали в Коростелёво. Зашёл я в магазин, свинью на улице оставил. А возле магазина такса привязана, вполне такая городская семейная такса. Вдруг из-за угла выбегает огромная собака дикая, набрасывается на таксу и давай её рвать!
Когда Изюм рассказывает, глаза его горят, пальцы топырятся ершом, локти – крылышками, ресницы трепещут. Если он стоит, то при этом ещё и подтанцовывает.
– Ну, свинье моей это дело не понравилось, и она ка-а-ак бросится на дикую собаку!
– Как же это она бросилась, – подозрительно щурится Надежда, – когда у неё морда в трубе?
– А вот прямо как в турнирах: морду поднимает и бьёт, поднимает и бьёт! У неё труба – натуральный щит-и-меч! Ну и отогнала дикую собаку. И тогда из магазина выходит хозяин таксы. Он, оказывается, это дело в окно наблюдал. Жмёт мне руку и даёт пятьсот рублей!
– И ты взял?! – презрительно ахает Надежда.
Изюм опускает ресницы:
– Ну, а что… взял! Призы-то у нас ещё никто не отменял.
Мужичок он в силу разных причин и происшествий беспаспортный, водительские права тоже отсутствуют. Так и ездит… и, между прочим, ездит аккуратно, получше многих иных.
Однажды привёз к Надежде ту самую иерусалимскую писательницу, – в Обнинске она выступала, в Центральной библиотеке. А Изюм с бригадой Альбертика делал ремонт на даче у одного крутыша. И Надежда: «Слушай, Изюм, прихвати-ка Нину, тебе ж по пути, а я на ужин баранинки потомлю. И ты приглашён».
Отчего не прихватить, Изюму и самому любопытно: у Надежды на полках книг этой писательницы – как бурьяну. Подумать страшно, сколько человек за свою жизнь может слов намахать!
Подъехал вечером к библиотеке, парканулся… дождался, когда из дверей сначала вся бабья шушера повалит, а за ней – в букетах и венках, как майская утопленница, – выйдет та самая Нина… Ничего такая тётка, простая, без понтов, за руку здоровается. Поздоровкались, погрузились, поехали… На заднем сиденье цветы колышутся и пахнут, и только духового оркестра с траурным шо́пенгом не хватает, – медленно едем, незачем писателя по ухабам трясти.
Надежда предупредила, чтобы Изюм пореже рот разевал: пойми, мол, известный писатель, на неё и так народ прёт со своими идиотскими эмоциями. Помалкивай до ужина, – человек устал.
Какой там устал человек! Напустилась на него с миллион-вопросов. И до всего ей дело: про жизнь его, родителей, работу, мысли разные спрашивает. И видно, что не притворяется. Сначала он растерялся, потом расслабился и разговорился. Даже забыл, кто это рядом с ним сидит и что с ней (так Надежда велела) надо блюсти «пиэтет».
А она всё: да где работаете, да выгодно ли, и что за люди, и сколько платят, и почём тут картошка… Ну он и пошёл про бригаду Альбертика объяснять: народ всё грубый, что ни слово, то мат. Вот до них он в одной фирме работал, ведал кадрово-техническими вопросами, особо важными для производства. Ничего без его подписи не делалось.
– А образование у вас?.. – деликатно поинтересовалась она. Вопросы невзначай задавала, шёлковым таким голосом.
– Да никакого, – отвечал Изюм охотно, с лёгкой бесшабашной горечью, но и с достоинством. – Восемь классов у меня, а после – ПТУ, где я, считай, и не учился. Как из армии пришёл, поступил в ту великую фирму дворником…
Выждал паузу и победно-небрежно закончил:
– …а через три года стал там главным инже-нером!
Короче, оглянуться не успел, как всё вывалил: детство, мать-сестра-папаша, интернат-фарцовка-армия… Непонятно, что с ним эта писательница сотворила, только он будто под наркозом был или как если б ему вкатили «сыворотку правды». Рассказал даже про то, как в юности проститутки с шестого этажа спускали ему на ниточке деньги. Понесло его, в общем, по кочкам-закоулочкам, как в той детской сказке. Описал в подробностях свой арест на Белорусском вокзале, когда на глазах у трёх лакающих пиво стражей порядка из кармана у него вывалились тысячи натуральных дойчмарок.
– Что значит – вывалились? – в неподдельном волнении спросила Нина.
– …да наклонился шнурок завязать.
Короче, размяк, дурачина-простофиля! В те минуты казалось: никого ближе этой задушевной женщины на свете у него и нет.
– Эх, я тогда был самый богатый человек… – вздохнул он, поворачивая на родную грунтовку… – Кого хочь мог с потрохами купить в кооперации с падшими женщинами.
– Вы были сутенёром? – доброжелательно уточнила Нина.
– Да не-е, я ж тогда был ещё юный сомбреро. Я просто – за водкой сбегать, шампанское туда-сюда…
Надежда потом вздыхала и головой качала, выслушивая его исповедь. И припечатала: «Дурак ты, Изюм! Я ж тебе говорила: помалкивай. Эти писатели, они хуже бандитов с большой дороги. Ты ей в сокровенную минуту единственную жизнь доверишь, а она – хоба! – накатает повестушку, сто тыщ экземпляров, и будешь ходить в героях ещё триста лет, как вон Хлестаков какой-нибудь. Если уж человек выбрал такую безнравственную стезю, его ж за версту надо обегать!»
Изюм, конечно, и огорчился, и задумался. Вспомнил, как свет редких фонарей скользил по резкому лицу писательницы, вызнавательницы коварной; как хмурила она брови, и смеялась, и даже так задорно хохотала, – а зубы белые такие, может, в темноте показалось? – и потрясённо ахала, и брови задирала, и всё детали уточняла. Надо же, какая вероломная!
– А ты тоже, – с упрёком проговорил он, – «интеллиге-е-е-ентнейший человек!». А она села и ка-а-ак сказанёт! А потом ка-а-ак выдаст полными словами, без всяких точек. Я не знал, как себя вести: запикать в полный голос или повесить на грудь знак «18+»?! И всё про майонезный цех расспрашивала: рецепты, калькуляцию там… Чувствую: ещё пять километров, и моя биография предстанет перед ней во всём скромном обаянии буржуазии.
Майонезный цех… это да-а-а, грандиозная эпоха в жизни Изюма, веха биографии, высота и крушение, а потому и вечная присказка: «вот когда у меня был майонезный цех!»
Сидит он за столом у Надежды, набирает на вилку салат «Весенний» деликатной горочкой, замечает между делом:
– Ммм… неплохо! Сюда б ещё пару ложек майонеза.
– Ты что, – восклицает она, – майонез – это отрава!
– Какая же это отрава? – рассудительно возражает Изюм. – Вот когда у меня был майонезный цех, так то была отрава.
И увлекается, рассказывая историю раз уже, не соврать, двадцатый:
– Понимаешь, руки у меня, – говорит -Изюм, – всегда были пришиты к телу. Майонезный цех мы организовали в котельной. Движитель стоял посередине, замес шёл в бочках. Воду брали из батареи…
…и так далее: тема больная, любимая мозоль.
Сам он готовит божественно! И котлетки, и щи, и борщ, и манты с пловом – чего пожелаете. А шарлотка, шарлотка яблочная – ну, это вообще, как сам говорит он: «шведЭр»! Чутьё у него на ингредиенты совершенно пианистическое. Ту-иную приправу берёт не по рецепту, а щепоткой, прикидывает на глаз, замешивает по чуткому наитию. В этом он – артист, вдохновенный исполнитель, лихой импровизатор. А порой и анархист.
– Кто такой Зощенко? Инициалы как? Он, короче, всю жизнь про жратву писал, да? Типа: «Марципан и шоколад – всё равно что «Щелкунчика» посмотреть».
Я тут регулярно передачу «Еда» смотрю, там понизу кадра всё время цитаты из этого Зощенко, будто другие писатели всю жизнь голодали. И все цитаты с поддёвочкой: барин приказывает холопу лезть в подвал огурцов набрать, «но чтоб без плесени, а то гости».
В передаче этой разные кренделя фигуряют, крутые шефы. Один презентовал селёдку под шубой. Взял сухари, запёк в духовке одну свеколинку, одну морковинку да картошечку, – как в блокадном Ленинграде. И давай над килькой издеваться: голову ей отрезал и – хоба! – скальп снял. Один хвостик остался. В пустую кожу сухарей с овощами напихал, виноградинку засунул… Такой вот шведэр кулинарии. Ну и пусть мне теперь господин Зощенко скажет: кому охота сухари жрать?
Да, уж Изюм-то – маэстро подлинный, безо всякого-якова. Когда вещает, ему только трибуны недостаёт: он горячо и плавно жестикулирует с поистине итальянской пылкостью, ладонью откидывает со лба волосы, пальцы топырит, строит из них загадочные фигуры: складывает щепотью, перебирает воздух, сооружает фиги, крутит ими перед собственным носом… Оглушённый собеседник не знает, куда раньше смотреть и что думать, не говоря уж о том, чтобы в выступление встрять.
– Потом запустили вторую роту именитых кренделей, каждый – с мишленовой звездой во лбу. Эти представляли гребешки под соусом киви. На гарнир – картофельное пюре. Один, лысый такой, пузатый, нажарил луку, говорит: «для хрусткости». Заче-ем?! Где яйцо-о?! Технология пюре вырабатывалась несколько десятилетий! А он туда – херак! – добавляет свежий фенхель. Где ж я тот фенхель возьму? В Коростелёво мне сразу по роже дадут, если я у них фенхель попрошу. Где, опять же, взять полторы чайных ложки кунжутного масла, дабы сбрызнуть бефстроганов перед подачей? Или листик василька, блин-блинадзе? Да остынет всё, пока я тот листик в поле буду ползать-искать!»
Словом, в искусстве приготовления райских яств Изюму нет равных. И если кто-то недооценил его мастерства или, упаси бог, недоел, недособрал, недоскрёб корочкой с тарелки последние капли благоуханной подливки… тот стал врагом на всю оставшуюся жизнь.
– Смотри, Петровна, я ей такой обед сготовил, а она жало воротит!
Это – о жене Маргарите, с которой он официально разведён.
Кстати, все его документы и уничтожены-то в угаре и смерче того грандиозного развода: в припадке очередного скандала Марго порвала все их в клочья! Изюм говорит: «с бухты-барахты порвала, настроение накатило», – но не совсем это соответствует фактам. Ибо до того, пытаясь Марго образумить, все цацки жены он собрал и закопал в подвале, – пометив, разумеется, место. Но именно в этот момент (звучит подозрительно, но так уж Изюм рассказывает и клянётся, и зуб даёт, и глаза выпучивает, а пальцы ежами топырит) – что-то стряслось то ли с трубами, то ли с электричеством: какой-то взрыв в подвале состоялся, сдвинулась некая плита… Короче, нет с той минуты никакой возможности эту плиту обратно сдвинуть и драгоценности Маргошины извлечь. Цацки-брюлики, как он говорит, включали в себя кое-какие брошки, два кольца с изумрудами и целый каскад разных браслетов, кулонов и серёг (папашка-то её покойный тридцать лет был директором ювелирного на Остоженке). Вот порадуются спелеологи будущего! Не спелеологи? А кто? Археологи? Всё равно порадуются…
Марго же уверяла Надежду, что этот сукин кот спустил всё по камешку на свои идиотства, на свой майонезный цех.
Ну, сукин там или не сукин, развод не развод, а только живет Изюм по-прежнему в Маргошином доме в Серединках, деревне такой, под городом славным-старинным Боровском, – потому как надо же за домом смотреть, и траву косить, и то-сё-другое… а он всё ж рукастый. И сына Костика, опять-таки, в каникулы надо на воздух вывозить, а кто его пасти станет, кроме родного папани? И взять ту же Нюху, тигровую алабайку: собака она экстремальная, в городской квартире захиреет или от тоски вон порвёт кого из соседей. Хотя как сказать: у Марго всю жизнь были собаки, и не простые. Один ротвейлер был знаменитый своим изуверством – семьдесят пять кило, злой как чёрт. Марго однажды уехала к тётке в Каширу, а Изюма приставила гувернатором к этому исчадию ада.
«Так я – что, – рассказывает Изюм, – каждый день покупал пять кило сарделек. Захожу в дом – первым делом сардельку ему в зубы. А дальше, разматывая связку, пробегаю на кухню. Пока добегу, исчадие сыто. У меня же у самого всю жизнь собаки, – поясняет он. – Был такой пёс-алкаш, за пиво родную мать продаст. Никогда его не забуду. Накачается пивом, ляжет пузом на низкую скамейку, лапы свесит по бокам и лежи-и-ит… прям философ! Салтыков-Щедрин…»
Когда Изюм в настроении поговорить, заткнуть его не может никакая природная сила. Так и представляется картина: извержение Везувия, кипящие реки лавы разливаются по улицам и дворам деревни Серединки, а Изюм сидит посреди катаклизма и с места не двинется, так как прямо сейчас ему на память пришла очередная история:
– Друг у меня был, Лёха Морохин… Красавец, фигура – настоящий Маугли… Тарзан? Ну, пусть Тарзан. Лёха понимал, что он татарин – потому как на мать его посмотришь, – и всё ясно. Мать в камерном цеху работала, каждый вечер приносила в рукаве бушлата очередную камеру. Так вот, Лёха замудохал её кота, которому разрешал ходить только вдоль стен. В присутствии Лёхи кот передвигался квадратами, как ладья в шахматном гамбите. Ужас! Но когда приходил кто-то с бутылкой и слышалось «чпок!», кот возвращался к нормальной жизни.
Знаешь, я ему очень сочувствовал, понимал, через что бедняга прошёл, если, будучи животным, ходил в унитаз и дёргал грушу на цепке, смывая за собой… Вот ты ржёшь, а Лёха умер. Как умер? Очень просто: он усох, потому что мозг его ни к чему не стремился…
И если минут через двадцать Изюмовых воспоминаний у вас разболится голова, он бросится заваривать вам чаёк или ещё какую-нибудь «полезную для мозга травку».
А катаклизм… ну, что катаклизм, невозмутимо отзовётся Изюм на ваши заполошные крики. Разве вся наша жизнь не есть – сплошное огненное извержение?
Это цукатно-кондитерское имя, к которому он за жизнь привык, а в кругу дружбанов и соседей отзывается на простое, хотя и сомнительное «Изя», подарила ему мать, заслуженная вагоновожатая Краснопресненского трамвайного депо. Мать всегда была натурой страстной и романтической, всю жизнь в каких-то оперных либретто. Изюма родила от красавца-татарина, и на просьбу того назвать ребёнка славным даже и для русского слуха именем Измаил легко согласилась. Но, вернувшись из ЗАГСа домой, заявила, что легкомысленная фифа, сидевшая на регистрации имён, допустила понятную ошибку: она, мол, левой рукой таскала изюм из банки, пока правой записывала младенцу имя. А что, сказала мать, изучая документ, – тоже ведь красиво: Изюм, Изюмчик мой сладкий! И дядя Саша покойный родился в городе Изюм Харьковской области…
Так и вышел он в свет: Изюм Алмазович Давлетов, и чем это плохо, скажите на милость!
А вот сеструху мать родила от командировочного литовца и назвала её – держитесь за стулья – Серенадой. А?!! Литовец здесь что-то налаживал-налаживал, то ли какие-то спецлифты, то ли спецбарабаны… длительная командировка, многое можно успеть. Он и успел: познакомился с маманей на маршруте, ездил от конечной до конечной, кругов пять нарезал… И так они сошлись; от папашки-татарина, красавца и пьяницы, на тот исключительно бурный период своей жизни мать ушла. А литовец оказался тем ещё проходимцем: слинял в свой Вильнюс точнёхонько в тот момент, когда у мамки схватки начались. Нет, он, конечно, отвёз мамку в роддом… ну и – досвидос! Как в песне: сизый, лети, голубок…
Это уже потом она припомнила, как во сне, что из дому он прихватил два чемоданчика: с её родильными вещами и, видимо, со своими, заранее приготовленными.
Уразумев на второй день в палате, что счастливый отец не явится под окна вызнавать, на кого похож младенец, тихо подтирая слёзы и сопли, мать услышала по включённому радио красивую музыку в исполнении прекрасного тенора, слившегося у неё в воображении с образом исчезнувшего литовца. Она как раз размышляла – какое имя дать своей новенькой сероглазой дочурке. «Вы прослушали «Серенаду» Шуберта, – услышала мать, и мгновенно её пронзила красота и ценность данной минуты. Подаренное радиоточкой раскатистое имя так шло младенцу, её льняным кудряшкам, аккуратному личику и всей этой разнесчастной романтической мути… Серенада, Серенада… Серенадочка… повторяла мать, улыбаясь, упиваясь слёзной своей сердечной мукой. Она всем мужикам покажет, моя Серенада!
И Серенада показала.
Она вышла замуж за русского олигарха. Вернее, сначала она вышла замуж за русского бандита широкого профиля, по имени Толян, который со временем, как и некоторые из его бурного круга, преобразовался в Анатолия Семёновича, уважаемого Анатолия Семёновича, многоуважаемого «Натольсемёныча»…
– Толян поднялся, – называет это Изюм.
– В каком смысле? – уточняет Надежда.
– Ну, многие с ним советуются. Просят дело уладить. У Толяна двухэтажный гардероб с лесенкой, – рассказывает Изюм. – Шмотки развешаны на круглых вешалках, как в химчистке. Он пульт включает, всё движется и крутится. Говорит мне: «Вон от той синенькой стойки до чёрненькой можешь забирать. Я коллекцию меняю». Я – хоба! – а там один Луи Виттон, да всё с ценниками! Представляешь, футболки не пойми из чего – хлопок ли, шёлк ли – тончайшие, весу никакого, блестят! И каждая по семьсот зелени. Пиджачки, костюмчики… Ну, я набрал тыщ на пятнадцать. Привёз домой – маловаты всё же. Не лезут никак. У Толяна же сорок восьмой размер. Это я сейчас похудел, сгодилось бы всё, ходил бы по Серединкам как Челентано: сопли – пузырями, но… Толян больше не угощает.
Короче, много чего я раздарил мудачью всякому. Вот Ванька, сосед. Объяснил ему, что почём, чтоб надевал это, только если в Москву или там в Лас-Вегас. И чего? Прихожу, а он такой: в майке от Виттона дрова колет. Подарки мои на веранде валяются. Я ему потом мешок одёжный приволок, знаешь – с молнией. «Положь сюда, – говорю. – Вдруг помрёшь – будет в чём хоронить».
Эпизоды гламурной жизни Толяна и Серенады время от времени вспышками дикой иллюминации озаряют и без того красочную речь Изюма на фоне серых горбылей.
– Алиса, доча Серенадки, в школу пошла… Выписали ей двух гувернанток откуда-то из Беларуси. С рекомендациями по системе британской аристократии. Платили каждой тыщ по пятьдесят, одевали как модельных девочек, в СПА-салоны водили, шарлоткой кормили…
– А что, одна гувернантка с ней бы не справилась?
Время от времени Надежда предпринимает редакторские попытки упорядочить россказни Изю-ма, ввести их в реалистическое русло.
– Ну-у… они ведь живут в таком районе, знаешь, где вся эта аэлита, и там иначе никак нельзя… Две, это по меньшей мере. Короче, год прошёл, те собрались типа в отпуск, в свой не то Бобруйск, не то Барановичи. А когда уехали, Серенада с Толяном хватились: нет коллекции часов на пару лимонов долларов. Ну, Толян звякнул в ФСБ, там у него друганы. Помчалась погоня… А те – чего? Поезд-то уже давно по рельсам чух-чух-чух… Тогда за поездом погнался вертолёт! И нагнал! Повязали чувих, коллекцию часов отобрали, и теперь они не девочку будут на балет во-зить, а по тюремному двору гулять своими бритыми ногами…
Кстати, мать-то, родив Серенаду, почти сразу вернулась к папашке. И тот засиял обновлённым светом: приосанился, бросил пить на полгода, очень был горд всем своим семейством. Чтобы закрепить такой явный жизненный успех, мать родила ему ещё одного пацана, на сей раз названного простым человеческим именем Искандер, в смысле – Шурка… Кто там из великих говорил – мол, Россия прирастать будет… типа там лесами-полями и реками, так? А тут семья Давлетовых прирастала детьми – и это вам не что-нибудь, а настоящее богатство!
Правда, почему-то всех троих мать чуть не с пелёнок рассовала по интернатам.
Но это отдельный рассказ.
Глава 2
Надежда
«…Вернулась вчера из Москвы в Серединки, преодолевая страшную метель: ползла по нашим деревенским грунтовкам со скоростью пять кэмэ в час. Свет фар, что ближних, что дальних, упирался в бурлящую белую стену, не проникая её ни на метр, машинка моя от снежных оплеух то в боковые, то в лобовое стёкла так и раскачивалась. Ни обочин не видать, ни встречных машин… Врать не стану, здорово я перепугалась, молитвы читала прямо вслух! Классиков наших поминала: как же они-то мотались по ночам в метелях на этих своих тройках, а, Нина? Пущин-то к Пушкину… «Ни огня, ни чёрной хаты… глушь и снег…» Даже мой личный Пушкин, котяра осатанелый, который обычно орёт всю дорогу от Москвы до Серединок, – даже и он притих. А я только радовалась, что Лукича оставила в деревне на попечении Изюма. Всё-таки Изюм – такой помощник драгоценный, дай ему Бог здоровья!
А сегодня всё растаяло, опять грязь…
Зато новая история от Изюма.
Он, видите ли, страстный рыбак. А настоящих морозов всё нет. На прошлой неделе выпало несколько приличных морозных дней, пруд слегка подзамёрз, и всё же лёд тонковат, рыбакам страшно. Но Изюм, понятно, всех умней: лыжи напялил и «осторо-ожненько», говорит, заскользил на них по тонкому льду. Дошёл до нужного места, осмотрелся… И довольный, что он всем рыбакам рыбак, стал доставать снасти.
Тут, увидев, что хозяин определился, с берега примчалась Нюха. Изюм и сам-то тянет кило на сто (хотя утверждает, что весит только девяносто), а в Нюхе живого весу уж точно кило 50 будет. Ну, ледок и проломился, и они дружно провалились в воду.
Алабайка – что ей сделается! – быстро вывернулась на лёд и умчалась в сторону берега, а Изюм остался по грудь в воде, будучи, как вы помните, на лыжах…
«Мне стало так холодно, Петровна!» – говорит он, трепеща своими длинными ресницами.
Я, конечно, побежала в подвал за самогонкой, налила соседу от души, чтобы не заболел.
Как вылез, он рассказывать не стал, – видимо, ещё не придумал. Но вы можете придумать сами, вы же писатель, а я Изюма теперь всё время стращаю, что про него «Нина книгу напишет».
Может, я и ошибаюсь, но перспектива стать литературным героем его не то что не страшит, а даже изрядно тешит. «И что, – спрашивает, – там, в этой книге, меня будут как в природе звать: -Изюм Алмазович Давлетов?» «Не волнуйся, – отвечаю, – Нина что-нибудь придумает, ещё смешнее, чем в жизни».
Попутно я стала запоминать и даже записывать за ним словечки и фразы, – ведь он гениально преобразовывает слова и смыслы, даже не задумываясь. За одно только словечко «ноу-халяу» какой-нибудь писатель отвалил бы ему пять тыщ, и не прогадал! Иногда кажется: он специально их придумывает, шутки ради. Но нет! Это его способ называть и осваивать реальность.
«Просыпаюсь я рано, в пять утра, – начинает задушевным тоном деревенской сказительницы, – и немедленно принимаюсь вскрывать глаза…» «Погоди, не сбивай ты меня с панталыги!» – восклицает, если перебиваю.
Или: «Петровна, тебе надо заняться гидропо-никой.
– Зачем это?
– А название интересное!»
«А что – Серенадка? – охотно отвечает на мой беглый вопрос о сеструхе. – У Серенадки забот полон рот. Всё хлопоты, хлопоты: куда, например, шубу в химчистку сдать? Только в Италии. А что? Шуба-то стоит половину завода. Она у меня такая: если что не по ней, вышвырнет мужика со всем его скрабом. И потому Толян выступать опасается. Не особо афиширует дружбу с молоденькими фуриями… Не фуриями? А как? Гуриями… Ну это, Петровна, одно и то же, если глянуть на дело здраво. Короче, гурии там фурычат – анонимно, конечно. В то время как Серенада скучает на двуспальном аэродроме. А что ты хочешь: сиськи-то повисли».
И ежеминутно из него извергается какой-то кулибинский водопад идиотских ноу-халяу.
«Петровна, у тебя в ванной есть батарея? Есть? Очень хорошо! Надо к ней присобачить пластмассовые трубы, которыми обернуть ванну. И тогда ты можешь лежать в ванне, как Клеопатра: хоть три часа, вода будет постоянно одной температуры. А то приходится остывшую воду сливать, горячую подливать – суета…» (морщит лоб, видимо, представляя своё изобретение в деталях).
«Правда, для этого ванну придется демонтировать», – наконец произносит он.
Я: «И затем выкинуть на помойку».
На днях подарила ему ненужную душевую кабину. Радость была неописуемая: «О-о! теперь у меня есть санкабина! Ещё я мечтаю поставить себе биде».
Я: «Биде-то тебе зачем?»
Он оперным раскатистым голосом: «Бидэ-э-э-э!.. Слово-то како-ое!»
«Я тут про Петра Первого передачу смотрел… – начинает оживлённо, – зашибись! Ты в курса́х, что он был офигенный токарь по дереву? Показывали его станок, – тот по сей день спокойненько себе фурычит. И заводится, и работает, и на нём даже… Что значит – заводится? Конечно, он не электрический. Его крутить надо… Его при жизни крутила ветряная или, хрен её знает, водяная мельница. И сейчас, наверное, кто-то крутит. Стоит и крутит, а что? В музее за хорошую зарплату и я бы стоял да крутил чего хочешь. – Он умолкает, занятый какой-то новой мыслью, и наконец произносит другим уже, проникновенным голосом: – Любопытно: вот царь, да? Чего ему не хватало? Могучий государственный ум, а приспособил себя к токарному, знач, станку…»
На днях с участием соседа, Серёги Лобзая (немедленно в моей памяти всплывает восьмимартовский концерт в школе, на котором учительница музыки исполняла известный романс «О, не лобзай меня!» с ударением на «о»: «О, не ло́бзай меня!», и пацаны наши подыхали со смеху: на уроках труда лобзик был любимым инструментом) – так вот, со спасительным участием Лобзая произошла с Изюмом очередная трагическая история со счастливым концом.
Он решил починить квадроцикл, у которого забарахлил глушитель. Подпёр его с одной стороны ведром, с другой, третьей и четвёртой – чурочками. Подлез под него… и когда стал переворачиваться, чурочки поехали, ведро отлетело, а квадроцикл накрыл Изюма во весь рост. Пошевелиться, сами понимаете, практически невозможно. Приподнять – нереально, потому что вещь большая, весит около 100 кг. С большим трудом Изюм исхитрился вытащить из кармана куртки мобильный телефон. Тут выяснилось, что мобилка в гараже не ловит. Ноги завалены, руки почти зажаты… Стал Изюм пыхтеть: «А-а-а-а, кто-нибудь, алллльё! Блин-блинович!!!» – и что там ещё кричат люди в подобных ситуациях. Нюха, верная алабайка, «помесь ведра и помойки», примчалась на крики и принялась Изюма лизать. Слюна её тут же замерзала на морозе, но дать ей по морде Изюм не мог, так как был ограничен физически. Тогда он решил написать SMS (вот ведь, Нина, как всё надо уметь в наши дни!). Написал, что погибает под квадроциклом. Но кому послать? Связи-то нет. Тут он услышал движение во дворе Серёги Лобзая, что живет напротив, нажал «отправить» Лобзаю и выкинул телефон из гаража во двор в надежде, что на улице аппарат сработает. Нюха бросила Изюма, подхватила упавший телефон и удалилась с ним в глубь участка… Бедный Изюм стал прикидывать, через сколько часов он замёрзнет. Нюха, понимая, что Изюм ей не указ, открыла калитку и вышла на улицу, где в это время сорвалась с цепи овчарка Лобзая. Нюха тут же выплюнула телефон и стала её рвать, как она поступает со всеми собаками, кроме моего кроткого Лукича. Лобзай с трудом спас свою овчарку, схватил берданку и пошел делать предъяву Изюму… которого и нашёл распятым под квадроциклом и вынужден был спасти. Таков синопсис триллера.
После этого Изюмка прорвался ко мне, чтобы всё это жизнеописать. Я налила ему водки (дабы не заразился), долго смеялась и сказала, что он будет-таки героем романа.
А вечерком, не помню уж зачем, заглянула к нему в неудачный момент, ибо нагрянула Маргарита, как говорит Изюм – «описывать свое имущество с понятыми и по реестру», а при ней он смирный, скучный и практически не врёт. Но я не удержалась и рассказала ей случай с квадроциклом. Марго сощурилась, поджала губы… Вся она была – сплошное презрение.
– Изюм! – вскричала я. – Ты всё набрехал?!
Изюм обиделся:
– У меня, Петровна, после этого случая даже мизинец онемел!
И показал мне свой мизинец, скрутив его буб-ликом…
А вот ещё история, рассказанная им вчера вечером, когда он был допущен к чаепитию на веранде, причём принёс баночку кизилового повидла, сваренного собственноручно.
Вкратце так.
На нашей улице живёт Настюха, года три уж как овдовевшая. Лет ей сорок с копейками… или уже с рублями, не важно. А важно, что она не-устанно ищет мужика для жизни и хозяйства. Найти не получается, а получаются с криминальным оттенком разные грустные истории: тот брошку украл, другой дочку-подростка за задницу хватал, этот работать не хочет, на диване лежит, а четвёртый вообще маманин сервиз пропил… – в общем, всё как у нас, русских людей, полагается.
А дом деревенский меж тем скудеет без мужского пригляда. И Настюха, как и все на нашей улице, привлекала Изюма к разным работам и починкам, но при этом платила гроши, ибо скуповата. Изюм и перестал откликаться на просьбы.
Однако на днях просьба оказалась существенной, деньги были обещаны не стыдные. Далее цитирую Изюма, попутно вставляя свои реплики, ибо без реплик никак нельзя: можно лопнуть.
«Я работу сделал, прихожу вечером за бабулями. Смотрю – дама (Настюха то есть) сидит накрашенная… Хоба! (это восклицание у него означает что-то вроде «оппа!») Ну, я сразу всё понял».
«Что ты понял?»
«Что я понял? Она хочет, чтобы я слёг на её койку, а потом задарма всё ей чинил, кормил шарлоткой и носился с ней, как со списанной торбой… Да её можно рассматривать как женщину только в нашей округе, где никого нет – одни узбеки!.. Я ей говорю: «Гляди на меня, Настюха, что с меня взять? Один носок дырявый, другой воняет! Денег у меня – манишка и записная книжка, а сам я последний хер без соли доедаю! Ты ищи себе сантехника, хоть и пьющего, только не гомофила!»
«Кого-кого?! Это кто такой? Зоофил, я знаю, это кто с животными, а гомофил – с кем же?»
(Я от смеха уже и дышать не могу, Изюм же совершенно серьёзен.)
«Короче, я ей говорю: «Ты, Настюха, когда с мужиком знакомишься, смотри сразу на руки: чтоб они были как крюки! Чтоб отвёртку мог держать!»
Он умолкает и осуждающе на меня смотрит:
«Что ты ржёшь всё время, как в театре? Вот ты читала книгу «Козы»? Как – не читала? Есть такой роман, крендель один написал…»
И так далее до бесконечности…
Между прочим, козья тема в нашей деревне и в жизни Изюма в последние недели приобретает какой-то эпический размах. Но это надо рассказывать не в трёх словах, не с кондачка, а с заходом издалека, перво-наперво пройдясь по соседям и прочим деревенским физиономиям… Сейчас уже поздно, я зеваю дуэтом с Лукичом, разве что не подвизгиваю и зубами не клацаю. Как говорит Изюм: «Что-то устал, побегу полежу…» Полвторого, господи ты боже мой! А завтра у меня сложнейший визит к нашей выдающейся К.М! Даже подумать страшно, что за сюрпризы меня ждут и каким виртуозным фарватером я должна провести свою редакторскую шлюпку меж опасных и таинственных скал.
Так что закругляюсь, спокойной ночи, пойду жить образом жизни, – как говорит всё тот же источник фольклора, когда в его беспокойном мозгу зреет очередное гениальное ноу-халяу…»
Глава 3
Кроткий мордатый обдолбаНный…
Известная (выдающаяся, кое-кто даже считал, гениальная) писательница жила в старом фабричном доме бурого кирпича в одном из переулков в районе Тишинского рынка.
Квартирка мизерная, две узкие комнаты, утлыми лодочками плывущие одна за другой, – годах в тридцатых была переделана из хозяйских кладовок. Кто-то, может, и удивился бы несоответствию славы местожительству, только не Надежда, много лет возглавлявшая редакцию современной русской литературы самого крупного издательства России и потому, волею обстоятельств, знавшая о творцах разные подводные и даже подкожные факты их биографий, без которых, откровенно говоря, вполне обошлась бы.
Дело в том, что Калерия Михайловна Чесменова была даже не странной – она была сума-сшедшей, причём абсолютно, восхитительно сумасшедшей. И если бы не директор издательства Сергей Робе́ртович, который спал и видел новую книгу Калерии в каталоге издательства на ближайшей книжной ярмарке во Франкфурте, Надежда предпочла бы послать к ней на переговоры одну из пяти подчинённых своих «девочек».
– Нет, душа моя, ты сама к ней бежи, обиходь, обцелуй, умоляй, подкупай… В ноги вались, а только чтобы рукопись новой книги вот тут у меня завтра лежала, – и подбородком указал на край своего необъятного, до блеска натёртого полиролью стола.
– Да какая там новая книга! – в сердцах возразила Надежда. – Она небось сто лет уже ничего не пишет, да и не может написать.
– Пишет! – Он подпрыгнул в кресле и руками замахал. – Как это не пишет! На то она и писатель, чтобы всё время строчить. Они же все – графоманы чёртовы, строчат и строчат, как подорванные! Нам от неё нужен роман, роман и только роман, ты поняла?! Никаких рассказов, знаем мы эти их штучки, путевые записки-манжеты-ни дня без строчки, всё это ни хрена не продаётся. Нужен р-роман! Р-р-романище страниц на восемьсот! Иди и припади! – кричал он в Надеждину спину. – Ходят слухи, что рукопись существует, и за ней ОПЭЭМ охотится. (ОПЭЭМ, другое крупнейшее издательство, было конкурентом проклятым; проклятым, денежным, коварным и удачливым конкурентом, скупало-переманивало на корню брэндо́в за миллионы зелени! Последней переманило за три миллиона Марину Шульженко, восходящую звезду эротического детектива.)
«Слухи! – возмущённо думала Надежда, поднимаясь на четвёртый этаж по дремучей и невыносимо пахучей лестнице (лифт не работал). И фыркнула, вспомнив, как недавно Изюм произнёс: «Отделим слухи от котлет!» «В ноги вались!» – опять вспомнила она и от злости даже остановилась на мгновение, представив этакую сюрреалистическую картинку: себя в ногах у чокнутой Калерии. – «Вот сам и вались!» – ожесточённо подумала она.
Эта встреча готовилась несколько недель и уже два раза переносилась – разумеется, самой писательницей.
Перед затрапезной, с выдранными клочьями серой ваты, с повисшими лоскутами дерматина дверью она остановилась и чуток привела себя в порядок, – там одёрнула, здесь поправила, тут пригладила. В очередной раз подумала – надо худеть!
Сейчас бы покурить… Она принялась шарить в необъятной, мягкой и мятой серой сумке, похожей на слоновью мошонку, в поисках сигарет. Покурю перед делом, решила она, две минуты – три затяжки… Походной пепельницей в таких случаях служил ей старый пластмассовый очешник, который от разных толчков или перегрузки непроизвольно открывался и опрастывался в сумку. И некогда было, ох, некогда чистить-проветривать.
Но едва затянулась, как за дверью стало что-то громыхать, лязгать, звенеть и металлически корёжиться, будто к причалу подошёл швартоваться старый и ржавый сухогруз. Двери – две – одна за другой отворились, и в их кулисах возникла сухонькая лохматая мышиная фигурка, будто спорхнувшая с водосточного жёлоба какого-нибудь собора.
Кулисы эти, надо сказать, были совершенно разными. Вторая, внутренняя дверь квартиры оказалась металлической, роскошной, да ещё и расписанной вручную какими-то невероятными светящимися красками. Чёрт его знает, – то ли серафим, то ли горгулья простёрла свои лазоревые крыла, – Калерия Михайловна Чесменова явно планировала свой выход и явно строила эту мизансцену: чтобы крыло взметнулось прямо за её левым плечом.
– Нет-нет! – сказала она. – Сигарету – прочь!
«Эффектно», – подумала ошеломлённая Надежда, машинально улыбаясь «нашему известному автору», что-то произнося – какие-то не значимые, но по партитуре необходимые для прелюдии слова, суетливо сминая и запихивая едва прикуренную сигарету в очешник и протираясь в квартиру мимо однокрылой Калерии.
В малюсенькой, размером с табурет, прихожке уместилась только круглая стоячая вешалка, на которую всё одно ничего невозможно было повесить: на каждом рожке уже висело по шляпе. И что это были за шляпы, бог ты мой, Надежда прямо обмерла! Умопомрачительного изящества и фантазии. Велюровые и замшевые, с вуалетками и брошками, с цветками на полях и снопами каких-то трав, и даже с керамическими фигурками; чуть ли не рождественский вертеп на полях одной примостился, и такие чудеса: три крошечных волхва, причём один, как положено, чёрный… Как его звали-то… Бальтазар? Словом, это были музейные экспонаты.
– Боже, какая красота! – выдохнула Надежда совершенно искренне, так и не снимая своего пальто, продолжая разглядывать вешалку с её изу-мительным грузом.
Собственно, про шляпы было известно всей общественности. Время от времени, очень редко, Калерия Михайловна выходила в люди, увенчав лохматую голову одной из своих невероятных дизайнерских, собственноручно изготовленных шляп. Дело в том, что Калерия Михайловна, чёрт бы её побрал, была гениальна во всём.
Наконец топтание в прихожке, вернее, стояние соляным столпом перед вешалкой разрешилось разоблачением гостьи и рассупониванием её (пальто было внесено в ванную и уложено на стиральную машину), и гостья была введена в комнату, где у одной стены стоял немыслимо продавленный, обитый стёртым гобеленом древний кабинетный диван с одним валиком, у противоположной стены – старинное, янтарных тонов фортепиано с медными канделябрами, а между ними – большой круглый стол, к которому притулились старое кресло, венский стул и хозяйственный табурет. Короче – мизансцена пьесы из городской коммунальной жизни сороковых годов прошлого века. Та ещё обстановочка.
Но здесь горела люстра, и Надежда разглядела хозяйку. До известной степени, это тоже был театр. Взлохмаченная, с острыми пронзительными глазками Калерия Михайловна была «извините уж, по-домашнему»: старый дерюжный свитер с мятым воротом вокруг морщинистой шеи болтался на ней, свисая ниже бёдер. Далее виднелись тонкие ноги, облепленные блескучими лосинами до середины икры… Босые ступни, довольно внушительного для женщины размера, были продеты в резиновые вьетнамки, и вот там… Там открывался невиданной красоты и дороговизны педикюр, рядом с которым меркли даже шляпы. «Всё продумала», – с уважением отметила Надежда, с трудом отводя взгляд от сверкающих какими-то блёстками и стразами малиновых, розовых, чёрных и морковных ногтей, доминирующих в комнатке и уводящих внимание гостьи туда, куда перемещалась хозяйка.
Вот сейчас она переместилась к столу, в центре которого стояла широкая плоская ваза, засыпанная грудой разных диковин: там были камешки мозаики, стеклянные бусины сине-зелёной гаммы, колёсики, ключики, кольца-браслеты-бусы… витые золотые проволочки и цепочки, какие-то древние серебряные штуковины чуть ли не из скифского кургана… ну и прочая обольстительная чушь, от которой глаз было не отвести. А венчал эту горку косо торчащий из кучи фрагмент древней фрески с длинной чьей-то бровью и тонкой ноздрёй.
– Присаживайтесь, Надежда Петровна, угоститесь чем бог послал.
На тарелках, выставленных ровно к назначенному часу, лежало тоже нечто вроде кусочков фрески – на первый взгляд. Но только на первый.
– Приступайте, пока она тёплая, я разогрела. Там на сухариках может быть плесень, вы сковырните, ничего, плесень полезна, вы знаете? В ней пенициллин…
Надежда содрогнулась и хотела сказать, что сыта, спасибо… Однако вовремя запнулась: ввиду предстоящих переговоров никак нельзя было отказаться, никак нельзя. Обидится, а Сергей Робе́ртович скажет потом: ах, ты брезглии-и-вая! Ну и сиди, а ОПЭЭМ пришли небось, плесень сожрали и роман из-под твоего чувствительного носа утащили!
– С удовольствием попробую, Калерия Михайловна, – проговорила она, присаживаясь, улыбаясь и обречённо нашаривая вилку, вернее, какую-то мизерную вилочку, которой и в зубах-то было не с руки ковырять. – А это что? Как это называется?
– Назовём это пиццей, – удовлетворённо и торжественно отозвалась Калерия. – Тут сухари. Я собираю их, собираю… коплю корочки-горбушки. Потом размачиваю. Рецепт простейший, тюремный. Главное, понимаете, чтобы хлеб был разных сортов. Тогда вкус получается… незабвенный!
Незабвенный… Надежда вспомнила, как утром в издательстве выскочила после совещания покурить, а там, из курилки, видна крыша соседнего подъезда. Крыша неровная, всегда лужа посерёдке. Закурила она и думает: «Как всё осто…» И тут увидела, как на бережок лужи прилетела ворона с сухой корочкой хлеба (хотелось сказать «в зубах»). Положила её в воду и аккуратно лапкой притопила. Потом перевернула и опять притопила. Корочка размякла, ворона позавтракала. «Эх, – подумала Надежда, – не одна я колочуся и верчуся…»
Зубцом вилки Надежда принялась незаметно соскабливать плесень с обжаренного в постном масле кусочка, отломила часть и оживлённо отправила в рот. Пицца… или что это было?.. оказалась потрясающе вкусной. Эта старая лохматая женщина с пронзительными глазками и изысканным педикюром наверняка была колдуньей!
Она умяла всё подчистую и принялась хвалить-хвалить всё подряд: шляпы, пиццу, маникюр и расписную дверь… и готова была хвалить каждый камешек в вазе… Надо было начинать разговор, и начинать осторожно, умно, деликатно: она потому и явилась собственной персоной, что в работе с авторами славилась высшей сапёрной квалификацией. А вдруг у старухи и в самом деле в загашнике… роман не роман, но какие-то записки там, воспоминания, обрывки мыслей – окурки былых сигар?.. Мало ли что Сергей Робе́ртович несёт! Откуда ему взяться в таком возрасте – роману-то! Романы ведь не умом и даже не талантом пишутся, а гормонами. Молодой, блин, гармонью, которую без устали разворачивает пьяный ночной гармонист! Тут ни мастерство, ни шляпы, ни педикюр не помогут. Ничего-ничего, тут же возра-зила себе Надежда, мы раскинем мозгами, как подать эти огрызки былого великолепия, организуем мозговой штурм, бум и пургу в луже воды, а отдел рекламы подсуетится, настроится…
И вновь вспомнила ворону на крыше.
– Калерия-Михайловна-дорогая… – начала Надежда с улыбкой, – не буду юлить, сразу перей-ду к делу: мы очень заинтересованы в вашем новом романе.
Калерия дёрнулась, бросила вилку на стол, зачастила:
– Какой такой роман, какой роман, какой ещё роман?!!
– Тот, о котором земля полнится упорными слухами, – не давая сбить себя с уважительно-твёрдой интонации, продолжала Надежда с той же улыбкой. – Кстати, Сергей Робертович передавал вам огромный привет и просил сказать, что «целует ручки», а уж касаемо материального выражения нашей благодарности и заинтересованности…
– Издавайте кроткого мордатого обдолбанного! – воскликнула Чесменова. – Чего вам ещё!
Надежда удержалась, чтобы не поморщиться. «Кроткий мордатый обдолбанный» – известный и, можно сказать, программный роман Чесменовой – вышел на гребне перестроечного раздрая, прозвучал ярко, получил шесть литературных премий, из них три – международные, был переведён в двадцати семи странах, но прочитан уже всеми, кто хотел и смог одолеть эту невыносимую чернуху.
– «Мордатый обдолбанный» за эти годы выходил у нас в самых разных сериях, – сдержанно возразила Надежда, – в твёрдой и мягкой обложках, в подарочном оформлении, в библиотеке «Всемирная классика», в различных сборниках и…
– И, кроме того, вас изрядно кормила царская блевотина! – продолжала кобениться Калерия Михайловна. И это тоже была чистая правда: в начале девяностых повесть «Царская блевотина» держалась в списках бестселлеров чуть ли не год и до сих пор ещё продавалась неплохо.
– Эх, дорогая Калерия Михайловна… Вы же прекрасно знаете сами, что новая книга кормит писателей и издателей в среднем год, ну, полтора… и, следовательно…
– А хотите, я вам спою? – перебила писательница Надежду.
Та мысленно взвыла, сцепив зубы. Да-да, она вспомнила: кто-то из «девочек», её подопечных редакторов, кажется, пятидесятилетняя Светлана Юрьевна, рассказывала что-то немыслимое про какой-то вечер в каком-то литературном клубе, где Чесменова якобы, в одной из своих неописуемых шляп, исполняла… не то что-то канканистое, не то былинное – не суть важно. Надежде стало ясно, что живой она отсюда не уползёт, и если уползёт, то не скоро.
– Конечно, спойте! – проговорила она на радостном выдохе, мечтая только об одном: о сигарете.
Калерия Михайловна метнулась к инструменту, подняла крышку (это оказался итальянский Fazioli Pianoforti), откинула резной пюпитр и расправила два кудряво-медных складных канделябра на шарнирах. Тут же откуда-то из складок свитера достала коробок спичек, нежным движением воскурила два огарка вишнёвых свечей, так что по комнате пополз какой-то ароматический, тошно-творно-въедливый запах. (Надежда ненавидела всю эту сакральную индийскую чушь и подозревала, что у неё аллергия на один из компонентов «атмосферы духовности».) Затем Калерия вытащила из стопки нот нужную тетрадь, открыла, отыскала разворот, поставила ноты на пюпитр… но к клавиатуре не присела – она не умела играть. Встав обочь инструмента, сложила обе руки на крае и…
– Постойте-ка, – проговорила она, разнимая уже сложенные смиренно ладони… – Думаю, будет правильным, если вы наденете шляпу.
– Ш… шляпу? – растерялась Надежда, в голову которой мгновенным ветром надуло картину какой-то идиотской панихиды. – Я?! Какую… шляпу?
– Идите и выбирайте! – велела Калерия, величественно простирая руку в сторону прихожей.
Ничего не оставалось, как плестись к вешалке, выбирать один из музейных экспонатов. Надежда схватила ту шляпу, что висела поближе: малиновую велюровую с тремя чёрными перьями на боку и чёрной крошечной вуалеткой надо лбом. Нахлобучила её, вернулась и села в то же продавленное кресло.
Минуты полторы Калерия внимательно разглядывала её в полнейшей тишине.
– Вы – императрица! – наконец произнесла она милостиво. Вновь сложила руки в благостном жесте. – «Нищая»! – объявила она. – Стихи: Пьер-Жан Беранже, перевод: Дмитрий Ленский, музыка: Александр Алябьев… – прочистила горло, царственно кивнула подбородком невидимому аккомпаниатору и…
Вообще-то, для бытовых нужд Калерия Михайловна держала приятный сочный баритон. Но запела она таким неестественно высоким, бестелесным батистовым голосом, – будто из-под савана, – что Надежду мгновенно продрал по хребту мороз.
- – Зима, метель, и в крупных хло-опьях
- При сильном ветре сне-ег вали-ит.
- У входа в хра-ам, одна, в отре-епьях,
- Стару-ушка нищая стои-ит…
- И милостыни ожида-ая,
- Она всё тут с клюко-ой своей,
- И летом, и зимо-ой, слепа-ая!..
- Подайте ж ми-лос-ты-ыню ей!
…Это был даже не женский, и совсем не Калерин, и вообще не человеческий голос. Должно быть, ангелы в сквозистых небесах выли такими вот мертвецкими голосами.
Надежде стало страшно.
В молодости, по окончании университета, она работала в «Люберецкой правде», принимала население. Люди приходили каждый со своей бедой – широк был профиль этих малых и немалых несчастий. По сути дела, в отсутствие исповедника в те годы журналист в отделе писем городской газеты исполнял приблизительно те же функции, разве что детей не крестил и покойников не отпевал. Впрочем, и отпевал: Надежда сама настрочила штук пять некрологов о видных членах городской администрации. Так вот, с тех ещё времён она поняла, что весна и осень – это не времена года, а периоды обострений у психически больных граждан. Через полгода практики навострилась нутром чуять момент, когда, внезапно оборвав беседу, надо просто спасаться.
Едва Калерия – лохматая, с радужным педикюром, среди этих рогож на полу – открыла рот и запела нечеловеческим, очень чистым батистовым голосом, буравя Надежду своими острыми глазками, той захотелось съёжиться и ринуться к двери…
Сидя в широкополой малиновой шляпе с вуалью и перьями, слушая запредельный поднебесный вой Калерии, она как раз и чувствовала вот этот самый момент: спасаться! Однако, бог свидетель, это было никак невозможно. Существующий или не существующий роман держал её здесь, как якорь – средневековую шхуну.
- – Сказать ли вам, старушка э-эта
- Как двадцать лет тому-у жила-а!
- Она была мечто-о-ой поэ-эта,
- И слава е-ей вено-ок плела-а.
- Когда она на сце-ене пе-ела,
- Париж в восто-орге бы-ил от ней.
- Она соперниц не име-ела…
- Пода-айте ж милосты-ыню ей!
С этими почти бесплотными бледными руками, покойницки сложенными на деревянном бортике клавиатуры, этим мерно и широко разеваемым ртом, этим душу вынимающим тембром голоса Калерия уныло тянула романс, как раз и напоминая нищую бродяжку с шарманкой, собирающую дань со случайных прохожих:
- – Святая воля провиденья…
- Артистка сделалась больна,
- Лишилась голоса и зренья
- И бродит по миру одна.
- Бывало, бедный не боится
- Прийти за милостыней к ней,
- Она ж у вас просить стыдится…
- Подайте ж милостыню ей!
Вдруг всё вспомнилось, все сплетни издательские: что Калерия практически не выходит из дому, что с детьми и внуками у неё многолетний раздрай… «Господи, – вдруг подумала Надежда, – и как ожгла её мысль! – Почему же я, скотина этакая, не принесла старухе еды?! Творожка там, булки… селёдочки какой-нибудь, кефира!.. Эта её пицца из сухарей, – это ж! – и, ошалев от пронзительной правды, что разом обрушилась на неё, чуть не застонала: – Она же голодает, старая, голода-а-ает! – И тут же растерянно себя оборвала: – А шляпы королевские – откуда?! А педикюр?! Нет, это чёрт знает что такое!..» Но поделать с собой уже ничего не могла. Слёзы возбухли где-то в носу, поднялись, вылились из глаз и покатились по щекам, и Надежда отирала их то одной, то второй ладонью…
- – Ах, кто с такою добротою
- В несчастье ближним помогал,
- Как эта нищая с клюкою,
- Когда амур её ласкал.
- Она всё в жизни потеря-ала!..
- О! Чтобы в старости своей
- Она на промысл не ропта-ала,
- Пода-айте ж милосты-ыню ей!
Затихло и развеялось последнее дуновение голоса покойной малютки. Писательница ещё стояла неподвижно, не снимая рук с инструмента, пристально разглядывая гостью острыми своими глазками. Наконец проговорила:
– Ладно! За эти ваши слёзы… Пойдёмте, кое-что покажу… – И сразу остановила её поднятой ладонью: – Погодите! Свежий воздух!
В пустом углу комнаты, как удочка, прислонённая к стене, стоял то ли шест, то ли рыбацкий багор с крюком на конце. Калерия Михайловна подняла эту длинную палку и, зацепив крюком старую задвижку на окне, медленно и торжественно отворила форточку. Затем, с багром в руке, открыла дверь во вторую комнатку и скрылась там.
Надежда ждала, не понимая – что делать и можно ли уже снять с головы это чёртово дворянское гнездо.
Помимо медной чаши с наваленной в ней кучей драгоценного хлама, на столе стояло ещё блюдо, в котором Надежда приметила маленькие рукодельные книжки – их тоже, надо полагать, мастерила сама Калерия из листов бурого картона. В далёкие советские времена из такого картона делали скоросшиватели. Не в силах прео-долеть искушения, Надежда потянулась и цапнула одну книжку. Внутри были подшиты рецептурные бланки, их писательница явно стащила из поликлиники. На бланках – рисованные рукой картинки: собака, разговаривающая по телефону. Понизу рисунка – рукописный текст: «Любка! Ты где? Опять бухаете? Иди домой, шалава, мне гулять пора!» Собака была потрясающая, живая, глаза скошены к переносице, одна задняя лапа перекинута на другую, ухо завесило телефонную трубку… «Эту книжку надо издать немедленно, – с восторгом подумала Надежда, возвращая собаку на место, – и издать её при нынешнем книжном тоталитаризме совершенно невозможно: налепят кретинский знак «18+», залудят в целлофан… Права старуха, что никому ничего не даёт!»
Тут Калерия Михайловна показалась в дверях второй комнаты – наверняка спальни, – и так же торжественно закрыла шестом форточку – будто театральный занавес пал. Свежий воздух был отмерен, усмирён и заперт на задвижку.
– Прошу! – пригласила она.
Надежда сняла с головы шляпу, оставила на столе и устремилась за Калерией. И, видать, театральные эффекты этой женщины, этой квартирки и целого мира вещей, в ней бытующих, себя не исчерпали. Ибо, застряв на пороге «спальни» (да какая там спальня!), можно было стоять так сколь угодно долго.
В пустой каморке – в святая, надо полагать, святых, куда никто не бывал допущен, – из мебели находился только один предмет: консоль не консоль, комод не комод, а нечто вроде тумбочки, шкафчика густавианского стиля, белого с золотом. Вещь ошеломительной и одинокой красоты: дуб, позолоченная бронза, венки-позументы-вензеля…
А на стене над ним висело рукодельное панно: на белом сукне, разноцветным крашеным вой-локом густо и прекрасно то ли пришиты были, то ли склеены… Короче, панно это представляло собой ряд сцен, – такой себе Брейгель в русском слободском изводе, и рассматривать всё это можно, как и Брейгеля, целый день, потому как всё там было: пьющие в кабаке мужики, кто-то бил жену, кто-то завалил бабу за печкой, ноги торчали из-под задранной юбки; тут же тенор в бабочке пел на эстрадке летнего парка, протянув к публике обе руки, а поодаль, по глади пруда плыла лодочка, в которой яростно налегал на вёсла дюжий бугай, и за его спиной опять же круглилась другая спина и задорно торчали вверх женские ноги…
Долго потом это панно и разные его фрагменты вставали у Надежды перед глазами. А голос у неё напрочь пропал: ничего она выговорить не могла.
Выходит, великая писательница Калерия Михайловна Чесменова, попутно отметила Надежда, спала в столовой на том продавленном канцелярском диване. И всё ей трын-трава. Кроме педикюра. А вы говорите: Достоевский, трущобы, бедные люди и так далее…
Калерия меж тем открыла шкафчик, где внутри что-то белело.
– Загляните, загляните, – пригласила она с лукавой улыбкой. – Знаете, что там?
И, не дожидаясь догадок гостьи, наклонилась и вытянула наволочку, в которой комками было что-то утрамбовано.
– Мои рукописи. Мои неопубликованные книги, – понизив голос, провозгласила Чесменова. – Всё, что написано за эти годы. Два романа… три пьесы… двухтомная фантасмагория на тему создания пластического человека, с чертежами и расчётами. Ну и десятка три рассказов и эссе… Всё – здесь.
Она обнимала наволочку, прижимая её к себе, как дитя. Как целую гроздь своих дорогих детей.
Надежда вскрикнула, но подавилась и закашлялась.
– Калерия Михайловна!!! – страшно прошептала она сорванным голосом. – Отдайте!!!
– Ни в коем случае, – сухо отвечала безумица.
Надежда тяжело рухнула на колени, обхватила Калерию Михайловну за тощую петушиную ногу и затрясла её, как трясут чудо-дерево в ожидании, что с него посыплются спелые романы и повести. Минут пятнадцать, не поднимаясь с колен, Надежда горячо и взахлёб объясняла, клялась, сулила, умоляла – то есть как раз делала всё то, на что благословил её утром Сергей Робе́ртович. Она самовольно назначала немыслимые гонорары, обещала небо в алмазах, расписывала шок литературного мира. Рецензенты, журналисты, редакторы и литературоведы, бесстыжая премиальная шобла… – короче, вся эта перепончатокрылая грифоноголовая тусовка, оглушая окрестности предполагаемым визгом, вихрем промчалась в её сбивчивой горячечной бормотне. Она чуть ли не рычала, поскуливала, пробовала напевать колыбельную… Раза два отчаянно мелькнуло: не задушить ли старуху?
Наконец истощилась, так же тяжело поднялась с колен и поплелась прочь на кухню.
Калерия Михайловна оживлённой рысцой последовала за ней уже без спрессованных в заветной наволочке сокровищ. Она была чрезвычайно довольна. Она наслаждалась…
– Курите, курите… – позволила она оглушённой гостье, заметив, что та бессознательно щупает огромную слоновью мошонку своей необъятной сумки в поисках сигарет.
– Но… как же ваш… свежий воздух?
– Курите. Снимайте стресс…
Надежда закурила, по-прежнему лихорадочно соображая – что скажет Серёге, и что тот ответит, и как она откровенно его обматерит, ибо нет уже сил на всё на это. И какие совещания он соберёт для мозгового штурма, дабы разрулить чрезвычайную ситуацию.
Калерия же Михайловна примирительно проговорила:
– Потом, потом когда-нибудь. После моей смерти… Вот Сэлинджер, если вы слыхали о таком писателе, он вообще сидел тридцать лет в бункере и никому ничего не показывал. Готовился к смерти… Писатель всегда должен быть готов к смерти, – добавила она с некоторым даже садистским удовольствием, – ибо приберегает главный салют из всех орудий собственной славы на тот момент, когда, увы, насладиться им не сможет. Это и есть самый изысканный, самый душераздирающий штрих авторского стиля.
Надежда обвела взглядом комнату, продавленный диван, рогожи на полу, взъерошенные патлы Калерии, похожие на горстку сигаретного пепла, поднятого ветром, и вновь опустила глаза к старым резиновым вьетнамкам, в каких и сама прошлёпала всё летнее детство на Клязьме-реке, в дивном городе Вязники.
Судя по бесподобному педикюру, старая гениальная сука Калерия Михайловна Чесменова о смерти совершенно не думала.
Глава 4
Солнечные
полосы и пятна
«…Дня три назад, отпросившись на работе, примчалась из Москвы в деревню на предмет починки отопления.
Ехала ночью, так что глаза продрала чуть не к полудню. Серединки встретили меня хмурым пейзажем: при полном отсутствии ветра тёмные тучи очень близко нависали над землёй, из тумана проступали лишь полосы придорожного леса – как дальний горный хребет. Из окон любимой веранды вид тоже не радовал. Крыша летнего домика, верхушки деревьев упирались в низкое небо, как в грязный потолок. Но я заполучила у Изюма своего Лукича и под рюмочку наливки наблюдала нежную встречу перспективного лабрадора со своим котиком. Как обычно, после долгой разлуки Лукич разваливается на полу, а Пушкин долго и тщательно вылизывает ему морду и грязные уши…
А вчера ночью задул ветер, пошёл снег, и с утра я уселась рассматривать новую картину. Все мои дерева стали одеты в клоунский (или чёрно-белый дизайнерский) наряд: ровно напополам они были припорошены снегом (видимо, ветер дул в одном направлении), и это особенно красиво выглядело на тонких стволах. А по белому лужку сновали чёрно-белые сороки. Они то взлетали, то опять приземлялись и бочком-бочком прыгали по снегу. Чистота, белизна, тишина… Лукич посвистывает резиновой игрушкой, душа распахивается и воспаряет…
А я, Нина, уже мечтаю, как весной посажу на участке косячок рябин: деревца рядышком, напросвет, как улетающий клин. Знаете, в том городке, где я родилась, – Вязники, может, приходилось слышать? – в большом лесопарке, в дальней его части сама собой образовалась рябиновая рощица, точнее, и не роща, а клин. Явление это уникальное, ведь ягоды у рябин тяжёлые, далеко от дерева их не относит. Может, «роза ветров» на этом месте оказалась со сквозняком и ягоды раскидало метров на двести? Не знаю, но страшно любила в детстве там бегать – особенно когда вокруг сам воздух, казалось, пламенел от ягод. Бежишь, бежишь в салюте рябиновых брызг… и вдруг навстречу тебе пацан: чёрные кудри, как на картинах итальянских мастеров, а глаза ошалелые, огромные, синие – сил нет! – и в этих глазах ты сама – рыжая-шальная, в ореоле кипящих рябин.
Ну, ладно… На чём мы там остановились, Нина, – на козах? Это большой эпизод из прошлой и нынешней жизни Изюма. В этой теме масса нюансов, целый взвод блистательных ноу-халяу и густой рой воспоминаний.
«Я вот что понял, – вдруг заявляет он посреди оживлённой беседы на козью тему. – Собаки ссут на колёса машин, потому что знают, что моча их далеко поедет и будет витать над дорогами в разных местностях. Они так территорию свою расширяют. Что ты ржёшь? Это чистая правда, только Интернет эту тему замалчивает…»
Между прочим, идея, что вы напишете книгу, в которой выведете его крупную личность в полный рост, настолько запала в его душу и мысли, что он, во-первых, попытался и сам засесть за воспоминания (накатал целых три абзаца и сник), а затем приволок диктофон, чинно уселся за стол и, отвергнув рюмочку сливянки, стал наговаривать свою жизнь упругим задушевным голосом. Приходит уже третий вечер и говорит, говорит, пока не иссякнет или пока я не погоню его, так как и надоел, и ржать устала, и надо же по дому всяко-разно крутиться.
Кстати, кое-какие эпизоды в его замусоренной и бездельной жизни могли бы вас заинтересовать. Так что, пожалуй, на досуге я кое-что расшифрую и нащёлкаю на компе – вам пригодится. Чего не сделает редактор для творческих нужд «нашего известного автора»! Самое яркое там – лирические отступления, когда с высот собственной великой биографии он спускается в низины презренной жизни и начинает философствовать и раздавать оценки, или припоминает какой-нибудь эпизод, смешной или дикий. Иногда, чтобы спровоцировать его на рассказы, я задаю наводящие вопросы, ссылаясь на вас: мол, Нина спрашивает, что интересного было на твоей памяти в деревенской жизни…
Ой, погодите-ка, есть смешной рассказ об утопленнике. Сейчас перестукаю с диктофона:
«Деревенская жизнь? А что в ней может быть интересного, кроме выпить и зажмуриться?.. Убийство? Нет, убийств не помню, а вот синий лысый мужик однажды выплыл на меня из камышей, я чуть в штаны не навалил. В тумане, блллин-блиновский, подплывает, как баржа́ полузатопленная… Я с тех пор понимаю, почему человека легко убить: люди же цепенеют от страха. Я вот так же оцепенел, когда этот синюшный выплыл.
Место, где дамбу строили, знаешь? Так её раньше не было. А было: вдоль озера проходишь метров тридцать, и начинаются густые камыши и небольшой спуск к воде, у меня там любимое место – рыбачить.
И вот сижу я с удочкой, голову повесил – после очередного воизлияния национального напитка: то засну, то глаза открою. Голову подниму – а на удочках всё склёвано. Ну, я по новой закидываю и опять кемарю… А жарко, и туман. А когда туман, почему-то хорошо звуки слышны, – не знаешь, что за явление физики? Не физики? Акустики, что ль? Короче, туманец такой над водой, сизая дымка, и жарынь, а в камышах какие-то мастодонты отжигают: то ли рыба, то ли норки – движуха там серьёзная происходила. В заводи такие рыбы плавали – ух, прям! – как трактора. Как бы, думаю, мне туда подобраться и удочку закинуть. И тут – шпрпрш-шух-шух! А по звуку можно определить, какая по весу рыбина. И слышу, знаешь, такой звук, когда с ноздри сморкаются. Ну, тут я слегка присел, хотя уже и так сидел – после пьянки, знаешь, не растанцуешься. Начинаю вглядываться в этот туманец… и вижу руку – толстенную, синюю, сморщенную руку! И мне стало так нехорошо, Петровна. Очень мне стало нехорошо…
Ты ведь знаешь, я сам не святой и в то утро довольно разомлевши был, но представить себе не мог, что по дороге домой из одной деревни в другую можно заблудиться и уснуть – блллин! – в пруду! И вот эта лысая башка, эта опухшая синяя морда предстают передо мною! Большой театр! Тень отца Гамлета!.. Я замер, как кролик: орать, не орать. Сейчас, думаю, придёт Миокард… Здорово меня прибило. Хорошо, что ничего не ел с утра. А этот синяк упокойный говорит: «Который день?» А я почём знаю, который день. Я и сам бухал с Альбертиком, потом на рыбалку потащился, как говорится, под эшафэ. Выпивший человек, кстати, ходит со скоростью три кэмэ в час – ты знала? Это де факт.
А синий дальше беседу ведёт: «Эт что за деревня?» – «Серединки», – говорю, язык еле ворочается, но ощущаю себя уже более питательно… – «А Коростелёво где?» – «Вон туда, но это не -близко».
«А я у друга пил, – говорит, – пошёл домой, заблудился. Решил срезать через камыши». Короче, срезал чел и там же уснул – в камышах-то. И мок себе в этой жаре, в этом тумане. Я вот думаю: сколько ж бухла принять надо, чтобы уснуть в пруду? Литра два в одно лицо, не меньше.
Но вот как он по воде ко мне брёл, этот исус хренов, – может, с минуту, две… – я всех покойных родственников вспомнил! И сам занемел, как покойник, хотя у меня рядом квадроцикл стоял… Не забыть мне этой фигни нипочём!
И с того дня, Петровна, знаешь, я осознал, что деревня, в общем-то, живёт такой простой жизнью: шёл человек, устал, лёг – поспал… И он не считается, как в Москве, алкаш. Как же не утонул? Не зря говорят, у алкаша – семь жизней… Это, конечно, анекдот, но если Нина, к примеру, его красочно-сочно распишет, то Гоголь отдохнёт в камышах со своей утопленницей!
А вот ещё: однажды утром приехал на берег, а там прокуратура и все дела. Рыбак помер. Сердце остановилось. Ну, полдеревни сбежалось, Ванька стоит, Витька-Неоновый мальчик, Юрка-пожарник. И рыбак какой-то:
– Вот бы мне так сдохнуть!..
Второй ему:
– Что, жена заколебала?
– Да смерть, говорю, шикарная, самая-самая для рыбака: закинул удочку и помер! А то будешь мучиться, лежать-болеть восемь лет, никто тебе стакана воды не подаст.
И все, кто там стоял, точно так и подумали.
Вот такая тоже история. Вернее, не история, а событие. Смерть человека – это ведь событие?..»
Изюм долго смотрит через окно веранды на мой лужок, и вдруг произносит задумчиво, как бы самому себе: «Да: целое событие…»
А сегодня резко захолодало, но второй день светит ярчайшее солнце. Какой свет! Все пейзажи состоят из солнечных полос и пятен. Придётся освоить фотоаппарат, ибо запечатлеть эту красоту по-другому я не способна. Видимо, наступает старость, потому что природа ужасно волнует. А больше не волнует ничего…»
Глава 5
Старинный рецепт козьего сыра
Сергей Робе́ртович, владелец крупнейшего издательства России, был человеком невероятно любо-знательным. Великим книгочеем был – как и полагалось ему по статусу. Просто вплотную с книгами он столкнулся гораздо позже, чем обычно сталкивается рядовой гражданин. Он ведь не родился владельцем издательства, а родился духовиком, тромбонистом в семье тромбонистов: специальная музшкола, консерватория, оркестр Александрова – где тут читать-то? Он прекрасно знал оркестровый репертуар мировой классики, и вообще, был музыкантом до последней жилочки своего поджарого тела.
Угодив же в конце восьмидесятых в книжный бизнес, ринулся осваивать новую для себя область мировой культуры: Бальзак, Акунин, Донцова, Рэй Брэдбери… и кто там ещё всплывал на совещаниях редакторов.
Ему не отказать было в работоспособности и реактивности – порою бешеной. Наработавшись с неделю-другую и погоняв редакторов, как помойных котов, он улетал на Гавайи или на Мальту, скакал там на лошадях или скользил на водных лыжах – набирался сил на следующую декаду утомительной работы.
Во вторник он позвонил Надежде на мобильный часиков в шесть утра: время первой собачьей оправки. Надежда с Лукичом только-только вернулись со своей прогулки по Патриаршим, лишь в дверь вошли. Эти соловьиные звонки случались и раньше, ибо у обоих были псы, оба рано вставали, так что какие там церемонии. Звонил он с какого-то греческого острова, где у него было отдохновение: небольшая лошадиная ферма.
Когда Сергей Робе́ртович бывал недоволен или пребывал в ярости, он начинал разговор так: «Ну, здравствуй, душа моя!» Это означало, что сейчас он разметает тебя в клочки, изрубит в куски и скормит воронам. Когда бывал в хорошем расположении духа, не здоровался, а начинал с самой сути.
– Слушай! – со столь знакомым Надежде вдохновенным напором проговорил Сергей Ро-бе́ртович. – Ты знаешь вот такой стих: «Выхожу один я на дорогу… сквозь туман кремнистый путь блестит»?
Она осторожно помолчала. Надо было сориентироваться.
– А в чём дело? – спросила, щекой прижимая к плечу телефон, наклонясь и освобождая Лукича от поводка.
– Не крути! Знаешь или нет?
– Ну, знаю…
– Нет, постой… Я тут, понимаешь, рюмашу заглотнул и музыку слушаю. И вот эти слова – «Выхожу один я на дорогу…» – голос его дрогнул: – Да ты слова-то помнишь? – крикнул он. – Там так: «Выхожу, знач, один я на дорогу…»
– Да помню, помню… – нетерпеливо буркнула Надежда, тщательно вытирая мокрой тряпкой все четыре лапы лабрадора, послушно застывшего под её руками, и мысленно проклиная того гада, кто придумал посыпать тротуары химической отравой для таянья льда. – И кремнистый путь блестит, и звезда с звездою говорит…
– А кто сочинил их, знаешь?
– Ну… Лермонтов, – сказала Надежда. Стоило ещё разобраться в степени Серёгиного опьянения.
– Да брось ты, – он хмыкнул. – Не может быть!
– Почему ж это не может? Лермонтов, Михаил Юрьевич, в иные моменты мог и повыше Александра Сергеевича подниматься.
– Да нет, ну, погоди!.. И мелодию, что ли, знаешь?
– Ну, конечно, знаю, Серёга. Лично исполняла в хоре желдорклуба Горьковской железной до-роги.
Он вздохнул.
– А я тут, понимаешь, рюмашу заглотнул, поставил Лемешева… И как попёр он: «Вы-ха-жу-у а-а-а-дин я на да-ро-о-гу…» – Он сглотнул сухой всхлип в горле, помолчал. – Слушай, а почему тут написано, что слова народные?
– А ты, Серёга, на каких рынках эти диски покупаешь? – душевным тоном спросила Надежда, насыпая Лукичу в миску полезные вонючие козьи какашки.
Олигарх задумался:
– Значит, Лермонтов, да… – голос усталым был, будто накануне он лично чистил в стойлах скребком всех своих жеребцов.
– А ты думал – кто? – с любопытством спросила Надежда. Проработав с Сергеем Робе́ртовичем бок о бок лет двенадцать, она до сих пор не могла угадать его реакции на самые обиходные вещи и события.
– Я думал, Есенин, – искренне проговорил он.
– Нет, это Михаил Юрьевич, тот самый, которого мы, между прочим, издаём в твоём издательстве.
– Вот теперь, – сказал Сергей Робе́ртович, мгновенно переключая голос в деловой регистр, – теперь я понимаю, что его можно издавать.
«…Сегодня, проснувшись, обнаружила, что крыши запорошило снегом. И вдруг выскочило солнце и так отчаянно засияло и высветило всё вокруг: оплешивевшую, но ещё цветастую опушку леса, аккуратно убранное жёлтое поле, мой прекрасный лужок. Но ненадолго. Через пару часов ленивый ветерок вдруг окреп и заурчал-загудел, а с неба посыпалась и понеслась прямо на окна снежная крупа, толкаясь в стёкла. Ветер мотался туда и сюда, а с ним мотались снежные клубы. Темно, суетно, неприятно. Нет, от судьбы не уйдёшь: быть зиме!
Но я себя преодолела и поехала в Боровск на заранее договорённую экскурсию в Благовещенский кафедральный собор, который так громко называется, а на деле – средних размеров храм. Но внутри там столько старинного-прекрасного, глаз не оторвать! А потом мне разрешили забраться на колокольню и немного пофотографировать. Нина, та лестница в вашей амстердамской квартирке (помните, вы называли её «корабельной»?) – она, как говорится, отдыхает. Уж как я спустилась, не помню. Бёдра мои до сих пор дрожат, в коленках сидят ржавые шарикоподшипники, сгибаются они, а разгибаться не хотят. Боже, боже, неужели пришла пора делать зарядку?
А сейчас уже ночь, тишина. В доме тепло. Ветер напевает что-то оперное: какая-то ария, а слов не разобрать. Лукич храпит, Пушкин обнял батарею, а я села раскладывать пасьянс «Паук» из четырёх мастей, который никогда не сходится. Мне хо-рошо…
Так вот, Ниночка, – козы! Это я не нарочно вас мурыжу, я собираю факты, чтобы полнее тему раскрыть. Да и, честно говоря, не было времени перевести пламенную бормотню Изюма в чинный строй кириллицы.
А вчера приехала в Серединки, не успела перетаскать из машины барахло и продукты – глядь, соседушка дорогой уже маячит на ступенях ве-ранды:
– Салют, Петровна! Я, знаешь, начал мемуары писать. Назвал их так: «Житие Изюма, или Сказ про то, как закалялась сталь в отсутствии оной». (Он произносит упруго: «оннной», примерно, как свое знаменитое «блллин!»). Написал до хрена: листиков так двадцать блокнотных. Вот, принес, ты почитай и оставь заметки на полях. Что сказать? Копнул глубоко. С детства начал…
Листиков этих – когда он ушёл, я посчитала – оказалось три. Ну я и перепечатала их для вас в точности, что называется, с сохранением авторского стиля и пунктуации, – и умоляю не посягать на переделку и даже машинально ничего не править. Запятых, точек и заглавных букв он не признаёт, совсем как мой покойный папка, зато любит многоточия и скобки, дабы подчеркнуть весомость и изысканность мысли. Какой-нибудь графолог-психолог уж точно расписал бы нам особенности характера по данному эпохальному тексту:
Воспоминания Изюма или пособие как попасть в ад – предисловие
…ктото из ученых по телеку недавно сказал что сознание человеку приходит в 10–12 месяцев после рождения и тогда он понимает что он ЛИЧНОСТЬ индивидум… непохожий на других… моё сознание меня посетило дважды… первый раз в саду когда из-за меня разбирали плитку на печке пытаясь вытащить мою некчемную башку которая застряла в отверстии для пепла… после чего директор сада поднимая меня неоднократно за ухо почему-то за правое (в последствие по жизни этому уху всё время доставалось оно так и оттопыривается досих пор) приговаривал что он из меня всю дурь выбьет что я забуду как ссатца в кровать в тихий час (видимо я ентим страдал в детстве) на том сознание моей индивидуальности меня и покинуло…
больше я сада не помню… и второй раз по истичению сорока двух лет и семи месяцев строгово воздержания (это после 15-летнего каждодневного волеизлияния алкаголя) сидя в сраной дыре под названием д. серединки с печенью которая упала в труселя ночью выйдя на крыльцо поэтично пассать я случайно кинул взгляд на небо и замер мерцающие звезды и крупная луна так близко вот прямо руку протени и сорви звезду и ощутив при таких моштабов космоса себя имбицило-дибилоидом галактики что-то в нутри вылезло в башку и ОНО СОЗНАНИЕ посетило меня как я не пытался от него спрятаться… ух посетило… чтото похолодало как буд-то в прорубь окунули… как та бочка с бензином (потом напомню забавно вышло) лучшеб опять ухо… посетило и ужаснуло меня от несодеянного.
ну чтож начнемс предстовление
1 … детство или крошки под одеялом…
сраное унылое холодное детство с проблесками игрушек из югославии (в количестве трёх штук) большого стеклянного лифта и паркета в длинном коридоре на савёловской набережной и просмотр кина в клубе каучука с напротив унылым стадионом который всё время был закрыт…
На этом рукопись, найденная в Сарагосе, обрывается, – устал человек. Богатейшие воспоминания, но обратите внимание на это вечное – сквозь полнейшую муть – стремление к совершенству, будь то холодные небеса со звёздами или маниакальное желание мелких и крупных преобразований жизни.
После обеда явился с той же книжной темой, но уже научно освоенной:
– Я вообще тут о книгах задумался, Петровна. И понял, что книга – обездушенный продукт. Я думаю, надо так: где писатель рассказывает о прошлом, там пусть будет буквами по бумаге написано. А где он говорит о настоящем – пусть будет ссылка на Интернет. А что? Сейчас гаджеты есть у всех. Например, какой волк был в прошлом – можно рассказать. А про настоящее – ссылка. Ты – хоба! – идешь по ссылке, а там зай-чик встречает волка в лесу и говорит ему: «Какой ты, сука, мудак!» Или ссылка на фото: «Посмотреть и поржать – тут!» А на фото – я, бедный мальчик из Орехова-Борисова, где родился и вырос. Как тебе это? Скажи там, в своём издательстве. Вы же миллионы… нет, миллиарды огребать станете! Ты понимаешь, Петровна, что так человек может проявить интерес не только к моей бестолковой жизни, но и к роману «Война и мир», например?
Да, но – к делу! Козы…
Только перед тем хорошо бы вам, Нина, прочувствовать здешний пейзаж с его человеческим фактором, который то и дело мелькает в речугах Изюма. Познакомиться надо бы с персонажами, ощутить коммерческую сермягу современной деревни.
Есть типажи в нашей округе весьма колоритные.
Первым делом – деревенский синклит: три мэна, три богатыря.
Гнилухин – самый крутой, о нём попозже. Затем – Роман Григорьич Кро́тый, за глаза именуемый Щёлочью – он самый жадный. Наконец, Жорик – этот самый молодой, хитрожопый и оборотистый, владеет лесопилкой. Вовремя, лет этак пятнадцать назад, объединившись, они взяли в аренду озеро, построили городок для рыбаков, и деньги гребут даже не лопатой, а экскаватором.
Изюм у них там подрабатывает – на починке-подправке, на гвозди забить, вкрутить лампочек… Словом, как сам говорит: «на мелкой унылой дрочиловке». Платят они гроши и не вовремя, так что рассказам и жалобам моего турка нет конца.
Например, Гнилухин, Пётр Алексеевич: тощий-лысый, из-за ушей торчат два седых клока, глубокие борозды вдоль щёк, как на увядшем огурце, глаза слезливые от вечной аллергии, – одним словом, не герой-любовник. По словам Изюма, «он завёл юную санчу-пансу». Жена Катерина, как водится, о шалостях супруга узнала последней, но – опять же, как водится у таких жлобов, – на жену записано много собственности. И она «бунтует и пьёт кровь». «Хлещет гнилухинскую кровищу прямо из его подлых жил», – говорит Изюм. В данный момент в качестве собственника препятствует важной сделке. Изюм с наслаждением наблюдает сии скрытные семейные баталии, он же страстный сплетник, и комментирует у меня на веранде всё очень подробно и артистично.
– Катерина очень умная! – говорит он, размахивая руками. Когда недостает свободы пространства за столом, вскакивает и прохаживается по веранде с таким, знаете, подскоком, – дети так обычно выражают свою чистую радость. – Она ведь завуч в школе, дикция у неё поставлена. Гнилухин намерен дом продать, а она: «Пошёл в жопу!» Дом-то на неё записан. Он и так и сяк, тыр-пыр… Она – нет, и сдохни! Он и грохнуть её не может: детей всё же двое. А так бы грибочек из лесу притащил, и – досвидос! и сизый, лети, голубок…
А морда у него, ты замечала? – говорит Изюм зловеще, – как будто вышел из склепа. Что ты ржёшь? Ты что, не видала, как люди выходят из склепа? Да у них у всех троих кошмарные хари. Вот Роман Григорьич, Щёлочь окаянная: у него усищи, – тут Изюм подносит ко рту тылом свою толстенькую лапку и бешено шевелит пальцами. – Зойка, ихняя штатная повариха, тупо пережаривает мясо. Регулярно! Я такого есть не могу. А Щёлочь, ему что: хапнет кусок, пошевелит усищами (показывает: играет пальцами, как гитарные струны перебирает), кусок-то – хоба! – и провалится… Я тут к нему подхожу: «Давайте, говорю, Роман Григорьич, подумаем, как прибавить мне зарплату. Я и сантехник у вас, и плотник, и арт-директор, и балерина. Может, вас ещё яблочной шарлоткой кормить – любимым десертом принцессы Савойской?..» А он уставился на меня щелочным своим взглядом, усами двинул: «Да… надо подумать». И – херак! – ушёл. Как Будда…
А позавчера тут такое произошло! Ты чё, я теперь – король! Я губернатору шашлык приготовил! Постой – я тебе про трактир «У Изи» не рассказывал? Нет?! А я думал, ты всё про мою жизнь знаешь.
В общем, там, на Межуре, на любой праздник народу толпень, тем боле на Новый год. И я решил сделать глобальную презентацию. Обшил беседку целлофаном, развесил лампочки, угольком на картонке написал «ТрактирЪ «У Изи» – с твёрдым знаком, чтоб ясно было: платить придётся. И внизу помельче: «Доставка в номера». Грянул на Щёлочь, выколотил из него десять штук и – вперёд! Понимаешь, у меня, когда никто не ставит барьеров творчеству, мозг фурычит, как самолёт! Сел я, подумал: что в такую холодрыгу простому человеку нужно, кроме бухла, само собой? И сам себе ответил: горячий бульончик! Взял и сварил пятьдесят литров ухи из благородных рыб по материному рецепту… Мать-то она мать, но видишь, в чём дело: секрет прозрачности бульона она мне, оказывается, так и не открыла. Я сам догадался аналитическим своим мозгом и разоблачил её подчистую. И она созналась во всём! А тебе я говорю бесплатно и от чистого сердца, записывай откровение святого Луки: берёшь хвосты – от горбуши, от сёмги – и варишь… А рыбку-то не кидаешь! Ты её отдельно кипяточком заливаешь и настаиваешь. Она же быстро готовится, сёмга. Затем перчаточки одеваешь и туда, в бульончик, аккуратненько опускаешь рыбку, когда уже всё выключено. Бульон-то поэтому прозрачный! С трудом расколол родную мать, слава богу, пытать не пришлось. А хвосты, они клейковину создают, аромат, уважуху, – короче, нужный букет, который гурмана валит с ног. Да, пока не забыл: хвосты варишь в марле, чтоб за ними потом не гоняться.
Ушицу сварил на углях, на костре, как полагается. Сварил – без ничего, никакой там картошки, никакой пошлятины. Просто: Его Величество Бульончик. Аромат номер один, царский реестр. Ну и шашлыков по ходу наделал килограмм тридцать пять. Жаль, думаю, насчёт музыки не продумал ни хрена. Запахи пошли… Сижу там в ожидании гурманов, как воспалённый любовник, публику жду… И чего-то никто не идёт.
А я когда вытащил из Щёлочи десятку, он сказал, мол, ладно, если такое дело, развлекай людей, хоть бесплатно всё раздай, пусть будет реклама.
Ну, я и сижу… Тут, вижу, идёт мужик. Я ему: «Заходите, пожалуйста! Первому гостю – тарелка ухи даром!»
Слышь, Петровна, я не знаю, почему мне это интересно: приготовить и угостить. Некоторые считают: эх, бедолага! – типа несостоявшийся человек. А я почему-то не испытываю вот этого недоучёта, наоборот, испытываю настоящее удовольствие и профит, когда вкусно приготовлю и люди уплетают.
Вот интересно: за гайки-шурупы я никакого особого удовольствия не имею. Что – гайки? Их на зуб не возьмёшь, нюхом не обоняешь, желудком не переваришь… правильно? А в деле насыщения есть разные тонкости. Душевные и пищевые. Короче, остановил я этого мужика, явно похмельного, зазвал, усадил… и он ушицы-то похлебал, на глазах преображаясь из гадкого утёнка в белого лебедя. У меня, заметь, посудка одноразовая, но не такое пластмассовое говно… Я поехал-купил стаканчики хорошие, с фольгой, контейнеры с фольгой…
В общем, мужик похлебал ушицы и просветлился. Одному рассказал, другому рассказал… Пошла молва, люди и набежали. Я такую цену поставил на шашлык, любой подымет: то есть вот такенный шампур, с помидорчиком, с лучком, плюс тарелка розового риса, моего фирменного, деликатесно-элитного; плюс я ещё салат настебал, «коул-слоу» называется, а по-нашему «витаминный». Знач, шампур – двести пятьдесят рубликов, обожраться троим. Пятьдесят рублей – гарнир и пятьдесят – стакан ухи из благородных рыб. И туда-сюда… с тридцать первого на первое у меня всё и разлетелось!
И Роман Григорьич, и Жорик меня навестили – попробовать плоды, так сказать, моего мастерства. И платили как миленькие, а как же! Здесь вон трактир! Читайте, если в школе вас научили. Халявы тут нет! Твёрдый знак. А как я потом буду перед вами же отчитываться? И Гнилухину шашлык с рисом перепал. Он жуёт и говорит: «Бля, Изя, это шведэр!» – а у самого рисинки на подбородке и жир каплями стекает – чистый людоед.
Стал кассу подсчитывать, думал, я в убытке, смотрю – у меня восемнадцать тыщ! А брал-то я у начальства десятку!
В общем, отстрелялся я, притащил Жорику восемнадцать дукатов, он мне три отслюнявил широкой своей хитрожопой рукой. Ну, думаю, хоть три, могло быть и хуже…
Сейчас дальше услыхай ситуацию.
Значит, что происходит: зарплату мне не поднимают, используя меня, мои таланты, мои идеи и каждую мою трудовую минуту. И шарлотке моей никто не оказывает должного уважения. Так что я ухожу, рассираюсь с этими монстрами зрелого капитализма. Со мной никто не общается, Жорик-хитрожопый даже не здоровается при встречах. Короче, занавес!
И вдруг Гнилухин звонит: «Изя, ты где?» Я: «У себя и в трезвой памяти». Он: «Ты знаешь, у нас на Межуре собачьи гонки намечены. Сможешь сделать шашлычка и ухи? Человек на десять?» Я говорю: «Да не вопрос!» Ну, говорит, заказчики сами всё купят, они знают, что купить, и привезут. А что там за народ, кто приедет, для кого шашлыки… – он не открывает. Тайна, покрытая мраком. Ла-а-адно… Приезжаю на место, расставляюсь, осваиваюсь… Вижу: подкатывает автобус, и из него – хоба! – выходит губернатор собственной персоной. «Который такой у вас Изя? – спрашивает. – Хочу от него мяса попробовать».
А что они притащили, Петровна! Мраморные стейки и баранину австралийскую. Зашибись!
А чего его жарить, мраморное мясо? Дело ясное: я его прямо на решётку – херак! Подержу на огне на открытом, потом фольгой прикрою. Оно под фольгой пропарится – притомится, сверху такого цвета делается, приятно-румяного, а внутри сочное – розовенькое, прямо акварель! И вот приступаю я к этому делу, а рядом со мной двое амбалов топчутся и два пробника… Ну, пробники! Какие ещё жеребцы, Петровна: они ПРОБОВАТЬ должны, потому и пробники. То ли чтоб не отравил батюшку-царя, то ли вдруг невкусно будет, так повесить меня за яйца. Короче, охрана и два этих смертника.
Мне даже кострового дали, которому я указания давал, как, блллин, огонь поддерживать, пещерный! А это оказался – потом выяснилось – губернаторский повар. Я в процессе разговора понял, что он за мной поставлен следить. А мне перчатки привезли, фартучек, колпак; я выбритый стою, как британский пэр на похоронах королевы. И стейки на решётку – фигакс, баранинку – фигакс, супчик зашарашил. Процесс, как говорил Конфуций, пошёл…
А Гнилухин за углом стоит-трясётся, как бы чего не вышло, в смысле моего вероятного пищевого позора. Кстати, Гнилухин притащил ещё русской баранинки. Я её опустил в киви с минералкой. Не на всю ночь, конечно, как оно полагается, а только на два часа.
И, короче, выходят тут эти после обеда – лощёные, как… как новый унитаз, и сытые по самые уши. Губернатор ко мне подходит, говорит: «Я всюду шашлык заказываю, это моя слабость, но у вас тут что-то особенное! Очень, очень вкусно. Я даже слов не нахожу».
И руку мне жмёт. Крепко так! Как думаешь, взял он меня на заметку? Ну, уезжают они, короче, тема сворачивается, я сажусь в машину, и тут Гнилухин – ко мне: «Изь, ну ты молодец, всё шикарно. САМ сказал, давно они не радовали себя таким мясом… Мы тебе что-нибудь должны?» Я: «Нет, Петруха, я тебя ещё в дёсны щас рас-целую».
И уехал. Такая вот эффектная концовка. Ревизор, короче. И – занавес!»
«Ну-с, ладно, заткнём Изюма… Постепенно подбираемся к козам… Только сначала у нас – собаки, собачьи бега! Вам и невдомёк, Нина, какой это перспективный бизнес. Разводит их на продажу Витя, собачий заводчик по кличке Неоновый мальчик. Неоновый – потому что он на своих собак светящиеся ошейники нацепил и гоняет их в хвост и в гриву. Называется это «экотуризм».
К Изюму Витя с женой Ксюшей относятся подозрительно (как и ко мне), ибо ихние хаски – голубые глазки, как говорит Изюм, «бегут один круг, после чего падают и просят воды. А Лукич пустыню Сахару перебежит за три сосиски». «Им, конечно, невыгодно, – говорит он, – чтобы Лукич был чемпионом: люди скажут: «что эт вы тут своих бедолаг нам впариваете, которые бегут, падают в обморок и просят одэколон – освежиться?»
Словом, вокруг собачьей темы тут сплошные интриги, в том числе коммерческие.
Вот вам перестуканная мною с диктофона исповедь обиженного Изюма. Там бурный поток словесного поноса, – и жаль, что вы не можете увидеть визуального сопровождения, ибо всё, что говорит Изюм, сопровождается телодвижениями, как в индийском танце. Иногда я даже прикрикиваю на него, как на Лукича: «Сидеть!»
Не сомневаюсь, что вы извлечёте из этого страстного монолога парочку забавных эпизодов:
«У Витьки-то, у Неонового мальчика, перед Новым годом собаки сбежали… Брызнули по округе, передушили кое-каких курей. Те, что приличные люди, приходили к Витьке с доказательствами, с дохлыми курями, обёрнутыми в газету: «Плати, Витя, по четыреста рэ за убиенную душу». Ну, он сначала отдавал-отдавал… А когда денег ушло за пятнадцать тыщ, Витя позеленел и платить перестал: что-то, говорит, целая птицеферма задушенных тут набирается. Это вам что – архипеллаг-гулаг? Кстати, кой-какие собачки вернулись в родные пенаты, а какие-то – нет, и я их не осуждаю. Ты знала, что эти работорговцы щенков в бочках держат? Три дырки для воздуха просверлил, и – сиди, собачка, до конца времён, как тот чел в сказке Пушкина.
У Егорыча они пару дорогих индюшек загрызли. Егорыч орёт, главное, на меня. Я говорю: «Егорыч, ты так слюной брызжешь – у меня газетки нет прикрыться. А ведь я тебе на той неделе аккумулятор бесплатно менял. И вот она, твоя благодарность».
У Лобзая петух тоже без гребешка бегает-хромает. Лобзай говорит: «Мне жена всю плешь проела с Витькиными собаками». А я ему говорю: «Лобзай! Вот ты, вот жена твоя, вот плешь твоя, а где я? Где, вообще, логика?» (Всё это Изюм произносит проникновенным тоном, плеща ручками и прижимая их то к рубашке в области животика, то к макушке, сильно заросшей. Похож он сейчас на домового.) Они, понимаешь, думают, я – главный вдохновитель Витькиных поражений и побед. Вообще-то, кой-какая большая правда тут име-ется.
Например. Ты знаешь, как люди богатеют? Нет? Сейчас я тебе дам типичный случай бессовестного накопления капитала в первом поколении.
Прихожу я к Витьке с Ксюхой недели за две до Нового года. У меня, понимаешь, печень закаменела, а Ксюха – у неё же нестандартный, природный подход к жизни, – она такую печень лечит холосасом. Вытяжка такая из шиповника, в детстве нам мать его в аптеке покупала вместо нормальных конфет. Ну, думаю, пойду хлебану холосасику у экососедей своих… Короче, прихожу, – сидят они, в тоске и безделье, щенки колготятся и пищат в бочках, ни звонков, ни покупателей. Да и кто, скажем прямо, в праздники щенков покупает!
Я говорю: «Чего вы сидите? Витя, у тебя такой карт-бланш впереди! Смотри: Дылдино, Боровск, Межура, даже Обнинск! Съезди, договорись с ёлкой – ёлка в «Плазе» стоит!»
Он глазами хлопает, не понимая, о чём я. «Бери у них списки гостей, звони, спрашивай, у кого есть дети. Мальцам давно известно: никаких Дед-Морозов на оленьих упряжках не дождёшься! Смотри детские фильмы за последние десять лет: везде только хаски – голубые глазки. Бум на них пошёл ещё со времён Уолта Диснея». Хотя вредные собаки, Петровна, исподтишка могут нашкодить. Скажу тебе откровенно, хуже собак, чем эти хаски, я не встречал.
В общем, так ему и говорю: езжай, купи костюм Деда Мороза за полторы тыщи, хрень эту светящуюся купи, она двести рэ стоит, договаривайся, короче! Представляешь, мамаша выводит ребёнка на свежий водух, а тут – хоба! – Дед Мороз подкатывает и сверкает, и собачки сверкают! «Ой, вот Дед Мороз с Севера приехал тебя поздравить! А ты стишок выучил?»
У ребёнка шок! И он начинает декламировать… Дети же верят во всю эту новогоднюю парашу. Но оленей – где взять? В зоопарке не арендуешь. А собачь-дела – это красиво и доступно.
А Витька же, он такой: «Ну да-а. А денег сколько! Костюм – пятак, то – пятак, это…» «Какой пятак?» – говорю. Интернет открываю, показываю ему, что почём.
Подхватились, поехали… Мне, Петровна, только массы вдохновлять. С балкона к народу тянуться и песни петь: «Ласковый май». Я бы мог быть – знаешь кем? Неважно. До Нового года они охмурили больше двухсот детей, а дальше пошло работать сарафанное радио. В Москву ездили раз десять! Собак он грузил в микроавтобус, и уже брал с ребёнка не тыщу, а тыщ двадцать пять, если где-то в частном доме группа детишек собралась. Вот, значит, такая роскошная экспансия с моей подачи. И уже про них молва пошла, с телевидения уже приехали. Вот он уже четыреста детишек поздравил, кооперативов откатал приличное количество…
А я-то сижу, руки потираю: если с каждого он мне по сто рублей даст… ну, пускай по пятьдесят… да хоть просто пять тыщ дал бы с такого сверкающего банкета – это ж какой приварок! Я раз ему намекаю, другой: мол, Витя, есть на свете рыцарь бедный… А он такой: «Чего, денег надо? Я могу в долг дать».
Я говорю: «Ты давай, давай мне, Витя, в долг, и жди до ишачьей пасхи, пока отдам».
Да-а… Вот, полюбуйся: с моей подачи, с моего грандиозного коммерческого прови́дения, он поднял миллион детишек – по тыще с носа. Ну, не миллион, поменьше, какая разница! У них теперь огромный список клиентов, они и не скрывают: а зачем, если всё равно делиться не хотят. Вон Витька сегодня поехал бэушный снегоход покупать… Ну ничего, вечером у меня с ним Последняя Вечеря на эту тему. Я вдохновитель, значит, я в доле. Ты мне бабули гони, или хоть поляну в ресторане накрой… Хорошо, что я ему про тапки не рассказал…»
Эти его светящиеся тапки, его программное ноу-халяу, для меня – синоним всей его коммерческой деятельности.
«А дальше не только тапки! – вдохновенно продолжает Изюм. – Вот смотри: сколько раз, вылезая из машины, ты роняешь ключи? В снег, в сугроб… А кошельки, а портмоне с документами! А если прошить всю эту хрень светящимися нитками?! Не понимаю, почему это в голову никому не приходит!»
Но не хотелось бы, чтобы Изюм представал перед народом в образе совершенного бездельника. Нет! Он очень кипучий, очень деятельный и способный на многие свершения мужчина. И вот тут мы, Нина, подкатили наконец к козам. Побежу-покурю перед таким мероприятием…
…Дело в том, что, помимо хасок на продажу, у Вити и Ксюхи есть коза. А знаете ли вы, Нина, как проверить – вонючее ли у козы молоко? Надо потереть ей лоб и понюхать. Если пахнет, то и молоко будет пахнуть. Так вот, Вити-Ксюхина неоновая коза молока даёт три литра в день и не воняет. Только молоко это никто не пьёт.
Но не в этом суть. Вот наконец та козья поэма, которую я для вас приберегала, по ходу дела завлекая в самые разные придорожные кусты. Не хочу пересказывать, портить натуральный монолог Изюма своей невольной редакторской правкой. Он и убедительней будет, и красочней:
«…Ну, я сторонился их после грабительских собачьих гастролей. А тут звонит Неоновый мальчик: «Слышь, Изя, зайди, да!» Я говорю: «Витя, чего это я должен заходить? Ты мне что, наследство оставляешь?..» Ну, хер с ними, – захожу. А он сидит такой никакой. Он же пять капель – и в говно. Я прям собственного папашу сразу вспомнил – тьфу! Тот двадцать пять рублей свернёт, синенькие, и в пистончик ширинки засунет, чтобы мать не нашла, не опустошила его. Она всё время по нему шарила, такая деловая, и он утром – без гроша и по пьяни ничего не помнит. Такой же, как Витёк: водки не пил, а вот – винцо, портвешок… И как выпьет бутылку, какой-то дурак становится. Гитару хватал, требовал, чтоб все сидели, романсы его слушали. Короче, беспокойный пьяница был. Знаешь, есть спокойные, а есть беспокойные… Этот, Витька, Неоновый мальчик, по ходу, такой же. И тогда Ксюха начинает его гонять: «тут всё моё, всё наследие-имущество моих поколений, а ты, короче, езжай в свой…» В какой-то Мухосранск она его посылает, где-то в Чувашии.
Ну вот, захожу я, а они: «Не хочешь ли, Изя, козьего молочка?» Знач, понимают, что обчистили меня до нитки? Дают аж двадцать литров. Я хотел отказаться: кто я им – кормящая мама? Потом кое-что вспомнил – из богатого опыта своей кошмарной жизни.
Я тебе рассказывал, как мы с Толяном-шурином, мужем Серенады, однажды к Махмуду Эсамбаеву ездили? Нет? Толян как раз купил свою первую тачку цвета валюты, в смысле – зеленовато-серую, и мы рассекали просторы ойкумены. С Эсамбаевым Толян был знаком через Иосифа Давидовича, ну мы и тормознулись у него дня на три. Да ты вообще знаешь, кто такой Эсамбаев? Танцор-кавказец, до глубокой старости ногами перебирал, как заводной. Всю дорогу ходил в папахе, представляешь? Возможно, потому, что был удручающе лысым: абсолютно голый кумпол, – напрочь!.. И гостил тогда у Эсамбаева один старый пень – то ли родственник, то ли сосед из родного аула; было ему лет за девяносто. А я же общительный. Смотрю: старый человек скучает. Ну, тары-бары, слово по-русски, слово лицом и жестами… И говорит он мне: «Давай сыр сварим?» Он, слышь, оказался потомственный сыродел. Видимо, почувствовал во мне своего. Какого своего? А вот такого: стихийного кулинара, природного гения. Ну и сварили мы с ним офигенный сыр: что-то между маскарпоне, моцареллой и рикоттой. Варится простейшим манером, по градуснику: тридцать два градуса и двадцать минут отстоя. Вот что у меня в голове осело, в пятой точке. И притаилось.
У него не было детей, у старика-то. А все подобные рецепты, они секретные, тыщу лет копятся и передаются из поколения в поколение в убийственной тайне. А тайна такая: у старого пня был при себе чёрный овечий желудок. Он его всюду с собой возил в чистом полотняном мешочке – чтоб не украли. Опустил это дело в молоко и… молоко превратилось в мацони! Тут старик принялся, как бешеный, вентилятором так… вращать-охлаждать продукт. И ножичком: раз-раз-раз, раз-раз-раз – на квадратики. Вот этот заветный процесс, по ходу, мой вдумчивый мозг освоил и сохранил.
А теперь запиши: никому ничего рассказывать нельзя. Только детям перед смертью.
Короче, взял я ихнее молоко, никому не нужное, и говорю себе: «Молчи, Изя! Пусть тайна умрёт за тобой…» Прихожу домой: чем заменить желудок? Желудок – это сычужный элемент, поняла? Ага, думаю, так ведь пептин – это перемолотый желудок! Белорусы делают ацединпептин в таблетках, пятьдесят штук – двести рублей. И хлористый кальций необходим для процесса. Я в Боровск – шасть, быстренько в аптеке закупился.
Всё сделал, как старый пень завещал: пятнадцать таблеток бухнул. И на чердак полез – было там, что делать. Заработался, закрутился… Как там, думаю, производство? Спускаюсь в кухню, смотрю – хоба! – у меня чистокровный мацони. Только я его не ножичком резал, а шампуром. Взял три дуршлага, поставил на холод. Из двадцати литров получилось четыре кэгэ творога. – Мягкий такой сыр. Попробовал я его… знаешь: -м-м-м-м-м-м!!! Обрат пил два дня и чувствую – мне хорошо. И Нюха пьёт, оздоравляется.
Ну, на радостях я отрезал здоровущий кусок и бегу, как Кролик на день рождения Ослика Му-Му, к Вите с Ксюхой, вот такой я неисправимый благодетель. Не благодетель? А кто? Благотворитель. Ну, один хрен. Вывалил им творожок – мол, угощайтесь, ё-моё… А они все в заботах и на меня – ноль внимания.
Наступает пятница… Вдруг Ксюха звонит, её величество: «Ой, а не зайдёшь ли ты, Изя? К тебе разговор… Тут Дон Шапиро приезжал (это ресторатор московский, их друган по собачьим бегам), съел кило сыра, взял с собой и сказал, что готов покупать такой сыр по две тыщи – кило. Но у тебя же козы нет, так что ты должен нам дать урок сыроделия».
Видала таких шустрых, Петровна? Простодушных таких душегубцев. Я говорю: «Я вам что – деревенская фанера-доски? Давайте так: я вам буду сыр варить, а вы у меня – траву косить».
И теперь я – враг номер один. Вчера зашёл, а они сидят хмурые-угрюмые, будто мы вместе сундук с золотом нашли, а я всё себе забрал, не поделился.
И я ему говорю: «Нельзя так, Витя! Разве ты не знаешь: ежели кто ударит тебя по правой щеке, угости того шарлоткой!»
А сам думаю: заведу козу. Раз я знаю такую тайну, надо взять пару козочек и доильный аппарат. Альпийская коза, например, даёт в день пять литров молока. Но стоит она двадцать тыщ. Есть ещё нубийские козы – у них уши как у спаниеля. Их молоко по ценности равно мясу шиншиллы. Его пить – всё равно что мумиё принимать. Но такая коза стоит девяносто пять тыщ. Их с документами продают, как собак. И не всем.
Короче, проштудировал я Интернет, облазил все козьи форумы, изучил все рецепты – никто так сыр не делает, как мой старый пень.
Козочки… это же очень деликатно, правда? Это – лирическая поэма, звёзды балета, «Жизель»… Козочки – это тебе не куры. Я ведь кур ненавижу, потому что… ненавижу! Четыре курицы засрали мне весь двор. Одна курица срёт с чашку! Мне куриное яйцо давно в глотку не лезет; Нюха тоже уже яйцами срёт. А куры все чёрные, грязные… несимпатичные! На той неделе избавлялся от кавалера их, петуха, потому что он – имбецил. В три часа ночи у меня под окном: «кукареку!» Нюха отзывается: «гав-гав-гав». Ночная сере-нада…
Это ж Веркин-соседкин петух. Я ей: «Бери назад». Она говорит: «Да я его сама боюсь». Тогда я надеваю перчатки, шлем мотоциклетный, беру мешок. Ловил его, ловил, чуть не оглох в этом шлеме. Когда поймал, так устал от этого родео, что врезал ему кулаком по башке! Верке его снёс, так он там воскрес, как Христос из гроба, и с другим петухом передрался, в телятнике погром устроил – это уже после моей экзекуции… В общем, Стивен Скинг отдыхает. И Эдгар По отдыхал бы тоже.
Но куры мои, знаешь, стали себя потише вести: они же видели, как я петуха ловил. И вот теперь Витёк с Ксюхой предлагают обменять кур на плов. Ну эт только чуваш мог придумать. Чуваш с женой-еврейкой…»
На сей раз я отправила Изюма восвояси в восемь вечера, так как наметила ехать в Москву: а ночью ехать такая отрада, Нина! Луна почти полная, огромная, янтарная, кружит вокруг машины низко-низко. Я время от времени даже останавливаюсь, фиксируя картины: вот луна меж дерев, и они смыкают над ней верхушки; вот она завалилась влево и пропала, но сразу возникла сзади и светит мне в зеркало заднего вида, как бешеный грузовик на трассе; а вот вернулась на своё небесное место – неинтересна я ей. Такую луну-прожектор я видела лишь однажды в юности; наяривала сквозь ветви старой мудрой ивы, совсем как в той забубённой песне: «одна возлюбленная пара всю ночь…» – и далее по тексту…
Короче, выставила Изюма пораньше. А то сидел бы, трендел мой соседушка ещё часа три. Поклялся в следующий мой барский визит запечатлеть бляжью сагу (в пору его спекуляции валютой при «Национале»).
Совсем собрался идти, но застрял на пороге веранды и мечтательно так говорит:
– А в Италии, в Неаполитании делают сыр «пьяная коза». Смазывают его самым сухим вином – кисточкой мажут! – и опускают в оливковое масло. Такая вот картина. В общем, всплывает всё в закутках… – Это он о своём мозге. Наглядно показывает: крутит щепотью над головой, словно солью макушку посыпает.
И, уже ступив ногой на плитку двора:
– Петровна! – говорит. – Ноу-халяу: надо на твои окна приделать «дворники» от «КамАЗов», а сверху – моторчик. И уже окна мыть никогда не надо. Одна только проблема: если мухи насерят, смоет ли?
…Но сыр козий, который Изюмка сотворил, – он, Нина, божественный!..»
Глава 6
Рюмочка Хрыстова
Тут, справедливости ради, надо бы в экспозицию пока неясного романа пригласить ещё одного человечка, хотя к Серединкам имеет он весьма опосредованное отношение – через дом Надежды, вернее, через его обстановку.
Сидит он скромно в своей резиденции напротив рынка, в небольшом подвале, под вывеской «Пыльный канделябр» – вывеской справедливой, ибо это сумеречное помещение с тремя подслеповатыми лампочками, свисающими с потолка, битком набито вещевым хламом разной степени ценности. И хлама этого там поболе, чем в каком-нибудь столичном антикварном салоне, где каждый эксклюзивный стул отлакирован и стоит на подиуме, а каждый гранатовый браслет сверкает под прицелом отдельного фиолетового спота… Нет, у Бори-Канделябра, пыльного мудрого антиквара, свозящего в свой подвал артефакты со всей округи, надо полдня осматриваться, медленно продвигаясь от прялки к скалке, от зингера к цвингеру; углубиться надо, зарыться в века, заслониться чугунными утюгами, отрешиться от света божьего… а потом ещё полдня кучи разгребать, вытаскивая из них то, другое, и созерцать, и любоваться, и душой прикипать… И тогда…
Тогда можно и поторговаться.
А торговаться Надежда любит и умеет. Это у неё от предков-гуртовщиков, но главное, от бабки-казачки. У неё от той бабки вообще много чего в характере и ухватках наворочено. Даже фраза, которой они с Борей друг друга приветствуют, и та от бабки, бабы Мани, Марии Яковлевны, или просто – Якальны, как звали её соседи.
Завидев Надежду, осторожно спускающуюся по крутым обитым ступеням к пошарпанной двери, Боря-Канделябр широко улыбается и восклицает: «А! Рюмочка Хрыстова… Приветствую! Тут, гляньте-ка, мне нанесли рюмочек, середина девятнадцатого. Может, свою найдёте?..»
И Надежда смотрит, конечно. Но – нет, с первого взгляда ясно: совсем не те это рюмочки, как та, из которой бабка пила, ту Надежда ищет уже много лет: не круглую, а овальную, приземистую, толстого стекла, с выдавленным крестиком на поповском брюхе, с золочёным по овалу ободком да на крепкой ножке. Однажды, ещё в начале знакомства изумившись неисчислимым богатствам Бориного подвала, она показала ему, как бабка опрокидывала первую рюмку. О, это был ритуал! Это был театр! И если кто осмеливался налить лишь половину, бабка возмущённо восклицала: «Я тоби половынкына дочка, чи шо?! Лый повну!» Так что всклянь наполнялась рюмка наливкой, стояла как невеста под венцом. И над нею разными голосами бабка разыгрывала сценку. Сначала бойкий детский голосок:
– Рюмочка Хрыстова! Ты откуда?
– З Ростова! – хрустально и нежно отзывалась рюмочка.
– Пачпорт е? – вступал вдруг жандармский бас.
– Нэма… – грустно, плаксиво…
– Ось тоби тюрьма! – злорадно отчеканивал бас, и содержимое рюмочки опрокидывалось в бабкин рот.
«Пыть так пыть, – говорила она, – покы у сраци закыпыть!» Любила крепкое словцо и много знала всяких этаких попевок, не то чтобы срамных, но задиристых.
Дед Алексей – тот другое дело. Тот, напротив, всю жизнь озарён был какими-то святыми видениями, да и делом занимался вполне евангельским – плотницким. В детстве Надежда была уверена, что точно так же, как бабушка молилась на семейную икону с необычным именем «Иван Лествичник» (словно речь шла о водопроводчике, а не о святом Иоанне Синайском), деду стоило бы молиться на… топор. Тот самый топор, который удалось украсть на пересылке, где-то не то в грузовом вагоне, не то на станции, – топор, который потом под Нижним Тагилом, в марте, в свистящем чистом поле, им, высланным, не дал погибнуть, – ибо дед срубил там избу! Так что ещё посмотреть, кого из спасителей выбирать для молитвы и поклонения.
А икона-то была чудесной, двухчастной: на одной половине святой Иоанн, над приклонённой головушкой которого вверх-вниз по лестнице снуют ангелы, ангелы, ангелы. На другой половине – храм великолепный, многоцветный-десятикупольный, возведённый на месте, где прикорнул когда-то и увидел сон наш святой. А фон иконы – золотистый, присущий Суздальской и Владимирской иконописным школам, и зелёного много: тоненькие такие нежные деревца по доске; место действия – пустыня, как понимали её старинные суздальские иконописцы…
…Словом, с Борей-Канделябром именно через «рюмочку Хрыстову» возникла симпатия, поддержанная изрядным количеством купленных Надеждой в этом заведении посуды, мебели и прочего, ненужного, на взгляд трезвого человека, барахла, вроде кабацкого оркестриона или старинного бювара из карельской берёзы. Ну кому и на что, ради всех богов, сдался этот самый бювар – в наш-то век поголовного гаджетства?!. Но Надежда… она ох как любила старину, необычность, задумчивые вещи, с накопленными в них тайнами людских судеб; с отражениями давно угасших образов в стёртых лаковых поверхностях старой древесины.
Вот недавно диванчик прикупила – по словам Бори, с Полотняного Завода, и на нём якобы сам Пушкин сидел. Ну а ныне на диванчике Надежда сидит со своим Пушкиным, который тоже песни слагает – по их кошачьим меркам, поди, не менее прекрасные. Извечное очарование деревенского уюта, – особенно, когда за окном снег валит, перебеливая все-все цветные крыши, а ты – за ломберным столиком с персидской шалью на плечах, сосредоточенно раскладываешь пасьянс «Паук», который никогда не сходится…
На Борю посмотришь, и сразу видно, что человек он с большим прошлым и не менее значимым настоящим.
– Открываем, к примеру, банку икры, – говорит. – Ну кто за один присест может банку икры осилить? Я туда опускаю николаевский серебряный рубль, и ради бога: сколько вам надо, эта банка простоит. Или грибочки взять. Опять же: рубль в банку. От всего бережёт.
Надежда представила себе холодильник Борисываныча, битком набитый николаевскими серебряными рублями. Человек с размахом, ничего не скажешь.
Однажды, в самом начале знакомства, Надежда поинтересовалась – мол, как же вы, Борис Иваныч, – университетский человек, антиквар и реставратор, столичный житель, и так далее – застряли в глуши? Тот лишь усмехнулся, показывая, насколько легкомысленный вопрос ему задан.
– Бог с вами, Надежда, – укоризненно возра-зил антиквар, – что за обывательский подход! Российская глушь для нашего брата старьёвщика – самая питательная почва. Все сокровища Кремля Наполеон вывез нашими дорогами. Знаменитый «Золотой обоз», сопровождаемый, как известно, принцем Эженом де Богарне, составлял триста пятьдесят фур – целый поезд!
– Но разве он… не исчез… э-э… безвозвратно? – неуверенно возразила Надежда, мысленно ругая себя за невежество и наметив непременно глянуть сегодня в Интернет по теме. И Боря неожиданно закивал, чем-то очень довольный:
– Драгоценности – правильно, исчезли! То, что можно было унести, закопать, в дупле спрятать, в пруду притопить: жемчуга-бриллианты, диадемы-кольца, – что не ржавеет в воде и не портится от дождей и мороза… Этого, конечно, ищи-свищи! И оно понятно: во-первых, обоз успели пограбить и сами французы – когда уже поняли, во что влипли: грузы перевозить по тем дорогам в те времена, да ещё в мороз, да на полумёртвых лошадях?! Эти ухабы и ямы даже в наши дни только на внедорожниках одолевают. И казаки тогда французский арьергард пощипывали – нападали и отступали с добычей. Но главное: после военных стычек, когда раненые и убитые по обочинам валялись, на место сползались крестьяне и тащили, ох и тащили же, в бога душу мать! Ковры, канделябры, первостатейную дворцовую мебель… В русской провинции только после нашествия Наполеона стулья появились – вместо лавок.
И Боря широко повёл рукою, округло завершая наглядную картину, как бы включая в свой пример все наличные в подвале стулья, козетки, креслица и троны, кушетки и глубокие задумчивые вольтеровские седалища, ожидавшие своего несуетного покупателя.
– Почитайте воспоминания очевидцев: все обочины, пишут, были усеяны предметами роскоши: картинами, серебряной посудой, коврами. Правда, по наивности добавляют – мол, неизвестно, куда делись все эти богатства… Господи, да куда у нас деваются все богатства, на минуту оставленные без присмотра, – растащили! По избам-закутам, в сундуки, в клети и подполы…
«После чего, – мысленно подхватила Надежда, – потемневшее серебро и медь так и валялось по чуланам и погребам. А ещё позже, в советское и в наше отстойное время толковые и хваткие потомки поволокли «бабкино барахло» к такому вот Боре-Канделябру, который, открывая подвальную лавочку, прекрасно отдавал себе отчёт, что в небольшом старинном городе Боровске, с его окрестными деревнями, даже и два века спустя найдётся, чем поживиться».
– Вы представить не можете, что мне несут, в надежде получить сотню-другую рубликов, – весело продолжал Боря. – У одного от бабки осталось, у другой ещё до революции в семье хранилось; а те приволокут какую-нибудь парчовую, тканную золотом скатерть (её и в избе-то не положишь, – красивая, но бесполезная вещь), называют по семейной привычке «наполеоновской», а хотят за неё аж две тыщи рублей! Гляньте, гляньте, что за роскошь! Я её коллекционеру Якову Аронычу Барскому продам за сто пятьдесят тыщ… Для многих местных жителей всё это – старьё, хлам, бесполезняк… А я не спешу разуверить и, как видите, даже не очищаю, не привожу в товарный вид. А зачем? Пусть так и будет: лавочка пыльного хлама для придурков. А то ведь взломают замок, непременно взломают и сигнализацию отключат – у нас народ талантливый… – он захохотал, приглашая Надежду присоединиться к шутке.
Внешне Боря очень своему подвалу подходил: в запылённых штанах немецкого военнопленного сороковых годов и в старушечьей вязаной фуфайке, он так и сновал, так и кружил в джунглях понаваленного кучами, уснувшего в прошлом старья, пробираясь боком между буфетами и гардеробами, локтями и коленями отодвигая торшер или кресло, резную раму или ломберный столик… Но сам крепенький, энергичный, к тому же хороший теннисист. В густых каштановых кудрях николаевским серебряным рублём горит почти монашеская тонзура. Одним словом, талантливый предприниматель.
– И никаких реставраций, ради бога! Знатоки и так купят, а наследникам не огорчительно. Они ведь, бывает, притащат бюро или бювар, не заглянув даже в ящики. А между тем там случаются интере-е-есные находки… Вон, потяните-ка средний ящик того туалетного столика. Нет, не красного дерева, а того, что рядом – это, к слову, корень ореха, довольно редкая древесина. Если над ним поработать… эх! Ни-ни, ни в коем случае не соблазняю! Загляните в ящик – там три пора-зительных листика, я их в файл запаял, пока вовсе не выцвели. Тысяча восемьсот семьдесят третий год. Чернила-то старые, добротные, из коры дуба (раньше только чёрными и писали), но время и их не щадит. Всё руки не доходят отвезти в Москву приятелю-архивисту.
Листики впрямь были старые, зажелтелые, и чернила повыцвели до голубизны. Текст самый, что ни на есть, антикварный: с ятями и прочим, соответствующим времени грамматическим обиходом.
– Почерк твёрдый, мужской… – сказала Надежда. – И какой-то… нерусский, что ли, хотя и кириллицей писано. Как будто человек полжизни до того писал готическим шрифтом.
– Почитайте, почитайте пару фраз, – улыбаясь, предложил Боря-Канделябр. – Вы же филолог, редактор… книжки издаёте. Вам должно быть интересно. Я так всё прочитал. Целый вечер на это убил, но получил огромное удовольствие.
Надежда сняла очки, сощурилась, приблизила файл к глазам. Отсвечивало в этой жёлтой подвальной мути. Хорошо бы лампу включить или хотя бы вынуть бумаги из пластика, да Борис Иваныч наверняка воспротивится.
– «…и по сей день волосы дыбом встают на моей старой седой голове, когда вспоминаю ужасы тех далёких дней. Я скакал, стараясь миновать кошмарные картины, что вставали на моём пути, ибо важность данного мне высочайшей волей поручения не позволяла остановиться и в полной мере ощутить трагизм нашего положения. Несчастные раненые в обозах! Их сбрасывали по пути из телег. От Смоленска до Ельни я их видел на обочинах – стенавших, умолявших о милосердии… Их страдания я смог вполне оценить несколько дней спустя, когда и сам раненый, потерявший коня, плакал от радости, откопав три полусгнивших картофелины под снегом…» – С ума сойти, – сказала Надежда, опуская файл. – Это что за эпоха? Война с Наполеоном? И кто пишет?
– А в этом и самый смак! Читайте, читайте, там пикантнейшие подробности. Этот беглец, или посланец, или чёрт его знает, кто ещё он таков, пишет, что ослабевшие французские солдаты ели собак и своих павших коней, и – буквально на другой странице – про то, как, совсем оголодав, они вырезали куски мяса из тел умерших соратников, поджаривали их на костре на шомполах и жадно рвали зубами, как те же собаки…
– Господи, спаси и помилуй!
– Причём обратите внимание: о французах пишет как о своих, но ведь по-русски пишет – вот где загадка!
– Да… – Надежда задумчиво перебрала листы. – Действительно… Так кто же он? Шпион? Беглец? Или то и другое вместе…
– Хотите? – улыбнулся Боря доброжелательно. – Отдам недорого, тысяч за пять.
– А как же – архивист, научный интерес…
– Ой, бросьте! Если б я жил научными интересами, то давно б уже три диссертации накатал и донашивал старые штаны эпохи перестройки.
Тут Надежда мысленно ухмыльнулась: пыльные штаны Бори-Канделябра могли дать фору самой последней рвани в лавочке вторсырья.
Он всплеснул руками, тряхнул залихватски куд-рями:
– Отдам за три, так и быть! Двумя платежами и когда захотите.
Ну, как устоять! Взяла, конечно. Поторговавшись, разумеется. Не за пять и не за три, а за две тысячи. А зачем?! Бога ради: на что ей сдались эти ветхие листы непонятных воспоминаний человека неясного происхождения, да такие неуютные воспоминания! И не подделка ли? С Бори станется! А главное, за каким лешим Надежде, которая и так по судьбе вынуждена копаться в чужих текстах, понадобилось ещё и это старьё! Вот и лежит теперь тот файл с так и не прочитанными листами в нижнем ящике её письменного стола. Всё руки не дойдут достать, разобрать… А где они, те две тыщи кровных рубликов? Улетели!
Время от времени оскудевая кошельком, Надежда запрещает себе визиты к Боре-Канделябру и, стесняясь своей слабости, даже и за овощами на рынок в Боровск не едет, дабы не совратиться. А то оно как: поедешь за редиской-огурцом, а вернёшься с туалетным столиком девятнадцатого века, с зеркалом такой немыслимой ясности, что вечерами в него страшно заглядывать: вдруг высунется оттуда какая-нибудь боярыня Морозова. (Хотя вряд ли: не до зеркал той было, ох не до зеркал – в земляной-то яме Боровского острога!)
Зная и уважая ненасытную страсть Надежды, Боря-Канделябр, во-первых, и цены снижал весьма прилично, во-вторых, вещи отдавал ей в кредит и на чистую веру, что в наших краях, согласитесь, небезопасно и даже дико.
Вот на днях она опять наведалась к Боре. Не удержалась, как всегда.
Борисываныча застала посреди пыльного его царства верхом на немецком военном мотоцикле (боком сидел, как аристократка – на вороной кобыле). Ужасно Надежде обрадовался:
– Привет вам, рюмочка Хрыстова!
– Боря… – отвечала она, а неуёмные загребущие глаза уже рыскали вокруг в поисках новостей. – Я так неловко себя чувствую. Я ведь вам в рублях должна, а с ними вон чего происходит.
Боря бодро гуднул своим мотоциклом и изрёк:
– Надежда, забейте! На деньги плевать, на доллары плевать слюной зелёной! Надо радоваться сегодняшнему дню и кайфовать от жизни!
Надежда поразилась столь необычным речам в устах Борисываныча и, воспользовавшись его настроением, тотчас набрала в долг кой-чего ещё: рыбное блюдо именное-кузнецовское и фигурку бегущей куда-то босоножки, девочки-сироты (Дулёвский фарфоровый завод), которая напомнила ей детство, каникулы, речки-пруды, которые она легко переплывала (пловчиха была отменная!), и мальчишку, кричащего издалека: «Дыл-да! Дыл-да-а-а!»
Глава 7
Белые лошади…
Хотя никакой сиротой Надежда не была, а, напротив, родилась в большой сводной, как хор с оркестром, семье последним, шестым, ребёнком (единственным общим у мамки с папкой). Большущая горластая родня, всегда тесно, всегда драчливо и весело, а на каникулы, летние и зимние, каждый год мать отправляла её к той самой бабе Мане, «Якальне», что дружила с рюмочкой Христовой, изо всех внуков упрямо отмечала одну лишь Надежду и, не стесняясь мамки и остальных ребят, так и говорила: «Присылай мне Надюшку, она рыжая, лёгонькая, и щекоталка такая, – от неё сердце улыбается».
Лет с пяти Надюшка приезжала к бабе Мане одна. Обожала весь этот путь, этот праздничный ход начала каникул: неохватный и тяжеленный, набитый подарками и книгами рюкзак, и огромную копчёную рыбину (сосед-рыбак сам коптил) – главный подарок деду. Рыбина в рюкзак не влезала, её надо было держать под мышкой, из-за чего вся курточка пропитывалась сладковато-пряным рыбьим духом и по приезде немедленно отправлялась в стирку.
Начинался путь всегда одинаково: они с мамкой приезжали к поезду заранее, «с накидом», ибо подыскивание доброй души для пригляда в пути – это вам не пустяк. Стояли в стороне, внимательно вглядываясь в лица входящих в вагон пассажирок, ибо одобрить кандидатуру должны были обе. Выбиралась самая душевная (а душевность определялась по глазам, а затем и по голосу), и мамка приступала к разговору: что да как, да куда едете, а вот и дочка моя тоже… Наконец, вызнав всю подноготную добровольной сопроводительницы, мать устраивала Надю на полке, и сидела там, обхватив дочь обеими стальными руками, до последнего звонка, до медленного потягивания-подёргивания состава, до крика проводницы: «Выйдешь ты, или я милицию зову!!!» Наконец, под сочувственный говорок соседки: «Да не волнуйтесь вы так, у самой дети, что я, не понимаю!» – впивалась последними крепкими поцелуями в щёки, лоб, губы дочери, выскакивала из поезда и бежала вслед по перрону до конца платформы – вся в слезах, будто в эвакуацию ребёнка отправляла.
Впечатлённая эдаким неподдельным отчаянием, соседка-покровительница обычно с первых же минут пути начинала кормить девочку и заботиться о ней… И дорога пролетала, как песня, – уютно, с тук-перестуком колёс, колыханием вагонов, коровьим рёвом паровоза в ночи; с пестрящей лентой лесов за окном, гитарным гудением струн-проводов, россыпью домишек и краснокирпичных водокачек, с белёными или серо-каменными зданиями вокзалов… А главное, с ветром в приспущенное окно, ветром знакомым, травным, упоительным – бабыМаниным, обещавшим очередное щикарное лето!
На станции её встречал дядя Коля, мамин брат, лейтенант – он «стоял» в тамошнем военном городке, к которому ещё ехали минут тридцать на автобусе, а чтобы попасть внутрь городка, надо было предъявлять пропуска на КПП.
Однажды – Наде было лет восемь – они с дядей Колей разминулись, и девочка, с огромным рюкзачищем за плечами, с вкусно-пахучей рыбьей доской под мышкой потопала лесом, где километра через три её и нагнал запыхавшийся дядя Коля:
– Ты что, Надюшка?! Сдурела?! Почему не дождалась?! Разве можно – одной, такой малой, по лесу… А кто бы напал?
– А я вот рыбиной отбилась бы. Смотри, дядь Коль, она как меч рыцаря Ланселота…
(Лет с пяти читала запоем.)
Так вот, из гарнизона дорога к бабушке была легче лёгкого: миновать военную часть (танковые боксы, танкодром…), а далее – мостом через речку Титовку… и вот она, Блонь – так называлась бабушкина деревня.
Было это километрах в шестидесяти от Минска.
Баба Маня работала на льнозаводе трепаль-щицей.
Заводом это можно было назвать с натяжкой: просто большое здание из красного кирпича. Внутри – огромный цех, и длинной дорогой составлены металлические столы, за которыми друг против друга сидят женщины, человек двадцать. В углу ещё, Надежда помнила, стоял какой-то громоздкий механизм – куделеприготовительная машина? мялка? трепалка-трясилка? Всё одно – неважно, ибо механизм годами не работал, а лён женщины трепали вручную, как бабки их и матери. Трепало – доска такая деревянная, вроде ножа или косаря, с частыми металлическими зубьями. Сидят бабы и резко отбивают повесмо; стук стоит, как в лесу, когда рубят деревья, – это чтобы чище выбить кострику, застрявшую в волокне. А после поднимают пучок повесма и просто бьют им с размаху о ребро стола – вытрясают частицы…
Трепальный цех в Надином воображении всегда связывался с какой-то огромной банной залой. Там в воздухе висела густая жемчужная взвесь медленно оседающих очёсов кудели, – как снег почти, но плотная на вдых. И фигуры женщин, как в сильный снегопад, угадывались по силуэтам.
В поисках бабы Мани («кого тоби? Якальны?») Надя перемещалась по залу перебежками, зажимая руками нос и рот, стараясь глубоко не вдыхать, а то потом кашляешь всю ночь. А бабушка – хоть бы что, так только хусточкой – уголком платка – прикроется, и работает весь день.
– Бабуля, как вы здесь дышите?
– Та ничого…
Если год оказывался грибной, а он почти всегда и был таким, – чуть не каждый день ходили по грибы на Попову горку.
Поповой ту назвали в честь батюшки одного. Здесь в войну расстреляли семьдесят пять евреев. Батюшка пришёл в управу просить за них, так его повязали и первым в этот ров столкнули. Потому и место: Попова горка.
А грибы там были здоровущие, и как на подбор все – белые, крепкие, с замшевой, на ощупь – совсем детской кожицей…
Стирать ходили на реку. Там на берегу, осев наполовину в воду, как полузатопленная баржа, лежал плоский серый камень – искрючий такой под солнцем! – на нём отбивало бельё не одно поколение деревенских баб. Надюшка подносила и расстилала, баба Маня, взяв за ручку плоскую деревянную доску – рубель, со всего размаху колотила и колотила, вся в радужных брызгах воды, солнца и блескучих кварцевых искр. Сильная была бабушка Маня, жилистая и насмешливая.
– Ты устала, бабуля? Дай помогу!
– Та ничого…
Вот и вечная картина то ли из снов, то ли из памяти: небо синее-синее, аж васильковое, по нему редкие ленивые барашки пасутся, а баба Маня бьёт и бьёт бельё рубелем, и ни капельки не устаёт, только руки меняет.
Стирали хозяйственным серым мылом – кстати, отлично отстирывались им пятна, – потом полоскали в реке, отжимали… А уж после расстилали по отлогому травянистому берегу – сушить. Это тоже была Надюшкина работа. И как же празднично, как весело смотрелись на зелёной траве льняные скатерти, простыни, домотканые пёстрые половики!
Ну а сохлое ровненько складывали, прибивали в стопку и несли домой. Гладили только одежду; постельное и скатерти катали ребраком: наматывали на валик и поверху прокатывали. (Две широкие бабушкины ладони лежат на ребристой плоской доске с ручкой и катают, катают, сильно и плавно катают по простыне ребрак.)
Тогда уже городские хозяйки стирали в первых стиральных машинах – с резиновыми валиками-отжимами, и дети предлагали бабушке такую купить. Она яростно сопротивлялась! Будто её собирались лишить чего-то главного в её жизни. Памяти самой, что ли.
Густая дурманная смесь запахов сена и лекарственных трав – чабреца, мяты, липы – заполонила чердак деревенской хаты. Уже высушенные травы пучками висели по стенам, другие сушились, разложенные на дерюжках на полу. Поднимешься на чердак, и голова кружится от терпкого душистого воздуха, – вот где было натуральное ароматическое СПА, или как там сейчас это называется.
Туда же, на чердак, отправлялись разные ненужные в ежедневном обиходе вещи. Например, прялка; бабушка доставала её время от времени, обычно зимой, когда пряла пряжу из во́лны, неотбеленной овечьей шерсти. Там же впонавалку лежали книги, «бо у хате места не було́»: полное собрание сочинений В. И. Ленина (бабушка этими бесконечными томами печь растапливала) и почему-то Носова, а также три книги знаменитого Херлуфа Бидструпа, неизвестно каким книгоношей занесённые в деревню Блонь. Всё это мирно соседствовало со старыми молитвенниками, «Записками из Мёртвого дома» Достоевского и затёртыми лубочными изданиями Сытина: «Бова Королевич», «Тарас Черномор», «Битва русских с кабардинцами»… Сиротливым кулём без картонной обложки валялась серёдка из «Робинзона Крузо» – как раз то место, где он находит Пятницу. Будто кто-то выдрал из книги самую суть, пронзительное сердце повествования, и – забросил на чердак.
Но, конечно, самым милым, самым родным в хате была печь! Горячее нутро дома, корень и кормление семьи, средоточие уюта и сытного тепла. Словом, альфа и омега деревенской жизни, кормилица-поилица и лечебница в едином образе. Все самые ласковые, самые вкусные воспоминания о деревенской жизни у Надежды были связаны с бабы-Маниной печью.
В ней хранились три огромных чугунных утюга с откидными крышками – для закладки горячих углей в нутро.
А вот что хранилось НА печи – то отдельный подробный рассказ.
Самые изысканные деликатесы в своей жизни Надежда ела не в ресторане Центрального дома литераторов, не в какой-нибудь из модных едален Москвы или Питера, не говоря уже о Лондоне-Франкфурте-Лейпциге, куда заносила её служебная судьба на международные книжные толковища, – а в доме бабушки в белорусской деревне Блонь, ибо есть такая еда, готовить которую нужно исключительно в благословенной русской печи.
