Наполеонов обоз. Книга 2. Белые лошади
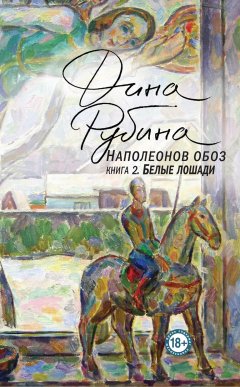
© Д. Рубина, 2019
© Иллюстрация, Б. Карафёлов, 2019
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019
Часть первая
Юность
Глава 1
Цыгане
Автобусную остановку так и объявляли: «Цыганские бараки», хотя официально она называлась «Совхоз «Пригородный». Но куда денешься от цепкой народной речи, от правдивости данных ею имён и названий. Минуя Верёвочную, Механизаторов и Свистихино, автобус подкатывал к сиротливому навесу над раздолбанной деревянной скамьёй, изрезанной ножиками, и кондукторша привычно выпевала: «Цы-и-га-анскаи бара-аки!» И всё пространство за «Пекинкой», от Комзяков до самого города, – весь этот обширнейший квадрат с прудами, лугами и берёзовыми колками, – молчаливо признавалось остальным населением посёлка «цыганским».
А ведь, по сути, барак был один: длинный бревенчатый, поровну разделённый на два отсека; в каждый заходили с торца. В каждом отсеке был свой хозяин, – на станции и в городе его называли «бароном», сами же цыгане звали «старшой».
Внутри барак выглядел как обычная коммуналка: печка для обогрева (хотя стряпали на электроплитках: две конфорки, открытая спираль), два-три сундука, накрытые цветастыми тряпками, стол с разноплемёнными стульями-табуретами и ярусные койки вдоль стен, точь-в-точь – лагерные нары. С порога шибавший запах натруженных портянок довершал это сходство, и оно понятно: в барак были утрамбованы четырнадцать многодетных семей. Конечно, цыгане, как и прочие обитатели здешних мест, мылись в бане – и станционной, и фабричной, так что запахи их тел гармонично сливались с прочими ароматами советской эпохи, а портянки – ну что портянки! – хромовых-то сапог у цыгана ещё никто не отменял.
Барак построили городские власти в 1956 году согласно хрущёвскому указу: отвлекать цыган от кочевого образа жизни, прививая им оседлые привычки.
Насчёт привычек всё обстояло не так гладко: пятнадцать веков рома всего мира с весны по осень наматывали вёрсты-мили-километры-лье… на колёса своих кибиток. Цыганская кибитка, бардо, была для этих людей и домом, и судьбой, и средством передвижения, и остовом их бродячей души, талантливо воспетой во многих романсах. Так что указ указом (мало ли чего Хрущу придёт в его лысую башку!), а вокруг барака всегда гуртовалась пара-тройка-пяток кибиток, некоторые – богато изукрашенные, и чуть поодаль обустроено было летнее стойло для лошадей – средоточие цыганской жизни, неизменный её оплот. Ибо каждый цыган должен иметь коня.
Каждый цыган должен иметь кумачовую атласную рубаху да хромовые сапоги, а вот штаны вполне могут быть магазинными, обычными чёрными портками советского человека: диагоналевыми или ратиновыми, в мелкий косой рубчик.
Но всё это – в тёплые месяцы; зимой цыгане все до единого ходили в тулупах с железнодорожного склада Клавы Солдаткиной.
Что до цыганских женщин, дома они держали себя неприметно, одевались в чёрное или в серое: простенькая юбка, скромная кофта, непременный фартук. Ну гребень в тяжёлых волосах да пара колец на пальцах, – когда не на промысел. Если же из дому, тогда, конечно: и пёстрые юбки, одна на другой, и красные бутоны роз наискось по роскошной шали на плечах… не говоря уж о немалом грузе семейного золота, которому только и доверяют цыгане, и носят его на себе, и звенят, и бренчат, и тихо позвякивают (по количеству золота на жене определяется достаток мужа). А у самых видных женщин – к примеру, у жены или дочки барона – ещё и массивный витой браслет надет поверх длинного рукава блескучей блузы.
«У меня жена – золото, и на ней – всё золото! – приговаривал Лачо, богатый цыган, старшой по вторсырью. – Если даже луна-звёзды погаснут, моя Зора будет сверкать, как ёлка, с макушки до пяточек!».
И вот что интересно: женщины никогда не курили. Кино, ясно-дело, важнейшее из искусств, и все мы в детстве насмотрелись, как табор уходит в небо, и в пронзительном кадре актриса подносит к алым губам мундштук романтической трубки, пуская вверх колечки прицельного дыма… Но в реальной жизни цыганки из «наших» бараков не курили – да и как можно! Они были заняты совсем другим.
В каждом многодетном семействе было по смотрящему, у каждого – свой удел для добычи на общий котёл. Кто-то отвечал за попрошайство, кто-то за гадательный промысел, кто-то за воровство в автобусах.
Тут надо представить картину: вот прибыл пригородный поезд – приличный состав, восемь вагонов, в каждом человек по семьдесят пассажиров, подавляющему большинству необходимо добраться до города, так что на единственной автобусной остановке, на привокзальной площади, скапливается народ. А автобусы – что, их два на линии, и каждый, мягко говоря, не чудо автомобильной промышленности… Да вы их помните: узконосые, дверь – одна, справа от водителя, открывается-закрывается тем же устало-осатанелым водителем при помощи рычага, закреплённого на стыке двух никелированных трубок: одна ведёт к двери, другая… «Ну-ка, уплотнились там в заду, кому я, блять, говорю?!.» Да что там растолковывать, все ездили, все колесили по дорогам, проулкам, по рытвинам и колдобинам родной страны. Повторим: на линии два ветерана отечественного автопарка, в каждом – тридцать сидячих мест, плюс сколько набьётся в проход. Так что пригородные пассажиры, усталые и раздражённые, с остановки рассасывались часа через два-три. Как же не потолкаться, не пошуровать в толчее!
Вообще-то, наши цыгане считались «полуоседлыми». В тех самых бараках у них была «база», откуда на промысел выходила группа мужчин. Вернувшись, отсыпались, гуляли-бренчали… а на промысел в это время уходила другая группа. Но были среди них и работяги (потому-то городские власти им и выделили бараки). И если мужчины у цыган всё-таки работали – кто на сборе вторсырья, кто на пашнях совхоза «Пригородный», получая трудодни, как и остальные колхозники, кто у лесников на подхвате, кто на кирпичном заводе, кто лудил-паял-точил по дворам… – то женщинам, как известно, работать – грех! То есть, конечно, они баклуши-то не били, они трудились неустанно, чтобы семью прокормить: кур воровали, ездили в город гадать, заморачивая голову какой-нибудь наивной дурёхе; выуживали кошельки у матерей семейств – всё это не за грех считалось, а за добродетель: забота о детях, о семье – дело святое. («Наш бог, – говорил тот же Лачо, – нам всё разрешил: гулять-воровать, грабить-убивать!»)
Затем разнообразную добычу вносили в общак на три-четыре семьи, раскладывали на природе костёр, и какое-то время вкусное (всегда вкусное!) варево кипело в котле, разнося ароматы по округе. Тут же дети крутились, подтягивалась молодёжь с гитарами… И до поздней ночи на огромной обжитой, заставленной кибитками поляне звенели-гремели-дрожали-стонали струны, взмывали голоса, вплетаясь распевными лентами в гривы коней, в рассыпчатую листву берёзовых крон, в сизоватый дымок костра… (и прочее, и тому подобное – соответственно литературному штампу, который, увы, есть не что иное, как многократный отпечаток жизни).
Разумеется, выпивали – винца, иногда и водки, но не вусмерть, для веселья. Бывало, что и дрались, но тоже – не вусмерть; скорей для задору, для удальства и укрепления авторитета.
По праздникам гуляли особенно жарко, и свой у них был реестр праздников: Рождество, Пасха, Старый Новый год – вот, пожалуй, и всё. Ни тебе дня рождения или там годовщины свадьбы, Первомая или, скажем, ноябрьских… Скудновато по датам, зато гуляли подолгу: неделя, а то и две, – ведь каждый у другого должен в гостях побывать.
Мама звала старьёвщика «хурды-мурды»…
Давно, в самом раннем детстве Сташека, время от времени возникал этот цыган. Въезжал во двор на телеге, запряжённой старой кобылой, и стопарился у чугунной колонки, откуда все соседи брали воду на полив огорода.
Если бы, скажем, некий художник-постановщик взялся набросать эскиз к пьесе из расхожей цыганской жизни, то и он бы не смог более убедительно воссоздать образ возчика и его лошади, странную конструкцию повозки, да и сам торг – занимательнейший спектакль, что регулярно игрался в декорациях обыденной жизни станционного двора.
Старьёвщик был совсем не стар: широкоплечий, кряжистый, с великолепной крутизной иссиня-чёрных кудрей на голове. Такой же иссиня-чёрной была и борода, но в ней отдельной яркой белизной сияли чисто-серебряные колечки ранней седины. Наверняка сам цыган знал и ценил природную красоту этакой нарядной бороды: она всегда была у него аккуратно подстрижена и расчёсана, не слишком длинна, но и не коротка – в самый раз, чтобы смотреть на нее и любоваться россыпью серебряных колечек чистейшей седины. Тем более, когда, усмехаясь, он приоткрывал рот, и оттуда высверком стрелял золотой зуб, вернее, золотая коронка, непременная для любого представителя данного национального меньшинства. Хотя рот он открывал не часто, был невозмутим, цену опускал лишь до какого-то своего, им себе установленного предела.
Одет был старьёвщик самым обычным для цыгана образом: сапоги, магазинные штаны, ватник (если жарко, то на голое тело).
А вот лошадь его…
Батя однажды назвал её «крылатой», пояснив, что это не поэтический образ, а такое определение у лошадников: если масть светлая – саврасая, мышастая или каурая, но с тёмным оплечьем, будто крылья сложены за спиной. Каждый раз, когда во дворе появлялся «хурды-мурды» со своей телегой, Сташек вспоминал батины слова и воображал, как крылатая лошадь старьёвщика вдруг расправляет тёмные крылья, взлетает (вместе с цыганом и телегой, гружённой изумительным барахлом) и парит в облаках, слегка задевая их крыльями.
Телега была необычная – скорее фургон, только вместо глухих бортов по краям её шёл частокол обструганных колышков, по верху закреплённых длинными жердями. А задняя часть телеги была крытой: грязный зелёный брезент поверх трёх металлических дуг. При сильном ветре брезентовая крыша вздымалась, точно парус, и тоже просилась в небо.
Там-то, в укромной глубине фургона, цыган и копил свой улов, а в передней части, сразу за хвостом крылатой кобылы, раскладывал товары на обмен. Всякая мелочовка для детишек – глиняные свистульки, калейдоскопы, бумажные флажки, стеклянные шарики, надувные шары из тугой резины рыжих аптечных сосок – лежала в корзинке; товар посерьёзней он размещал зазывно, как хороший коробейник: китайские фонари, китайские кеды, керосиновые лампы, коврики с оленями и утками-лебедями, сковородки да кастрюли красовались наособицу, выгодной стороной к покупателю.
На что менял свой товар? Да на всё – ненужную бумагу, старые газеты-журналы, негодные вещи и мебельный хлам. Но особо ценились для обмена металлы: чугун, медь, железо. Неподалёку от цыганских бараков стояла скособоченная будка приёма вторсырья, напоминавшая деревенский нужник. Там обычно и восседал старьёвщик, принимая вещи от населения. (Вообще, сбыт металлолома цыгане держали в своих руках, и того наглеца, кто сдавал не им, а напрямую в государственные пункты скупки, били страшным боем.)
Однажды Сташек приволок из дому тяжеленный угольный утюг. Разыскал в кладовке и рассудил, что никому тот не нужен – гладили электрическим, лёгким и проворным утюгом, на который мама не могла нарадоваться: руки не болели после глажки. Ну и влетело ему! По первое число. Оказывается, мама приберегала эту драгоценность «для серьёзного обмена». «Сплавил! – восклицала она, всплёскивая руками. – Гляньте-ка на этого менялу: сплавил такую богатую чугунёвину за глиняную свистульку!»
Въехав во двор и обосновавшись у колонки, старьёвщик со своей телегой довольно долго оживлял скромный коммунальный пейзаж. Сначала к нему слеталась детвора с чем ни попадя – главным образом с пустыми бутылками, выцыганенными у родителей. Когда спадала первая бурная волна торговли с маленькими туземцами, из домов показывались взрослые, в основном хозяйки. Выносили старые одеяла и подушки, тащили покосившиеся этажерки и колченогие столики, несли отслужившие своё ухваты, чугунки с прогоревшим дном, ржавые топоры и колуны без топорищ, рулоны проржавелой сетки рабицы, прогоревшие паяльные лампы, ломы-лопаты, санки с выломанными жердями… Чего только не валялось по сараям да кладовкам, по чердакам и подвалам: разумный человек никогда не выкинет полезной вещи, пусть даже и выбывшей из хозяйства.
И начинался Великий Торг!
Дворовые бабы торговались крикливо и обидно, брали на горло, задирались. Им казалось, чем громче, тем убедительней и действенней, тем скорее цыган спустит цену. Он же только усмехался, выпуливая золотым высверком коронки из куста бороды. Вообще торговался молча, при помощи мимики и двух-трёх жестов: растопыренная пятерня, выкинутая чуть ли не в лицо человеку, означала: «уйди, женщина!» Или скривит презрительно губы: «Э-э! дураков нет!» Так что в воздухе звенели и скандалили только женские голоса, будто сороки слетелись на богатую помойку и дерутся, делят добычу.
Всё это время крылатая лошадь смиренно стояла в эпицентре громогласного торга, медленно мигая и вяло колыша чёрным хвостом, – видимо, не решалась сбросить с себя цыгана, его решётчатую телегу, дворовых баб, травяной двор… и весь этот муторный скарб, мешавший ей расправить крылья и взмыть под облака.
– Гляди, кто пожаловал, – говорила мама, бросая взгляд из окна кухни. – Твой «хурды-мурды». Возьми вон бутылки под раковиной, отнеси. Выменяй на свистульку.
– Свистулек до чёрта, – говорил Сташек, огорчённый скудным маминым предложением. Бутылки – подумаешь! «Хурды-мурды» любил обменивать стоящие вещи на подушки-перины, на старую мебель… – Может, отдать ему наш шифоньер?
Мама вытаращивала глаза и хохотала:
– Ты сдурел, мой милый?
– Так у него все дверцы скрипят, – бурчал Сташек и покорно лез под раковину доставать несчастные бутылки, бежать обменивать их на очередную, никому уже не нужную свистульку.
С «настоящим» цыганом впервые он столкнулся в питомнике, по аллеям которого любил носиться на своём «Орлёнке». Часами наворачивал круги совершенно один. Вообще, с раннего детства – и чем старше становился, тем это проявлялось всё более явно, – любил копошиться один. Никогда ему не нужна была компанейская поддержка сверстников, никогда не стремился ничего никому демонстрировать, никогда не скучал сам с собой.
Словом, катил себе Сташек по пихтовой аллее, ведущей к Комзякам, – пышная по обеим сторонам, усеянная длинными мягкими иголками, она напоминала чьё-то бесконечно вытянутое лицо в пушистых бакенбардах. Ему нравилось, что каждая аллея в регулярном парке была засажена «своей» породой деревьев: ясенями, берёзами, каштанами или клёнами. Во-первых, удобно: даже последний дурак не заблудится; во-вторых, красиво. В зависимости от породы высаженных деревьев менялся не только «портрет» аллеи – строй и уходящая даль посадок, – всё выглядело иначе. Разной плотности кроны всегда по-своему пропускали свет и тени, и потому на каждой аллее возникала своя солнечная вязь, свои петли и кружева; будто разные мастерицы, соревнуясь, вывязали из солнца и теней искусные дорожки и салфетки, узорные скатерти.
В то время к нему ещё не выбежала Огненная Пацанка из Рябинового клина, был он безмятежен и приветлив к жизни и к людям, искренне считая, что у него покладистый нрав. Это потом жизнь и события резко поменяли масштаб, смысл и характер. И сам он, Сташек, поменял характер. Даже мама порой говорила: «Мне сына подменили, моего славного сыночка! Куда он делся и кто этот колючий репей в моём доме?» А батя тот вообще по разным поводам то и дело обещал «надрать жопу до медного блеска».
Так вот, катил себе славный-мирный-до-дылдинский Сташек на «Орлёнке» по пихтовой аллее, как вдруг кто-то сильной рукой ухватил сзади велик за седло, оборвав безмятежную прогулку.
– Дай покататься! – гортанно выкрикнули за спиной. – На минутку! На часик…
Сташек обернулся. Этого взрослого пацана он и раньше видал. Звали его как-то странно: Цагар. Хотя чего уж там: не человеку с именем Аристарх пожимать плечами, заслышав чьё-то непривычное имя. Цагар так Цагар, имя цыганское, наверняка означает что-то там… высокопарное. А вот чужой велик за седло хватать некрасиво. Примерно это Сташек и довёл до сведения захватчика. Парень был высоким, жилистым, со знатным носярой. И постарше так: лет тринадцати.
– Не-а, не дам, – резонно ответил Сташек. – Не вернёшь.
Но Цагар цепко держал седло, не давая уехать. Улыбался хитро-победно, типа: да слезешь ты, ласточка, а я на твоём велике погоню, куда потянет… И мы оба это знаем.
– Покатаюсь – верну, – и для убедительности цыкнул сгустком слюны, далеко пульнув его на обочину. Сташек вдруг вспомнил, что этот парняга, кажется, – средний сын ихнего цыганского барона. Значит, и старшие братья имеются. Искоса прикинул – насколько тот крепче. Ну да, плечи-кулаки… тут всё на месте. А вот кто шустрее, увидим.
Это был момент, когда слова должны уступить место действию. Сташек такие моменты всегда остро чуял. За несколько секунд успел мысленно пробежать ситуацию: может, дать этому почти-взрослому-Цагару-сыну-барона покататься, тем самым избежав стычки, а то и настоящего избиения? – кто знает, в каких кустах тут засела его цыганская кодла, – может, только и ждёт сигнала. Но сам же себе и возразил: нет, разок уступишь, и – «прощай, лю-уби-имы-ий велик…». Причём навсегда. Батя скажет: «Не сумел отстоять, бежи так!»
Рассудительным голосом Сташек продолжал что-то говорить, незаметно освобождая правую ногу, вроде как послушно слезая с седла. И не завершив этого мирного движения, с размаху долбанул Цагара ногой по коленке. Тот взвыл и велик отпустил; Сташек взлетел в седло и рванул по аллее.
Сейчас уехать от цыгана ничего не стоило. Надо было только крутить и крутить педали, ноги уносить, мчаться, тикать!.. «И потом, – подумал он внезапно, – никогда больше здесь не появляться? Потерять любимый кусок своих владений?» Ясно же, что рано или поздно цыгане обязательно его подстерегут.
Он повернул назад и покатил туда, где на обочине аллеи сидел, со стоном растирая коленку и страшно матерясь, долговязый Цагар.
Сташек спрыгнул с седла, повалил «Орлёнка» на землю. Подошёл.
– Ты один? – спросил, глядя сверху на цыгана. – И я один. Отойдём на пару слов? – И подал руку, помогая тому подняться.
С тех пор они с Цагаром дрались несколько лет, в самых разных местах и при свидетелях. Конечно, Цагар был сильнее, и кувалды у него были – будь здоров! Но Сташек гениально уворачивался – по системе, преподанной ему Володей Пу-И. Он мельче был и проворнее, и мог разозлить кого угодно, скача вокруг противника, будто на пружинах. «Обезьяна!!! – орал взбешённый Цагар, кидаясь за ним в попытках достать. – Мартышка грёбанатваврот!»
Попадало, конечно, и тому и другому. В самые опасные моменты драки справа и слева вырастала стенка: то цыгане, то поселковые пацаны сбегались откуда-то с Лисьей горки. Но в драку не лез никто. Один на один – это было свято…
Физиономия Сташека в тот период претерпевала любопытные изменения в форме и цвете. То вырастала шишка на лбу, то опухал нос, то ухо наливалось сливой. А уж синяки разной степени спелости цвели-расцветали по всему телу, подживая желтизной и вновь расползаясь фиолетовыми разводами. Мама ужасалась, морщилась, смазывала «эти безобразия» лавандовым маслом (так что наутро он густо благоухал на весь класс, и девчонки морщили носы), порой обидно и смешно комментировала боевые увечья сына… Но никогда не позволяла себе удерживать его дома, прикрикнуть или что-то ему запретить.
Наконец, однажды летом, через год после смерти бати, они с Цагаром столкнулись на остановке. Драться там было не с руки, и значит (стал он привычно прикидывать), условимся на вечер в другом месте.
Но Цагар вдруг подошёл, подал руку, впервые назвал по имени: Стах, – и признался, что – пора кончать: надоело, да и устал – не спал со вчерашнего, в ночном был. И это привычное, вскользь произнесённое «в ночном» вдруг Сташека подкупило, как и рукопожатие давнего врага, как и честное «устал», поманило серебристой рябью на реке, дунуло рассветным ветерком, окликнуло тихим лошадиным ржанием под звяканье упряжи.
– А можно… мне с тобой… как-нибудь? – спросил он. И Цагар живо отозвался: «А чё, делов-то! Можно и порыбалить. Хочь со мной на Кщару?»
Вот это был подарок! Вот это было настоящее замирение – на всю жизнь! Сташек только слышал о Кщаре, о зачарованной красоте этого озера.
…Это по Кщаре скользил, будто призрак, плавучий дом из фильма «Зверобой», по книге Фенимора Купера. На одном берегу озера стоял смешанный лес, на другом высилась могучая стена соснового бора. А сосны – корабельные, мощные, древние – прямо из сказки. Только сильный ветер мог взъерошить им верхушки.
В начале девяностых один московский крутыш купил на Кщаре участок берега и приступил к строительству имения. Да что там – имения! Он замышлял настоящий замок возвести. Первым делом вырубил четверть гектара сосен, ближайших к воде, и планировал вырубить ещё столько же, а то, говорил, как-то… мрачновато получается: настоящая чащоба Ильи Муромца!
Несколько дней обнажённое озеро – как боярин с обритым лицом – ошарашенно стояло в оскорблённой тишине. И вдруг – ушло, утекло-сбежало! На далёком дне опустевшей огромной его чаши темнели бурые остатки водорослей. Видимо, карстовые породы втянули всю толщу воды – так потом знающие люди объясняли.
Тогда дом ушлого москвича сожгли. Местная милиция не слишком усердствовала в раскрытии данного преступления, и он уехал, бросив незавершённую стройку.
Прошло несколько лет, участок берега стал медленно зарастать, поднялся молодняк, вытянулись сосенки, устремляясь к грядущему бору. И озеро опамятовалось и простило людей: вернулось. И по-прежнему пленяет своей невинной, немного сумрачной красой.
– А добираться как? – заволновался Стах. – Не на лошадях же…
Цагар хитро прищурился, сказал:
– Зачем на лошадях. Не парься, чувак. Доставим твою жопу на место.
На другой день в уговорённое время за окнами прогрохотал мотоцикл, лихо и витиевато просвистал Цагар. Стах выскочил на крыльцо с приготовленным рюкзаком, со снастями и… так и остался стоять, таращась на фантастическое средство передвижения, понимая: главное сейчас – не треснуть со смеху.
Этот чумовой мотоцикл с коляской был, вероятно, спаян и сбит из разных частей металлоломного старья, что насобирал по дворам цыганский коробейник «хурды-мурды». И коляска явно чужая была: проржавелая, практически без дна, а дыры в бортах залатаны зелёными и синими железными лоскутами… Мама, выйдя проводить сыночка, пробормотала ему в спину: «Это же цыганский фаэтон!» – но лицо оставалось невозмутимым, пока сын укладывал в коляску своё рыбацкое хозяйство.
Однако взрёвывал смешной «фаэтон» неукротимо, и рвался на простор почище какого-нибудь культово-киношного «Харли-Дэвидсона». Едва Стах уселся позади Цагара, этот латаный кентавр мощно взрыкнул, рванул и так ходко всю дорогу пёр, треща пулемётными очередями и взлетая на колдобинах в облаках пыли, что к вечеру, хоть и с отбитыми задами, парни уже были на Кщаре и расставляли палатку на пологом берегу, на стороне смешанного леса.
Напротив над зеркальной гладью воды высился красавец сосновый бор, отражаясь в озере гигантским золочёным гребнем, над которым в закатном небе золочёными пёрышками тлели редкие облака. Вся картина казалась отлитой на заказ искусным ювелиром.
Чуть позже эти медальные облачка сдвинулись, огрузли, слились в длинное неповоротливое бревно, в чьей дымной плоти, как в догоравшем костре, ещё млело малиновое сердце огня, беспрестанно пульсируя и меняясь, неудержимо застывая чернозёмной бороздой на фиолетовом поле.
Одуряюще пахло свежестью озёрного простора, и даже сопутствующий воде запашок тины и гниющих водорослей не казался назойливым. Над неподвижной свинцовой гладью была разлита плотная шёлковая тишина, лишь слабая волна плескалась о прибрежную корягу да работяга-дятел глухо долбил какую-то дальнюю сосну.
К завтрашнему клёву всё было готово: червей Цагар накопал ещё утром, а Стах вчера самолично сварил на плите подкормку: перловку вперемешку с мукой.
В сумерках, вначале робких, будто ребёнок их надышал, но густеющих с каждой минутой, они развели костёр и вскипятили воду в древнем солдатском котелке (интересно, мельком отметил Стах, из чьей кладовки его выудили для обмена на китайские кеды). Цагар вывалил в котелок чуть не полпачки чаю, – Вера Самойловна его бы одобрила, – и, расстелив на земле газеты, они уселись ужинать. Стах выудил из рюкзака штук пять варёных яиц, целую торбу огурцов с собственных грядок и мамины фирменные бутерброды: «Хлеб-масло-чеснок, – приговаривала она всегда, – это и есть рай на земле».
Они почти не разговаривали, будто, завершив историю вражды и чуть ли не еженедельных драк, исчерпали некий понятный и простой период жизни и пока лишь искоса разглядывали, примеривались, присматривались один к другому. Однако ни с кем из одноклассников, ни с кем из дворовых приятелей Стах не чувствовал себя так надёжно и спокойно, как сейчас, с этим долговязым и грубоватым цыганом, вчерашним заклятым врагом.
Влажный воздух, роящийся мошкарой, между тем сгустился до лилового киселя и быстро заливал озеро, лес, высоченную стену соснового бора на дальнем берегу, ближние кусты и палатку в трёх шагах от костра.
За длинной зубчатой стеной бора вынырнула и стала медленно восходить огромная раскалённая луна, над которой, видимо, трудился всё тот же усердный небесный ювелир. И легко было вообразить, как, выхватив гигантский диск луны из плавильного горна, он погружает его в прохладные воды тёмно-синих небес, где, стремительно остужаясь, меняя окрас с багряного на золотой, а там и на серебряный, луна поднимается всё выше, выше… пока не застрянет над землёй новенькой монетой какого-то редчайшего сверкающего сплава.
Над головами раскатилось чёрное серебро той особой ночной тишины, в которой копошатся тысячи шелестов и вздохов, камышовых шорохов и шепотков; нежный водяной зуммер озёрной жизни и потрескивание плавника в костре. Всё вокруг – и озеро, и лес – глубоко дышит и длится, длится и звучит…
Вдруг одинокая соловьиная трель тоненько просверлила воздух – справа? слева? – трудно определить; и с другой стороны кто-то кокетливо и ласково переспросил: «пи-и-и-во? пи-и-и-во?» В ответ уже с трёх сторон защёлкали, засвиристели, длинно завьюжили-заюлили, тренькнули, ойкнули и отбили сухую чечёточку – во как!
И словно занавес раздвинулся: соловьиный концерт был заявлен и нежными всполохами звени ахнул, стих… вновь пыхнул, распространяясь целой кавалькадой серебряных лошадок – цокотом, цокотом… по всему небу. Невидимый механик наладил аппаратуру, что-то подкрутил, добавил звука и подсветил ещё чуток примадонну-луну. Неистовый соловьиный ансамбль – причём неизвестно, три там их было или тридцать, и все солисты – загремел на полную мощь, чтобы не утихать до утра. Самым прекрасным было то, что это изумлённо-вдохновенное пение ни на йоту не нарушало озёрной тишины.
Пристально глядя в рваное нутро огня, Цагар вдруг стал рассказывать, как после смерти его шестнадцатилетней сестры отец сошёл с ума, и целых три месяца Цагар ходил за ним как пришитый.
– Зачем? – шёпотом спросил Стах.
– Нож отнимать, – охотно и спокойно объяснил тот, поигрывая длинным прутом, срезанным с ближайшей ольхи, то зажигая его от костра, то гася в траве. – Он себя резал по кусочкам. Отрежет кусок и выбросит… Три пальца так выбросил… с левой руки.
– Но… зачем?! – тихо воскликнул Стах.
– Так Настя же из-за него погибла. Её любимый украл… ну, как у нас принято. – Поднял голову, взглянул на Стаха: – Обычай такой. Недели через две явятся-повинятся, их и простят, и свадьбу играют. А тут… Отец не хотел её парня признать, давно договорился за Настю с другом, а у того сын, понимаешь? Только Настя его не любила… Если девка чует, что её не туда украдут, она сигает за любимым и – поминай. Для отцова друга это была обида, а для отца – позор. Он говорил: «Это ж как получается: моё слово для дочери – фуфло?» И не пускал Настю домой – с матерью повидаться. И мать к ней не пускал.
Даже просить прощения – не пускал. Тогда Настя пошла и… легла на рельсы. Наказала так отца. А он потом решил сам себя наказать: мол, Настю поезд сразу зарезал, а он себя будет до-о-олго резать, пока вся кровь не вытечет.
Эту дикую историю Стах краем уха слышал, соседки во дворе судачили. Только не знал, что произошла она с семьёй Цагара и в то самое время, когда они, мальчишки, сшибались и мутузили друг друга до крови на каждом углу… Настю он не помнил, какие-то смутные цыганские девушки прошмыгивали в памяти, лиц не разобрать. Но представил фигурку на насыпи в последние мгновения до того, как налетит многотонная громада тепловоза… и – содрогнулся!
Вспомнил, как давным-давно, в совсем глупом детстве, укладывая его спать, мама ладонями, пальцами и кулаками разглаживала-пощипывала-выбивала на его спине считалку: «Рель-сы, рель-сы… шпа-лы, шпа-лы… е-хал по-езд за-поз-далый… – приборматывала ритмично, ребром ладони очерчивая на его тощей спине продольные и поперечные линии. – Из пос-лед-него ва-го-на вдруг по-сы-пал-ся го-рох. Пришли гуси – пощипали; пришли куры – поклевали; пришёл слон – по-топ-тал; а лисички, две сестрички, всё чистенько подмели…»
К тому времени, когда тёплые мамины ладони, легонько поглаживая спину, стекали от позвоночника к бокам, Сташек уже спал.
Отрывисто переговариваясь в соловьиной тишине, они ещё посидели, то и дело напоминая друг другу, что надо бы маленько поспать, но всё сидели и говорили, осторожно, шаг за шагом вступая в пространство неизведанной пока дружбы, неспешно роняя слова в озёрную тишину.
Потом ещё не раз и не два они будут сидеть у костра – в ночном или на рыбалке, переговариваясь или просто молча глядя в заполошное нутро огня… Третий пруд, тот, что поближе к Комзякам, примыкал к цыганской поляне; там и объезжали коней, и в ночное их гоняли.
Это благодаря Цагару он полюбит лошадей: научится с ними возиться, прилично держаться в седле, – научится, говорил Цагар, «лошадок разуметь». Цагар лошадник был сумасшедший, прирождённый; часто изрекал что-нибудь лошадиное посреди разговора, ни к селу ни к городу: «А то, что ахалтекинцы прибегают по свисту хозяина, – то фуфло, байки».
«Лошадь не собака, – уверял Цагар, – ей всё равно, кого возить, но если чувствуешь её, если ты к ней со всей душой… она всегда ответит».
Раз десять сходив с Цагаром в ночное, Стах уже многое знал: что лошадь боится резких движений: взлетевшего воробья, собаки, выскочившей из кустов; шарахается от контрастных по цвету предметов: чёрного шланга в зелёной траве или красной варежки на снегу. И в то же время её можно ко всему приучить – даже к выстрелам над головой.
Однажды Цагар позвал его смотреть на объездку табунного молодняка. «Три двухлетних жеребца, – сказал, – приходи, будет классно. Мы чуток запоздали, но Николай в этом деле – спец, он их обратает».
Когда Стах явился на поляну, одна из лошадок была уже в «бочке» – носилась по кругу внутри огороженной высоким дощатым забором площадки. Старший брат Цагара Николай, стоя в центре круга, хлестал жеребца бичом.
Казалось, это никогда не кончится: взмыленный жеребец бежал по кругу, роняя пену с губ, над ним щёлкал бич, огуливая то круп, то спину. Но едва жеребец делал шаг к центру площадки, бич замирал в воздухе… Так постепенно он приближался к Николаю, стоявшему в центре площадки с бичом в руке. Наконец приблизился настолько, что тот достал из кармана брезентовой куртки половинку яблока и протянул его жеребцу… А жеребец стоял, бурно дыша, и мокрые бока ходили, как кузнечные мехи.
– Вот теперь, – возбуждённо проговорил Цагар, и чернущие его глаза азартно сверкали, – теперь можно надевать недоуздок и начинать объездку.
У него у самого была Майка, обожаемая лошадь – некрупная, но прекрасно сложённая кобыла арабо-орловских кровей, родом с Шаховского конного завода. Когда Стах увидел её впервые, в сумерках, Майка показалась ему призрачно белой, волшебной, почти мифологической – как Пегас… Бежала вдоль кромки пруда по воде, высоко вздымая ноги, красиво и гордо наклоняя голову на крутой шее – глаз не оторвать: белая кобыла в чернильно-звёздной ночи… Но Цагар сказал, что чисто белых лошадей не бывает, они рождаются «мышастыми», потом становятся серыми в яблоках и лишь с годами светлеют, «выстирываясь» до белизны. Майка была редкого, жемчужного окраса, кожа – как у липициана – розовая, и глаза невероятные: светло-зелёные. Половинка арабской крови одарила её не только бешеным темпераментом, но и кошачьей гибкостью движений, и мягким аллюром. А характер был прямодушный и отдатливый: бежать могла до полного изнеможения, если не остановить. К Цагару она попала через третьи руки и, несмотря на молодость, успела натерпеться от жестоких людей. Завидев седло, нервничала, принималась «стрелять» задними ногами, да так мощно, что в досках забора оставались круглые дыры от ударов копыт. То и дело закусывала трензель и пыталась убежать – неважно куда, лишь бы подальше… Почти месяц у Цагара ушёл на то, чтобы лаской убедить красавицу: никто её бить и гнать отныне не станет. «Знаешь, – рассказывал, – я никого к ней не подпускал, всё сам: чистил, кормил, расчёсывал, косы в гриве заплетал… Разговаривал как с человеком, и она мне поверила – голосу, рукам, – моей стала! Когда отец увидел меня на Майке – на брошенном поводу, – он прямо остолбенел: поверить не мог, что это та самая бешеная кобыла…»
Позже, скучая по родным местам и вызывая в памяти запахи Мещёры, одним из первых Стах вспоминал терпкий конский дух, солоноватый запах взмыленной лошадиной шкуры и душновато-сладкий запах прогретой солнцем Майкиной жемчужной гривы, всегда любовно расчёсанной рукой Цагара.
Наконец, резко вскочив на ноги, Цагар оборвал их негромкий разговор:
– Ну, харэ трындеть, вставать скоро!
Они затоптали костёр, забрались в палатку и нырнули в спальники…
Цагар почти сразу засопел, а Стах никак не мог заснуть. Представлял себе Настю: как она стоит у полотна, пропуская поезда… один, другой… ведь страшно как! – и вдруг, на третьем, гремящем издали составе неожиданно для самой себя быстро ложится на рельсы, прилаживается половчее, чтоб уж – сразу… Представил, как опустилась она на колени и, прежде чем лечь на железо, подобрала с шеи густые свои рыжие волосы…
Рыжие?!! Он вздрогнул, рванулся и сел, тараща глаза в темноте палатки, дыша заполошными рывками. Сердце тугими толчками заливало грудь непереносимым горем. «Сон, – сказал он себе чуть ли не вслух. – Это просто сон… Я задремал и не заметил». Повалился на спину и долго так лежал, приходя в себя… Нет-нет, это не про нас, говорил себе, у нас всё будет здорово: ясно и радостно. Никаких цыганских страданий. Никто не встанет между нами, – с какой стати? Мы же положены друг другу…
Это мама вполголоса говорила на кухне сестре Светлане, а он нечаянно услышал из своей комнаты: «Поразительная убеждённость обоих, что они положены друг другу, – негромко сказала мама, – и с такого малого возраста! И ведь не скрываются, не смущаются ничуть. Над ними и подшучивать неинтересно. Странно: будто обручили их с пеленок и они это знают и понимают как… неизбежность». Она помолчала и добавила: «Это, по крайней мере, заслуживает уважения». Светлана фыркнула и отозвалась: «Чушь, детство какое-то! Вот увидишь, сто раз у него всё переменится».
Снаружи по-прежнему разливались, соперничая друг с другом, соловьи, но уже подавали голоса и синички, и трясогузки, и прочая мелочь…
Видимо, он опять задремал, потому что растолкал его Цагар: бодрый и уже умытый озёрной водой, отряхивался, как пёс, с всклокоченной шевелюры веером летели Стаху на лицо холодные капли. «У меня, чувак, будильник прямо в мозг вставлен, – похвастался. – Приказываю себе изнутри: проснуться в три ночи, – и ровно за минуту… просыпаюсь!»
Есть не хотелось; они разобрали снасти, прихватили банки-коробочки и по тропинке спустились к ивняку. Над водой стояло невысокое, но беспокойное озеро тумана. Здесь сильнее пахло водорослями; толща воды была густой и настолько полной какой-то своей глубинной жизни, что казалось кощунством забрасывать в её утробу что-то постороннее.
Стах впервые рыбачил батиной удочкой – бамбуковой трёхколенной, очень удобной (батя со смешком называл её «мой главный прибор»): рукоять обёрнута чёрной изолентой, чтобы мокрые, а от рыбы и липкие руки не скользили, не упустили удочку в воду, что сплошь да рядом случалось с иными горе-рыбаками.
Осторожно размотав леску, он продел её во все колечки, вытянул ещё метра на полтора, закрепил поплавок, грузило, завязал узелок… Насадил червячка так, чтобы кончик болтался – якобы живой и свеженький, – этакое приглашение угоститься. Привычным «мягким забросом» закинул леску. Шлёпнувшись на воду, поплавок нырнул под тяжестью грузила, мгновенно выпрыгнул, поплясал на мелкой волне и успокоился, замер…
Цагар, азартный, как истинный цыган, в рыбалке «был король» – это подтверждалось каждым жестом: длинный, костлявый и жилистый, присаживаясь на минуту, тут же вскакивал, как на пружинах, – проверял свои удочки.
Он забросил два удилища и вдобавок донку. Покидал пригоршнями подкормку на воду.
– Постой… я и резинку замастырю.
– Что за резинка?
– Ты что, не знаешь? Гляди…
Стах глянул и буркнул: а, видел-видел…
Тоже – способ удить; на Удольском озере им с батей показал его один старичок-рыбак. Просто длинная верёвка с тяжёлым грузилом на конце. К грузилу крепится авиационная резинка и толстая леска, на которой – множество отводков с небольшими крючками. На каждый наживляешь комочек скатанного хлеба, конец лески приматываешь к ноге, а грузило забрасываешь как можно дальше. За ним уходят под воду и верёвка, и резинка с леской-отводками… Сел, подтянул леску, чтобы всем телом ощущать напряжение жизни там, в глубине, – и ждёшь. Она дрогнула, ты резко выматываешь её из воды. На отводках – целый улов: карась, второй, третий!.. Богатый метод – одним забросом целый садок наполнить. Батя удивился тогда, не знал этого способа; но перенимать не стал. «Не-е, – сказал, – на рыбу надо ходить один на один».
Если вдуматься, батя был странный рыбак. Однажды на озере они поймали сома – маленького, ребятёнка. Сташек сразу его полюбил, такого славного, лобастого и уже усатенького! И всё волновался – довезут ли до дому, и где его растить, и вырастет ли тот до размеров кита? Уже и назвал его: Сомёнок Сёма. Домой его привезли в целлофановом пакете с водой, показали всем – целая делегация соседских пацанов и девчонок желала посмотреть на будущего кита. Сёма лежал в тазу до вечера, шевелил хвостом и усами и – Сташек уверял – уже чуть-чуточки вырос.
А потом… батя уговорил сына сходить на ближний пруд, выпустить Сёму.
– А как же я с ним видеться буду?! – горестно восклицал Сташек. – Он ещё имя своё не успел выучить… Я его буду звать-звать, а он – что?
– Он тебя по голосу узнает и выплывет, – успокоил батя. Лицо его было абсолютно серьёзным.
Стах подстелил куртку на росную траву, сел и уставился на противоположный берег.
Ночь истончалась… Дырявый туман над водой цвета оружейной стали прямо на глазах менял оттенки от опалового до бледно-пепельного; в прорехи его задувал свежий ветерок, сгоняя влажные охвостья тумана к тёмным краям выпуклого озера, и вскоре чистота этой глади стала совершенна и бестрепетна. Солнце ещё не показалось, но верхушки сосен на том берегу уже приобрели застывшую чёткость гравюры, лишь высверки птичьих голосов марали эту безупречную картину. Ещё несколько минут, и небо выгнуло золотую спину из-под бахромчатой гряды, над которой выполз чётко очерченный пылающий круг солнца, с каждой минутой взбиравшийся всё выше и выше… и всё вокруг сразу стало полниться запахом нагретой хвои.
Цагар метался от своих удочек к удочке Стаха, ругаясь как чёрт – тут тебе театр или что? Какого рожна запросился на рыбалку, если рыба тебя не колышет?!
Он уже выловил трёх ершей, пяток небольших окуньков, двух подлещиков, густеру и целую команду карасей.
А Стах всё сидел, околдованный блеском озера и неукротимой синевой, которой стремительно наливалось небо – почти до сливового оттенка. Сосны густым чёрным гребнем вонзались в лиловый горизонт, вычёсывая из него крохотные облачка.
– Чувак, – окликнул его Цагар, умиротворённый уловом. – А ты знал, что слово «чувак» – цыганское слово?
– Да ладно тебе…
– Ага. И «стырить» – тоже. И «хавать». И все слова, которыми прям чешут музыканты в кабаках, – все цыганские. «Лабать», например… от нашего слова «тэ дилабас» – значит, «исполнить».
– Надо же, – отозвался Стах уважительно.
Вчерашние рвущие душу ночные разговоры, его страшный сон, его сердцебиение – всё утонуло в солнечной глубине озера. Он изумлённо думал: как это так, что всё в жизни наваливается на человека разом: вот нет бати, и эта мысль каждый раз свинцовой пулькой пробивает сердце; бати нет, но в том же сердце дрожит и набухает кипучая радость: Дылда! Сегодня снова её увижу!
Позавчера она стибрила (неужели правда цыганское слово?) у сестры Анны лак для ногтей. Сидела на скамейке в Городском парке, упершись подбородком в поднятую коленку, и, склоняя голову то на правое, то на левое ухо, старательно покрывала ногти диким фиолетовым цветом. «Дуй!» – приказывала, и Стах опускался на красный песок площадки, набирал полные щёки воздуха и ду-у-у-ул. На соседней скамье сидела какая-то мымра библиотечного вида, злобно на них поглядывая. «Красиво?» – спросила Дылда, ткнув босую ступню чуть не в лицо ему. Он вскочил, схватил её за щиколотку, потянул на себя… Она визжала, хохотала, лягалась, цепляясь за спинку скамьи. Сжимая в железных тисках щиколотки и уперев в собственный живот её босые ноги, он чувствовал пружинящую силу всего её тела.
– Бесстыдники! – крикнула тётка, и Дылда задорно взвизгнула:
– О-ой, бабушка! Спасите мою девичью честь! Тётка зашлась от злобы, а они вскочили, подхватили босоножки, бросились к лестнице, лихо сверзились по всем семидесяти восьми её ступеням и понеслись по «шалопаевке» – прогулочной аллее, что тянулась к центральной площади города.
Жизнь надвигалась приманчиво, сладко, волнующе исполненная запахом надежды. Волнующе исполненная запахом Надежды, – её смехом, голосом, и – телом, которое он ещё не видел полностью обнажённым, но уже сочинял его и в горячечном воображении сплетал со своим чуть не каждую минуту.
Это тело состояло из разных частей разных прекрасных тел…
На нижней полке книжного шкафа в родительской спальне стоял толстенный альбом живописи – подарок маме на день рождения от Броньки – подруги и бывшей сокурсницы по театральному училищу. Та далеко пошла – удачно зацепилась в Москве каким-то летучим и несчастливым браком и работала помощником режиссёра в театре Станиславского и Немировича-Данченко, благодаря чему десятилетний Сташек с мамой не только пересмотрели за весенние каникулы все спектакли, но и разглядели разных знаменитых артистов в буфете ЦДРИ, куда Бронька однажды привела их с мамой обедать. «Не пяльтесь, искоса глядите, – шептала она, наклонясь над тарелкой. – Вон Смоктуновский стоит…». Сташек смотрел и ничего не чувствовал, а мама тихо ойкала и замирала.
Так вот, с этим альбомом живописи случилась такая… не очень приличная история. Сташек обнаружил его утром, когда, оставшись в квартире один «на пару часиков» (мама с Бронькой метнулись по магазинам), оторвался от телевизора и пошёл бродить вдоль полок широкого книжного стеллажа в Брониной спальне. Там на второй снизу полке он и углядел высокий синий корешок с чьей-то голой ногой. Присев на корточки и отодвинув стекло, потянул на себя томище, который оказался таким тяжеленным, что выскользнул из рук и свалился углом прямо на босую ступню – ужасно больно!
Сташек вскрикнул, заплясал на ковре и даже в ярости пнул книжищу ногой. Она раскрылась… Вдоль всего разворота на золотистых складках покрывала лежала голая тётенька. Обалденная! Молодая, не так чтобы худенькая – как мама примерно, только тёмно-рыжая. Она спокойно спала, закинув руку за голову, будто была на свете одна-одинёшенька; будто зелёный холм, далёкие дома и деревья на горизонте, каждый листик и каждая травинка принадлежали ей, и не о чем было волноваться, и некого стесняться, – настолько, что кисть левой руки сонно лежала прямо там, где обе ноги сходились в пухлой складке. Ей небось никто не орал на весь спортзал: «а ну, вынуть руку из штанов!!!» – едва тебе пришло в голову почесаться.
Сташека обдало жаром…
Он опустился на корточки, лёг рядом с раскрытым альбомом, подпёр ладонью голову и указательным пальцем стал водить по волнующим линиям этого тела. Они перетекали одна в другую, и сразу было видно, что две прекрасные руки, и приятный закруглённый локоток, и узкое колено, чуть сдвинутое вперёд, и круглые сисечки, и туманный бугорок в мягком углублении изножья – все заветные местечки, которые женщины на пляже прячут в купальник, думая, что этим можно отвести от своей фигуры взгляды и мысли мужчин (на самом деле наоборот!), – так плавно, так правильно образуют целиком всё тело…
Проснулся он от смеха Броньки и маминого озадаченного хмыканья: уснул на ковре, щекой на листе развёрнутого альбома.
– Ну что ж, – сказала Бронька, – мальчик в мире прекрасного! У него неплохой вкус. Джорджоне – это тебе не академик Налбандян.
И сказала, что помнит-помнит про мамин день рождения в следующую среду, и это как раз повод: всучить подруге данный альбом.
– Ни в коем случае! – воскликнула мама. – Дорогущий наверняка!
– Отнюдь, – улыбнулась Броня. – Мне и самой его подарили. Не скажу – кто, ты просто ахнешь… И знаешь, в какой момент? Когда мы оба могли бы позировать.
Они, подхихикивая, удалились на кухню – пить чай, рассматривать покупки и сплетничать. А Ста-шек так и остался сидеть на ковре, не глядя на длинную девушку в альбоме. Он даже сердито захлопнул этот огромный том, тащить который к поезду, словно в наказание, пришлось ему самому.
С тех пор Сташек никогда его не открывал – во-первых, чтобы отвести от себя подозрения, во-вторых, стеснялся возможных батиных насмешек…
Но вот он, батя, упал на перроне, ушёл в непостижимую зловещую пустоту; устранился из их жизни, отрёкся от их боли, их трудностей, намерений и планов. Оставил сына обескураженным и оглушённым, а маму какой-то даже горестно оскорблённой (как смел?!). И побежали, потекли дни и недели без бати; жизнь надо было продолжать, надо было тащиться дальше. Надо было – идиотское слово! – держаться. И мама, будто бы не в силах держаться сама по себе, вцепилась в «небольшой ремонтик» с перестановкой мебели. Вызвали краснодеревца Илью Ефимыча, и тот в память о бате бесплатно побелил и без того чистые стены.
Старшая сестра Светлана, особа куда более жизненная, чем мама, получала в своём Новосибирске второе образование (подростковая психология), страшно была занята и потому приехать смогла только на две недели («на целых две недели!» – поправила маму). После похорон каждое утро, сидя за завтраком, она вдалбливала маме ровным голосом:
– Ты хочешь заместить свою потерю иллюзией новой жизни. Это трусость. Ты должна привыкнуть к тому, что папы больше нет… Запишись в какой-нибудь кружок народного творчества, ты же талантливая. Вернись хотя бы в народный театр, вспомни профессию. Можно макраме вязать – я недавно была на выставке, это такая красота, и сосредоточению помогает…
В один из этих дней Стах застал обеих на кухне: помешивая ложкой сахар в кофе, Светлана втолковывала маме про «трезвую и логичную жизненную позицию», а мама глядела в окно и молча плакала.
Он заорал:
– Пошла в жопу со своей подростковой психологией!
У него уже сломался голос. Высокий мальчишеский говорок вдруг обернулся чуть ли не басом, что совершенно сбивало с толку Светлану, не видевшую брата и маму два года. Перед ней стоял её братик, мелочь пузатая, вымахавший в крепкого мускулистого парня, и басом орал немыслимые грубости.
– Что-о?! – выдохнула она, а мама повернула от окна заплаканное лицо к своим таким разным детям и засмеялась.
После отъезда Светланы они стали переставлять мебель. Мама активизировалась, во всяком случае, перестала плакать. Командовала, решала – как лучше, потом передумывала, и они всё переставляли заново, и снова Стах безропотно наваливался, тащил, отдувался, двигал «ещё маленько влево».
Так, книжный шкаф двигали от стены к стене раза три – всё было не так, всё не то, пока тот не встал как прежде. Но когда, дребезжа стёклами, он в третий раз плыл по привычному маршруту, из-за съехавшего вбок стекла одной из полок вывалился тот самый живописный альбомище, вновь – это даже смешно! – ударив Стаха по ноге и вновь – опять смешно! – открывшись на той самой ослепительной голой девушке. Стах опустил глаза и мысленно ахнул: это же Дылда спала, закинув локоть за голову. Впрочем, нет, не совсем… только первое впечатление, зато бьющее наповал!
Он молча поставил альбом на место. Но когда мамы не было дома, доставал его, листал и сопоставлял. На каждой картине, у каждой женщины какая-нибудь деталь: поворот шеи, каскад красноватых волос, вскинутая обнажённая рука – казались ему точь-в-точь… и нравились больше остальных. Так что, мысленно создавая обнажённую Дылду, он словно бы составлял её из какого-то гибкого и сладостного конструктора, который, в конечном счёте, не имел никакого отношения к ней – живой, очень подвижной, смешливой и цельной. Зато, умозрительно писанная маслом, она принадлежала только ему.
Он уже знал эти имена: Веласкес, Джорджоне, Рафаэль, Боттичелли и Тициан. Каждый из них был представлен в альбоме той или иной картиной, где сидели, полулежали, стояли, выходили из воды и даже летали обнажённые женщины.
Как ни странно, впервые эти имена – как и многое другое в его жизни – возникли на уроках Веры Самойловны. Она ими разговаривала.
Склоняла, приделывала окончания, суффиксы… – в общем, поступала с ними свободней некуда.
– Вот тут у тебя слишком открытый звук, – говорила. – Ну-ка, приглуши, позолоти его, погрузи немного в тень, знаешь, сделай слегка таким… тицианистым.
Или кричала:
– Стоп, стоп! Что ты растянул глистой это «фа»? Да и всю фразу. Оживись, взбодрись и внутренне… ну, я не знаю! – усмехнись и прошмыгни так стаккаттисто: «Джор!джо!не!»
– Ну и вообще, – сказал Цагар, забрасывая донку, – много разных гениев цыгане породили на свет. Театр «Ромэн», Николай Сличенко… Эрденко, – слыхал, как она поёт? – охренеть! Бузылёвы те же… няня Пушкина – она ведь цыганкой была, потому и песни ему всё детство пела, а он потом припомнил их и написал: «Цыганы шумною толпой…»
Припекало… В садке густым тёмным серебром вскипала рыба. Солнце пробивало стволы могучих сосен. На васильковом небе томилась молочная пенка, удивлённо и нежно отражаясь в зеркале Кщары.
Стах уже страшно скучал, уже томился – и этой рыбалкой, и новым долговязым дружком, и даже таинственной и слегка пугающей красотой этого озера.
«Сматываем?» – спрашивал время от времени якобы небрежно, а Цагар в пылу удачной ловли кипятился и рявкал:
– Куда так рано! Посидим ещё, доедем засветло. И Стах раздражённо думал, что уже не успеет сегодня оказаться на улице Киселёва, промчаться мимо дачи Сенькова с её полуразрушенной флорентийской галереей, взбежать на знакомое крыльцо, гадая – кто откроет на его звонок: сама Дылда, её сестра Анна или брат Богдан, мама Татьяна или отец, которого все дети, да и жена, ласково, но как-то несерьёзно звали: «папка».
Глава 2
Ангел мой, Петруша
Папка говорил: «Первая жена от Бога, вторая от чёрта, третья – от людей».
Ну, ему виднее, ибо он самолично прошёл все эти круги, с тремя-то жёнами…
Но и до того ему выпало покарабкаться из тёмного мешка – на свет, к нормальной семье и нормальной жизни. Потому как мать его, Ефросинья Николаевна, выйдя замуж в зажиточную семью – на свою мельницу и свою крупорушку, да на землю, да на вдоволь скота… – пошла рожать мужу каждый год как подорванная. Но дети отчего-то мёрли. Позже она рассказывала Татьяне, Надюшкиной маме (своей третьей окончательной невестке), что в те времена смерть младенца была явлением обыденным. Умирали почему-то, когда цвёл горох.
– По весне эпидемий больше, – замечала умная невестка, представляя себе этак свою Надюш-ку и вздрагивая от мимолётной картины: крошечный нежный младенец, угасающий на твоих руках.
– Да и не очень горевали, – вздыхала бабушка. – Свёкор говорил: «Не плачь, Фрося, ещё родишь…»
А вот папка, четвёртый по счёту, – тот не умер. Пережил и весну, и лето. Верно, значит, назвали его Петром – будешь, мол, камнем. (Не угадали: живучим оказался, это да. А каменным его сердце так и не стало. К детям всегда обращался: «Детки мои, ангелочки мои…»)
В ноябре их раскулачили – как оно в то время водилось: всё отобрали, из дому выгнали, разрешили взять в дорогу немного одежды и тулуп. Ещё семейную икону-заступницу Фрося вымолила взять, Казанской Божьей Матери: большую, на морёной доске писанную.
(Она потом всюду за ними следовала, родненькая берегиня, а сейчас в доме, уже в Вязниках, висит. Папка только очистил её, согласно реставрационному канону и собственному методу: перво-наперво луковым соком протёр. Пока работал, трижды подзывал Надюшку: обнимет её локтем за шею – руки-то в масле да в скипидаре, – привалит к себе и тихо так кивнёт на доску: «Смотри на неё; смотри на лик, доча: не насмотришься…»)
Из дому, значит, их всех выгнали, посадили на телеги, повезли на станцию. Потом доо-о-олго в грузовых вагонах куда-то везли, на станциях наружу не выпускали, да и куда – в стужу-то? Очень холодно было, и есть так хотелось – ужас!
А папка всё не умирал… Баба Фрося его грудью кормила и заворачивала во что придётся. Плакала всё время, не верила, что довезёт. И что там их ждёт! Ну, приехали: соляной рудник под городом Соль-Илецк, Оренбургская область. Семей пятнадцать спецпереселенцев набилось в заброшенный барак с прохудившейся крышей. И мужики мгновенно – топоры в руки – крышу починили-подлатали, печь продули. Тряпицами отделили в бараке место каждой семье, сколотили топчаны и лавки, стали жить – а куда денешься. И папка опять не умер!
Жизнь, конечно, ужасной была. Работа для мужчин одна: соляной рудник. Баба Фрося ещё рожала, но дети все умирали. А папка опять – нет! Рахитом болел, облысел, ноги кривые стали, но – не умер! Пётр! Камень – в основании… «Детки мои, ангелочки мои…»
Когда через семь лет дед умер прямо в шахте, бабушке Фросе начальство позволило вернуться в родное село, в Пировы Городища. Она и приехала к своему брату, а больше некуда было. Тот сестру с племянником принял, и, по сути, он-то папку и вырастил – дядя Иван, хороший человек. Зашибал, правда, как оно водится в деревнях, но тут уж сказать нечего.
А рос папка, понятное дело, сыном врага народа.
К старости, когда уже сильно болел, рассказывал про своё детство Надежде – младшей, любимой дочери – и плакал. Он вообще сентиментальным, мягким был – папка, особенно когда выпивал. Вспоминал, как на Новый год в школе подарка ему не дали. Тощий подарок был: пара карамелек, фунтик сахару, завернутый в газету. А и того не дали: сын врага народа!
В школе он проучился три класса и пошёл работать в колхоз, куда пошлют. Всю жизнь был до оторопи неграмотным. Руки золотые, всякие лаки-разбавители-краски-кисти знал, как отче наш, но вместо «счёт» писал СЫЧИЁТ. (Надежда потом помогала ему разные бумаги на работе в музее оформлять.) И вслух читал – медленно, чуть не по слогам. Но читать очень любил! И требовал, чтобы дети прилежно учились. Любимая присказка: «Учись, учись, мой сын! О, как сладок плод ученья!» Кто сказал?» И дети дружно должны были ответить: «Борис Годунов!»
Всегда что-то читал, потом рассказывал, советовал – что прочесть: «Алые паруса», «Повесть о настоящем человеке». В общем, эта его неразделённая любовь к книге, к учению передалась Надюшке какой-то необоримой страстью: вечная отличница и – как не раз повторяла их учительница по русскому и литературе: «врождённое чувство языка». Диктант или, скажем, сочинение какое – прямо удивительно: все запятые, тире, или что там полагается по законам грамоты, – все на своих незыблемых местах, а фразы такие длинные, ловкие и плавучие – особенно там, где о природе: облака плывут, грачи граят… – в общем, Надины сочинения учительница всегда перед учениками зачитывала вслух.
Так вот, насчет жён-то. От Бога, чёрта и людей…
Папка в колхозе так здорово себя показал – старательный был, смышлёный рукастый парнишка, – что председатель направил его в ФЗУ в Горький, плотницкое-столярное дело там постигать (которое позже папка возвёл на вершины виртуозного мастерства).
Армию, само собой, пропахал, как полагается – в Забайкалье, Дальневосточный военный округ… Вернулся домой с молодой женой. «Подцепил где-то на полустанке, – говорила баба Фрося. – С голодухи пал, с армейского перестоя». Однако девка оказалась – ничего, послушная и не выкобенистая… Лица её баба Фрося не помнила (хотя в одном из альбомов паспортная фотка валяется), – ибо с первой же беременности та – брык! – и умерла. Внематочная, да, – что поделаешь. Вот уж истинно: от Бога, только попользоваться Он ею не дал, себе забрал, от скупости, что ли, Господи прости! – прихватив вместе с едва зародившимся младенцем.
И вскоре папка опять женился (был он такой душевной нежности и склонности к семейным радостям, что один не хотел жить, не мог, сильно скучал); и звали эту самую вторую жену Тамарой.
Ух, какая женщина была: красивая, голосистая, и пела, и на баяне играла-разливала. Одним словом (это баба Фрося комментировала): «Не по зубам себе взял, вознёсся, вот и упал пребольнёхонько». Родился сын Кирилл, самый старший, и стала Тамара пропадать из дому. Попивала-погуливала… растягивала меха любому желающему. Баян, считала, всё спишет… От этих отлучек родила ещё сына – Дмитрия, и соседи судачили, что не от папки он, а так – от баяна… Неудачный сынок получился, психически больной, с тугой соображалкой. Но папка очень его любил, жалел и растил как своего. Да и красавец тот был: ресницы длинные, глаза чёрные. «Видать, какому-то проезжему грузину она сыграла», – замечала баба Фрося.
Потом родилась ещё сестра, Люба… И тут уж, бабка рассказывала, Тамара пошла вразнос по всем статьям. Сильно озоровала. Пропадала где-то сутками – может, в городе шлялась, может, с кем застревала в какой-нибудь воровской малине. Когда домой забредала – сутками буянила.
А папка работал, растил детей, ну и баба Фрося помогала.
И однажды заявилась Тамара домой совсем нехорошая: дикая, воспалённая, будто в белой горячке. Выволокла из красного угла ту самую икону Казанской Божьей Матери, что сопровождала бабу Фросю под Соль-Илецк да обратно, и – в поганое корыто, с грязной водой… Бабка аж взвыла от ужаса: Божью Матерь – в поганое корыто?!! Как это Бог стерпит?!!
И не стерпел: через неделю Тамару мёртвой нашли. Весна была, апрель, разлив… Пьяная, она, видать, оступилась и упала в овраг. Катилась до самого дна и там в грязной воде захлебнулась. В грязной воде, как в поганом корыте. Господи, прости её…
Остался папка вдовцом с тремя детьми. А было ему сорок лет.
Работал он тогда на ферме за всё про всё – плотником, возчиком, мужиком на хозяйстве; а Татьяна там же работала заведующей фермой. И случилась меж ними поздняя задушевная любовь, из тех простодушных любовей, что у всех на виду.
А чего скрывать-то? Вдовец и вдовица. «Третья жена – от людей…»
Тут и о маме Тане надо непременно встрять-рассказать. В Пировы Городища она попала в замужество: встретила в поезде молодого-распрекрасного парня и приехала к нему из той самой деревни Блонь, куда потом каждое лето, да и на зимние каникулы Надюшка ездила к бабушке «Якальне», где добрейший евангельский плотник-дед рассказывал ей про мальчика-бога в огненном шаре, где всё летнее и зимнее каникулярное детство она проводила под бабкину попевку о «рюмочке Христовой» – да так, что и по сей день рыщет по антикварным подвалам, разыскивая похожую рюмочку.
Да, про маму Таню рассказать надо непременно, потому как с неё начинается настоящая история их большой громокипящей семьи – ведь когда мама, заведующая фермой, обратила внимание на папку, многодетного вдовца, она и сама уже была вдовой с двумя детьми.
Распрекрасный парень, который «так меня любил, так любил: из дому не выйдет, пока не поцелует!» – никак не мог найти работу по душе. И пошла мама Таня доярить. А тогда как было: вручную доили, в группе больше двадцати ко-ров – труд адский. Родился брат Богдаша, а в доме крыша протекает – солома-то не черепица. «Дождь пойдёт – на Богдашу капает. Я его в другой угол перетащу… Так и кочевали мы с люлькой по всей избе». Потом опять забеременела. Когда шесть месяцев натикало, мужу неудачно и запоздало вырезали аппендицит. И не поймёшь сейчас: то была врачебная ошибка или распрекрасный её муж просто оказался совсем непригоден для жизни, так что и жизнь от него отвернулась… Начался у него перитонит, и буквально в два дня мама Таня, девчонка двадцати четырёх лет, осталась вдовой, беременной на седьмом месяце. Анечка родилась, никогда не увидев отца.
Страшно мама Таня тосковала… Ночью встанет к окну, смотрит на кладбище – оно прямо за окнами: вот она и кончилась, жизнь. Дальше – куда? С двумя-то детьми? Думала вернуться к родителям – в Блонь. Но посмотрит на свекровь, бедную: как её последней радости лишить? К тому же свекровь очень помогала детей растить, никаких ведь яслей-садиков в их деревне в помине не было…
Беда пришла, когда свекровь в одночасье померла: вот стояла, ложкой для Анечки кисель из кастрюли в чашку черпала – и вот она уже на пол осела: глаза стеклянные, не дышит, не отзывается, и вся в киселе…
Жалко, конечно. Жили они душа в душу, дружнее, чем с собственной матерью. («Якальна» – та всегда была характерной особой. Это в старости она помягчела и «рыженькую щекоталку» Надюху баловала. А в молодости детей своих ой как гоняла! – как помойных котов.)
Конечно, жалко хорошего человека; но, главное, Танино положение стало совсем беспросветным: у доярок труд ежедневный, без выходных и праздников. Коровы тебе отпуск не дадут: вымя не терпит. Три раза летом и два раза зимой бежишь на ферму как миленькая, что бы ни стряслось.
Вот так три года мама-Таня вдовой и прокуковала. Зимой детей запирала в избе, а летом их не запрёшь, тем более Богдашу – тот был озорником. Она его на улице вожжами за пояс к электрическому столбу привязывала, чтобы не убежал. Когда вырос, Богдан сам вспоминал и похохатывал: «Я вскочу и – бежать! А вожжи – бац! Натянулись – и держат».
С Анечкой соседки помогали – то одной, то другой подбрасывала. Потом отдаривалась, ясно дело. Через три года стала заведующей фермой: грамоты, орден, всякое такое прочее. Председатель при встрече руку жмёт и фуражку снимает. Приятно, конечно, и гордо… но ведь – молодая ещё, сердце не утихло.
А тут, значит, – папка, Пётр Игнатьевич, вдовец. У него у самого – трое, да, прикинь, Таниных двое. И ничего, прикипели друг к другу, объяло их поздней, тихой и благодарной любовью – открытой и улыбчивой. Третья жена – от людей… И не побоялись, свели всех в одну семью, да ещё родили Надюшку, последнюю, шестую-шуструю. «Чтобы для всех остальных стала кровинкой, – говорил папка, – родной, скрепляющей. Вот теперь у нас настоящая семья! – повторял. – Теперь Надюшка всех собой окружила и собрала».
Ругались, конечно, мирились, рядились, но и помогали друг другу: семья же. Мать всех держала в строгости, с годами её характер очень стал напоминать «Якальну». Но порядок в доме был – не попляшешь; ведь иначе нельзя, когда столько детей. Бывало, и подзатыльник отвесит, причём чувствительный. А вот папка на детей никогда руки не поднимал, никогда не бранился грубыми словами. Самое страшное ругательство: «Безобразники!» Это означало у него крайнюю степень раздражения и гнева; дети притихали мгновенно. И любимая присказка: «Дети мои, ангелочки мои…» – да с таким протяжным вздохом, точно сердце отдавал. Его так и в селе звали: «Ангел мой Петруша» – с улыбкой, но без насмешки, с уважением. Потому что руки у папки были золотыми: всем всё чинил, вытачивал детали, часы любые – что настольные, что настенные – запускал с ходу; совсем мёртвый хлам оживлял, как Иисус – Лазаря. В сарае во дворе у него все-все инструменты были, немало денег он на них угрохал. Татьяна иногда ворчала – мол, столько денег да столько времени бог знает на что гробишь! И всё же когда подарил ей на Татьянин день зеркальце собственной работы – кружевное, совершенно невесомое! – вот тут она и оторопела, и растаяла. Зауважала… и уже помалкивала.
Да они всей семьёй в город перебрались благодаря его золотым рукам! Перевозил он со станции прибывший для музея контейнер с мебелью. Стал помогать разгружать, и оказалось, столик один – туалетный, старинный, с зеркалом, и к нему стул такой заковыристый – прибыли в самом плачевном виде. Директор, Николай Сергеевич Скорохва-ров, в ужас пришел! За голову хватался, какими-то накладными-сопроводительными тряс, что-то требовал… Кричал: «Как я отчитываться стану?! Мебель драгоценная, подлинная, девятнадцатый век!»
А папка ему спокойно так: «Погодите расстраиваться, Николай Сергеич, дайте мне эту меблишку дня на три. Спорю, не заметите – где переломы были». И сделал! Главное, как всё сработал: новую ножку выточил, и так краску-лак подобрал – не отличишь от первородных!
Тогда директор и пригласил его на работу в музей. Сказал: «Соглашайся, Пётр Игнатьич, со всех сторон тебе выгодно».
«И что за должность, – поинтересовался папка. – Как называется?»
«Называется: «ангел-хранитель музея», – глазом не моргнув, отозвался директор. – Хочешь, в трудовую книжку так и напишу?»
Тут ещё повезло: уезжал в Москву давний приятель директора, продавал дом на улице Киселёва – место прекрасное, самый центр, сектор частной застройки. С одной стороны боязно: это ведь только кажется, что легко переехать из села, где прожил чуть не всю жизнь, в город, в дом, который люди тоже обживали своим многолетним теплом. А сараюшки, а сад, а хозяйство, а мастерская во дворе? Как их доставить – по воздуху перенести?.. Мама прямо на дыбы: куда ещё, зачем?! Чего тебе не хватает?! Но папка хитростью вывез её в город, якобы погулять-осмотреться, а гуляючи, притащил на Киселёва «только глянуть на домик». Глянули… и оба влюбились. И словно кто дирижировал этой замечательной переменой в их жизни, всё так быстро свершилось, что и оглянуться, и испугаться не успели: на удивление быстро сыскались покупатели на всё деревенское хозяйство (в те годы их живописный район уже начали присматривать москвичи, дома покупали под дачи, и по ценам почти московским. Так что обмен и в деньгах получился вполне подъёмным).
А уж дом оказался волшебным! – папка говорил: «с душой и с фантазией». Стоял он на склоне, и потому с фасада был двухэтажным, а с тылу – одноэтажным, обращённым к прекрасному запущенному саду. Поднялся на крыльцо, вошёл в двери… и начинаются чудеса: на второй этаж ведёт лестница просторная, как в барском имении, а над ней – дубовые балки по всему потолку. Запрокинешь голову и смотришь – не оторваться! Папка их потом отчистил, лаком прошёлся, и дерево задышало: все глазки, все трещинки-улыбки… словом, жизнь в нём потухшая заиграла! На первом этаже прихожка была, удобства-кладовки всякие, и большущая кухня, где вся семья крутилась с утра до вечера: один ушёл, двое пришли, перекусили, посуду помыли… Богдан умчался на футбол, а из школы уже Аня и Надя явились – опять кормить, опять колготня, опять весело… За этим неохватным круглым столом и обедали, и уроки делали, и в «лото» вечерами играли, и пасьянсы раскладывали. А некий приблудный мальчишка рисовал портреты любого, кто соглашался посидеть пять минут, хоть и с бутербродом в зубах. В основном, конечно, Надюху рисовал: очень похоже, между прочим. Особенно акварельные портреты – она и улыбается на них, и хмурится, и задумалась-сидит, зачарованно так смотрит на литровую банку с водой, где тонкая кисть взметает цветные слои акварели, и те колышутся и сплетаются живописными хвостами… А когда портрет высохнет, он внизу непременно припишет мелким таким аккуратным почерком: «Дылда. 6-й класс».
В этой огромной кухне всё умещалось, даже место для швейной машинки нашлось между фикусом и посудной тумбой.
Спустя годы так и вспоминалось: мамина спина – вначале стройная, с возрастом пополневшая, – все выходные и праздники, как на посту: под листьями фикуса в контражуре, под успокаивающий стрёкот бессмертного «Зингера».
Машинка «Зингер» – чёрный китель с золотыми позументами, – добротная вещь, исполненная почти вековой значительности, – досталась Тане от первой свекрови, светлая ей память.
Вот бывают же предметы долгого срока жизни: наверняка не один владелец у машинки сменился, и обшивали на ней детей и взрослых на все торжества: рождения, годины, свадьбы и церковные праздники… Мама склоняется к раскроенной материи, выверяет уже сделанное. Бежит-бежит из-под лапки полотно-дорога, шовчик намечает разделительную полосу.
Вечерами и до поздней ночи мама стрекотала, не боясь никого разбудить, потому как все три спальни, мастерская отца, зала и веранда, обращённая в сад (светлейшая, в перекрёстных лучах жёлто-красного света – от цветных ромбовидных вставок в окнах), располагались на втором этаже.
Главное, до музея рукой подать: подняться по главной улице на первый взгорок, свернуть направо к Благовещенскому собору, а за ним сразу откроется музей – внушительное трёхэтажное здание, ряд белых колонн подпирают греческий портик; некогда купца Елизарова дом, а тот тридцать семь лет был городским головой, первым внедрил паровую машину Уатта… – то есть, как мы сейчас понимаем, всем купцам был купец и большой молодец на благо родного города.
…Историко-художественный музей города Вязники оказался той вселенной, вокруг которой прочно обосновалась жизнь всей семьи Прохоровых, ибо вскоре маме тоже предложили в музее должность – быть чем-то вроде сестры-хозяйки. Надюха, вечная семейная насмешница, говорила, что они сейчас как чета Бэрриморов в «Собаке Баскервиллей», и отца называла «дворецким». Но, дворец не дворец, а музей и в самом деле был хранилищем немалых ценностей.
Первый этаж, правда, отдан был под отдел природы и потому скучноват. Чего мы там не видали? Крокодилов, жирафов и чудо-змеи анаконды в нашей местности сроду не водилось, а чучела орлов, куропаток, фазанов, зайцев и лис только пыль собирали; время от времени их пылесосили. В застекленных стендах на стенах демонстрировались рисунки и засушенные веточки и цветы: флора Вязниковского края – та, что у жителей окрестных деревень по садам да огородам растёт. Ещё на первом этаже в одной из комнат располагался занудный Музей песни, позже переделанный в якобы кабинет того самого поэта Фатьянова. Не больно-то поэтическая обстановка: кожаные диван и кресла, письменный стол с зелёным сукном, на нём – казённая лампа… Короче, первый этаж Надюха всегда пробегала.
Зато второй этаж…
Там висели картины из коллекции купца Сенькова: «Этюд» Айвазовского, «Ночной пруд при луне» Куинджи (с лимонной луной-фонарём, гипнотически, пугающе яркой), «Портрет неизвестной» – рыженькой приветливой девушки. Художник тоже был неизвестный, и Надюха любила представлять, как оба они, безымянные – художник и модель – уходят в обнимку по какой-то туманной аллее, а портрет смотрит им в спины с негасимо грустной улыбкой. Ещё висела большая зимняя картина с сосной, возле которой тоже хотелось остаться, ну и целая стайка итальянских жанровых сценок, озарённых никогда не заходящим солнцем: Сеньков обожал Италию.
Но более всего её притягивала изящная мраморная кисть женской руки работы Лансере. Бог знает что можно было придумать о той женщине и о той руке: почему она отделена от тела? Как женщина умерла? Болела ли чахоткой – в прошлом веке все барышни умирали от чахотки…
Однажды, воровато оглянувшись на двери залы, девочка вплотную приблизилась к изящной ручке (что запрещалось музейным законом) и приложила рядом свою… Собственная живая рука выглядела ужасной лапищей. Да-а, подумала огорчённо, никакой аристократичности. Не графиня, ч-чёрт!
А ещё на втором этаже были воспроизведены настоящие комнаты XIX века со всей обстановкой: бело-голубая изразцовая печь в виде греческой колонны, вычурные столики-консоли-тумбы на львиных лапах, бронзовые светильники на стенах и на любой поверхности, и – в массивных золочёных рамах – портреты разных старинных людей. Мебель принадлежала когда-то купцу Демидову; посуда в витринах – купцу Елизарову; тончайшие скатерти, накидки и салфетки тоже были историческими (некоторые, пострадавшие от времени, мама так искусно восстановила-подштопала, что и не заметно даже). А стены комнат оклеены были штофом изготовления фабрики Сенькова – тканые льняные обои с цветным тиснением. Столько лет прошло, а они не потускнели ни на чуточку!
Работы в музее было – выше головы.
Во-первых, мебель прошлых веков постоянно нуждалась в подновлении и пригляде. А коллекция музыкальных агрегатов – это ж целая армия звучащих предметов, от шкатулок до механических фортепиано! Взять такой инструмент: башенка в форме больших напольных часов, инкрустированная разными породами дерева, – дивной красоты! В ней за стеклом вертится медная, вертикально закреплённая пластинка, испещрённая дырочками. Пластинка вращается, в дырочки проникает игла, попадая на металлическую плашку – дзинь! дзень! дза-а-ань! – звучит мелодия, в данном случае – «Полька» Глинки, но есть и другие мелодии, не хуже: грустные, напевные, хрупко-стеклянные.
Иногда папка запускает разом все музыкальные инструменты в зале – есть такой финт в экскурсии, такая музыкальная феерия – и большая зала наполняется звоном и дребезжанием, гуканьем и басовитым гулом; всё аукается, нежно позванивает, словно невидимая карусель медленно вращается вокруг серебряной оси. Тут, говорит папка, особенное удовольствие на детские лица смотреть: восхищённые блестящие глаза, приоткрытые губы… Наслушается такой пострел всей этой хрустальной красоты… и, может, потом в жизни никогда никого не убьёт!
Так вот, всему этому хозяйству требуется ремонт и профилактика. Не говоря уже о различных часах – напольных, настольных, настенных, каминных…
На втором этаже, в глубине анфилады комнат было несколько закрытых для посетителей помещений: запасников. Одну такую комнату – большую, квадратную, очень светлую – директор выделил папке под мастерскую. Сколько времени там Надюшка провела – особенно на каникулах, – не передать. Папка так интересно рассказывает и показывает в действии все инструменты, учит, как правильно смотреть в такую специальную лупу – стакан на резинке: надеваешь на один глаз, и механизм мелких часов перед тобой увеличен в десять раз. Или вот всевозможные реставрационные материалы: шпатлёвка, мягкий воск, кисти, лаки-краски, полироль… Ведь разные породы дерева требуют разного подхода.
Спустя лет двадцать пять некий ушлый антиквар в некоем пыльном боровском подвале, задавшись целью продать Надежде Петровне туалетный столик времён Людовика XIV (вещь изящная, орех и дуб, и резьба сохранилась, но в состоянии ужасающем), заприметив азартный блеск в её глазах, немедленно пообещал прямо на дом прислать опытного реставратора. Это, конечно, серьёзные деньги, но и правильное их вложение…
– Да что там реставратор… – задумчиво произнесла она, поглаживая резной завиток овальной рамы. – Мы и сами с усами. – И подробно перечислила оторопевшему антиквару все этапы работ – в материалах и инструментах, – которые намерена самолично провернуть у себя в Серединках, не суетясь, от приезда к приезду. К чему торопиться…
– Ух, Надежда! – Боря-Канделябр аж присвистнул. – Ох, Надежда! Ну, вы и же-е-енщина! Никогда ещё не встречал! Считайте, я у ваших ног.
Несколько раз папка брал её с собой в Москву, закупаться. Надюшка обожала эти поездки! Вот уж они гуляли! Без матери папку на что угодно можно было раскрутить. У него в Союзе художников, в подвальной лавочке на Беговой, работал давний приятель, ещё с армейских времён. Во-первых, помогал добывать нужные материалы, что-то советуя, от чего-то отговаривая, и папка очень ему доверял. Во-вторых, был тот завсегдатаем ипподрома, что по соседству. Однажды уговорил их заглянуть на бега. Была б мама рядом – она бы показала им бега натуральные – аж до Вязников! Но вырвавшись из дому, эти двое находились в постоянном свободном полёте, в азарте обгоняли один другого и с большим воодушевлением подначивали друг друга на «безумную гульбу». В общем, дядя Стёпа Киржаков («Киржак» – называл его папка), затащил их таки на бега. Был он «тотошником», игроком. Папка говорил, такие субъекты всё равно что наркоманы: выигрывают редко, все деньги оставляя на ипподроме. Оно и правда: комната Киржака в коммунальной квартире, где остановились они с папкой, была почти пустой, а гостей он потчевал за самодельным «столом», составленным из шести перевёрнутых ящиков из-под пива. И всё равно с Киржаком было страшно интересно! До начала заезда он повёл их к своим друзьям на конюшни. Всюду бродили там декоративные курочки-бентамки, бесстрашно сновали меж лошадиных копыт, выклёвывая что-то в конских яблоках… «Прижились тут, даже несутся вон», – и Киржак показал на посылочные ящики, прибитые под потолком. Был очень возбуждён, говорил не переставая, сам себя перебивал, так что встреченные люди, факты, истории, увиденные картинки, сами трибуны, странным образом сочетавшие монументальность и аристократизм… – всё в Надином воображении слилось в какую-то праздничную пёструю ленту, в сплошной испуганный восторг: рысаки вблизи показались ей великанами!
«В рысистом деле гораздо больше тонкостей, чем в скаковом! – убеждённо говорил Киржак. – Тут надо и в медицине понимать, и знать специальную тактику езды для разных рысаков, и в конструкциях качалок разбираться – тут много всего, что ты! Наездники – это элита профессиональных конников!»
В конце концов, произошло неслыханное: Киржак уговорил папку поставить на Крахмала – изумительно белого коня. Единственного белого среди вороных, гнедых и бурых.
«Не пожалеешь! – говорил. – Ты глянь на экстерьер, оцени: великолепная стать, сухая голова, шея какая элегантная! А хвост как посажен! У этой породы знаешь какая особенность: жеребята рождаются тёмными, а со временем становятся прям-таки белоснежными лебедями!»
Надюха замерла от этих слов. Представила, как жеребёнок-подросток, ещё тёмный, влажный, взмывает с росистой зелёной земли в пенную стихию облаков, вылетая оттуда белоснежным стремительным победителем, благородным спасителем, на котором можно унестись куда захочется.
Они поставили и выиграли на этом самом Крахмале безумные деньги: шестьдесят пять рублей! Девочка сидела на трибуне между отцом и Киржаком, неотрывно глядя, как, запряжённый в легчайшую колесницу (все звали её несерьёзным словом «качалка»), несётся, выгибая шею и разметав гриву, белый лебедь Крахмал, – вот-вот взлетит, помашет крылом и растает в зелёном апрельском небе. У неё занялось дыхание, когда она увидела на дорожке коня – такого отдельного, текуче-стремительного, яркого, как гребешок пены на крутом гребне волны! Вдруг вспомнила, как баба Устя перед смертью звала: «Белые лошади… белые лошади».
Как же это так, думала: рождается тёмным, а потом, как из пены, восходит до такой белизны? Качалка показалась ей страшно знакомой: ну да, гонки на колесницах в Древней Греции! Лёгкая, с огромными, по-стрекозьи мелькавшими колёсами, с тонкими оглоблями и крошечным сиденьем – как только наездник удерживался?! – она неслась победно, радостно и чертовски красиво – так, что сердце трепыхалось и пело!
И посреди разноголосого ора, женского визга и ядрёного мата она и сама закричала, зашлась от восторга, зарыдала! Папка сначала испугался – не понял, что случилось, – потом засмеялся и прижал её к себе.
В общем, переживаний было – море! Океан!
В поезде, по дороге домой, она тихо сидела одна в коридоре на откидном стульчике, не обращая внимания на задевавших её локтями и коленями пассажиров, снующих в вагон-ресторан и обратно. Жёлтые огни фонарей ритмично взлетали на мелькавшие столбы; вдали мерцала россыпь огоньков, будто кто сыпанул курам пшена, и эта пульсирующая горстка плыла и слезилась, готовая испариться под тяжёлым светом неподвижно летящей, загадочной луны… Девочка напряжённо, настойчиво обдумывала жизнь, которая приходит… Она себе назначила Москву – на будущее. Всё присмотрела, всё по-хозяйски перечислила, разве что в списочек не выстроила: жить надо на Патриарших (там, где Киржак живёт: в коммуналке в Малом Козихинском. Комната у него просторная и светлая, хотя и с идиотски срезанным углом. Надежда с папкой спали на полу валетом, на старом комковатом матрасе. Утром к её босоножке подбежала крошечная отважная мышка, обнюхала, куснула металлическую пряжку, пискнула и убежала).
Значит, решено, жить будем на Патриарших… – там красота, и булочная шикарная, и театры рядом, и всё-всё-всё там есть. А стать надо вот кем… Тут обдумывание стопорилось. Тут дорога в будущее заманчиво разветвлялась и коварно кружила петлями, предлагая на выбор феерические возможности. Надя хотела быть ветеринаром, жокеем, чемпионкой по плаванию, оперной певицей и следователем уголовки… Ещё интересно, как делаются книги. Не пишутся, это понятно и не очень интересно: ну, сидит писатель, смотрит в окошко на звёзды-луну, склонился к бумаге и пишет два слова… Подумает-посмотрит – и опять два слова… – а вот интересно, как их делают: как художник рисует обложку, а корректор ищет пропущенные буквы и запятые; как машины переплетают каждую-каждую книгу, и те выплывают уточками одна за другой: а обложка твёрдая, лаковая, как парадная туфелька, и на ней золотом – название…
Она с детства была такой: мысленно давала самой себе задание – например, назначила доплыть первой в городских соревнованиях – и доплыла! Или вот, однажды, выбежав из Рябинового клина прямо на синеглазого кудрявого, оторопелого мальчишку, положила себе непременно встретить его опять… и встретила – на дне рождения Зинки-трофейки! И сказал он в точности то, что она перед сном назначала ему сказать: мол, «единственная моя возлюбленная графиня (тут фамилию бы пороскошнее: Мандрагорская? Бриллиантова? Сапфирова! – ладно, проехали, а то папка обидится)… графиня Прохорова! На коленях умоляю вас стать спутницей моей несчастной жизни!»
Он и сказал это… приблизительно. Не графиня, конечно, и не на коленях, но… имя-то у него оказалось самое что ни на есть графское: Аристарх!
Глава 3
Остров
Вверх по Клязьме – в Южу, например, – плавала революционная «Зинаида Робеспьер». А вниз по Клязьме ходила простая самоходная баржа, переоборудованная для перевозки пассажиров: небольшая, метров тридцать в длину, некрашеная палуба, деревянные скамьи, синий тент… Может, поэтому её в народе звали «верандой».
Отходила от дебаркадера в девять утра, возвращалась вечером, подбирая отдыхающих, рассыпанных по пляжам, по укромным заводям и островам. «Веранду» было видно издалека. Медленно приближаясь к местам скопления отдыхающих, она издали суетливо гудела, давая гражданам время собрать манатки и натянуть одежду на мокрые плавки или купальник.
У этих двоих был свой песчаный остров. Он так и назывался: Остров, и не был обозначен ни на одной карте, являя, по сути, небольшой язык на середине Клязьмы, больше похожий на мель – метров сто пятьдесят в длину и пятьдесят в ширину.
Взрослые компании не любили Остров: развернуться особо негде, так, чтобы и шашлык, и волейбол, и выпивки добавить, если кончилась. Ни ларька, ни навесов, да ещё «веранда» не швартовалась там, а просто опускала сходни в воду, и бреди ты к берегу по колено в воде. Так что основная масса народу проплывала дальше по течению, где желающих отдыхать культурно ждал большой благоустроенный пляж. На Острове сходили редко, – если кому требовалась особая приватность.
Со стороны поймы он зарос ивняком, широкая протока, как кольчугой, затянулась кувшинками, и дно было илистым, неуютным. Зато с другой стороны почти во всю длину береговой линии тянулся песчаный пляж с хорошим твёрдо-песчаным дном, постепенно уходящим в глубину, и – о чудо цивилизации! – на узкой оконечности островка сидел дощатый грибок: сортирчик. Дылда назвала его «кабинка Робинзона»… А главное, у самой воды лохматой кикиморой раскорячилась одинокая старая ветла, иначе – ива серебристая, если припомнить картинки флоры нашего края на музейных стендах первого этажа. Лет ей, может, сто было, а может, и больше: мощный ствол покрыт серой трещиноватой корой, а крона разрослась в настоящий цыганский шатёр, драгоценный в летнюю жару. Молодые её побеги – тонкие, на концах серебристо-опушённые – мерцали среди более старых желтовато-бурых ветвей и при малейшем дуновении ветра принимались беспокоиться и лопотать тонкими шелковистыми листьями, так что на закате солнечного дня старая ветла казалась отлитой из чистого серебра.
Впервые они приглядели это диковатое местечко тем жарким летом, когда Дылда перешла в восьмой класс. «Давай здесь останемся, – предложила она, хотя вначале они собирались ехать до большого пляжа. – Смотри, здесь ни души…» Они сошли по сходням прямо в реку, по колено в воде добрели на песчаный берег и увидели старую ветлу. Заглянули в её высокий шатёр, полный серебристой, иссечённой солнечными лезвиями тени… – и прикипели к этому месту навечно.
Дылда прихватывала старое одеяльце, когда-то сшитое мамой из разных весёлых лоскутов (в него поочерёдно заворачивали трёх младших отпрысков семьи Прохоровых), – расстилала его в уютной зеленоватой глубине шатра, доставала из рюкзака полотенца, бутерброды, яблоки, маленькие деревянные шахматы «в дорогу» (она играла лучше Аристарха, поскольку два года посещала школьный шахматный кружок), «лото» в полотняном мешочке – тут он загадочным образом всегда её обыгрывал, – ну и две-три книги: в отличие от Стаха, который, открыв книгу, не выпускал её из рук до страницы «Содержание», Дылда спокойно лавировала между двумя-тремя совершенно разными книгами, уверяя, что отлично помнит сюжеты каждой и в любой момент может их пересказать, а страницы, на которых остановилась, помнит и без закладок. Он проверял: действительно помнит.
Она говорила с ухмылкой старого ковбоя: «Всё дело в физиологии, парень: обе половинки женского мозга фурычат равноценно и на сто оборотов».
В ветреные дни густая крона старой ветлы гуляла, как беспокойная пьяная вдова, вздыхая и волоча по земле подол ветвей. И тогда в шатёр проникали всполохи синего неба или, расталкивая гряду облаков, на секунду-другую солнце всаживало в серебристую плоть кинжальное лезвие луча.
Где-то там медленно ворочалась, переливалась бликами, накатывала на песок река, и жаворонок висел между облаком и ветлой на нити своей одинокой песни…
Целыми днями они загорали, купались, читали – каждый свою книжку, которыми потом обменивались. Спорили, ссорились – никогда не сходясь во мнениях; грызли яблоки и обсуждали самые насущные, срочные неразрешимые проблемы: есть ли загробная жизнь? «Конечно, есть!!!», «Конечно, нет!!!». А инопланетяне? «По-моему, чушь!» – «А по-моему, ты – упёртый баран!»
У неё был красный купальник – цельный, с глубоким клином на груди и высокими проймами для ног (мать сшила по вырезке из «Бурды»), отчего эти самые ноги, и без того офигенно длинные, сбоку выглядели бесконечными, особенно когда она шла к воде: вначале медленно, лениво, распарившись на жаре… затем разбегаясь и по-дельфиньи врываясь в воду узкой сильной торпедой! У неё было тонкое длинное тело с едва наметившейся грудью пловчихи, широкие плечи. А когда выходила из воды, Стах старался не глазеть на её мокрый купальник, и всё-таки искоса глазел, с обречённым волнением отмечая тёмно-золотистую тень подмышек и тени в паху, там, где купальник красным клювом входил между ног.
Сильно отжав волосы, она заплетала их в косу на манер индейской скво, и минут через пять вокруг лба взлетала корона мелких золотых спиралек, которым отзывались глаза – золотистые спинки пчёл.
Она была умопомрачительная, золотая, даже в голубой тени шатра она мерцала при каждом повороте головы!
Стах боялся отойти от неё на шаг, стерёг сокровище безмолвно и жадно, и, когда думал про её школьную жизнь (ненавистную ему, ибо он не мог ежеминутно контролировать – кто там вертится-вьётся-ошивается вокруг неё целыми днями, пока его нет рядом!) – в голове у него мутилось от бессильной ревности и на сердце накатывала тревожная тоска. Так же, как давным-давно, на дне рождения Зинки-трофейки, ему хотелось обхватить её десятью руками и уволочь в нору, куда-нибудь в подвал, в шалаш… в потаённую глубину кромешного схрона. Хотелось лечь сверху, закрыв своим телом от чужих хищных глаз, как закрывают ребёнка при артобстреле, и – сдохнуть. Квазимодо – вот кого он бесконечно понимал, кто был любимым героем, кто вызывал в душе горестное сочувственное эхо.
Смерть была обычным платоническим окончанием любого воображаемого сюжета. В мыслях он вообще был рыцарственно целомудрен. Чего нельзя было сказать о его снах (он бы и себе самому запретил их видеть, и потом весь день пересказывать самому себе и пересматривать с зажмуренными глазами)… – о его снах и его манере выражаться. Из него сыпались непристойности, как из рога помойного изобилия. Вспоминался матюгальник, руководивший маневровыми паровозами; эти словесные усилия, без которых работа бы не совершалась.
Если бы не задиристые грубости, которые он вываливал перед ней при каждом удобном случае, его бы разорвало этой воспалённой любовью надвое, и ошмётки несчастного тела повисли бы на ветвях ближайших деревьев.
Этой словесной атакой, постоянной и изнурительной словесной осадой, он восполнял и уравновешивал внутреннюю глубинную робость: боязнь её охлаждения и простой страх при мысли, что в самый ответственный миг, когда наконец она повернётся к нему – распахнутая, переполненная всеми восхитительными дарами (ведь когда-то же наступит эта минута!), – он не сладит, струсит, даст слабину… Ведь он не умеет… ничего в этом деле не умеет и, по сути, ничего не знает, кроме какой-то примитивной механики, почерпнутой в детстве из похабных анекдотов и разухабистой трепотни мальчишек постарше – всё на том же дворе.
Сны были несусветными, томительно-гимнастическими: что он вытворял! что она выделывала! Беда в том, что, орошаемый этой, очень взрослой, страстью, он как-то стремительно вырос, и весь клокотал, понимая, что полное обладание предметом любви – это не поцелуйчики, до которых, кстати, тоже было далековато; нет, он рвался к полному обладанию: этим гибким плавучим телом, рыжей бурей волос, сердцем, животом (всегда закрытым – купальник-то цельный!), лодыжками, коленками, грудками (вот бы их потрогать, пока она спит – тихонько, осторожно: они мягкие? упругие? горячие?) – и тем обморочно тайным, золотистым островком, в глубине которого, подозревал он, таится настоящий вулкан, куда красным клювом наведывался её наглый купальник.
Ей исполнилось пятнадцать, ему – шестнадцать, и весь тот год она была очень строга, строга и насмешлива: убери-ка руки, а вот это ни к чему, можно и словами сказать… отступи-к на шажок… слыхали уже про Джульетту… – ну и прочий вздор. Они виделись каждый день, бесконечно говорили, перебивая друг друга, запальчиво ссорились, разбегались, хлопая дверьми, одновременно прибегали назад и хватались за руки, робея в примирении обнять друг друга (О невозможность, недопустимость простого объятия друзей! О исключающая простецкую дружбу – неподъёмная, суровая, пугливая любовь!).
И тем и другим родителям они надоели хуже горькой редьки. Надоели всем вокруг; даже сверстники перестали их поддевать, дразнить «влюблёнными пингвинами» и вообще уже не обращали на них внимания.
Что касается ревности и той жаркой боли, которой сопровождалось измышляемое им самим «кино» – яркие кадры её измены, – то мучался он напрасно: ни один соученик или товарищ по группе в плавательном бассейне даже помыслить не мог к ней приблизиться: все знали, что «тот бешеный» лезет в драку по любому поводу, и дерётся так хитро, странно так… – словом, по какой-то своей системе, – что его даже местное цыганьё не одолело, а наоборот, задружилось с ним неразлейвода; так что от него, а заодно и от его пацанки здоровее держаться подальше.
Семнадцатого июля, в пятнадцатый день её рождения, они, как обычно, усвистали с утра на «веранде» на Остров, – хотя с первой минуты встречи Стах оживлённо объявил, что в Гороховце умер отцовский дядя Назар («Не делай постной физии, он был древнее черепахи Тортиллы. Ходил по дому в кальсонах: чистый Джавахарлал Неру. В общем, завтра едем с батей в Гороховец – хоронить»).
Сегодня вообще затягивать было нельзя: вечером у Прохоровых собиралась родня. Праздновали день рождения – её, младшенькой. Накануне весь день они с мамой готовили-пекли-резали-строгали-смешивали соусы. Одних салатов настебали, как говорила соседка Марьроманна, – девять! Так что, по возвращении с Острова, прямо с «веранды» надо было мчаться сервировать праздничный стол – всё, что касалось домашнего обихода, там всегда именовалось нужными словами, начищалось, вовремя подштопывалось и выглаживалось под управлением мамы – верховного жреца красивой и правильной жизни.
