Москва 2042
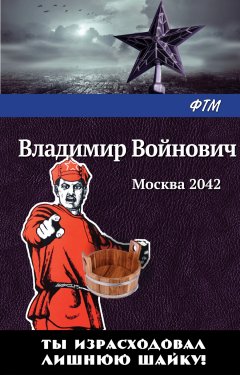
Вступление
К сожалению, никаких записей у меня не сохранилось. Все мои тетради, блокноты, дневники, записные книжки и отдельные листки бумаги остались там. Только один листок, мятый, потертый, с разлохмаченными краями, случайно завалился за подкладку пиджака и был возвращен мне фрау Грюнберг, хозяйкой нашей штокдорфской химчистки. На этом листочке я разглядел, с одной стороны было написано: «4 шм. У наг. Тт. Л. О. Лъ». И на обратной стороне: «Завтра или никогда!!!» Ну смысл этой фразы мне совершенно ясен, я его по ходу дела легко объясню. Но что значит первая запись? О каких четырех «шм» идет речь и что означают другие буквы, убей меня бог, не помню.
Меня лично почему-то больше всего интригует это «Л» с твердым знаком, но что им обозначено – предмет, человек, животное? – нет, оно не вызывает во мне никаких решительно ассоциаций.
А ведь память у меня совсем еще недавно была просто прекрасная. Особенно на цифры. Я всегда помнил наизусть номера своего паспорта, трудовой книжки, военного билета, членского билета Союза писателей. Хотите верьте, хотите нет, но я номера телефонов никогда не записывал, запоминал их с первого раза.
А теперь?..
Теперь даже о собственном дне рожденья я иногда узнаю из поздравительных телеграмм.
Все же у меня никакого другого выхода нет, как полагаться на память.
Легко предвижу, что некоторые читатели отнесутся к моему рассказу с недоверием, скажут: это уж слишком, это он выдумал, этого быть не может. Не буду спорить, может или не может, но должен сказать совершенно определенно, что я ничего никогда не выдумываю.
Я рассказываю только о том, что сам видел своими глазами. Или слышал своими ушами. Или мне рассказывал кто-то, кому я очень доверяю. Или доверяю не очень. Или очень не доверяю. Во всяком случае, то, что я пишу, всегда на чем-то основано. Иногда даже основано совсем ни на чем. Но каждый, кто хотя бы поверхностно знаком с теорией относительности, знает, что ничто есть разновидность нечто, а нечто это тоже что-то, из чего можно извлечь кое-что.
Я думаю, этого объяснения достаточно, чтобы вы отнеслись к моему рассказу с полным доверием.
К вышесказанному остается только добавить, что никаких прототипов у описанных в этой книге людей не имеется. Всех главных героев и второстепенных персонажей обоего пола автор срисовывал исключительно с себя самого, приписывая им не только свои мнимые достоинства, но и реальные недостатки, пороки и дурные наклонности, которыми его столь щедро наделила природа.
Часть первая
Разговор за кружкой пива
Этот разговор произошел в июне 1982 года.
Место действия: Английский парк, Мюнхен.
Мы сидели в пивной на открытом воздухе. Мы – это я и мой знакомый, которого зовут Рудольф, или, короче, Руди. А фамилию его русскому человеку запомнить вообще невозможно. Не то Миттельбрехенмахер, не то Махенмиттельбрехер. Что-то в этом духе, но это неважно. Я лично зову его просто Руди.
Мы сидели друг против друга, и Руди слегка загораживал мне общий обзор. Но, скосив глаза чуть правее, я видел перед собой отливавшее свинцом сонное озеро, по берегу которого, переваливаясь с ноги на ногу, медленно прохаживались жирные гуси и голые немцы. То есть, скорее всего, не только немцы, но и эксгибиционисты всех национальностей, которые, пользуясь попустительством здешней полиции, слетаются в Мюнхен со всего мира, чтобы на людей посмотреть и себя показать.
Мы пили пиво из литровых кружек, которые здесь называются масс.
Я, правда, точно не знаю, это сама кружка называется масс или порция пива, которая помещается в кружке. Впрочем, это неважно. Важно то, что мы сидели в пивной, пили пиво и говорили о чем попало.
Начали мы, кажется, с лошадей. Потому что этот Руди – коннозаводчик. Он выращивает, покупает и продает лошадей. Я с ним, между прочим, на почве лошадей и познакомился.
Выполняя одно деликатное поручение. Поручение состояло в том, чтобы приобрести и переправить в Канаду жеребенка благородной породы и обязательно белой масти. Помнится, я тогда удивлялся, почему жеребенка надо покупать здесь, а не в самой Канаде. Или в любой стране на том континенте.
Когда я задал такой вопрос Руди, он надо мной очень долго смеялся. Он мне сказал, что во всем мире разводят много лошадей, которых называют белыми исключительно по невежеству. На самом деле они в подавляющем большинстве бывают белыми с желтым, розовым, серым, синим или иным отливом. Но истинно белые лошади рождаются и разводятся только в одной-единственной местности на всей земле. Эта местность называется Камарг и находится во Франции, в устье Роны.
Выбирать жеребенка мы ездили на роскошном Рудином «Ягуаре», напичканном всякой электроникой, которую Руди обожает даже больше, чем своих лошадей. У него весь дом оборудован по последнему слову самой что ни на есть ультратехники, на которую он каждый год тратит миллионы со своих лошадиных сделок. Какие-то компьютеры, телерадиокомбайны, автоматические двери и еще что-то в этом духе. Свет в его кабинете с наступлением темноты сам по себе включается, но только в том случае, если в кабинете кто-нибудь есть. Если хозяин выходит из кабинета, свет немедленно гаснет. (Руди утверждает, что благодаря этому устройству он экономит на электричестве не менее четырех марок в месяц.) Само собой, у него есть музыкальный компьютер, на котором можно играть, как на органе, скрипке, ксилофоне, балалайке и на множестве других инструментов по отдельности и вместе. Так что один человек одним пальцем может исполнять произведения, которые раньше были доступны только большим оркестрам.
Руди так увлечен этой техникой, что, кажется, ничего не читает, кроме технических журналов и фантастики. Он даже моих книг не читал, хотя держит их на видном месте и своим лошадиным знакомым всегда хвастается, что у него есть такой вот необычный друг – русский писатель.
Мне он говорит (не читая), что я пишу слишком реалистично, а реализм – это вчерашний день литературы. Честно говоря, меня такие вздорные суждения просто бесят, и я Руди всегда говорю, что его лошади тоже вчерашний день. Но если даже лошади еще кому-то нужны, то и в литературе, изображающей реальную жизнь людей, тоже потребность пока еще не отпала. Людям о самих себе читать гораздо интереснее, чем о каких-то там роботах или марсианах.
Я ему это как раз в пивной, где мы сидели, сказал. На что Руди, снисходительно усмехаясь, предложил мне сравнить тиражи моих книг с тиражами любого средней руки фантаста.
– Фантастика, – сказал он самоуверенно, – это вообще литература будущего.
Этим утверждением он вывел меня из себя. Я заказал второй масс и сказал, что фантастика, как и детектив, это вообще не литература, а чепуха, вроде электронных игр, которые способствуют развитию массового идиотизма.
Жаркое солнце, холодное пиво и общий строй здешней жизни не располагают к страстному спору. Руди возражал лениво, не поддаваясь моему возбуждению, и вспомнил Жюль Верна, который, мол, в отличие от реалистов, предсказал многие научные достижения нашего времени, включая путешествие человека на Луну.
Я отвечал, что предвидеть научные достижения вовсе не задача литературы, а в предсказаниях Жюль Верна ничего оригинального нет. Всякий человек когда-нибудь воображал себе и полеты в космос, и плавание под водой, во многих старинных книгах подобные чудеса были описаны задолго до Жюль Верна.
– Возможно, – согласился Руди. – Однако фантасты предвидели не только технические открытия, но и эволюцию современного общества к тоталитаризму. Возьми, например, Оруэлла. Разве он не предсказал в деталях создание той системы, которая существует сегодня у вас в России?
– Конечно, не предсказал, – сказал я. – Оруэлл написал пародию на то, что существовало уже при нем. Он описал идеально действующий тоталитарный механизм, который в живом человеческом обществе существовать просто не может. Если взять Советский Союз, то его население проявляет лишь внешнее послушание режиму и в то же время абсолютное презрение к его лозунгам и призывам, отвечая на них плохой работой, пьянством и воровством, а так называемый старший брат – предмет общих насмешек и постоянная тема для анекдотов.
Должен заметить, что с западными людьми спорить совершенно неинтересно. Западный человек, видя, что собственная точка зрения собеседника очень ему дорога, готов тут же с ней согласиться, чего совершенно не бывает у нас.
Наш спор с Руди сам по себе как-то увял, а мне хотелось его подогреть. Поэтому я сказал, что фантасты выдумали много такого, что сбылось, но выдумывают также и то, что не сбудется никогда, например путешествия во времени.
– Да? – сказал Руди, закуривая сигару. – Ты действительно думаешь, что путешествия во времени совершенно невозможны?
– Да, – сказал я. – Именно так и думаю.
– В таком случае, – сказал он, – ты очень ошибаешься. Путешествия во времени уже перешли из области фантастики в область практики.
Само собой разумеется, наш разговор шел на немецком языке, в котором я тогда, в 1982 году, был еще не очень силен (сейчас я в нем тоже силен не очень). Поэтому я спросил Руди, правильно ли я его понял, что уже сегодня можно при помощи каких-то технических средств перебраться из одного времени в другое.
– Да, да, – подтвердил Руди. – Именно об этом я тебе и толкую. Уже сегодня ты можешь пойти в райзебюро,[1] купить за определенную сумму билет и на машине времени отправиться в будущее или прошлое, куда тебе больше нравится. Между прочим, такая машина существует пока только у нас в Германии, у компании «Люфтганза». Кстати сказать, техническое решение очень простое. Это обыкновенный космоплан вроде американского шаттла, снабженный, однако, не только простыми ракетными, но и фотонными двигателями. Космоплан достигает сначала первой, потом второй космической скорости, после чего включаются фотонные двигатели. С их помощью машина развивает околосветовую скорость, и тогда время для тебя останавливается, а на Земле идет, и ты попадаешь в будущее. Или аппарат развивает сверхсветовую скорость, и тогда ты опережаешь время и попадаешь в прошлое.
Я уже накачался пивом и немного опьянел, но все же еще не одурел. И я сказал Руди:
– Знаешь что, ты мне брось все эти глупости городить. Ты очень хорошо знаешь – это еще Эйнштейн доказал, – что не только сверх-, но и просто световой скорости достичь вообще невозможно.
На что Руди вышел наконец из себя, выплюнул сигару, стукнул по столу пустой кружкой, чего я от него, такого уравновешенного, не ожидал.
– То, что сказал твой Эйнштейн, – заявил Руди, – давно устарело. Евклид говорил, что через точку, лежащую вне прямой, можно провести только одну параллельную, и был прав, а Лобачевский сказал, что можно провести две или больше, и оба оказались правы. Эйнштейн сказал, что невозможно, и был прав, а я говорю, что возможно, и я тоже прав.
– Слушай, слушай, – сказал я ему, – не надо так сильно задаваться. Я тебя, конечно, уважаю (я, когда выпью, всех уважаю), но ты все-таки еще не Эйнштейн.
– Ну да, – согласился Руди. – Я действительно не Эйнштейн. Я – Миттельбрехенмахер, но я тебе должен сказать, что и Лобачевский был не Евклид.
Видя, что он так сильно разволновался, я ему тут же сказал, что меня, в конце концов, мало волнует, кто из них (Эйнштейн, Лобачевский, Евклид или Руди) умнее, я современной техникой готов пользоваться практически, а на основе каких она законов построена, мне даже не интересно. И в самом деле. Вот эти свои записки я сейчас пишу на компьютере. Я нажимаю кнопки – на экране возникают слова. Несколько простейших манипуляций, и те же слова отпечатываются на бумаге. Если я захочу поменять какие-то абзацы местами, машина немедленно исполнит мою волю. Захочу во всех случаях поменять фамилию Миттельбрехенмахер на Махенмиттельбрехер или на Эйнштейн, машина и это для меня сделает. Я ежедневно пользуюсь электробритвой, радиоприемником или телевизором. Неужели я должен обязательно знать, на основе каких теорий все эти штуки работают?
Я спросил Руди, летал ли он сам на машине времени. Он сказал, что летал и с него хватит. Он однажды хотел посмотреть в Древнем Риме бой гладиаторов, так его самого вывели на арену. И он еле-еле унес оттуда ноги. С тех пор он всякие такие чудеса предпочитает смотреть по телевизору или читать о них книги.
Конечно, я ему не очень-то поверил. Но он мне сказал, что в реальной возможности путешествий во времени я могу легко убедиться. Для этого мне надо только посетить его знакомую фройляйн Глобке, которая работает в райзебюро на Амалиенштрассе, пять.
– Правда, – сказал Руди, – совершить путешествие практически тебе все равно вряд ли удастся.
– Почему же все равно, почему же вряд ли? – спросил я. – Ты же сам говоришь, что оно из области фантастики перешло в область практики.
– Да, – усмехнулся он. – Да, это правда. Но цена билета еще из области фантастики в область доступности не перешла. Да и зачем тебе куда-то лететь и подвергать себя ненужному риску? Ты же не авантюрист.
Эта последняя фраза говорит только о том, что Руди плохо знал меня. Я именно авантюрист.
Фройляйн Глобке
Обстановка в райзебюро на Амалиенштрассе была самая обыкновенная. Множество красочных плакатов и проспектов, предлагающих желающим осмотреть египетские пирамиды, исландские гейзеры, норвежские фиорды, погреться на Багамских островах, скатиться на лыжах со склонов швейцарских Альп или совершить путешествие на знаменитом океанском лайнере «Королева Елизавета Вторая».
Я спросил фройляйн Глобке, и мне указали на рыжеватую с веснушками девушку в углу, отгороженном экраном компьютера.
Честно говоря, я в последний момент порядочно оробел. Я подумал, что этот гад Руди, конечно же, меня разыграл и сейчас все райзебюро сбежится, чтобы поржать над одураченным иностранцем. Но когда я сказал фройляйн Глобке свою фамилию и цель своего прихода, она, к моему удовлетворению, а отчасти все же и изумлению, нисколько не удивилась и смеяться не стала. Да, сказала она, у них действительно есть возможность отправить любого своего клиента в любое время и в любое место на планете Земля, и она, фройляйн Глобке, готова выслушать мои пожелания.
Пожелание мое, с ее точки зрения, было довольно скромным. Я хотел бы попасть в Москву через 50 лет, то есть в Москву 2032 года.
– Хорошо, – сказала фройляйн и стала тыкать своими наманикюренными пальчиками в кнопки компьютера.
На экране запрыгали какие-то буквы и цифры, фройляйн Глобке посмотрела на них, поцокала языком, повернулась ко мне и развела руками.
– Ага, значит, у вас все-таки этого нет? – обрадовался я возможности посадить Руди в лужу.
– К сожалению, – сказала смущенно фройляйн. – На этот рейс все билеты проданы. Но если вы согласитесь полететь на 60 лет вперед…
– Ну какая мне разница! – перебил я ее. – Десять лет больше, десять меньше, это неважно.
– Прима! – сказала фройляйн и, лучезарно улыбаясь, сообщила, что я сделал правильный выбор, придя именно к ним. Потому что они пока единственное в Европе райзебюро, организующее поездки подобного рода. Если меня интересует способ передвижения…
– Извините, – перебил я ее нетерпеливо, – способ передвижения мне уже приблизительно известен, мне его достаточно подробно объяснил херр Махенмиттельбрехер.
– Миттельбрехенмахер, – вежливо поправила она.
Я поблагодарил за поправку и сказал, что меня интересует не теоретическая основа, а практические условия полета. Как там насчет состояния невесомости, и вообще, не слишком ли сильно качает?
– Дело в том, – объяснил я, – что, когда я выпью, меня иногда очень сильно укачивает даже на земле.
– О, насчет первого, – улыбнулась фройляйн, – вы можете совершенно не беспокоиться. Наша электронная система искусственной гравитации вне всякой конкуренции. А вот насчет укачивания ничего сказать не могу. А вы не могли бы на время полета воздержаться от употребления крепких напитков?
– Что? – переспросил я. – Шестьдесят лет воздержания? Фройляйн, вы хотите от меня слишком многого.
– Ну что вы! – горячо возразила фройляйн. – О таком долгом сроке нечего и говорить. Это на земле пройдет шестьдесят лет. А для вас это будет всего три часа. Как обыкновенный полет из Мюнхена в Москву.
– Ну да, – сказал я. – Это конечно. Это я понимаю. Для меня там пройдет только три часа. Но на самом-то деле пройдет шестьдесят лет. И за шестьдесят лет ни капли?
– Ну что вы! Что вы! – фройляйн так разволновалась, что у нее веснушек стало вдвое больше. – Почему же ни капли? В конце концов, пить или не пить, это ваше личное дело. Кстати сказать, в этом полете напитки пассажирам выдаются в неограниченном количестве и, разумеется, бесплатно.
– Это другое дело, – сказал я. – Что же вы мне сразу-то не сказали, что напитки бесплатно? Если бесплатно, тут и обсуждать нечего. Пишите: один билет туда и через месяц обратно, место для пьющих и курящих, желательно у окна.
– Хорошо, – кивнула фройляйн. – Однако должна вас предупредить, что наша фирма обратного возвращения не гарантирует. Мы, конечно, сделаем все, что от нас зависит, но мы не знаем, какие там будут в то время политические условия. Разумеется, консул нашей страны будет всегда к вашим услугам, но, между нами говоря, кто может поручиться, что через шестьдесят лет наша страна будет еще существовать и будет иметь консулов?
Ну да, конечно, подумал я, за шестьдесят лет может произойти что угодно. Но я же для того и лечу, чтоб узнать, что там именно произойдет.
– Ладно, – сказал я. – Чего уж там. Возвращения вы гарантировать не можете. Но если вы гарантируете бесплатные напитки, то все равно пишите.
Я дал ей свой паспорт. Тонкие пальчики фройляйн Глобке забегали по клавиатуре компьютера, словно исполняя неслышимую музыку букв и цифр. На экране появились мои имя, фамилия, номер паспорта, номер и дата рейса, потом еще какие-то цифры, которые как-то прыгали, сами между собой весело перемножаясь. Наконец цифры замерли, выстроившись в такое число: 4 578 843,00.
– Билет в два конца, – прочитала фройляйн, – стоит ровно четыре миллиона пятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот сорок три марки.
– Ого! – сказал я.
– Но если вы внесете наличными, мы предоставим вам десятипроцентную скидку, и тогда вся ваша поездка обойдется вам всего… – Она пошевелила пальчиками, цифры опять попрыгали и изобразили новое число: – Четыре миллиона сто двадцать тысяч девятьсот пятьдесят восемь марок и семьдесят пфеннигов.
– Это уже другое дело, – сказал я.
– Кроме того, в случае вашего невозвращения в течение трех месяцев семьдесят пять процентов стоимости обратного билета будут возвращены вашим наследникам.
– Ну это совсем хорошо, – заметил я. – Правда, у меня все равно таких денег в наличии пока не имеется, но я очень надеюсь, что мне поможет херр…
– Миттельбрехенмахер, – подсказала фройляйн Глобке.
Вот люди! Почему они всегда лезут со своими подсказками? Неужели эта фройляйн думает, что я без нее не мог бы вспомнить фамилию своего лучшего друга?
Три миллиона за репортаж
Конечно, на Руди я рассчитывал совершенно напрасно. Когда я позвонил ему из автомата, он сказал, что с удовольствием одолжил бы мне необходимую сумму, но, к его великому сожалению, он сам сейчас испытывает некоторые финансовые затруднения. Дело в том, что последние шесть миллионов он потратил на двух вывезенных из Саудовской Аравии жеребцов, один из которых как раз вчера сломал ногу. Так что три миллиона тю-тю.
Как я потом узнал, вся эта история про сломанную ногу была чистым враньем. Руди просто побоялся одолжить мне деньги. Миллионеры, как я заметил, вообще люди прижимистые.
Домой я вернулся отчасти расстроенный, отчасти успокоенный. Не получилось, значит, не получилось. Не судьба. Может, так и лучше. В конце концов, мне уже сорок лет, возраст, достигнув которого от авантюр пора по возможности уклоняться.
Что касается моей жены, то она таким развитием событий была, как я заметил, очень даже довольна. Потому что я какой ни на есть, а все-таки муж. И если я где-нибудь в отдаленном этом будущем почему-то застряну, то еще неизвестно, найдет она себе другого такого же или нет.
Жена настолько расчувствовалась, что за ужином даже предложила мне выпить, чего обычно не делает. Я, понятно, долго упрашивать себя не заставил. Первую рюмку я выпил с женой, вторую и третью, когда она вышла к телефону, а четвертую опять с ней.
– Да, – сказал я, – а все-таки жаль, что не получилось. Очень хотелось бы посмотреть.
– Что там смотреть? Ты думаешь, там за это время что-нибудь изменится?
– За шестьдесят-то лет? – спросил я. – Неужели ты думаешь, что за шестьдесят лет ничего не произойдет?
Тогда она мне напомнила рассказ нашего соседа, который недавно умер. Когда-то он сюда приехал из России с семьей и не хотел распаковывать чемоданы. «Скоро большевиков прогонят, – говорил он, – и нам придется ехать обратно. Зачем же делать двойную работу: распаковываться и опять паковаться?»
Опять зазвонил телефон. Как только жена вышла, я тут же хлопнул еще одну рюмку водки, но не успел наполнить вторую – жена вернулась.
– Тебя какой-то американец, – сказала она. Американец оказался корреспондентом журнала «Нью Таймс». Он спросил, не могу ли я его принять завтра по срочному делу. На мой вопрос, что еще за срочные дела, он ответил, что это не телефонный разговор. (А еще говорят, что только в Советском Союзе люди боятся говорить по телефону.)
– Хорошо, – сказал я, – приезжайте, только не раньше десяти. Я долго работаю и поздно встаю.
– О’кей, – сказал он и повесил трубку. Вот говорят, американцы развязные. Я этого не нахожу. Большинство из всех встреченных мною в жизни американцев воспитанны, деликатны, скромно, но опрятно одеты и очень приветливы. Конечно, они иногда кладут ноги на стол, но меня лично это совсем не шокирует. Они расслабляются, или, как они сами говорят, релаксируют. Ну и правильно. Релаксировать полезно для здоровья. А рефлектировать, как это делаем мы, вредно. Я тоже иногда кладу ноги на стол, но никакого релакса не получается, мы к нему не приучены.
На другое утро ровно в десять в дверь позвонили.
Открыв дверь, я увидел высокого стройного человека в голубоватом костюме, с темными, зачесанными на косой пробор волосами.
– Господин Мак.? – начал я, забыв продолжение его ирландской фамилии.
– Зовите меня просто Джон, – сказал он и улыбнулся.
Я пригласил его в гостиную и предложил кофе.
– Виталий, – сказал он, – у меня к вам большая просьба. Вы выслушаете мое предложение, а потом, независимо от того, примете его или нет, о нашем разговоре не будете никому сказать.
– Вы из ЦРУ? – спросил я.
– Нет, что вы! Я из «Нью Таймс», как и сказал. Но все-таки мне бы хотелось…
– Хотите, чтобы я поклялся на Библии?
– Это не есть обязательно, – улыбнулся он. – Мне достаточно вашего слова. Я слышал, что вы собираетесь идти в Советский Союз две тысячи какого-то года.
– Как вы узнали? – удивился я. – Я ведь об этом никому не рассказывал.
– Не беспокойтесь, я тоже не расскажу никому.
– Вы можете рассказывать кому угодно, потому что я никуда не еду. Билет в два конца стоит…
– Я все знаю, – перебил он. – Но если дело только в цене билета, наша фирма все расходы берет на себя.
– Все расходы? – переспросил я недоверчиво. – Четыре с лишним миллиона марок? Да это почти два миллиона долларов.
– И еще миллион вы получите в виде гонорара за подробный репортаж о вашей поездке.
– Три миллиона долларов за какой-то репортаж?
Он усмехнулся.
– Виталий, вы, я вижу, еще не совсем освоились на Западе. Это не какой-нибудь репортаж. Это сенсация века. Или даже двух веков. Возможно, она стоит дороже, но наше финансовое положение сейчас не на самом лучшем уровне.
Я обещал Джону подумать. Он оставил мне свою визитную карточку и, не допив кофе, ушел.
Разговор с чертом
Глубоко ошибается тот, кто думает, что на мое решение хоть сколько-нибудь повлияли бешеные деньги, которые у меня появилась возможность заработать. Не буду утверждать, что я к деньгам равнодушен, но могу сказать определенно, что только ради денег я никогда не рискнул бы ни одним своим волосом.
И, пожалуй, я оставил бы просьбу Джона без удовлетворения, но тут проснулся во мне мой черт, который с тех пор, как в меня вселился, только о том и думает, как бы подбить меня на какую-нибудь авантюру. Иногда он перегибает палку, и тогда я давлю его в себе без малейшей жалости. Он затихает и некоторое время не подает никаких признаков жизни. В эти периоды я веду себя почти идеально: воздерживаюсь от питья и курения, дорогу перехожу только на зеленый свет, веду машину, подчиняясь всем дорожным знакам, а заработанные деньги отдаю жене до копейки. В такие дни все знающие меня не могут нарадоваться. Одет с иголочки, умыт, выбрит, подстрижен и к тому же исключительно со всеми любезен.
Но наступает время, черт пробуждается и начинает нудить:
– Ну что ты встаешь? Еще рано, обед еще не готов, можешь поспать. Спешить некуда, все равно когда-то помрешь. Умываться сегодня не нужно, ты это делал вчера. Полежи, покури, наполни легкие дымом. Вон они, твои сигареты, на тумбочке.
Черт мой такой настойчивый, я не всегда могу перед ним устоять.
Я вытряхнул из пачки сигарету, чиркнул зажигалкой, затянулся.
– Браво! – воскликнул черт. – Рак – лучшее средство против курильщиков.
Это его любимое изречение.
– Дурак! – сказал я ему. – Тебе надо не во мне сидеть, а работать в обществе по борьбе с курением.
Затягиваясь дымом «Мальборо», я стал думать о предложении Джона.
Предложение было заманчиво, но все-таки, пожалуй, не для меня. Куда я поеду? Что меня там ждет, в этом далеком будущем? Может быть, какие-то ужасные передряги. А я ведь не мальчик. Я солидный семейный человек, мне вот-вот (неужели правда?) стукнет сорок. Пора успокоиться и остепениться. Избегать излишних волнений, стрессовых ситуаций и сквозняков. Надеть халат, заварить некрепкий чай, ну, в крайнем случае, выкурить трубку и сидеть себе за письменным столом, сочиняя какой-нибудь роман с плавно разворачивающимся сюжетом.
– Из всех человеческих пороков самым отвратительным является благоразумие, – сказал черт.
– Пошел вон! – сказал я. – Не суйся не в свое дело. Ты мне надоел.
– Ты мне тоже, – сказал черт. – Особенно в такие минуты, когда ты становишься добродетельным. Слушай, слушай, – зашептал он, – ты же хорошо знаешь, что благоразумие неблагоразумно. Сегодня ты боишься простудиться, а завтра на тебя кирпич упал, и тогда какая разница, был ты простужен или нет? Ну что ты колеблешься? Тебе такая удача выпадает, воспользуйся! Поедем посмотрим, что там ваши коммунисты навыдумывали за шестьдесят лет.
– А ты любишь коммунистов? – спросил я насмешливо.
– Ну а как же! – закричал черт. – Как же их не любить? Они ведь тоже вроде чертей, всегда что-нибудь веселое придумают. Слушай, ну давай поедем, я тебя очень прошу.
– Ладно, – сказал я. – Допустим, я поеду. Но это будет последняя авантюра, в которую ты меня втравливаешь.
– Прекрасно! – зааплодировал черт. – Замечательно! Вполне даже возможно, что она будет последняя.
– Идиотина! – сказал я ему. – Чему радуешься? Если со мной что-нибудь случится, что ты без меня будешь делать?
– Да-да, – сказал черт печально. – Признаюсь, мне тебя будет ужасно не хватать. Но, честно говоря, я бы предпочел тебя видеть мертвым, чем благоразумным.
– Заткнись! – сказал я. – И не мешай мне думать.
– Затыкаюсь, – сказал черт смиренно и затих, понимая, что свое дело он сделал.
И хотя я сказал Джону, что мое решение вряд ли будет положительным и что я позвоню ему не раньше чем недели через полторы, я позвонил ему уже через три дня и сказал: ДА.
Слежка
Я думаю, нечего объяснять, что прежде, чем пуститься в столь рискованное путешествие, какое я задумал, следует позаботиться о своей семье и сделать распоряжения, у которых есть достаточно шансов оказаться последними.
Банк, почта, страховое агентство, нотариальная контора – вот те учреждения, на посещение которых у меня ушло несколько дней.
Занимаясь всеми этими делами, я вдруг каким-то выработанным еще в прежние годы в Москве чутьем ощутил, что за мной кто-то следит.
Мне было очень некогда, но, проявив элементарную наблюдательность, я заметил, что телефон мой ведет себя не совсем обычно. То в нем слышны какие-то шорохи (магнитофон?), то он сам по себе почему-то тренькает, то, звоня кому-то, я попадаю не в тот номер, то ко мне попадает кто-то, кто звонил вовсе не мне.
Моя собака по ночам вдруг начинала ни с того ни с сего лаять. Выбегая во двор, я никого ни разу не обнаружил. Но однажды нашел под самой своей дверью окурок сигареты «Прима».
Другой раз я обратил внимание на молодого человека азиатского вида. Проезжая мимо моих ворот на велосипеде, он слишком старательно от меня отвернулся. Потом в одном из прилегающих переулков мое внимание привлек старый зеленый «Фольксваген» с франкфуртским номером. Заглянув внутрь, я обнаружил забытую на заднем сиденье газету «Правда».
На всякий случай я сообщил о своих наблюдениях в полицию. Там меня внимательно выслушали, но сказали, что подозрения мои слишком расплывчаты и неконкретны, но если у меня появятся более убедительные доказательства слежки, они, разумеется, примут необходимые меры.
Полицейский, с которым я говорил, все же записал номер «Фольксвагена», а окурок «Примы» положил в целлофановый пакетик и спрятал в сейф.
Похищение
В тот же день со мной случилось происшествие, которое теперь можно назвать забавным, но тогда оно мне таковым не показалось.
Вернувшись из полиции, я решил выкинуть из головы все свои подозрения и развеяться.
Я сел на велосипед и поехал прокатиться по нашему штокдорфскому лесу.
За время своего изгнания я привык к велосипедным прогулкам и полюбил их. Весь этот преимущественно хвойный лес, который отделяет нашу деревню от окраины Мюнхена, очень мне мил и напоминает наши подмосковные леса, но отличается от них тем, что вдоль и поперек пересечен асфальтовыми и гравийными дорожками с указателями на перекрестках и подробными планами на опушках. Так что заблудиться здесь можно только при очень большом желании.
Я ехал по своей любимой дорожке, соединяющей Бухендорф с Нойридом, она прямая, асфальтированная и всегда пустынна в будние дни. Я ехал довольно быстро, обдумывая предстоящее путешествие, и, видимо, так увлекся своими мыслями, что не заметил чего-то, что ожидало меня на дороге.
Я и сейчас не знаю, что там было. Скорее всего натянутая поперек дороги веревка, на которую я налетел, упал и потерял сознание. А может, меня оглушили каким-то другим способом, ничего определенного сказать не могу. Я только помню, что я ехал на велосипеде и думал. А потом наступил провал в памяти, а потом, как говорят американцы, я нашел себя на каком-то диванчике, который слегка подпрыгивал подо мной.
Думая, что нахожусь у себя в комнате, я предположил, что происходит землетрясение, и хотел вскочить на ноги. Но тут же заметил, что, во-первых, тело меня не очень хочет слушаться, а во-вторых, я нахожусь не дома, а внутри какого-то автобуса с занавешенными окнами. Автобус куда-то едет, а передо мной сидят три человека, два в обыкновенных костюмах, а один весь в белом, должно быть врач.
«Батюшки! – подумал я. – Что ж это со мной случилось, подо что я попал и куда меня везут?»
Я пошевелился, чтоб как-то себя общупать, проверить целостность своего организма.
Как только я проявил признаки жизни, люди, сидевшие передо мной, тоже зашевелились, а врач сказал что-то на незнакомом мне языке. Приглядевшись к нему, я увидел, что это вовсе не врач, а скорее всего какой-то араб в национальном белом балахоне и такой же белой накидке, закрывавшей половину лица. Двое других были, вероятно, тоже арабы, но одетые по-европейски. Этим, в костюмах, было лет по тридцать, а тот, в накидке, выглядел, пожалуй, постарше.
При моем пробуждении они сначала перекинулись несколькими словами, а потом тот, который в накидке, заговорил быстро, громко и повелительно. Причем, когда он открыл рот, от его зубов изошло голубоватое сияние, от которого в автобусе вроде бы даже стало светлее.
Когда он замолчал, один из его спутников кивнул и по-английски обратился ко мне. Назвав меня по фамилии (разумеется, с добавлением слова «мистер»), он сказал, что Его Высочество (то есть тот, который в накидке) приносит мне свои глубочайшие извинения, что им пришлось так бесцеремонно со мной обойтись. Они никогда не позволили бы себе такого обращения со столь уважаемым и достойным человеком, каким они меня безусловно считают. Только исключительная необходимость толкнула их на такой поступок, о чем Его Высочество еще и еще раз весьма сожалеет.
Очевидно, после чего-то, что со мною недавно случилось, у меня было некоторое помрачение памяти, я не знал, о чем именно сожалеет Его Высочество, и решил промолчать.
– Однако Его Высочество, – продолжал переводчик, – очень надеется, что вы чувствуете себя достаточно хорошо и не будете слишком долго держать на нас обиду. Его Высочество со своей стороны готов возместить материально тот небольшой ущерб, который мы невольно вам нанесли.
При этих словах Его Высочество энергично закивал головой (не открывая, однако, лица), потом полез к себе под подол, долго путался там в складках и ковырялся и, вытащив наконец кожаный мешочек вроде кисета, аккуратно положили его на разделявший нас узкий столик.
– Что это? – спросил я, косясь на мешочек.
– Небольшой личный подарок Его Высочества, – улыбнулся переводчик (и Высочество тоже улыбнулось смущенно). – Немного золота.
Я закрыл глаза и стал думать, что это за люди и чего они хотят от меня. Ничего не придумав, я открыл глаза и прямо спросил их об этом.
Сначала Его Высочество что-то быстро-быстро проговорило. Потом переводчик объяснил мне, что они представители одной небольшой, но очень богатой арабской страны. Узнав о моей предстоящей поездке…
– Как вы о ней узнали? – перебил я его.
– У нас на Востоке говорят, – тихо сказал переводчик, – что, если приложить ухо к земле, можно услышать весь мир.
Так вот, приложив ухо к земле и узнав о моих планах, они решили обратиться ко мне с одной маленькой, но деликатной просьбой. Они надеются, что в великом Советском Союзе, большом друге арабских народов, через какое-то время некоторые секреты перестанут быть секретами. И они, мои спутники, были бы мне очень благодарны, если бы мне удалось достать и привезти сюда подробный чертеж обыкновенной водородной бомбы, которая им нужна исключительно для мирных целей. Если я окажу им такую услугу, то они и лично Его Высочество в долгу не останутся, и мешок золота, который я получу в обмен на несколько кадров фотопленки, может быть в пятьдесят раз больше того, что лежит перед моими глазами.
Первым движением моей души было немедленно послать их к шайтану. Но, честно говоря, я не был уверен, что моя откровенность будет оценена благоприятным для меня образом. Тогда я решил воспользоваться положительным опытом Хаджи Насреддина, который, как известно, в свое время обещал шаху в течение двадцати лет научить ишака говорить по-человечески. При этом Насреддин считал, что ничем не рискует, потому что за двадцать лет или шах умрет, или ишак, или он, Насреддин, предстанет перед Аллахом.
Не желая выглядеть в глазах своих спутников слишком уж готовым к исполнению их пожеланий, я сказал, что, разумеется, постараюсь (и даже не столько за деньги, сколько из исключительного уважения к их стране и лично к Его Высочеству) сделать все, что будет в моих скромных силах, но конкретно обещать ничего не могу. Мне, сказал я, сейчас даже трудно себе представить, какой будет моя страна через столь долгий промежуток времени, и я не знаю, какие сведения будут уже открыты, а какие все еще останутся секретными.
– Видите ли, – сказал я осторожно, – я очень хотел бы быть вам полезным, но в то же время всякая незаконная деятельность противоречит моим моральным принципам.
Тут они все трое загалдели наперебой по-арабски, и вдруг Его Высочество на чистом русском языке и даже почти без акцента сказал:
– На ваши принципы мы не посягаем и ни к чему принуждать вас не собираемся. Но когда вы будете возвращаться из прекрасного будущего в наше трудное настоящее, вам, может быть, захочется подумать о себе, о своих детях и внуках.
– Ваше Высочество, – спросил я, потрясенный, – где вас так хорошо учили русскому языку?
– В Московском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы, – охотно ответил Высочество и улыбнулся, излучая загадочное сияние.
На этом наш разговор закончился, и через пять минут мои похитители высадили меня вместе с велосипедом и кожаным мешочком на какой-то улице.
Выходя из автобуса, я не удержался и спросил Его Высочество, не из платины ли сработаны его зубы.
– Ну что вы! – отозвался Высочество. – Я достаточно обеспечен, чтобы позволить себе брильянтовые коронки.
Неожиданная встреча
Вот подумайте, что бы вы купили своим предполагаемым знакомым, если бы вам предстояла поездка на шестьдесят лет вперед?
Я стоял посреди известного в Мюнхене магазина Кауфхоф (по-нашему – Торговый двор) в полной растерянности.
В самом деле, всего полно, а что купить, не представляю. Джинсы? Зажигалки? Калькуляторы? Жвачки?
Жвачки, правда, я слышал, в Советском Союзе появились отечественного производства. Они, конечно, пока уступают западным образцам, но я нисколько не сомневался, что в течение шестидесяти лет, в результате развития технической революции, исторических постановлений партии и правительства и трудового энтузиазма масс, в деле производства предметов жевания и снабжения ими широких слоев населения произойдут коренные перемены к лучшему.
Ну, и насчет джинсов я тоже думал, что через шестьдесят лет какой-нибудь прогресс неизбежно наступит, и уж во всяком случае польские, скажем, джинсы или венгерские по крайней мере в Москве достать будет можно.
Пару джинсов я все же купил. А еще купил какие-то галстуки, шарфики, пару складных по пять марок зонтиков, электронные шахматы, две готовальни и всякую парфюмерию: губную помаду, лак для ногтей, пудру, румяна, тени для век, искусственные ресницы, такие вещи, я знаю, никогда не устаревают.
О себе я, конечно, тоже подумал и купил пленки для фотоаппарата и диктофона, ленты для пишущей машинки, блокноты и набор шариковых ручек. А кроме того, я запасся несколькими парами белья, носками, перчатками, мылом, зубной пастой, новой бритвой «Жиллетт» и двумя пачками лезвий. Все это я купил на тот случай, если эти предметы в будущем окажутся хотя и несравненно лучшего качества, но будут для меня слишком уж непривычными. Увидев майки с надписью «Мюнхен-1982», я, конечно, тут же взял штук пять. Затем в отделе карт и путеводителей я нашел планы разных городов мира, в том числе и Москвы. Решив, что этой вещью тоже следует обзавестись (хотя бы для того, чтобы сравнить Москву сегодняшнюю с Москвой тогдашней), я взял один из планов и стал разглядывать, удивляясь его подробности. В Москве, когда я там жил, тоже издавались подобные планы, но на них указывались только самые главные улицы, да и то не все. А на этом я находил и маленькие переулки, и даже тупики, в которых когда-то жил.
– Улицы имени писателя Карцева там нет? – услышал я сзади насмешливый голос и, вздрогнув, оглянулся.
Передо мной в светло-зеленом плаще и серой шляпе стоял, усмехаясь, Лешка Букашев, мой бывший друг, однокашник и собутыльник. Когда-то мы вместе учились на факультете журналистики, а потом работали на радио, я в литературном отделе, а он в новостях. Вечера мы просиживали в Доме журналистов. Иногда вдвоем, иногда втроем. Он приводил с собой своего приятеля Эдика, курчавого молодого человека, который сам себя называл генетиком и иммортологом. Я этого Эдика спросил при первом знакомстве, занимается ли он продлением жизни. Он сказал, что задача продления жизни для него никакого интереса не представляет, это чепуха, которой занимаются геронтологи. Его же интересует не продленная, а вечная жизнь.
– То есть вы хотите найти эликсир жизни? – спросил я.
Он сказал, что он ищет нечто другое, но для дураков это можно назвать и эликсиром. Я хотел было обидеться, но он тут же смутился и сказал, что, говоря о дураках, он имел в виду не меня, а тех бюрократов, которые, не веря в решаемость проблемы, не дают ему лаборатории и вообще вставляют палки в колеса. Его однажды даже чуть не посадили за менделизм-морганизм, о нем писали фельетоны в «Крокодиле», и он был благодарен Лешке, который первый по радио отозвался о его опытах положительно.
Вообще Лешка был из тех людей, кто плохого зазря другому не сделает. Насчет хорошего он сам говорил о себе так: «Я готов творить добро в разумных пределах. Хочешь, я одолжу тебе трешку?»
По своим взглядам он был законченный циник и карьерист. Но карьера его сложилась только со второго захода.
Первый заход он начал еще на первом курсе университета.
Я и сейчас хорошо помню его тогдашнего. Среди всех наших студентов он был один из самых старших и самых бедных. Он поступил в университет после армии и еще весь первый курс ходил в солдатских шмотках. Отца своего он не помнил, тот погиб во время войны. Лешкина мать Полина Петровна работала дворничихой на Сивцевом Вражке, где у нее была комната в семь с половиной квадратных метров без окон.
Он мне рассказывал, что с самого своего рождения никогда (даже в армии) не наедался досыта. И в университет он поступил вовсе не для того, чтобы овладеть журналистикой, а чтобы перейти в число людей, которые вкусно едят, хорошо одеваются и которых не бьют в милиции (его однажды били).
Но уже на первом курсе он понял, что люди, которых не бьют в милиции, тоже делятся на разные категории, и сказал мне, что настоящую карьеру можно сделать не по профессиональной, а по «партийно-половой линии». Я думал, что его наблюдения над жизнью имеют отрешенный характер, а потом увидел, что нет, он пытается употребить их для практических целей.
Едва поступив в университет, он тут же начал активничать в комитете комсомола, скоро стал комсоргом нашего курса и кандидатом в члены КПСС. Половой линии он тоже из виду не выпускал и сошелся с одной нашей студенткой, которая была внучкой исторического и героического большевика и, кроме того, как и Лешка, горела на комсомольской работе.
На втором курсе Лешка одновременно собирался жениться на этой студентке и перейти из кандидатов в полноправные члены партии. В это же время его рекомендовали в комсомольские вожди факультета, то есть на пост, начиная с которого иные Лешкины предшественники добрались до самых верхов власти.
И вот его выдвинули и должны были голосовать и исключительно для проформы спросили публику, есть ли у кого-нибудь отвод.
И тут на трибуну вышла заплаканная Лешкина невеста и сказала, что, как ей ни трудно, она должна заявить товарищу Букашеву отвод, потому что он – человек с двойным дном: на публике говорит одно, а в частных разговорах другое. Например, в разговоре с ней он назвал Ленина Вовка-морковка.
Времена были уже либеральные, поэтому из университета Букашева не исключили. Но партийного билета он не получил, вождем его не избрали, и больше того, в комсомоле он остался, но со строгачом в личном деле. Ни о какой большой карьере речи уже быть не могло, и на радио Лешка работал репортером самого низшего разряда, писал о передовиках производства, скоростных плавках и высоких удоях.
Служебное его положение и зарплата росли очень медленно, пока он опять, причем почти случайно, не вышел на партийно-половую линию.
Он где-то познакомился с дочкой заместителя министра иностранных дел и тут уж своего шанса не упустил. Женился, вступил в партию и стал быстро наверстывать упущенное.
Мы с ним тогда поссорились, и судьбы наши пошли в разные стороны. Я стал диссидентом, меня исключили из Союза писателей и даже собирались посадить, а он, наоборот, быстро шел в гору, стал политическим комментатором на телевидении, ездил за границу, выполняя там какие-то важные поручения, и даже, как я слышал, входил в группу сочинителей, писавших книги за Брежнева. Само собой понятно, что в те годы мы с ним в Москве не встречались, а вот здесь, в Мюнхене, встретились.
Гавайские острова
– Ну привет, – сказал он дружелюбно и протянул руку, которую мне, может, не стоило замечать. Но должен признаться, что моей принципиальности на такие церемониальные движения никогда не хватало.
Пожав его руку, я спросил, как он оказался в Мюнхене.
– Да так, – сказал он, по-прежнему усмехаясь. – Приехал посмотреть, где чего дают.
Желая как-то его уязвить, я спросил, неужели ему не хватает того, что дают в ГУМе.
– ГУМ, дружок, – сказал он мне назидательно и цинично, – существует для тех людей, кто невкусно ест, плохо одевается и кого бьют в милиции. Кроме того, там очереди, а я очередей не люблю. Ты не знаешь, где тут кассеты для видео?
Я сказал, что не знаю, и спросил, что он здесь делает.
– Это неинтересно, – отмахнулся он. – Мелкие интриги.
– А я думал, ты занимаешься большой политикой, – сказал я.
– Большая политика, – возразил он, – в основном из мелких интриг только и состоит.
Мы помолчали. Потом я спросил его, неужели он, такая важная шишка, не боится толкаться здесь в толпе, где может оказаться кто угодно?
– Нет, мой милый, не боюсь. Здесь, среди покупателей, есть несколько человек, которые не сводят с меня глаз и берегут мою жизнь больше, чем свою собственную.
– Ты имеешь в виду, что здесь есть ваши люди? – спросил я, упирая на слово «ваши».
– Ну да, наши и… – Он засмеялся. – И ваши тоже. Слушай, ты куда-нибудь торопишься?
– Нет, – сказал я. – А что?
– Так, может, нам пойти трахнуть по кружке пивка?
– Несмотря на то, что ваши люди за тобой следят, ты не боишься со мной общаться?
– Друг мой, – сказал он с некоторой внутренней гордостью, – уверяю тебя, что общение с тобой мне ничем повредить не может. Но тебе оно тоже ничем не грозит.
– А кто тебя знает, – сказал я, желая его обидеть. – Я же не знаю, с каким заданием ты приехал сюда.
– С каким бы ни приехал, – сказал он, не обижаясь, – ты можешь не сомневаться, что мокрыми делами я не занимаюсь. Для этого есть другие люди, с которыми я, впрочем, незнаком.
Мы сели в мою машину, и я повез его в ту самую пивную в Английском парке, где недавно мы пили с Руди.
Сейчас мы тоже заказали по массу. Заказывал Букашев. Я заметил, что он говорит по-немецки хотя и с акцентом, но без всяких ошибок. Официант был в коротких кожаных баварских штанах с застежками под коленями. Выслушав Букашева, он крикнул: «Яволь» – и побежал исполнять заказ, а Букашев стал меня расспрашивать о моей здешней жизни: как я здесь освоился, с кем общаюсь и говорю ли по-немецки. Я сказал, что мой немецкий гораздо хуже, чем его, но на бытовые темы кое-как объясняюсь. По-прежнему усмехаясь, Букашев заметил, что как бы ни недоступен был для меня немецкий язык, он все же не труднее якутского, который при ином повороте судьбы мне пришлось бы осваивать. И даже намекнул, что в решении моей судьбы и ему пришлось принять некоторое участие, причем он как раз был против «якутского» варианта.
– Другие были за? – спросил я.
– Не все, но некоторые были.
– А ты почему был против?
– У меня было три причины, дружок, – ответил он невозмутимо. – Во-первых, я, если ты помнишь, смолоду готов был творить добро в пределах разумного. Во-вторых, у меня к тебе есть некоторые сентиментальные чувства. А в-третьих, мне, честно говоря, нравится, как ты пишешь. Я считаю, что, несмотря на все глупости, которые ты наделал, было бы просто обидно использовать такой талант на лесоповале.
Тут же он стал меня убеждать (и, как мне показалось, вполне искренне), чтобы я не терял время, а писал.
– Для кого писать-то? – спросил я. – С моим читателем вы меня разлучили.
– Ну, не надо преувеличивать, – сказал он. – Отчасти разлучили, отчасти не разлучили. Страна у нас большая, границы длинные, народу ездит до черта, за всеми, кто чего везет, не уследишь. Я сам, между прочим, книжек твоих, так чтоб не соврать, штук пятьдесят-шестьдесят провез. Да и сейчас парочку с собой захвачу.
– Чудные вы, большевики, люди, – сказал я. – Сами писателя травите, сами изгоняете, потом сами же его книги возите контрабандой. Разве это не идиотизм?
– Идиотизм, – согласился охотно Букашев. – Идиотизм чистой воды. Но ничего сделать нельзя. Система, понимаешь ли, идиотская.
Я посмотрел на него недоуменно.
– Значит, ты тоже, – спросил я, – понимаешь, что система идиотская?
– А что? – сказал он. – Что тебя удивляет? Система идиотская, и я ей служу, но сам я не обязан быть идиотом. И другие не идиоты. Все всё понимают, но ничего сделать не могут.
– Странно, – сказал я. – Если вы всё понимаете, почему бы вам не попытаться как-то изменить положение? Власть-то в ваших руках.
– Власть-то в руках. Да только как ею воспользоваться? Ну вот представь себе, допустим, она тебе дана, эта власть. Что бы ты с нею делал?
– У-у! – завопил я так, что проходивший мимо с дюжиной кружек официант покосился на меня испуганно. – Да если бы у меня эта власть оказалась хотя бы на неделю, я прежде всего разогнал бы к черту всю вашу партию.
– Это понятно, – сказал Букашев, моим кощунством нисколько не возмутившись. – Ну разогнал бы, а дальше что?
– Не знаю, что дальше, – сказал я. – И даже знать не очень хочу. Но что бы ни было, все было бы лучше вашей бездарной власти.
– Ишь ты какой! – Он посмотрел на меня сквозь кружку. – Ты, я вижу, стал законченным антикоммунистом.
– Чушь! – возразил я. – Никем я не стал. Против так называемых идеалов коммунизма я ничего не имею. Свобода, равенство, братство, стирание границ, отмирание государства, от каждого по способности, каждому по потребности. Что общего это имеет с тем, что вы наворотили?
– Ты прав, – сказал он, стирая с губ пену. – Общего, прямо скажем, немного. Но ведь нам же нет еще и семидесяти. Для истории это только миг. Дров, правда, наломать успели порядочно и глупостей наделали, потому что торопились и пытались перепрыгнуть через все ступеньки. А так не получается.
– Да и не может получиться, – сказал я. – Утопия есть утопия.
– Откуда ты знаешь, утопия или не утопия? – Букашев допил свое пиво и поставил кружку на стол. – Если напролом лезть, то утопия. А если все продумать и идти шаг за шагом…
– Слушай, – сказал я, – зачем ты мне эту хреновину порешь? Ты можешь в Москве плести чего хочешь по телевидению и здесь дурачить местных простаков, но не меня. Неужели ты надеешься меня убедить, что веришь сколько-нибудь в коммунизм?
– Миленький мой, я вообще ни во что не верю, – усмехнулся он. – Я не верю, а думаю. И мне кажется, что какие-то шансы еще есть.
– Шансы? – я задохнулся от возмущения. – После всего того, что вы натворили? Какие там шансы?
– Я тебе говорю: какие-то. Маленькие. Может быть, даже совсем ничтожные. Но они есть. Слушай, браток, – схватил он за штаны пробегавшего мимо официанта, – притарань-ка нам еще пару пивка.
– Яволь! – охотно отозвался официант и со всех ног кинулся исполнять заказ.
Я изумленно посмотрел ему вслед и повернулся к Букашеву.
– Леша! – назвал я его впервые за нашу встречу по имени. – Что происходит? Ты же ему по-русски сказал! Как же он тебя понял?
– Да? – переспросил он озадаченно. – Я сказал по-русски? А, ну значит, это кто-то из наших. Не важно, не обращай внимания. Это тебя не касается.
Официант принес и поставил на стол еще два масса.
– Застегни пуговицу! – сказал ему Букашев насмешливо.
Рука официанта невольно дернулась к пуговице. Но он тут же опомнился.
– Их ферштее зи нихт![2] – сказал он резко и отошел.
– Вот и работай с такими! – вздохнул Букашев. – Прокалываются на любой ерунде. Так вот что я тебе скажу. Ты знаешь, я идиотом никогда не был. Во всякие возвышенные бредни не верил. Но и врать мне тебе незачем. Нет никакого резона. И если я говорю о шансах, значит, я это дело как-то обдумывал. Да и не только я. Ты, я знаю, о нашем руководстве очень низкого мнения, но поверь мне, что там тоже есть люди, у которых шарики вертятся.
Я сбегал по малому делу.
– Знаешь что, – сказал я, вернувшись, – я не знаю, вертятся у вас шарики или не вертятся, я знаю только, что это все равно не имеет никакого значения. Система прогнила, окостенела, вы все это сами хорошо знаете, но ни на какие положительные действия вы уже все равно не способны.
– А вот в этом, старина, ты как раз и ошибаешься! – с неожиданной горячностью возразил он. – На что-то мы способны. И что-то сделаем.
– Что вы сделаете? – Я посмотрел на него в упор.
– Какие-то идейки имеются, – сказал он, не отводя взгляда. – Но дело, как ты сам понимаешь, серьезное. В такой многоходовой комбинации как бы не ошибиться. Вот если б можно было заглянуть вперед лет, скажем, на пятьдесят-шестьдесят и узнать, что из всего из этого получилось. – При этом он внимательно посмотрел на меня и засмеялся.
Конечно, последняя фраза меня насторожила. Была она сказана случайно или с намеком? Если с намеком, то что Букашев хотел от меня?
Я ожидал от него дальнейшего развития темы, но он о ней как будто забыл и стал опять расспрашивать меня о моей жизни, попутно рассказывая и о своей.
Потом спросил о моих планах на лето, и я не понял, был этот вопрос задан с какой-то задней мыслью или просто из любопытства.
Стараясь себя никак не выдать, я сказал, что вообще-то собираюсь отдохнуть и, возможно, в ближайшее время махну куда-нибудь… Ну, скажем… (я ляпнул наобум) в Гонолулу.
– Гонолулу! Гавайские острова! – мечтательно произнес Букашев. – Ты знаешь, где только я уже ни шатался, а на Гаваях еще не бывал. Должно быть, хорошо там. Пальмы, солнце, море и гавайки с гавайскими гитарами. Слушай, а ты мою бывшую любовь давно не видал?
– Давно, – сказал я.
– Говорят, она стала очень религиозна.
– Со временем люди меняются, – сказал я уклончиво.
– Чепуха! – возразил он. – Они меняют предмет поклонения. Но при этом остаются такими же, как были. Да, а тогда она мне с Вовкой-морковкой здорово подсуропила. Я уж думал, и не вылезу. Ну ладно, дружок, рад был тебя повидать. Серьезно говорю, без дураков. Хочешь в Москве кому-нибудь чего-нибудь передать?
У меня, конечно, было кому чего передать, но не через него же.
– Слушай, – сказал я. – А правду про тебя говорят, что ты майор КГБ?
– Ну да, вроде, – согласился он с удовольствием. – Точнее сказать, генерал-майор. Но тебе-то что? Неужели ты думаешь, я с тобой встретился, чтоб на тебя стучать? Нет, братишка, я играю в другие игры и ставлю по-крупному.
Он подозвал официанта и, несмотря на мое сопротивление, расплатился за нас обоих.
На обратном пути я, поглядывая в зеркало, заметил, что за нами, особенно даже не скрываясь, идет зеленый «Фольксваген», но номер у него не франкфуртский, а кельнский. Я сказал об этом Букашеву, но он отмахнулся.
– Это наши. Не беспокойся, они едут не за тобой, а за мной.
Он попросил меня высадить его у «Фир Ярес Цайтен», самой роскошной гостиницы Мюнхена.
Уже выставив ногу на тротуар, он вдруг спросил, не может ли он как-нибудь при случае мне позвонить.
– Когда ж ты мне позвонишь, если я уезжаю? – спросил я.
– А, ну да! – сказал он. – В Гонолулу. Я и забыл. Но ты ж не навек туда едешь. – При этом он пристально на меня посмотрел. – Когда-нибудь ты вернешься и, может быть, даже захочешь мне рассказать, как там живут гонолульцы. Так я тебе позвоню. Номер твоего телефона у меня есть.
Было похоже, что он знает обо мне больше, чем я думал. Впрочем, меня это особо не волновало.
Отъезжая от гостиницы, я увидел припаркованный за углом зеленый «Фольксваген». Потом, по дороге домой, я все время поглядывал в зеркало и сделал несколько проверочных маневров с заездом в глухие переулки и тупики. «Фольксваген» не появлялся, никаких других признаков слежки я не заметил тоже.
По дороге я включил приемник, который у меня всегда настроен на первую программу советского радио. Передавали концерт по заявкам тружеников моря. Сначала неизвестный мне чтец-декламатор читал отрывки из «Медного всадника», потом оркестр Большого театра исполнил танец маленьких лебедей из балета Чайковского.
– А теперь, – объявила дикторша сладким голосом, – в исполнении народной артистки Советского Союза… прозвучит украинская народная песня…
– «Гандзя-рыбка»! – сказал я вслух и как в воду глядел.
Сколько я себя помню, во всех концертах, демонстрирующих небывалый расцвет многонационального искусства в моей стране, всегда исполнялись одни и те же песни. Если русские, то обязательно или «Среди долины ровныя», или «Вдоль по Питерской», а украинские – или отрывок из «Наталки-полтавки», или вот эта самая «Гандзя».
- Як на мэнэ Гандзя глянэ,
- В мэнэ зразу сэрце въянэ,
- Ой, скажите ж, добри люды,
- Що зи мною тепер будэ…
Не знаю почему, но именно «Гандзя» исполнялась на всех торжественных концертах, посвященных партийным съездам и Дню милиции или еще чему-то подобному, причем исполнительница во всех случаях и во все времена была как будто одна и та же: высокая и полная тетя в черном бархатном платье до пят и с большим вырезом на пышной груди. На грудь эту она клала руки, как на подставку, заламывала пальцы и, лукаво жмурясь, заливалась инфантильным меццо-сопрано:
- Гандзя – рыбка,
- Гандзя – птычка,
- Гандзя – цяця, молодычка…
Боже мой, думал я, неужели в этой стране и вправду никогда ничего не изменится?
Звонок из Торонто
Я был в самом разгаре сборов, когда вдруг раздался звонок из Канады.
– Привет, старик, говорит Зильберович.
– А, – говорю, – привет, как жизнь?
– В трудах, – просто отвечает он. – Ты чем-нибудь занят?
– В каком смысле? Сейчас или вообще?
– Ну, сейчас и вообще.
– Ну, вообще-то говоря, занят.
– Так вот, бросай все, бери билет, и чтоб завтра ты был в Торонто.
Я просто опешил от такого предложения.
– Ты что, – говорю, – милый, одурел, что ли, совсем? Чего это я вдруг все брошу и из Мюнхена помчусь в Торонто? Да что же мне, делать, по-твоему, нечего, в такую-то даль переться?
– Старик, этот вопрос не обсуждается. В Торонто зарентуешь кар, какой-нибудь небольшой, незаметный, выедешь на хайвэй, там возьмешь шестой экзит, проедешь ровно два майла, на шулдере увидишь голубой «Шевроле». На крыше антенна, на заднем стекле жалюзи, номер замазан грязью. Фолуй за этим «Шевроле», особо не приближайся, но из виду не выпускай. Все![3]
– Идиот! – закричал я. – Прежде чем отдавать приказы, ты хоть бы по-русски научился как-нибудь говорить.
Но эти слова услышала только моя жена, трубка на другой стороне планеты была положена.
– Что такое? – спросила жена встревоженно. – Кто это звонил?
– Не поняла, что ли? Конечно, Зильберович.
– И чего он хотел?
Я рассказал.
Жена вспылила. Не столько на Зильберовича, сколько на меня. Да что это такое! Да с какой стати? Может быть, мы вообще уже прощаемся навсегда, у нас осталось несколько дней, но ты и их готов потратить на кого угодно, только не на семью. Это ты сам виноват, ты сам себя так поставил, что они с тобой позволяют себе обращаться как с мальчиком. Подумаешь, он вообразил себе, что он пуп земли, а ты к нему будешь бегать, как только он тебя пальцем поманит.
Это она, конечно, имела в виду не Зильберовича. Я ей сказал, что я сам глубоко возмущен, на каждый призыв вовсе откликаться не собираюсь и ни в какое Торонто, разумеется, не поеду.
Я говорил это вполне искренне, злясь больше всего на себя самого и одновременно удивляясь той странной психической силе, которая действовала на меня, несмотря на разделяющее нас фантастическое расстояние.
Эта сила меня каким-то образом гипнотизировала, выводила из состояния равновесия, никакие реально объяснимые причины не вынуждали меня ей подчиниться, но не подчиниться ей я мог, только оказав отчаянное внутреннее сопротивление. Непонятно?
Попробую объяснить попроще.
Зильберович звонил мне не от своего собственного лица (собственного лица у него никогда не было), по поручению другого человека. Этому другому я не был подчинен по службе, не зависел от него материально, на положении моих дел его отношение ко мне никак не могло отразиться.
Ну если бы я его хоть как-нибудь почитал и по этой причине готов был бы кидаться со всех ног, выполняя его распоряжения, так ведь и этого ж не было. Больше того, в моих глазах он со своими претензиями на владение окончательной истиной вообще выглядел фигурой комичной.
И все-таки, когда он меня к чему-то призывал, я просто цепенел и чувствовал, что отказать ему выше моих сил.
Сейчас было то же самое.
Как я должен был реагировать на звонок Зильберовича? А просто никак. Кому-то взбрело в голову, что я должен все бросить и куда-то нестись. А мне кажется, что я никому ничего не должен, не должен даже и отвечать. У меня своих дел по горло.
Но что-то меня нервировало и склоняло к мысли, что не ответить совсем – неудобно. Понося последними словами и Зильберовича, и его, так сказать, патрона, а отчасти и себя самого, я сочинял в уме варианты отказа, начав с самого высокомерного (по телеграфу): Кому надо тот едет.
Коротко, четко и вразумительно. Но нереалистично. Потому что представить себе ситуацию, в которой Он едет ко мне, даже попросту невозможно, а что я к Нему еду, это и представлять нечего.
Но почему, почему, почему?
Почему я не могу устоять перед этим человеком, который мне ни для чего не нужен?
– Что ты ходишь такой взвинченный? – закричала на меня жена. – Что ты куришь одну сигарету за другой и что ты бормочешь?
– Разве я что-то бормочу? – удивился я.
– Не только бормочешь, но и строишь рожи, и фигу кому-то крутишь. Если ты не можешь просто послать призывальщиков подальше, ответь как-нибудь вежливо. Скажи, что ты заболел, что у тебя какая-нибудь конференция, что тебе надо книжку дописать.
– Ну да, – усомнился я, – а он скажет: а кому нужны твои книжки?
– Ну если уж он так скажет, то ты ему тоже можешь сказать: а кому нужны твои книжки? На хамство всегда нужно отвечать только хамством. Ты сам себя ставишь на последнее место, поэтому и другие тебя ставят туда же.
Она была права, как всегда.
Но когда она уехала в банк, я позвонил в аэропорт просто на всякий случай.
Как я и предполагал, никаких прямых рейсов из Мюнхена в Торонто вовсе не существует, а лететь с пересадкой во Франкфурте – это уж слишком. Чего ради я должен преодолевать такие препятствия?
Хотя если разобраться, не впадая в горячку, то пересадка без вещей дело не такое уж трудное. К тому же во Франкфурте у меня было одно, я бы так сказал, интимное дельце, ради которого просто так я бы, конечно, ни в жизнь не поперся. Но если заодно…
Новый Леонардо да Винчи
С Леопольдом Зильберовичем (по-домашнему – Лео) я познакомился в начале шестидесятых годов через его сестру Жанету, с которой я в то время учился в университете. В литературных (или, может быть, точнее сказать, окололитературных) кругах того времени Лео был фигурой одной из самых заметных.
Длинный и длинноволосый, в засаленном темном костюме с заштопанными локтями и пузырями на коленях, он неутомимо передвигался по Москве, бывая, кажется, одновременно и в редакциях самых либеральных по тем временам журналов, и в Доме литераторов, и на всех поэтических вечерах, и на всех премьерах.
Он был лично знаком со всеми сколько-нибудь известными поэтами, прозаиками, критиками и драматургами, которых (каждого в отдельности) покорял знанием и тонким пониманием их творчества. Каждому он мог при случае процитировать его четверостишие, строку из романа или реплику из пьесы и дать процитированному иногда неожиданное, но оригинальное и обязательно лестное для автора толкование.
Я не помню, чем он занимался официально (кажется, был где-то внештатным литконсультантом), но главным его призванием было открытие и пестование молодых талантов.
Его рыжий, вытертый, покрытый жиром и какой-то коростой портфель всегда был до отказа набит стихами, прозой, пьесами и киносценариями молодых гениев, которых он где-то неустанно выкапывал и рекламировал.
Много лет спустя, попав на Запад, я встречал самых разных литературных агентов, которые сидят в больших офисах, рассылают издателям рукописи своих клиентов, то есть ведут большой и прибыльный бизнес.
В наших условиях Зильберович делал то же самое, но без всякой корысти. Больше того, будучи бедным как церковная крыса, он сам, как мог, подкармливал открытых им гениев, не рассчитывая даже на то, что они когда-нибудь скажут спасибо.
Как только открытый им когда-то талант начинал печататься и не нуждался в пятаке на метро, он тут же Зильберовича выбрасывал из головы, но Лео ничего и не требовал. Его альтруизм был настолько чистого свойства, что он сам себя никогда не считал альтруистом.
Брошенный одним гением, он тут же находил другого и носился с ним как с писаной торбой.
Со мной он, между прочим, тоже когда-то носился.
Он был одновременно моим поклонником, оруженосцем и просветителем.
Все мною написанное он помнил почти наизусть.
В те времена, когда мне часто приходилось читать свои опусы в самых разных компаниях, Лео, конечно, всегда там присутствовал. Он устраивался где-нибудь в углу и, держа свой портфель на коленях, слушал внимательно, а когда дело доходило до какого-нибудь эффектного пассажа или удачной игры слов, Лео, предвкушая это место, заранее начинал улыбаться, кивать головой, переглядывался с собравшимися, поощряя их обратить внимание на то, что сейчас последует. И если публика на это место тоже реагировала положительно, Зильберович и вовсе расплывался в улыбке и испытывал такой прилив гордости, как будто это он такого меня породил.
