Близкие люди
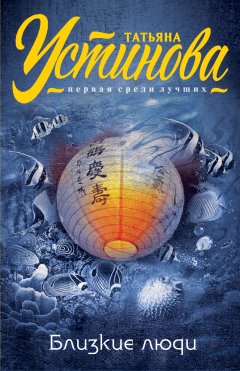
Было темно и сыро. Дождик прошел, и в воздухе пахло весной, влажной землей и стройкой.
«Странно, – подумал человек, стоявший почти на самом краю свежего котлована. – Наверное, точно так же пахло, когда древние египтяне строили свои загадочные и великие пирамиды. Шел дождик – должно быть, редкая штука в тех краях, – земля раскисала и размягчалась, как сентиментальная старуха от слезливого фильма, и во влажном воздухе повисал запах стройки. Две с половиной тысячи лет прошло, никто и никогда ничего толком не узнает о том, что было тогда, а запах не изменился».
Человек усмехнулся и швырнул в котлован окурок. Маленькая оранжевая комета мелькнула в вязкой темноте и исчезла, потухла.
Что-то сегодня его потянуло на философские размышления. К чему бы? К старости, что ли? Вот бы удивились те, другие, если бы могли подслушать его мысли! Для них он никто, они его и не замечают даже. Разнорабочий – подай, принеси, подержи, за бутылкой сбегай!..
Его это забавляло. Он знал о них гораздо больше, чем они о нем, и в этом было его неоспоримое преимущество. Когда-то, еще в школе, он прочитал о том, что всеми событиями на земле управляют вовсе не те, кто громче всех кричит и размахивает флагом на баррикадах. Можно кричать и размахивать сколько угодно – хоть всю жизнь! – и даже не догадываться о том, что все это – исполнение чьей-то чужой и более сильной воли.
Никогда ему не хотелось быть впереди. Он всегда оставался в тени, незаметный, серый человечишка, годный только тачку возить да бегать за бутылкой. Он усмехнулся. О нем никто ничего не знал, зато он знал все обо всех. За это знание многие – большинство! – готовы были выложить любые деньги.
Было очень тихо, только где-то монотонно капала вода. Кап-кап-кап… И запах земли и влажного бетона становился все более отчетливым, каким-то предутренним.
Ну? И сколько ему еще ждать?
Конечно, он человек маленький, ему подождать ничего не стоит, но время шло, а машины все не было. Пожалуй, придется придумать какое-нибудь наказание. Нельзя, в самом деле, позволять им опаздывать… Он посмотрел на часы. Ну да. Почти на полчаса. Он знает, каким будет наказание. Одна мысль об этом доставила ему такое удовольствие, что он зажмурился и засмеялся.
Нет, флагами на баррикадах пусть размахивают дураки. Мы умные, мы как-нибудь потише…
А вот и машина.
Со стороны шоссе приближалось негромкое сытое урчание заморского двигателя. В темноте разобрать ничего было нельзя. Прожектора по всему периметру стройки разбивали прямо-таки с маниакальным упорством. Они не горели почти никогда, хотя шеф каждую неделю заставлял покупать новые лампы. Небось денег на это ухнул целую кучу.
«И вообще… ну ее к дьяволу, эту стройку. Что-то непонятное то и дело происходит вокруг. Вот получу то, что мне причитается, накажу кого надо за своеволие – и поминай как звали, гори ваша стройка синим пламенем…»
Он начал спускаться к условленному месту. Земля с тихим приятным шуршанием сыпалась из-под ботинок.
Он шел осторожно, стараясь особенно не лезть в грязь, и был уже на полпути, когда поднял голову, и под единственным уцелевшим фонарем навстречу ему блеснула мокрая крыша большой и тяжелой машины.
Он замер, как насторожившийся лис, почуявший охотника. Черт возьми, это была совсем не та машина, которую он ожидал увидеть!
Что это значит?! Они не договаривались о том, что приедет именно эта машина! Хозяина этой машины он ненавидел и боялся. Пожалуй, единственного из них.
Раз так, знать он ничего не знает.
Не было никакого договора, да и все. Сделка не состоится.
Он просто вышел покурить среди ночи. Покурить и оглядеться вокруг, удостовериться, что все благополучно, а то черт знает что тут происходит. Вон опять прожектор разбили… Что же охранники, спят, что ли, как медведи зимой?!
Играть ему было привычно и легко. Играл он всегда на «пять с плюсом». Черт принес эту машину!.. Придется удвоить цену и наказание придумать посерьезнее, пусть не держат его за дурака!
Шум мотора смолк совсем близко. Хлопнула дверь.
Знает или не знает тот человек в машине, зачем он ночью бродит по котловану? Знает или нет? От этого сейчас все зависит. Ему рассказали или этот приезд просто обыкновенная проверка?
Он сделал еще несколько шагов, остановился и вытащил из кармана сигареты. Как будто только что увидев машину, он поднял голову и стал озираться по сторонам.
– Кто здесь? – спросил он громко, и собственный голос в тишине пустой ночной стройки показался ему жалким и испуганным. Честный человек, вышедший среди ночи покурить, не может говорить таким голосом. – Это кто приехал?
В ответ не раздалось ни звука. Неподвижная гора полированного железа блестела под фонарем неживым инопланетным блеском.
Но он отчетливо слышал, как хлопнула дверь. Значит, кто-то вышел и ходит где-то поблизости. Тогда почему не отзывается?
Внезапно ему стало страшно. Так страшно, что волосы встали дыбом.
Нужно уходить. Быстрее.
В вагончиках у самой границы леса спят люди. Если он закричит, они проснутся. Конечно, проснутся. Ничего страшного.
Он суетливо повернулся, увязая башмаками в жирной земле, сделал шаг, и из темноты его быстро и точно ударили в висок. Он всхлипнул, нелепо взмахнул руками и упал лицом вниз на бетонную плиту.
Тело нашел Чернов, который по причине всегдашних домашних неурядиц приезжал на работу раньше всех. Поначалу, увидев в котловане неподвижно лежащего человека, Чернов решил, что это кто-то из рабочих прилег отдохнуть «после вчерашнего». Человек лежал так удобно, в таком безмятежном покое, что Чернов рассвирепел. Хорошо хоть Степан еще не приехал. Была бы история, если бы этого отдыхающего нашел Степан!
«Вот козлы. Допились до того, что не могут по вагончикам разойтись! Уволю к дьяволу, прямо сейчас, кто бы это ни был».
Увольнять ему никого не пришлось.
Человек был мертв. Так безнадежно, так ужасающе мертв, что у Чернова едва не отнялись ноги, когда он взглянул в белое с желтым лицо.
«Его уже кто-то „уволил“, – подумал Чернов словно сквозь вату. – Даже две недели не дал, как положено по законодательству о труде.
Вот только этого им всем сейчас и не хватало. Вот все у них сейчас замечательно и хорошо. Только трупа недоставало. Как-то скучно было без трупа…»
Чернов быстро закурил, стараясь не смотреть под ноги, где лежал покойник. Хуже всего, что это был не абстрактный труп, а Володька Муркин, разнорабочий, которого он сам нанял с месяц назад. Володька как Володька – в меру пьющий, невзрачный, вечно суетливый, как будто стремящийся всем услужить. Чернов его не любил.
«И как он умудрился свалиться башкой на эту плиту?! Куда его понесло?! Вроде сильно он никогда не пил. Может, вчера подрался? С кем? Если с кем-то из наших – все, мы пропали – приедет милиция, начнутся разбирательства, идиотские допросы, вызовы в отделение и прочее. Работа встанет, а время не просто поджимает, оно давит на нас, как кузнечный пресс. Великий господи, сделай так, чтобы не было никакой драки, чтобы он сам свалился, пусть нехорошо, что я тебя об этом прошу, но сделай так, господи!..»
Вадим Чернов, тридцати семи лет от роду, самоуверенный, образованный и упрямый, как все бывшие военные, не верил в науку криминалистику и был совершенно точно уверен, что никакую картину преступления по одному следу, оставленному на земле, или сгоревшей спичке воссоздать нельзя. Расследования убийств казались ему такой же глупостью, как попытка определить, есть ли жизнь на Марсе, глядя на этот самый Марс в театральный бинокль. Да и не понимал он, зачем расследовать, когда можно не расследовать, а засадить за решетку первого попавшегося под руку и написать в отчете, что убийца пойман и больше угрозы для общества не представляет.
Пусть все, что угодно. Пусть работяги вчера в стельку надрались, пусть обнаружится несоблюдение каких-нибудь очередных правил техники безопасности, но только не драка. Потому что если драка – значит, убийство, значит, расследование, в общем, конец света.
Черт бы взял этого Муркина, выбравшего такое неподходящее время, чтобы откинуть сандалии. Хотя, может, именно черт его и взял.
Понимая, что милиция все равно приедет, даже если это просто несчастный случай, Чернов отступил назад, стараясь попасть в собственный след. Все же детективы он почитывал и знал, что возле трупа лучше ничего не трогать.
Была бы охота что-то там еще и трогать!
Чернов полез в карман за телефоном, но тут же в раздражении сунул его обратно. Как он ни хорохорился, но вид мертвого Володьки произвел на него гораздо более сильное впечатление, чем он сам мог себе признаться. Руки были не просто влажные – они были мокрые и холодные, как шкура дохлой рыбы. Он сердито зашагал к тонкой водопроводной трубе, нелепо торчавшей на краю котлована, отвернул шершавый вентиль и попил мутной ржавой воды. Потом плеснул в лицо.
«Возьми себя в руки. Чай, не барышня».
Он злобно утер физиономию подкладкой куртки и посмотрел по сторонам. Вокруг никого не было, только в отдалении у вагончиков начиналась привычная утренняя жизнь. Чернов взглянул на часы. Шесть. Седьмой.
«Никто еще ничего не знает, – подумал он тоскливо. – Для всех пока что начинается обычный день. Только он, Вадим Чернов, стоит в двух шагах от трупа Володьки Муркина и не может заставить себя позвонить».
Он вздохнул и снова посмотрел в котлован, смутно надеясь, что труп куда-нибудь исчез за то время, пока он умывался. Труп, будь он неладен, был на месте.
Что-то поблескивало на полпути между мертвым Володькой и бетонным столбом, к которому был прикручен прожектор, как будто золотое кольцо в куче навоза. Чернов взглянул, прищурившись, и стал спускаться, по дуге обходя труп. Стараясь не смотреть в его сторону, он копнул носком ботинка рыхлую землю. Какой-то длинный и узкий предмет, похожий на тюбик губной помады, сверкнув полированным золотым боком, подпрыгнул и мягко шлепнулся неподалеку. Чернов наклонился, поднял его и вытер о куртку.
Это оказалась зажигалка. Стильная позолоченная зажигалка, на которой было выдавлено черным «Кельн Мессе». Зажигалка принадлежала Степану. Он привез ее в марте со строительной выставки из Германии, куда поехал с Беловым, оставив Чернова за старшего. Чернову тогда тоже хотелось в Германию, тем более что он никогда еще не был за границей, но Степан решил, что поедет Белов.
Значит, Степан эту свою драгоценную зажигалку потерял, да еще в таком неподходящем месте…
Чернов думал всего одну секунду, а потом сунул зажигалку в карман. Даже идиоту ясно, что Степан не может иметь отношения к смерти какого-то никому не нужного распоследнего рабочего с собственной стройки, а раз так, значит, зажигалку эту он просто сунул мимо кармана, когда вчера или позавчера лазал по котловану, и ментам об этом знать совсем не обязательно.
Преодолевая себя, Вадим еще раз посмотрел вниз, на Володьку, отвернулся, выматерился и решительно достал телефон.
…– Па-ап!
Шум воды в трубах, шипение яичницы на сковороде, развеселые вопли ведущего утренней программы на радио.
– Папа!
Стук посуды и пронзительный взвизг кофемолки.
– Папа!!
Степан вздрогнул и оглянулся, чуть не выпустив кофемолку из рук.
– Пап, ну ты чего?! Совсем уже?!
С Ивана на пол текла вода. Он стоял в дверном проеме мокрый и совершенно голый. Степан уставился на него, как будто впервые увидел.
– Я тебя зову, зову! Ты что, не слышишь?
– Нет, – сказал Степан. – Не слышу. Уже пора?
– Давно пора, – ответил Иван обиженно и зашлепал в ванную, бормоча себе под нос: – Зову, зову, два часа уже…
Степан переставил сковородку, хлопнул по кнопке чайника и пошел в ванную вслед за сыном.
– Давай! – приказал Иван и зажмурился. Он стоял в ванне – острые локти, выпуклые коленки, ребра все до одного можно пересчитать, ручки-палочки и ножки-дощечки. В кого он такой худющий? Степан усмехнулся. Утренний ритуал никогда не менялся. Просто сегодня он что-то отвлекся и про ритуал позабыл.
– Готов? – переспросил Степан, повыше поднимая ведро с холодной водой. Иван сосредоточенно кивнул, не открывая глаз. Степан перевернул ведро, вода отвесно упала на Ивана, так что он даже покачнулся, стекла по всем ребрам, по ручкам-палочкам и по ножкам-дощечкам. Иван моментально покрылся гусиной кожей и встряхнулся, как собачонка.
Степан сунул ему полотенце.
– Ты просто супербизон, – сказал он нелепую фразу, которая приводила Ивана в восторг и тоже была частью ритуала.
Из полотенца вынырнула розовая мордаха, сияющая кривоватыми передними зубами.
Просто ангел божий, а не ребенок. Степан тяжело вздохнул.
– Вытирайся, и давай завтракать. Мне некогда.
– Тебе всегда некогда, – заявил Иван из полотенца. – Тебе когда-нибудь будет есть когда?
– Так нельзя говорить, – поправил Степан машинально, – нужно сказать: «Будет ли у тебя время».
– Да какая разница! Времени-то все равно не будет…
Внезапно Степан пришел в сильное раздражение. Как будто Иван в чем-то несправедливо обвинял его.
– Вот если ты будешь все время со мной базарить, – сказал он, хотя Иван вовсе и не базарил, – времени у меня совсем не станет.
И ушел на кухню.
Конечно, ему некогда. Он работает с утра до ночи. Все мечты о том, что в один прекрасный день дело пойдет без него, а ему останется только пожинать лавры, ежедневно разбивались вдребезги, как любовная лодка о быт в стихах революционного поэта Маяковского. Иногда ему приходится работать по субботам и даже по воскресеньям.
Степан разложил по тарелкам яичницу.
Он понятия не имеет, куда деть Ивана, когда начнутся каникулы. Черт бы взял эту продвинутую школу, где каникулы начинаются почему-то в апреле! В прошлом году у них все лето жила мама, а в этом году мама умерла…
– Иван! – крикнул Степан громче, чем нужно. – Ну где ты там?!
Думать об этом с утра нельзя. Об этом можно думать только ночью, когда Иван спит и впереди еще пять часов, чтобы прийти в себя. Степан не мог позволить себе такие думы с утра пораньше.
– Пап, где моя черная водолазка?
– Посмотри в шкафу.
– Да нет ее в шкафу, я уже смотрел!
– Иван, я ее не надевал, если ты об этом спрашиваешь!
– Я спрашиваю, где моя черная водолазка?! – Голос уже почти дрожит. Не восьмилетний мужик, а рохля и мямля, ей-богу!
Степан стукнул сковородкой о плиту и большими сердитыми шагами пошел в комнату к сыну. Иван стоял перед распахнутым шкафом и зачем-то перебирал трусы на нижней полке.
– Трусы ты тоже потерял? – спросил Степан язвительно. – На, вот твоя водолазка! Ты что, не можешь голову поднять и посмотреть?!
Он был не прав и знал это. Домработница Клара Ильинична почему-то положила Иванову водолазку очень высоко, в постельное белье. Иван снизу ни увидеть, ни достать ее не мог.
– Одевайся быстрее! – приказал Степан. – Мы уже опаздываем.
Он привозил Ивана в школу очень рано, раньше всех остальных детей, и сдавал с рук на руки классному руководителю – или, по-новому, воспитателю – Валерию Владимировичу. Наверное, с полчаса Иван сидел в классе один. Привозить его позже Степан не мог – он начинал работать очень рано, с половины девятого. И все равно ничего не успевал.
Пришел Иван, волоча за собой стильный немецкий рюкзак, который отец привез ему из Кельна. Рюкзак сын швырнул в угол, а сам сел, зацепил свои облаченные в джинсы «дощечки» за ножки стула и заныл:
– Опять яичница? Не хочу я никакой яичницы! Сколько можно ее есть? Вчера Клара Ильинична в холодильнике кашу оставила. Пшенную…
Степану стыдно было признаться, что кашу он сам вечером съел. Ему тоже смертельно надоели покупные антрекоты и куры-гриль.
Поэтому он сказал грозно:
– Ешь давай! – и подвинул сыну тарелку. И налил морковный сок, который Иван терпеть не мог и пил, зажимая нос пальцами.
Иван взглянул отцу в лицо совершенно черными Леночкиными глазами и, очевидно, увидев там что-то, пререкаться не стал и начал покладисто ковырять яичницу.
Лучше бы скандалил.
– Хочешь, вечером в ресторан пойдем, а? – предложил Степан. Чувство вины требовало какого-то выхода. – В какой-нибудь… итальянский. Где макароны подают.
Иван глянул на него и отхлебнул морковного сока, не забыв предварительно зажать нос.
– Ты лучше в шкоду зайди, – прогундосил он, не отпуская носа. – У всех родидеди приходят, а у бедя нед.
– А что? – насторожившись, спросил Степан и легонько хлопнул его по руке, чтобы он отпустил нос. – У нас проблемы?
– Нет у нас проблемов, – ответил Иван, но как-то подозрительно быстро начал жевать яичницу.
– Проблем, – поправил Степан, отчетливо понимая, что этих самых проблем там, очевидно, воз и маленькая тележка.
Он уже почти простил жену за то, что она ушла от него. Но он никак не мог простить мать за то, что она так неожиданно умерла. Они остались с Иваном одни. Совсем одни. Конечно, с хозяйством они справятся, им не привыкать – мама всю жизнь жила отдельно и в хозяйстве участия не принимала. А друг с другом?
– Ты что, опять трояков нахватал?
– Ничего я не нахватал! – ответил Иван, дернув плечом. – Просто я не знаю…
– Чего ты не знаешь?
– Пап, ну съезди в школу и спроси, чего я не знаю! – Он оскорбленно засопел, губы у него искривились и набухли, и всю мордаху как будто повело в сторону. – Она говорит, что я все неправильно понимаю! А я не знаю, что я неправильно понимаю!
– Да кто она-то?
– Инга Арнольдовна! – выкрикнул Иван, отвернулся и утерся рукавом. Степан слышал это имя впервые.
– Кто такая Инга Арнольдовна?
– Она ведет у нас литературу. Между прочим, с нового учебного года, папочка!
В их продвинутой школе с первого класса преподавали не чтение, а литературу.
– Ты что, – осторожно спросил Степан, – плохо читаешь?
Иван научился читать года в четыре и с тех пор буквально проглатывал все, что только попадало ему в руки.
– Папа! – воскликнул Иван с упреком. Он воспринимал такие вопросы как оскорбление. Он не понимал, почему взрослые иногда говорят такие глупости. – Читаю я хорошо! Я не понимаю! Понимаешь? Не по-ни-ма-ю!
– Черт знает что, – пробормотал Степан беспомощно. Не хватало еще только проблем в школе!
В громадном офисном здании на Профсоюзной, которое ремонтировала его строительная фирма, на прошлой неделе какие-то идиоты выбили стекла, засыпав весь ковролин мелкой, как будто алмазной, крошкой, которую ничем было не взять, даже самыми мощными пылесосами. Пока они решали, что делать с ковролином – перестилать или все-таки чистить, – прямо перед зданием прорвало водопроводную трубу, и районная администрация вместо того, чтобы трубу чинить, три дня пыталась доказать, что во всем виноваты Степановы строители, которых зачем-то понесло в этот колодец. Степан мотался в администрацию и в мэрию, скандалил, лебезил, доказывал, уговаривал, платил деньги, унижался и ругался.
В это самое время на другом его объекте, в Сафоново, местные жители организовали пикеты и стали кидаться под бульдозеры. Приехала программа «Времечко» и еще какая-то, точно такая же, только с другого канала, Степан всегда их путал. Приехал вездесущий «Гринпис», хотя никакого отношения к экологии скандал не имел, притащилось местное начальство, мечтая под это дело получить еще какие-нибудь взятки.
Старухи орали, старики потрясали тощими кулаками, рабочие, которым не платили за простои, матерились и грозились всех закопать, мужики под шумок растаскивали что под руку попадется, дети висли на оградительных сетках, предводитель орал в мегафон: «Не допустим на нашей земле святотатства!»
Святотатство заключалось в том, что, по сведениям этого самого предводителя, там, где сейчас строился торговый центр, когда-то был храм. Стоял он еще в допетровские времена, а потом его почему-то снесли и выстроили другой, на самом высоком холме, в центре села Сафонова. Никто и знать не знал о том, что на этом месте был храм, пока не объявился местный активист по имени Леонид и не стал мутить воду.
Активист был похож на всех сразу подобного рода активистов, какими их показывают по НТВ в программе «Профессия – репортер». У него была длинная бледная физиономия земского статистика, жиденькая бородка и песочные волосы. Носил он сиротский синий свитер и вельветовые брюки, заправленные в грубые солдатские ботинки.
Поначалу Степан не принял его всерьез. Потом предложил денег. Потом пригрозил убить, если тот не перестанет лезть не в свое дело.
Ничего не помогало. Угрозы активист Леонид воспринял даже с некоторым восторгом – они подтверждали его собственную значимость. От денег с гордостью отказался, а не обращать на него внимания в последнее время стало очень трудно. Движение против «святотатцев» приняло в Сафоново масштабы стихийного бедствия.
Теперь новое дело! Год кончается, а какая-то там Инга Арнольдовна заявляет его сыну, что он ничего не понимает! Сговорились все, что ли!..
– Ты у нее сегодня спроси, пожалуйста, – велел Степан, стараясь говорить спокойно, – чего именно ты не понимаешь и что мы должны сделать, чтобы ты это понял. Хорошо?
Иван заглянул в кружку и сделал вид, что не замечает оставшегося в ней морковного сока.
– Нехорошо, – сказал он, слез со стула и понес кружку в раковину.
Степан перехватил его на полдороге и вернул за стол вместе с кружкой.
– Что нехорошо?
– А то нехорошо, что она уже три раза в дневнике писала, чтобы ты приехал…
– Почему я-то об этом слышу впервые?! – взревел Степан и брякнул на стол кружку.
Худенькие плечики под модной водолазкой поникли и как-то сразу уменьшились, перед гневным отцовым взором вместо мордахи оказалась золотистая макушка с завитком тонких волос, тонкие-претонкие пальцы вцепились в кружку с недопитым морковным соком, и на черную поверхность стола капнула слезища.
– Да что ты ревешь?! Почему ты не сказал, что меня в школу вызывают?!
«Он никому не нужен, кроме меня», – подумал Степан, разглядывая макушку и чувствуя привычное стеснение то ли в горле, то ли где-то ниже.
Никто не ходит к Ивану на школьные праздники, и никто не знает, как зовут его учителей. Никому нет дела до того, с кем он дружит, и с кем дерется, и что для весеннего карнавала ему нужен костюм, и что неправильно выросшие передние зубы мешают ему внятно произносить сложные английские звуки. Никто даже не пожалел Ивана, когда у него порвался медведь, его самый любимый медведь с кофейной гладкой шерстью и янтарными глазами, Леночкин подарок. И порвался-то он по шву – подумаешь! – но из него стала сыпаться труха, и решительная Клара Ильинична моментально выкинула мишку в мусоропровод. Иван рыдал и катался по полу, а Степан приехал с работы и с разгону еще поддал по худосочной заднице, потому что сын никак не хотел успокаиваться, а отец в тот день устал так, что его даже слегка тошнило.
Конечно, потом он неловко пытался помириться и на следующий же день привез из магазина другого медведя, в сто раз краше Леночкиного, но тот косолапый так и сидел на полке в шкафу.
Иван был нужен бабушке. Они оба были ей нужны. Но она зачем-то умерла…
– Иван… – сказал Степан и за подбородок поднял голову сына. Тот пытался отвернуться, из зажмуренных глаз у него лились слезы, и он еще подвывал тихонько, жалобя самого себя и Степана. – Чего ты ревешь? Что случилось? Почему ты мне не сказал, чтобы я пришел в школу?
– Я… я… бо… боялся, – выдавил Иван, икая.
– Боялся? – переспросил Степан, опять приходя в ярость. – Меня?!
Только этого еще не хватало! Что за новости?
– Я что, – спросил он, едва сдерживаясь, – тебя бью? Или кусаю? Что ты несешь?
– Ни… ни… чего, – пробормотал Иван. – Только ты кри… кричишь все время…
– Пойди умойся, – приказал Степан холодно. – У нас времени совсем нет, а ты еще скандалы по утрам закатываешь. Ты что, не понимаешь, что у меня впереди целый день тяжелой работы? Это тебе не четыре урока отсидеть – и в бассейн, а потом гулять, а потом еще на корт с ракеточкой!
– Папочка, прости меня! – закричал совсем потерявшийся от горя Иван и стал тыкаться Степану в майку. – Прости, я не хотел тебя расстраивать!
Ненавидя себя за то, что не умеет наладить жизнь собственного сына, Степан неловко потрепал его по золотистой макушке и легким шлепком отправил в ванную.
Про корт и про бассейн это он, пожалуй, загнул напрасно. Для Ивана и четыре урока – это тот же самый день тяжелой работы, а он как будто похваляется перед ним и упрекает его в тунеядстве. Вот черт. Придется, видно, ехать в эту самую школу и разговаривать там с этой Агнессой Витольдовной.
– Иван, – крикнул он в сторону ванной, – как ее зовут, я забыл?
– Инга Арнольдовна, – донеслось из ванной после минутной паузы. – Пап, я тебе не говорил, потому что думал, ты меня в Озера не возьмешь.
Каждой весной большой компанией они ездили на выходные под Псков, в Озера. У Степана был там дом.
Лет семь назад он перекупил этот дом у какого-то «нового литовца», которому содержать его так далеко от Вильнюса было невыгодно. Степан, как правило, решал свои проблемы с непробиваемым тупым упрямством и поэтому в конце концов сообразил, как именно можно защитить дом от «неразумных хазар» во время долгих зимне-осенних простоев. Он построил на участке флигель, больше напоминавший теремок из сказки, и поселил в нем отставного десантного полковника с женой. У десантного полковника был вполне легальный «Калашников», о чем моментально стало известно всем окрестным бомжам и лихим людям. Проверять полковничью меткость почему-то до сих пор никому не захотелось, и дом всю зиму отдыхал в полной безопасности, а летом в него наезжал Степан – иногда вдвоем с Иваном, иногда с большими компаниями. Иван любил Озера больше любых самых распрекрасных заграниц. Степан разделял его точку зрения, и они отлично проводили там время. Жаль только, что времени у Степана становилось все меньше и меньше.
– Па-ап! – позвали из ванной. – А пап!
– Ну что?
– Ты меня не возьмешь в Озера?
– Да ну тебя к дьяволу, – сказал Степан довольно миролюбиво. – Что я, зверь, что ли? Когда это я тебя не брал?
– Ну… из-за этого… Из-за школы…
– Иван, нельзя быть таким трусом. – Степан через голову стянул майку и двинул в сторону дверь шкафа. Что бы такое надеть, чтобы было не слишком жарко, не слишком холодно и выглядело не слишком официально и не слишком затрапезно? – Чем мучиться, лучше бы сразу сказал, и все. И это не имеет никакого отношения к Озерам, понимаешь? Школа школой, Озера Озерами…
– Пап, телефон!
– Слышу я…
Он кинул на диван вытащенную из шкафа рубаху и ринулся в кухню, где забыл трубку. Телефон вопил, словно звонили из Америки.
– Алло!
Молчание, шуршание и писк.
– Алло, я ничего не слышу!
– Павлик, это я, – вдруг сказал Степану в самое ухо взволнованный голос. – Хорошо, что ты еще не ушел…
Чернов называл Степана Павликом, наверное, раз в несколько лет. И поводы были более чем серьезные.
– Что случилось? Черный, ты откуда?
– Из Сафонова я, – ответил Чернов, и голос у него на самом деле был странный. – Ты ребенка в школу везешь?
– Да что, блин, случилось, ты можешь сказать или нет?!
– У нас в котловане труп, Павлик. Самый натуральный и вполне свеженький, если я хоть что-то понимаю в трупах. Так что прямо сюда приезжай, когда Ивана завезешь…
Степан сел.
– Что у нас… в котловане? – переспросил он осторожно.
– Труп, Павлик, – повторил Чернов тихо, но отчетливо. – И не тешь себя напрасными надеждами – в вытрезвителе я вчера не ночевал и галлюцинациями не страдаю. Приезжай быстрей.
Павел Андреевич Степанов, которого друзья и враги называли исключительно Степаном, за долгие годы пребывания в бизнесе научился отличать выдуманные проблемы от настоящих. Это было очень важно, потому что проблемы никогда не кончались и решить их все не было никакой возможности. Имело смысл решать только настоящие.
Сейчас – Степан понял это очень отчетливо – проблема была самой настоящей.
– Ты чего? – помолчав немного, спросил в трубке Чернов. – Или в обморок упал?
– Нет, – ответил Степан сквозь зубы, – не упал. Кто-то из наших?
– Да в том-то все и дело, что да, – сказал Чернов с досадой. – Володька Муркин. Помнишь такого? Ну, вечно грязный, суетливый. Противный. Помнишь? Похож на бывшего научного работника. Я не пойму никак, что с ним… Вроде водку он не так чтоб очень жрал…
– А что с ним? – спросил Степан, одним ухом прислушиваясь к Ивану, который зашнуровывал кроссовки, пел песню и кряхтел совсем по-взрослому. Эти звуки очень успокаивали Степана.
– Лежит башкой на бетонном блоке, который позавчера в котлован свалили. Ну… и все. Крови не видно, да я близко-то и не подходил…
– А может, он жив? – спросил Степан, закрыл глаза и крепко потер их пальцами.
– Пап! – ахнул Иван издалека. – Ты что, еще не одевался?
– Нет, Паш, – сказал Чернов печально. – Не жив он.
– Точно?
– Точно.
– Па-па! Па-ап! Ты чего не одеваешься?! Нам ехать пора! Пап, ты где?
– Милицию вызвали?
– Нет еще. – Чернов, похоже, прикрыл трубку ладонью. – Я решил сначала тебе позвонить. Сейчас вызову. Ты когда приедешь?
– Минут через сорок… – Степан прикинул, сколько ему добираться до Сафонова от Ивановой школы. – Нет, не через сорок. Через час, наверное. Вызывай ментов, Вадим. Вот, твою мать, везет нам в последнее время!.. Ты не знаешь, ничего… такого у нас на объекте вчера не происходило?
– Не знаю, – сказал Чернов. – Попробую узнать.
– Да чего теперь узнавать! Без нас все станет известно!
– Папа! Мы сегодня поедем или нет?!
– Иван, перестань вопить, в конце концов! Слышишь, Черный, если что, звони мне на мобильный и… поаккуратней там, если менты до меня приедут.
– Ясное дело, – пробормотал Чернов. – Я Эдика еще не предупредил.
– Предупреди, – велел Степан, тяжело поднимаясь на ноги. – И звони ментам сейчас же!
Эдиком Беловым звали третьего в их компании. Как и Чернов, он был заместителем Степана, и втроем они составляли отличную команду, несмотря на то, что были очень разными. Белов – рафинированный профессионал, Чернов – рубаха-парень, умеющий подружиться с любым, даже самым строптивым клиентом. Степан был начальником.
Короткие гудки бились не в трубке, а, кажется, где-то внутри головы.
Труп в котловане – неслабое начало дня. Ничего лучшего невозможно придумать, даже если придумывать специально. Любой вариант развития событий обещает не менее волнующее продолжение.
Если это не убийство, а нарушение правил техники безопасности, значит, Степану предстоит чудовищно долгое и выматывающее душу разбирательство, на время которого все работы на объекте, скорее всего, будут приостановлены. Да и одним разбирательством, естественно, дело не кончится. Придется платить, платить всем, от кого хоть в какой-то мере зависит, разрешать Степану продолжать работу или не разрешать. Обязательно всплывет какая-нибудь берущая за душу история с иногородними рабочими.
Естественно, Степан предпочитал нанимать приезжих – им можно меньше платить, и в столице они, как правило, никого не знали, следовательно, пропивать заработанное им было особенно не с кем. Большинство из них приезжали на заработки с просторов «вильной Украины», не так давно освободившейся от российского ига. За один рубль там давали как раз килограмм местной украинской валюты, и за счет отца семейства, который работал у Степана, кормилось еще полтора десятка малороссийских родственников. Поэтому приезжие рабочие, в отличие от таких же, но местного, московского разлива, работали лучше, а пили значительно меньше, что очень устраивало большинство нанимателей. Конечно, никто из них не был прописан в Москве даже временно. Степан регулярно платил взятки участковым и паспортисткам, и его рабочих они оставляли в покое, но в последнее время борьба «за чистоту рядов» в Москве обострилась, и сдерживать служебное рвение паспортисток и участковых стало сложнее.
А тут на тебе!.. Новое дело! Труп в котловане. Объясняться придется не только с ментами. Объясняться придется с заказчиками, что значительно хуже.
Его заказчиками на этот раз были ребята исключительно серьезные. Они строили супермаркеты в ближайших к МКАД поселках, где отоваривались в основном жители пригородов, а летом еще и многочисленные дачники, которым удобнее покупать еду здесь, а не в центре Москвы, откуда потом невозможно было выехать.
Степан знал: если заказчики будут довольны, его фирма без работы не останется никогда. Все многочисленные супермаркеты для них будет строить исключительно он. Его порекомендуют другим, таким же серьезным ребятам. Компания «Строительные технологии» выйдет на новый, невиданно высокий уровень, и наступит наконец долгожданное время почивания на лаврах. Наступило, блин…
Лучше бы его убили, этого… как его… Куркина или Дуркина… Нет, вроде Муркина, что ли. Тогда получится, что Степан и его команда вовсе ни при чем, мало ли где и кого убивают!
– Пап, ты чего? – совсем рядом испуганно спросил Иван, и Степан очнулся. – Ты почему не одеваешься, а?
Сын смотрел на телефонную трубку в руках Степана. Глаза у него расширились, и мордочка стала совсем детской – от страха.
Он боялся телефона.
Однажды по телефону Леночка сообщила Степану, что никогда больше к нему не вернется.
«А Иван?» – спросил тогда Степан, тяжело глядя на сына, который ковырялся у него в ногах. Ему было пять лет.
«Ну Сте-о-о-па! – протянула Леночка с веселым упреком. – Ну будь человеком! Ну куда мне еще ребенка?! Скажи спасибо, что я тебе квартиру оставляю!»
Квартира принадлежала Степану, но Леночка об этом все время забывала.
Выслушав ее, Степан повесил трубку, достал из морозильника бутылку водки и залпом выпил ее, не отрываясь и не закусывая. Иван зачарованно смотрел на него. Потом Степан лег и проспал, наверное, часов двадцать, не слыша ни плача Ивана, ни его причитаний, не чувствуя, как тот пытался его разбудить. Он проснулся в сумерках. Иван, свернувшись калачиком, спал у него под боком. Сквозь рубаху просвечивали острые позвонки. Степан зачем-то растолкал сына и сказал, что мама к ним больше не вернется. От страха Иван даже не заревел, а завыл, глядя на отца потемневшими от ужаса расширенными глазами и широко разевая розовый, совсем младенческий ротишко.
С тех самых пор телефоны Иван ненавидел и боялся.
И не зря.
В прошлом году тот же самый телефон – телефон-предатель, телефон-злодей – сообщил им, что бабушка умерла…
– Папа… – повторил Иван, не отводя глаз от аппарата. И даже попятился немного.
Степан злобно сунул трубку в гнездо.
– Все в порядке, – сказал он преувеличенно спокойно. – Просто мне срочно нужно на работу.
– На работу? – переспросил Иван упавшим голосом. Он явно не верил, что отец так расстроился из-за такой ерунды.
Как все очень одинокие и не слишком защищенные дети, он склонен был видеть в простых и обыкновенных событиях самое худшее, а сегодня события явно были необыкновенными.
– Ты не знаешь, где я рубашку бросил? – спросил Степан, стараясь отвлечь сына и разрываясь от внезапно навалившейся жалости к нему и обиды на жизнь, которая в последние несколько лет преподносила им обоим исключительно неприятные сюрпризы.
– Знаю, – приободрился Иван. – Ты ее в своей спальне на кровать бросил. Только она потом на пол упала.
– На пол? – переспросил Степан машинально. Он уже не думал об Иване. Он думал только о том, что происходит в Сафоново и как бы сделать так, чтобы уже там оказаться и начать контролировать ситуацию.
Чего бы он только не дал сейчас, чтобы Ивана в школу отвез кто-нибудь другой! Чего бы он не дал, чтобы хоть на день перестать метаться между работой и ребенком, который, несмотря на свои восемь лет, все еще был удручающе мал и ничем не мог помочь Степану в вопросах собственного воспитания.
Иван не мог оставаться дома один, он сразу же начинал плохо учиться, если Степан хоть на неделю ослаблял контроль, он не засыпал, если отец не успевал приехать домой к ежевечерней церемонии укладывания в постель, он не давал ему разговаривать по телефону – как только Степан садился с трубкой на диван, Иван моментально пристраивался рядом, укладывал голову ему на живот, обхватывал ручками-палочками за шею и начинал удовлетворенно сопеть, как щенок, до отказа налакавшийся теплого молока. Иногда Степан стряхивал его с себя, но чаще всего у него не хватало духу.
– Вот она, пап! – Иван стоял в дверях, совершенно одетый, и смотрел на него преданно. В руках у него была свежая Степанова рубаха – огромный ком. Он очень старался услужить и отвлечь отца от грустных мыслей.
– Спасибо, – пробормотал Степан. Рубаху надевать нельзя. Сначала ее нужно долго гладить.
Черт, черт, черт!!
Роняя какое-то барахло, он даже не вынул, а выдернул из шкафа первые попавшиеся вещи, кое-как напялил, рыча от нетерпения и злобы. Придерживая подбородком крышку портфеля, он озверело рылся в нем, пытаясь определить, где его мобильный телефон, и, на минуту прерываясь от поисков, обувался.
Иван стоял в отдалении, готовый по первой же команде броситься вон из квартиры.
– Ты взял ракетку и спортивную форму? – Степан спросил невнятно, все еще придерживая крышку портфеля. Телефон никак не находился.
– Забыл! – вскрикнул Иван тоненько и кинулся в свою комнату. – Сейчас, сейчас…
– Растрепа, – пробормотал Степан ему вслед так, чтобы тот слышал. – А что, вчера нельзя было собраться?! – заорал он, захлопнув наконец портфель. – Почему я должен помнить о том, что у тебя сегодня теннис, а ты сам ничего не помнишь?!
– Я помнил, помнил!.. – закричал в ответ Иван. – А потом забыл… Пап, где мои шорты?
Степан даже рычать уже не мог.
Он зашел в комнату, по которой в панике метался Иван, в бешенстве вышвырнул с полки все, что там лежало, выудил из безобразной кучи на полу шорты и майку, с силой развернул Ивана спиной к себе и запихал барахлишко ему в рюкзак. Иван только сопел испуганно.
– Где ракетка?
– В школе осталась, пап… В моем шкафчике.
– Да шевелись ты, Христа ради! Мне нужно было выехать уже двадцать минут назад!
«Тем более сегодня на моем объекте в Сафоново мой собственный зам нашел труп моего собственного рабочего».
Черт, черт, черт!!
Они оба выскочили из подъезда так, словно за ними гнались разбойники, и стали оглядываться в поисках машины. Степан всегда забывал, где именно ее оставил. В этот момент они были просто неправдоподобно похожи друг на друга.
– Вон она, пап!
На ходу доставая ключи и толкая перед собой сына, Степан бросился к джипу.
– Садись, Иван. И чтобы сразу пристегнулся! – Несмотря на то что тяжеленный джип был безопасен и надежен, как «Конкорд», Степан испытывал какое-то почти мистическое уважение к привязным ремням.
Леночка никогда не пристегивалась…
Вчера весь день шел дождь, машина была не просто грязной, она была вся, от колес до крыши, заляпана толстым слоем засохшей глины и песка.
– Иван, не прислоняйся! Ты что, не видишь, какая грязь?!
«Надо хоть стекла протереть, а то поеду, как в танке…»
Степан кинул в салон портфель, машинально отметив, что Иван сосредоточенно пихает пряжку ремня в замок, выхватил из дверного кармана тряпку и стал остервенело тереть лобовое стекло.
Он тер, и из-под тряпки, отраженные стеклом, как в сказке, проступали голубое опрокинутое небо и тонкое сплетение еще голых веток.
Какой теплый в этом году апрель!
Съездить бы с Иваном в лес, подышать весной, как это называла мама. Наверное, дороги уже растаяли, а где-нибудь повыше не только растаяли, но уже и высохли. Из-под жухлой прошлогодней травы наивными стрелами вылезает молодая, на пригорках печет, и из срезанной березовой ветки торопливо капает прозрачный сок.
«Если к субботе я буду способен двигаться, свожу Ивана в лес, и черт с ними, со всеми делами».
Степан обежал капот и стал тереть стекло с другой стороны.
Странное дело. Ему показалось, что капот почему-то теплый. Он даже осторожно потрогал шероховатую от грязи поверхность. Солнце с утра нагрело, понял он. Надо же, какой теплый в этом году апрель!..
Степан распахнул водительскую дверь, сунул на место тряпку и взгромоздился за руль.
– Готов? – спросил он у Ивана. Он всегда его об этом спрашивал перед тем, как тронуться.
– Готов!
Степан запустил двигатель, напялил темные очки, придававшие ему совершенно классический бандитский вид, и нажал кнопку на приемнике. Обернувшись через плечо и сопя от неудобного положения, он осторожно выбирался с крошечного асфальтового пятачка.
– Иван, что ты сделал с приемником, почему он не работает?
– Я его не трогал! – В голосе неподдельное и совершенно искреннее негодование. – Ты же не разрешаешь!..
– А ты всегда делаешь только то, что я разрешаю? – усмехнулся Степан. Он притормозил перед выездом на бульвары и посмотрел на приемник. – А говоришь, не трогал!
Приемник был переключен с радио на CD. Компакт-диски Степан в машине никогда не слушал.
– Ну что? Не трогал?
– Не трогал!
– Не ври мне никогда!
Но у него не было никакого желания препираться с сыном.
Он выехал на финишную прямую. Ему осталось только добраться до школы – и он освободится от Ивана, по крайней мере до вечера. За это время он должен переделать все свои дела, разобраться, что именно натворили его козлы-работяги, кто там кого укокошил или не укокошил, позвонить Сергею Рудневу и постараться убедить его в том, что он, Степан, ситуацию полностью контролирует, хотя он ее ни черта не контролировал, но Рудневу об этом знать не полагалось.
– Пап, ты, по-моему, слишком быстро едешь…
– Нормально я еду! – Степан кидал джип в любую освободившуюся щель, куда он только мог пролезть. Нетерпение и беспокойство жгли его изнутри.
– Иван, скажешь своей учительнице, что я приеду, когда смогу, хорошо?
– Хорошо, – ответил Иван с тяжелым взрослым вздохом. – Скажу. Пап, а можно мне в субботу пойти к Димке на день рождения? – Это означало, что его придется куда-то везти, а потом оттуда забирать. И никакого леса.
– Посмотрим, – сказал Степан неопределенно. Он даже представить себе не мог, что именно ждет его в субботу. До нее еще предстояло дожить.
– Ты всегда так говоришь, когда не хочешь меня пускать, – сказал Иван горько. – Меня скоро никто приглашать не будет!
– Вот и замечательно, – пробормотал Степан.
В редкие выходные, когда ему не нужно было никуда нестись, он старался хотя бы выспаться на несколько дней вперед. Таскать Ивана из конца в конец Москвы или – еще хуже! – к кому-нибудь на дачу было выше его сил.
– Давай! – сказал Степан, затормозив у чугунных ворот небольшого нарядного особнячка, в котором помещалась Иванова школа. – Вон твой Валерий Владимирович на крылечке…
Иван полез из машины. Он был явно расстроен. Плохое утро. И день, наверное, будет еще хуже…
– Лапу давай, – приказал Степан, глядя, как сын тащит за собой рюкзак. – Забыл?
– Забыл, – признался Иван и протянул худую и совсем плоскую ладошку. В Степановой руке могли поместиться четыре такие ладошки. – Пап, приезжай скорее…
– Ладно, не ной, – оборвал его Степан. – Если ничего не произойдет, я тебя заберу как обычно.
Иногда, когда он не успевал, Ивана забирала Клара Ильинична, чего тот терпеть не мог. Хорошо хоть, что занятия у них продолжались не до двух, как в простой школе, а до семи часов.
– Пока, пап!
– Пока, – сказал Степан и захлопнул за сыном дверь. Он постоял еще несколько секунд, пока Иван не добрался до Валерия Владимировича, потом нажал на газ и с ходу вылетел на перекресток.
Про Ивана он тут же забыл.
– Да вон он подъехал…
– Где?
– Да вон, говорю, подъехал! Ну, здоровую машину видите?
– Вижу.
– Ну! Он и есть. Степанов Пал Андреич. Большой человек. Всем остальным главный начальник… – Рабочий выразительно сплюнул, глянул на небо, потом на лес, потом на вагончики, возле которых вяло толпился народ. Почему-то Павел Андреевич Степанов явно его раздражал. Или пугал.
Что это такое? Обычное неудовольствие маленького человека, которого большой заставляет на себя работать, или свидетельство того, что Павел Андреевич вообще личность неприятная?
– Ну и как он? – спросил милицейский капитан Никоненко осторожно, словно проверяя пальцем, не слишком ли горяч утюг.
– Кто? – не понял рабочий. Либо он на самом деле был непробиваемо туп, либо притворялся в пока неизвестных капитану Никоненко целях.
– Да этот ваш, который всем начальник?
– А-а, – протянул рабочий, затянулся и выдохнул в сторону дым. Из деликатности, как определил Никоненко. – Я, товарищ капитан, ничего про ихние дела не знаю. Нам про это знать не положено. Мы работаем, зарплату получаем, а остальное – не нашего ума…
Капитан вдруг взглянул на него внимательно и остро, как ножом полоснул. Полоснул и опять спрятал нож в рукав.
– Чего вам знать не положено?
– А ничего! – сказал рабочий и улыбнулся радостно. – Вам если интересно, вы лучше с ними, с начальниками, поговорите, а нам ничего не известно, мы…
– Да-да, – подтвердил капитан рассеянно, – я слышал. Вы люди маленькие.
– Во-во, – согласился рабочий, – вы, товарищ капитан, с Валентин Петровичем потолкуйте, с прорабом нашим. Потом с этими двумя… гавриками… Чернов с Беловым которые. Вот ведь как бывает-то… Чернов да Белов, да обои два в одном месте сошлись…
– Слушайте, – не выдержав, сказал Никоненко лениво. – Хватит, а? Я понимаю, что вы вчера «Следствие ведут знатоки» от начала до конца посмотрели. Только тот, который в телевизоре, лучше играл. Плохо вы играете, уважаемый Ярчук Петр Павлинович, штукатур. И я не благородный Пал Палыч Знаменский. Я послушаю, послушаю, да и отправлю вас в отделение. Хотите? У вас ведь наверняка прописочка-то того… Мариупольская?
Штукатур Ярчук Петр Павлинович даже попятился, такой страх нагнал на него капитан Никоненко.
– Да я что… – забормотал он, стреляя по сторонам глазами, словно пытаясь найти какое-нибудь дело, за которое ему необходимо спешно приняться, – я ничего… это я так просто… Они-то побольше моего… Я-то совсем ничего… Что знал, то сказал, товарищ капитан…
– Значит, ничего не видели, ничего не слышали; зачем Муркин ночью в котлован полез, не знаете, с кем он вчера пил, тоже не знаете, потому что сами в это время в Москву уехали. Зачем, кстати? Третьяковскую галерею посещали?
– А? – переспросил Ярчук, преданно глядя в глаза страшному капитану. – Что вы спрашиваете, товарищ капитан?
– Зачем в Москву ездили вчера вечером, спрашиваю. – Краем глаза он видел, что давешнего мужика, который подкатил на «Тойоте», окружила толпа приближенных, один из них, длинноносый и коротко стриженный, что-то быстро ему говорил, остальные тоже совались, пытаясь что-то сообщить, потом длинноносый махнул рукой в сторону капитана, и Никоненко моментально сделал вид, что смотрит вовсе в другую сторону.
– Так зачем?
– Домой звонил, – сообщил Ярчук добросовестно. – Звонил, спрашивал, все ли благополучно…
– Ну и как?
– Что?
Капитан Никоненко вздохнул.
– Все благополучно?
– А… Да-да, все…
– Ладно, – сказал капитан, словно отпуская перепуганного Петра Павлиновича. – Если вы мне понадобитесь…
– Конечно, конечно, товарищ капитан, – забормотал тот, отступая и чуть не кланяясь, – мы всегда тут, всегда на месте, мы люди маленькие, однако ж если понадобимся…
«Лакейская сущность неистребима, – думал капитан Никоненко философски, провожая взглядом подобострастную спину. – Кто там из великих собирался по капле выдавливать из себя раба? Вот, к примеру, из Ярчука Петра Павлиновича раба выдавить не удастся никак – ни по капле, ни по столовой ложке, ни по ведру. Он раб с головы до ног, и ему хорошо, уютно, и ничего из него выдавливать не имеет смысла.
Длинноносого зовут Вадим Чернов. Он заместитель генерального директора компании „Строительные технологии“. Именно он нашел тело и позвонил нам.
Генерального зовут Павел Степанов, и он только что приехал. Заместитель его наверняка предупредил, но что-то он не особенно торопился. Почему? Придумывал, как отмазаться? Или из теплой постели никак не мог вылезти?
В котловане бродил фотограф, равнодушно нацеливался аппаратом и общелкивал тело с разных сторон.
Так еще и не ясно, от чего это тело умерло – то ли спьяну неудачно упало, то ли толкнул его кто…
Красавица с платиновыми волосами из окружения Степанова, у которой такое встревоженное, даже испуганное лицо, именуется Александра Волошина, и должность у нее мудреная – офис-менеджер».
Капитан Никоненко был совершенно уверен, что никаких таких должностей в природе не существует и начальники выдумывают их только затем, чтобы вполне легально и с полным удобством для себя всегда иметь под рукой – или под какой-нибудь другой частью тела – такую вот платиновокудрую кралю.
«Что офис-менеджер может делать рано утром на подмосковной стройке? Где тут офис? Полтора вагончика и один иностранный прицеп, в котором вроде бы размещается кухня? Это офис?
Откуда взялась толпа за хлипкими воротцами из блестящей сетки? Им-то чего надо? Обычное любопытство? Не похоже. Больно уж их много, и стоят они давно. Правда, скорее всего, в селе Сафоново больше делать нечего – только стоять где-нибудь. Хочешь, стой возле автовокзала, хочешь, возле стройки. Где хочешь, там и стой…
Почему штукатур Ярчук ненавидит начальство? Почему никто не знает, пил вчера вечером покойный Муркин или не пил? Это уж совсем глупо! Экспертиза на счет „три“ установит, сколько у него в крови алкоголя и сколько часов назад он туда попал.
Почему так долго не приезжал начальник? У него в котловане труп, а он где-то катался чуть не полтора часа.
Ох-хо-хо…»
Капитан Никоненко закинул голову и посмотрел в чистое глянцевое апрельское небо. Смотреть в небо было приятно. И пахло хорошо – близким лесом, землей, вчерашним дождем. А несчастный Муркин в котловане ничего этого не видит и не увидит уже никогда.
Степан вполуха слушал, что говорит ему без меры взволнованная, бледная, чуть не падающая в обморок Саша Волошина, и поглядывал на молодого мужика, который стоял в котловане, засунув руки в плотные джинсовые карманы, и смотрел в небо. Черный сказал, что это и есть капитан Никоненко из местного райотдела.
Когда Степан подъехал, капитан разговаривал с одним из рабочих – Степан не мог вспомнить, как того зовут, – и подойти не торопился.
Саша лепетала что-то о том, как ей позвонил Чернов и как она сразу кинулась в Сафоново, хотя с утра должна была быть в конторе, на Большой Дмитровке, и Степан так до сих пор и не понял, зачем Чернов ей звонил и зачем она приехала, бросив контору. Степан слушал плохо, думал о другом и только один раз поймал напряженный взгляд Чернова, но что именно заместитель хотел ему сообщить телепатическим способом, так и не понял. Все это время он внимательно обдумывал, должен ли подойти к капитану или лучше ждать, когда тот подойдет сам.
Поизучав еще немного небо, капитан нехотя оторвал от него взор и устремил его на ближайшую березовую рощу. На толпу, окружившую Степана, и на самого Степана он никакого внимания не обратил.
«Ну и черт с тобой, – решил Степан, внезапно разозлившись. – Я все отлично понимаю, тертый калач, не вчера родился. Преимущество на твоей стороне. Я кто? Я в данный момент никто. Я – перепуганный начальник, под носом у которого случилось ЧП и который еще не знает масштабов бедствия. Ты вполне можешь меня не замечать и даже игнорировать, потому что знаешь – никуда я от тебя не денусь. Прибегу по первому слову. Вызовешь в отделение – побегу в отделение. Скажешь, чтобы заплатил, – заплачу. Не важно за что. За что угодно. Ты в данный момент решаешь мою судьбу. Ты определяешь, разрешить мне работать дальше или запретить. Ты можешь устроить мне бездну неприятностей, драгоценный капитан Никоненко. А я могу только жалобно смотреть тебе в глаза и умолять, чтобы ты этого не делал».
– Так, все, – сказал Степан раздраженно и отстранил рукой Сашу, которая сразу же испуганно замолчала, – хватит. Митинг окончен. Все расходятся по своим местам. Петрович, забирай ребят и жди указаний. Никто ничего не предпринимает. Я понимаю, что болтать все равно все будут, но делайте это так, чтобы я не слышал. Эдик, Руднев не звонил?
Белов покачал головой.
– А должен был?
– Если позвонит, я сам с ним поговорю. Черт, еще полоумных принесло на нашу голову!.. – Полоумными они называли местных борцов против святотатственного торгового центра.
Все как по команде повернули головы и в мрачном молчании некоторое время созерцали жидкую толпу с плакатиками, которая переминалась за заградительной сеткой.
– Хорошо хоть главного нет, – сказал Чернов, почесав за ухом, – если бы он ментов увидал, он бы тут такое шоу устроил!
– Устрою я ему в следующий раз шоу! – пробормотал Степан. – Пошли, мужики.
Заместители переглянулись и двинулись за Степаном, который решительно зашагал в сторону капитана Никоненко. Саша Волошина дернула Чернова за руку, принуждая остановиться.
– Вадик, как ты думаешь, это убийство?
Чернов сверху посмотрел на нее.
– Я не знаю, – сказал он осторожно. Почему-то его беспокоил ее страх. Страх был таким огромным и реальным, что Чернову казалось, его можно потрогать. Саша вся была окружена этим страхом, как модель человека – биополем на медицинских картинках.
– Я думаю, что этого пока никто не знает, Саш. Поди пойми, сам он свалился или его столкнули…
– А… могли? – спросила она придушенным голосом, и окружающее ее облако страха налилось черным цветом и запульсировало. – Ты думаешь, что его могли… столкнуть?
– А черт его знает, – сказал Чернов, раздражаясь. – Откуда мне знать? Да тебе-то что, Саш? Что ты так уж… переполошилась?
В какую-то крохотную секунду у нее изменилось лицо. Она вдруг побледнела, как будто он сообщил ей нечто ужасное, и даже шагнула назад. Чернову показалось, что она едва контролирует себя, изо всех сил сдерживается, чтобы не побежать.
Дьявол, что происходит-то?!
– Саш, ты чего? – спросил он и протянул руку, чтобы при попытке к бегству она не упала. – Да хрен с ним, с трупом этим, я даже жалею, что позвонил, ей-богу!
– Нет, нет, – ненатурально сказала она и еще отступила на шаг, – наоборот, спасибо большое, что ты позвонил, я бы на Дмитровке от страха и неизвестности совсем пропала. А тут я все-таки с вами… Иди, Вадик, а то Степан уже оглядываться начал. Ты мне потом расскажешь, что этот капитан думает?
– Расскажу, – пообещал Чернов без энтузиазма, – не волнуйся, Саш, все будет в порядке. Ты лучше распорядилась бы насчет чаю или там кофе, что ли… Я так понимаю, они у нас целый день проваландаются…
– Да-да, – заторопилась она. – Конечно, Вадик. Я сейчас.
Чернов проводил ее глазами.
Странно. Непонятно.
Он двинулся вслед за Степаном, успевшим отойти довольно далеко, и оглянулся еще раз.
Саша торопливо удалялась в сторону административных вагончиков, перескакивала через лужи и то и дело заправляла за уши платиновые пряди волос. У нее были длинные-предлинные ноги, облаченные в стильный джинсовый комбинезон, прямые плечи под модной курткой, изящные уши с тремя серьгами в каждом и нежная розовая кожа не только на мордашке, но и на ухоженных тонких руках.
Вокруг нее по-прежнему пульсировал страх.
Чернов покрутил головой, чтобы собраться и отвлечься от мыслей о Саше, но это было трудно.
Она ему нравилась. Впрочем, она всем нравилась.
Степан добыл ее на каком-то собеседовании в престижном кадровом агентстве года три назад. Тогда они все, и Чернов в том числе, были совершенно уверены, что шеф наконец-то выбрал себе любовницу и даже возвел ее в некий почти официальный статус. Чернову она сразу понравилась, но правила игры нарушать он не собирался, тем более ему было хорошо известно о том, какие чудовищные проблемы тащит на себе Степан и как плохи его дела в отношении противоположного пола.
Саша воцарилась в офисе на Большой Дмитровке и моментально привела его в божеский вид – не зря за нее хлопотало престижное кадровое агентство.
В одну неделю строительная контора – мужское царство, полное окурков, грязных кофейных чашек, пустых бутылок, тарелок с остатками печенья и присохшими мухами, пепельниц с плесневелыми чайными пакетиками, бумажных завалов и прочей ерунды – превратилась в нормальный офис. Может, Степан и неправильно понимал название Сашиной должности, но она занималась жизнеобеспечением конторы и делала это исключительно талантливо.
Она моментально уволила уборщиц, которые почему-то отродясь ничего не убирали, зато очень любили рассказать Степановым посетителям и сотрудникам, как замечательно они жили, когда здесь еще не было Степана, а был научный институт с поэтическим названием «Мосгортеплица».
Секретаршу Зоеньку, которая не знала падежей и немецкую краску «Салолин» называла почему-то «Засадикс», а также была уверена, что модем – это лазерное шоу Жан-Мишеля Жарра, и принимала приглашения в ресторан от всех без исключения клиентов, перевела на склад. Зоенька, поплакав немного для порядка, обрела себя. Клиенты, правда, на склад не приезжали, зато водителям тяжелых грузовиков было наплевать, знает Зоенька падежи или нет.
Откуда-то появилась кухарка, расторопная и опрятная женщина средних лет, бухгалтерия переселилась в отдельное крыло, длинноволосые и очкастые парни, обмениваясь непонятными и красивыми до ужаса словами, соединили все компьютеры в единую сеть, факсовая бумага перестала заканчиваться в середине важного сообщения, почта перестала скапливаться в углах, и стало совершенно непонятно, как все предыдущие годы контора существовала без Саши Волошиной.
Где-то приблизительно в то же самое время выяснилось, что никакого романа у них со Степаном нет и не намечается.
– Во дает! – однажды сказал Чернову Белов, когда они оба провожали скорбными взглядами Сашину попку, затянутую в дорогие джинсы. – Такая красота каждый день рядом, а он – ни бэ ни мэ…
Степан с Сашей честно и безыскусно дружил, чего Чернов никак не мог себе объяснить. Он был совершенно уверен, что любой нормальный мужчина в Сашином присутствии не может и не должен думать ни о чем, кроме того, как бы половчее затащить ее в постель. А Степан ни о чем таком, кажется, вовсе и не думал. На день рождения в прошлом году он притащил ей громадный букет белых роз, медведя величиной с небольшой шкаф для книг и золотой браслет – «от коллектива». Саша смеялась, краснела, прижимала к груди розы, гладила медведя и браслет с тех пор никогда не снимала.
Однако браслет браслетом, а никакого романа у них так и не сложилось.
«Эх, – с привычной мрачной досадой думал Чернов про Сашу, поспевая за Степаном, – достанется же кому-то такое сокровище».
Просто так достанется. Ни за что.
Выйдет замуж, родит таких же платинововолосых красавиц и станет возить их на горнолыжные курорты. Почему-то в представлении Чернова Саша изумительно сочеталась с горнолыжными курортами, на которых он сам никогда в жизни не был.
У входа в вагончик Саша помедлила и как бы невзначай оглянулась. Все трое – Степан и Чернов с Беловым – уже стояли возле капитана, который со скучным лицом в упор рассматривал их.
Сердце у нее колотилось, и ладони были мокрыми.
Вадим, кажется, обо всем догадался. Он слишком наблюдателен и умен. Он все понял, и теперь ему остается только проверить, правда ли это. Сделать это очень просто.
Она потеряет все – свободу, работу… Жизнь.
Она передохнула, унимая бешено стучащее сердце, и взялась рукой за поручень вагончика, приятно нагретый солнцем.
«Или нет? Или все-таки он ничего не понял? Списал все на женское волнение при виде трупа? А что, собственно, он мог понять из того, о чем я его спрашивала? Скорее всего, ничего…»
Она посмотрела по сторонам и шагнула на первую ступеньку.
«Если он ничего не понял сейчас, – шепнул ей страх, – значит, он все поймет, когда мертвого Муркина обыщут. И Степан поймет. И Эдик. И буфетчица Зина, которая смотрит сейчас из окошка своего прицепа. И Валентин Петрович, который называет ее дочкой. Все.
Этого никак нельзя допустить».
Она, Саша Волошина, этого не допустит. Она еще точно не знает, как можно не допустить катастрофы, но она что-нибудь придумает.
Она умная.
…Примерно через полчаса после начала разговора капитан Никоненко понял, что Павел Андреевич Степанов ему нравится.
Конечно, он был «новый русский», и все, что его окружало, тоже было вполне «новорусским»: кожаное кресло и стол из настоящего дерева – в вагончике на стройке! – мобильный телефон размером с зажигалку, как это называется в рекламе, кофейные чашки английского фарфора, бронзовые настольные часы, криво поставленные на кучу разъезжающихся бумаг, но сам Павел Степанов производил впечатление вполне нормального – вменяемого, как определил капитан Никоненко, – мужика. Может, потому, что выглядел так, как будто одевался по команде «Воздушная тревога». На нем были стильные серые слаксы – очевидно, очень дорогие, – байковая клетчатая рубаха «Рибок» и криво застегнутая жилетка, волнами вздыбленная на животе. Куртку из тонкой замши он кое-как пристроил на спинку кресла.
Давешняя краля по имени Александра Волошина неслышно зашла следом за девушкой, принесшей поднос с кофе и разнообразной едой, быстро и очень внимательно осмотрела всех по очереди – милицейского, заместителей и шефа. Сделала какое-то неуловимое движение, в результате которого оказалась рядом со Степановым, наклонилась, как будто поправляя бумаги под бронзовым чудовищем – грудь под тонкой эластичной блузкой обозначилась еще рельефней, – и таким же неуловимым, совсем незаметным движением одернула на нем жилетку.
Шеф ничего не заметил.
Высший пилотаж, одобрительно подумал капитан Никоненко. Вот это услужливость! Вот это умение быть полезной! Вот это знание жизни!
Краля ретировалась так же незаметно, как и появилась, и капитан только спустя некоторое время поймал себя с удивлением на мысли о том, куда же она провалилась.
Замы смотрели на капитана неприязненно, одинаково прихлебывали кофе из чашек английского фарфора и время от времени косились друг на друга, словно спрашивая совета или делясь информацией на каком-то более высоком и недоступном пониманию уровне. Шеф в их переглядываниях участия не принимал и вообще выглядел подавленно. Капитан Никоненко – человек бывалый и опытный – его подавленность мысленно отнес в графу со знаком «плюс». Было бы гораздо более странно, если бы он не был подавлен. Ему-то как раз ничего, кроме неприятностей, не светит.
– Мы опросили свидетелей, – начал капитан с того места, на котором остановился, когда принесли кофе, – не могу сказать, что это дало какие-то результаты. По словам ваших рабочих, ночью все было тихо и спокойно. Никто не кричал, не шумел, не дрался…
Чернов в который уже раз быстро взглянул на Белова. Слава богу, драки не было. Значит, не было и убийства. Или… не значит?
– Охранники мирно почивали в своем домике, и никто из них даже не проснулся, когда Муркин свалился в котлован.
– Как только вы уедете, всех к чертовой матери уволю, – сообщил Павел Андреевич своему шикарному настольному прибору.
– Подождите, – попросил капитан Никоненко. – Они нам еще понадобятся.
Степанов поднял глаза от прибора и посмотрел на него. Глаза у него были замученные, как у издыхающей от усталости ездовой собаки.
– Нет никаких данных, указывающих на то, что произошло убийство, – сказал Никоненко больше из жалости, чем потому, что это нужно было сказать. – Экспертиза установит, был ли он пьян. Если был, значит, это ваши проблемы. Если не был, значит…
– Значит, ваши, – закончил за него Степан. – А работать когда можно начинать?
«Вот что тебя беспокоит, – подумал Игорь Никоненко. – Ну конечно! Как же это я сразу не догадался? Работа стоит. Ты теряешь свою драгоценную прибыль. Для тебя любые жизненные события и катастрофы оцениваются в долларовом эквиваленте. Нет, пожалуй, ты мне не нравишься, Павел Степанов».
– Сейчас тело увезут, мы произведем дополнительный осмотр места происшествия, потом подождем результатов экспертизы, и можно работать.
Он сладко улыбнулся и отпил очень крепкого и очень горячего кофе. Что же это за чашки такие? Специально, что ли, сделанные? Кофе как был огненный, так и остался. Эх, и чего только не придумают проклятые капиталисты, чтобы лишние денежки из покупателей вытянуть! Вот чашку придумали, в которой кофе не остывает…
Он рассматривал чашку с искренним интересом деда Щукаря и держал паузу, ожидая, когда шеф снова заговорит. Вместо шефа заговорил Белов, кавалергард и красавец, как определил про себя его сущность Никоненко.
– А этой вашей… экспертизы долго ждать придется?
– Смотря как эксперты загружены, – отозвался Никоненко и даже головой помотал, показывая, как заняты порой бывают эксперты. – Вы не поверите, но у нас тоже бывает много работы!
Степан усмехнулся.
– Каков вопрос, – сказал он своему заму и поднялся из-за стола, – таков ответ. Верно, Игорь Владимирович?
– Верно, – согласился Никоненко, – расскажите мне еще что-нибудь, пока я не уехал, Павел Андреевич. Что это за голодранцы с флагами?
– Сие не голодранцы, – объяснил Белов непонятно, – сие есть местные жители, протестующие против нашей стройки. А что? Неужели вы не слышали? У нас тут целая баталия развернулась…
– И что в результате баталии? – спросил Никоненко, обращаясь к спине Степанова. – Виктория или кон-фузия?
– Скорее виктория, – подумав, сказал Степан. – Вернее, нет, не виктория. Пожалуй, один – один. Они продолжают стоять, а мы продолжаем строить, только и всего.
– А в чем суть-то?
– А суть в том, что объявился тут еще зимой защитник села Сафонова, который раскопал какие-то данные о том, что как раз на том месте, где мы сейчас строим, в семнадцатом веке был храм. Потом с ним что-то случилось – то ли он сгорел, то ли рухнул, но восстанавливать его почему-то не стали, а построили новый, который до сих пор стоит. Николая Чудотворца храм. Во-он, его даже отсюда видно. Посмотрите.
– Что мне на него смотреть, – пробормотал капитан Никоненко. – Я в этих местах вырос, и в храме этом мою мамашу крестили, а потом и меня… Можно еще кофе?
– Да, – сказал Степан, – конечно.
Почему-то известие о том, что капитана Никоненко крестили в том самом храме, который виден из окошка его вагончика, Степана утешило, хотя это была явная глупость. Не все ли равно, где его крестили?
– Ну вот. Активист собрал вокруг себя каких-то бабок и дедов, которые теперь… стоят.
– А вы терпите? – спросил Никоненко с недоверием.
– Терпим, – согласился Степан, поморщившись. – Не бить же их, в самом деле. Хотя, скажу честно, этого козла я принародно грозился убить. Это недели две назад было или больше даже. Да, Черный? И денег ему предлагал, и с территории вывозил, и чего только не делал. Не унимается, и все тут.
– А за что вы грозились его убить? Степан мельком взглянул на капитана.
– Да они начали под машины ложиться. Остальных ребята-бульдозеристы за ограждение вынесли, а этому козлу я в морду дал. Сказал – еще раз ляжешь, убью. День был такой поганый, ну прямо как… сегодня.
– И тоже с трупом? – удивился капитан Никоненко.
– Нет, слава богу, трупов не было. – Степан улыбнулся. – Но день был поганый.
– Вы пытались установить, кто ему платит за то, что он под бульдозеры ложится, этот активист ваш?
Замы опять переглянулись. На этот раз смысл их переглядываний был Никоненко вполне ясен. Они не ожидали, что милицейский капитан так быстро сообразит, что никто не станет кидаться под бульдозер просто так, ради храма, снесенного при царе Алексее Михайловиче, папе царя Петра Алексеевича, Великого.
– Пытались, – не моргнув глазом сказал Степан, – частного сыщика нанимали.
– Не помог сыщик? – уточнил Никоненко с удовольствием.
– Не помог, – ответил Степан, которому тоже начинал нравиться капитан. – Есть хотите, Игорь Владимирович? У нас здесь буфетчица необыкновенная. Видите, как нас пирогами откормила?
– Нет, – отказался Никоненко, – не хочу. Так что сыщик?
– Ничего. – Степан пожал плечами. – Вон его доклад, на полу валяется. Могу вам дать почитать. Никаких данных, что Леонида Гаврилина кто-то нанял. Он в этих краях объявился лет пять назад, переехал из Узбекистана. Купил дом в Сафоново и живет тем, что зарабатывает на ферме. Говорят, что работает неплохо, старательный. Электрик он там, что ли… Семьи нет. Исправно ходит в церковь, хотя с местным батюшкой расходится во взглядах на православную веру. Денег у него как не было, так и нет, по крайней мере по данным нашего детектива.
– Мы думаем, что это кто-то из конкурентов, – уточнил Белов и закурил сигарету из какой-то невиданной пачки. – Но подтвердить ничего не удалось.
– Понятно, – сказал Никоненко. – Что вчера происходило на стройке? Вы когда уехали, Павел Андреевич?
– Я вчера не приезжал. – Степан отвернулся от окна и посмотрел на капитана. – У нас несколько объектов по всей Москве. Этот самый крупный, конечно, но я бываю здесь не каждый день. Вчера я проторчал в мэрии, объяснялся там с одним начальником по поводу нашего же объекта на Профсоюзной. Потом забрал сына из школы, это уже, наверное, в полвосьмого. Потом был дома.
– Никуда не выходили и не выезжали?
– Куда я могу выехать, когда у меня ребенок маленький! – сказал Степанов с непонятной для Никоненко досадой. – Он один дома никогда не остается. Вон с Черным, с Черновым то есть, по телефону лаялся часа полтора, наверное…
– Когда это было?
– Да около одиннадцати, что ли. Да, Черный? Потом бумажки всякие писал, все в ту же мэрию, потом спал. Утром Чернов позвонил, когда мы в школу собирались. Я Ивана отвез и прямо сюда приехал.
Как провели вечер и ночь Степановы замы, Никоненко уже знал. У всех троих вечер прошел примерно одинаково – с работы поехали по домам. Чернов еще заезжал в магазин, а Белов недолго играл в бильярд в каком-то модном клубе.
Да и не похоже, что кто-то из них просто так, забавы ради взял да и столкнул в котлован разнорабочего Муркина.
Солнце неистово светило в окна, грело темный свитер капитана Никоненко. В широком луче неспешно танцевали пылинки, и бронзовое чудище, со всех сторон охваченное солнцем, казалось не таким уж чудищем. Пахло кофе, диковинными сигаретами, смесью разных одеколонов и – немножко – вчерашним дождем из приоткрытого окна. Мерно гудел компьютер, на экране крутились разноцветные спирали, и капитан Никоненко силился понять, что не так в окружающем его мире. Понять никак не удавалось, и он даже рассердился немного.
– А с прорабом можно переговорить?
– Ну конечно. Его будка, – Степанов так и сказал – «будка», – следующая за нашей. С ним, конечно, прямой резон разговаривать, потому что он про рабочих больше знает, чем мы трое, вместе взятые…
Телефон зазвонил так неожиданно и резко, что замы одинаково вздрогнули и посмотрели в изумлении. Степан в два огромных шага пересек вагончик, так что задрожали стекла и бронзовое чудище поползло с бумаг.
– Да!
– Могу я поговорить со Степановым Павлом Андреевичем?
Голос совсем незнакомый.
– Я Степанов Павел Андреевич, но разговаривать мне некогда. А вы кто?
Замы переглянулись. Никоненко положил ногу на ногу.
– Вам все-таки придется со мной поговорить, – сказал голос настойчиво, – меня зовут Инга Арнольдовна, я учительница Ивана. В вашем офисе мне сказали, что я могу застать вас здесь, и дали этот номер.
– Козлы, – пробормотал Степан.
– Что вы сказали? – опешила Инга Арнольдовна. – Алло!
– Ничего я не сказал. – Степан зажал трубку ладонью и неизвестно зачем объяснил аудитории: – Это из школы. Наверное, Иван опять…
– Алло, вы слушаете меня?
– А у меня есть выбор? – спросил Степан подозрительно мягко. – Уважаемая, я не могу сейчас разговаривать. У меня люди.
– Вам придется разговаривать, – отрезала Инга Арнольдовна, – если вы не хотите, чтобы ваш мальчик по моему представлению был отчислен из школы.
– Послушайте, – сказал Степан и повернулся вместе с креслом спиной к слушателям, – я плачу за его обучение бешеные деньги. Я буду обсуждать с вами вопросы его воспитания, когда сочту нужным. Сейчас я этого делать не могу. Вам понятно?
– Павел Андреевич, вы никогда не можете обсуждать вопросы его воспитания. Последний раз вас видели в школе первого сентября минувшего года. Я навела справки. Если вы не в состоянии отвечать за своего сына, дайте мне телефон матери, я позвоню ей.
Степан от злости поперхнулся табачным дымом и стал кашлять так, что неведомая Инга Арнольдовна в трубке изумленно примолкла.
Она позвонит Леночке?! Сука, дрянь! Дайте ей телефон, она позвонит матери! Наверняка же знает, что мать давным-давно не живет с ними! В школе об этом все знают, и ей, конечно же, доложили. Не могли не доложить!
– Вы что? – справившись с кашлем, спросил Степан голосом Карабаса-Барабаса. – Совсем невменяемая? Вы не понимаете русский язык? Объяснить вам по-китайски?
Чернов перехватил взгляд капитана Никоненко, устремленный в спину Степана. Во взгляде было неподдельное любопытство старухи-сплетницы, неожиданно узнавшей о том, что жильцы из пятой квартиры получили наследство. Чернову стало противно. Чтобы отвлечь внимание капитана от Степановой спины, он нарочно громко спросил у Белова:
– А что там на Профсоюзной, не знаешь?
Белов посмотрел вопросительно, и Вадим глазами показал ему на капитана.
– Там сегодня на пятом этаже плитку кладут, – все поняв, заговорил Белов деловито, – которую вчера завезли. На сегодня должно хватить, а остальное под вечер доставят. Мне, наверное, часа через два туда придется уехать, посмотреть, что там происходит. Еще кофе хотите, Игорь Владимирович?
– Вы можете грубить мне сколько угодно, Павел Андреевич, – между тем говорил голос в трубке, – это ничего не изменит. Или мы с вами встречаемся и обсуждаем положение дел, или я делаю представление на отчисление.
От бешенства Степану стало жарко. Придерживая трубку плечом, он неловко содрал с себя жилетку.
– Хорошо, – сказал он, швырнув жилетку на соседний стул, – завтра вечером. В шесть. В семь я должен забрать Ивана, у вас будет час.
И, не дожидаясь ответа и не спрашивая, подходит это ей или не подходит, он с силой бахнул трубку на аппарат. Потом потер затылок и пробормотал в стену:
– Идиотизм.
Проделав все это, он повернулся лицом к капитану и замам, которые активно несли какую-то ересь, и произнес неловко:
– Извиняюсь. Что-то там опять с Иваном…
– Сколько ему? – спросил Никоненко с искренним интересом.
– Восемь, – ответил Степан. – Нет, он совершенно замечательный парень. Он мой… друг, если вы понимаете, о чем я говорю.
– Думаю, что понимаю. – Никоненко задумчиво покрутил в чашке остатки кофе. – Спасибо за угощение.
Пойду еще с прорабом потолкую. Как, вы сказали, его зовут?
– Фирсов, Валентин Петрович, – Степан тоже поднялся, увидев, что капитан встает. – Он с нами уже лет… пять работает. Да, Черный?
Почему-то с вопросами он обращался исключительно к Чернову. Ни разу он не спросил: «Да, Белый?», и это было странно, но думать об этом просто так Никоненко было лень. Он еще успеет надуматься, если выяснится, что Муркина все-таки убили, а пока – неохота.
– Вас проводить? – спросил кавалергард Белов.
– Найду, – лучезарно улыбнулся капитан Никоненко, – до свидания.
Он вышел в тесный предбанник и неторопливо прикрыл за собой дверь. Иногда этот несложный маневр позволял ему услышать кое-что интересное, но сейчас за тоненькой фанерной дверцей царило молчание.
Умные, черти. Впечатлениями делиться не спешат. Выжидают.
За черным офисным столом сидела давешняя Клаудиа Шиффер и делала вид, что читает. Никоненко готов был голову дать на отсечение, что ничего она не читала, а все время подслушивала под дверью – такое искренне незаинтересованное лицо у нее было.
– Спасибо вам за кофе, – сказал Никоненко галантно, с удовольствием глядя в славную мордашку с широкими скулами, острым подбородком и матовой гладкой кожей. Ему очень хотелось потрогать ее щеку. Он был совершенно уверен, что на ощупь она – как крымский персик из его детства.
– Это не я, – уверила его Клаудиа Шиффер и улыбнулась так, что капитан Никоненко едва не застонал, – это у нас Зина варит. Павел Андреич ей даже специальный кофейник купил. Вам понравилось?
– Очень, – подтвердил капитан, смеясь над собой и своим энтузиазмом. – Еще раз спасибо.
Она посмотрела на него, и он понял, что она мучительно пытается заставить себя то ли что-то сказать, то ли спросить о чем-то.
– Да? – спросил он, подбадривая ее. – Что вы хотите сказать?
В конце концов, ему всего тридцать четыре, а она так хороша… Не пугающе хороша, а расслабляюще хороша.
Глаза у нее округлились, как будто он застал ее за чем-то неприличным, но она быстро взяла себя в руки.
– Не сказать, – уточнила она и мило улыбнулась, – спросить… Можно?
– Можно, – кивнул капитан. Из-за тонкой двери по-прежнему не было слышно голосов, и это свидетельствовало о том, что трое начальников знают, что он до сих пор толчется в предбаннике.
– Вам уже известно, кто это… сделал?
– Нет, – честно сказал капитан, – неизвестно. Я даже не знаю, делал ли вообще. А что? Вы можете сообщить какие-нибудь подробности?
На персиковом личике вдруг проступил ужас, как кровавое пятно на белоснежном платке. Проступил и схлынул. Она справилась с собой.
Это еще что такое? Клаудиа Шиффер что-то знает или просто она уж такая тонкая натура?
– Конечно, я ничего не могу сообщить, – сказала она быстро, поднялась из-за стола и зачем-то полезла в шкаф. – Просто это все ужасно. Не знаю, как вы работаете, когда вокруг вас сплошные трупы.
– Ну, не сплошные, – сказал Никоненко, изучая ее спину с водопадом платиновых волос, – и не всегда трупы…
Зазвонил телефон, и Клаудиа кинулась к нему, словно ей должны были сию минуту сообщить о выигрыше в «Русское лото».
Никоненко тихонько попрощался и вышел из вагончика прямо в весну. Некоторое время он постоял на крылечке, жмурясь и вдыхая запах апреля, а потом пошел в сторону будки прораба, увязая ботинками в грязи.
Он понял наконец, что не так в окружающем его мире.
Тишина.
Тишина стояла такая, что слышно было, как кричит ошалевшая от весны птица в ближайшем лесочке. Из-за тишины громадная стройка казалась совершенно мертвой. Неизвестные капитану Никоненко машины, оранжевые, желтые и красные, с черными иероглифами, шедшими сверху вниз поперек мощных металлических тел, казались великанами, которых наказал за что-то всемогущий волшебник, лишив их голоса и способности двигаться. Не было видно людей, никто не перекликался под синим бездонным небом, и только мерно поскрипывал трос гигантского крана, который раскачивал теплый апрельский ветер.
Капитану стало не по себе.
Черт знает что тут происходит. Может, и прав местный активист и правозащитник, по совместительству электрик с молочной фермы, может, и не надо тут ничего строить. Вон тишина какая… странная. Оказывается, даже шума шоссе отсюда не слышно.
У Никоненко уже давно чесалось между лопатками – верный признак того, что за ним наблюдают. Он перешагнул лужу и, старательно удерживая равновесие, оглянулся.
Ему показалось, что кто-то внимательно смотрит на него через тонкую штору, которой было завешено оконце прицепа. Он даже вроде различил контур головы и лица. Кто это? Мастерица варить кофе по имени Зина? Или кто-то другой?
И еще эта чертова тишина, совершенно не подходящая для такого индустриального пейзажа!
«Зачем я теряю здесь время? – мысленно возмутился капитан Никоненко. – Да еще раздумываю над всякой ерундой, как будто мне нечего делать! А меня, между прочим, работа ждет. Вся эта бодяга выеденного яйца не стоит, а я тут полдня проковырялся!»
Он потопал ногами по сухой и твердой земле, сбивая с ботинок комья песка и глины, и решительно постучал в хлипкую дверцу прорабской будки.
«Два вопроса, – пообещал он себе. – Два вопроса, и я уеду. Делать мне здесь совершенно нечего, несмотря на всех платинововолосых красавиц, вместе взятых».
Впервые в жизни интуиция подвела капитана Никоненко.
…Степан в окно видел, как закрывается за капитаном дверь, и представлял себе, как он сейчас входит в вагончик к прорабу, как осматривает все вокруг ленивым, но очень внимательным взглядом, как Петрович поднимается ему навстречу, неловко прижав к уху вечную телефонную трубку, как протягивает ему огромную мозолистую лапищу, жестом приглашает сесть и тут же выбегает из-за стола, волоча за собой телефон, чтобы расчистить место на стуле, и скидывает бумаги прямо на пол, и задевает головой оранжевую каску, которая висит очень неудобно, над самым столом, так что все непрерывно ее роняют.
– Ну что? – Пульсация в голове набирала обороты. Запустилась она во время разговора с этой идиоткой из школы, и – Степан знал это по опыту – запустилась всерьез и надолго.
– Что «что»? – спросил Чернов. – В каком смысле «что»?
– Без всякого смысла, – пробормотал Степан и потер затылок. – Спрашиваю, что будем делать?
– А что нужно делать? – подал голос Белов.
– Вы дурака-то не валяйте! – прикрикнул Степан. – Работать мы не можем, и хрен его знает, когда сможем. Я, конечно, этому Никоненко позвоню сегодня сорок раз, но боюсь, ничего не поможет… Я, блин, даже не знаю, как денег ему предложить!..
– А за что предлагать-то? – не понял Чернов. В стратегических вопросах он был наивен, как выпускник духовной семинарии. – Чтобы дело закрыл? Так мы ведь даже еще не знаем…
– Денег ему сейчас предлагать нельзя, Паш, – задумчиво перебил его Белов. – Ты ему денег сунешь, а он еще сочинит невесть что, подумает, что мы тут какие-нибудь миллионы в землю зарываем или нефтепровод кладем.
– Какой еще нефтепровод? – удивился Чернов. Белов посмотрел на него и усмехнулся. Несмотря на то что они – все трое – дружили уже лет сто или двести, между заместителями существовала некая конкуренция за близость и доверие шефа.
«Строительные технологии» принадлежали Степану, это было его детище, его пот и кровь, его бессонные ночи, его риск и его ответственность. Чернов и Белов делили с ним повседневные дела и заботы, но отвечал за все он один. Они оба находились приблизительно на одинаковом уровне и ниже Степана. Иногда их глупая конкуренция его забавляла, иногда – как сейчас – раздражала.
– Руднев так и не позвонил, – сказал Степан, наливая себе холодного кофе. – Боюсь, приедет он и вместо работы застанет тут… ментов.
– Не приедет. Что ему тут делать, Паш? Он на прошлой неделе был. Кроме того, он никогда без звонка не приезжает. Боится врасплох застать. Ему ведь тоже перед своим начальством отвечать неохота.
– Как не вовремя этот Муркин сдохнуть вздумал! – вдруг выпалил Чернов. – И что бы ему где-нибудь в другом месте сдохнуть!
– Да не в Муркине дело! – вдруг взбеленился Степан. – Дело в том, что наша охрана все про… проспала! Уволю к едрене фене всех до одного!..
– А может, и не было никого, Паш, – сказал Белов успокаивающе. – Мы же не знаем. Может, он гулял, гулял, да и упал.
– Гулял, блин! Ночью по объекту гуляет человек. Поди в потемках разгляди, наш он или не наш! У нас только один фонарь горит, остальные переколотили! Ну хоть для порядка они должны были высунуть рыла из своей конуры или не должны?! Кстати, Черный, я сорок раз говорил, что фонари должны гореть! Все! Все до единого!
– Да бьют же их, сволочи!
– Значит, надо один раз поймать и по шее дать – и перестанут! А пока не перестали, пусть Петрович лампы каждый день меняет! Это что? Непонятно?
– Понятно, – буркнул Чернов.
Степан был не слишком крикливый начальник. Как правило, замов он жалел – или просто так уважал – и голос на них повышал редко. Сейчас он был слишком раздражен, чтобы думать о таких пустяках, как то, что через тонкие стены вагончика его крик разносится, наверное, по всей стройке, не говоря уж о том, что Саша в предбаннике сидит, навострив свои хорошенькие розовые ушки.
Отбойный молоток в голове стучал неистово.
«У тебя вполне аристократические головные боли, Паша», – говорила ему мама, а он злился. Мама умерла, а головная боль осталась.
Да еще эта идиотка из школы добавила энергии молотку, который дробил его череп. Чем Иван мог так уж ей не угодить? Что такого сложного и судьбоносного в литературе для второго класса?! Или это намек на то, что он и ей должен заплатить?
– Паш, ты успокойся, – посоветовал Белов негромко, – пока мы все равно ничего предпринять не сможем. Я сейчас на Профсоюзную уеду, а ты тут разберешься не торопясь.
Белов как бы уравнивал себя со Степаном, давая ему понять, что Чернов в данном случае им не помощник.
– Надо чем-то людей занять, – сказал Чернов злым голосом. Когда Белов был так важен и уверен в себе, Чернов почему-то чувствовал себя дураком, – или они к вечеру перепьются и утром у нас будет еще десяток трупов.
Степан усмехнулся.
– Вот ты и займи, Черный! Саша! – заорал он неожиданно. – Заходи, хватит подслушивать!
Все трое уставились на дверь, которая тихонько приоткрылась, и показалась пунцовая Саша с какой-то папкой в руках.
– Как ты догадался, что я подслушиваю? – спросила она у Степана тоненьким голосом.
Мужики переглянулись. Сначала Белов посмотрел на Чернова, потом Чернов на Степана, потом они все трое перевели взгляды на Сашу и захохотали.
Никому – ни одной другой сотруднице или сотруднику – они не спустили бы подслушивания под дверью. Но почему-то им даже в голову не приходило, что Сашино подслушивание ничем не лучше, чем чье-то еще.
Они – все трое – относились к ней с некоторым налетом романтического рыцарства, в котором было всего понемножку – тоски по тому, что не сбудется никогда, по собственной юности, уже скрывшейся за поворотом, по необременительным, легким, ни к чему не обязывающим отношениям, которых не бывает на самом деле, странной смеси бесшабашности, удовольствия, молодецкой удали, снисходительности и желания защищать. И еще где-то совсем глубоко было нечто трудноопределимое – сухое щелканье на крепком ветру рыцарских штандартов, шум моря в скалах, развевающиеся вуали, очертания нежных губ под струящимся шелком, топот лошадиных копыт по плотной и сырой от росы земле, запах вереска и тумана, крепостная стена до неба в серых пятнах лишайника и в прекрасных холодных северных глазах – обещание верности и счастья на следующие десять столетий.
Не то чтобы она об этом знала – знать она не могла, потому что они и сами этого не знали и никогда об этом не думали, – но чувствовала что-то такое и иногда пользовалась этим.
– Не смейтесь, – попросила она и улыбнулась робкой улыбкой. – Просто мне страшно и противно. Я же понимаю, что вы мне ничего не расскажете, даже если я к вам приставать буду.
– Это точно, – подтвердил Степан. – Да и рассказывать нечего. Поэтому возвращайся-ка ты на Дмитровку, Александра. Да, предупреждаю всех, что завтра в шесть я должен быть у Ивана в школе, там какая-то училка отчислять его вздумала. Так что завтра вечером меня не будет. Саш, попроси Зину чай принести. У меня от кофе в голове октябрьская революция происходит.
– Как вы думаете, – спросила Саша, обращаясь сразу ко всем, – ничего страшного не будет? Все… обойдется?
Чернов запустил пальцы в короткие волосы и стал энергично драть кожу.
Ему все меньше и меньше нравилось ее беспокойство. Почему, черт возьми, Степан этого не видит?! Она озабочена как-то явно преувеличенно, ненатурально, что-то там есть еще, кроме обычного женского страха перед мертвым телом, к которому она, кстати сказать, и не приближалась.
Что же?
В кармане у Степана заверещал мобильный, и он вытащил его, выворачивая подкладку.
– Да.
– Степка! – радостно сказала Леночка. – Ты где? Сегодня очень плохой день. Совсем плохой. Давно у него не было такого поганого дня. И Леночка, как всегда, точно знает, когда нужно позвонить, чтобы совсем добить его.
– Я на работе, – ответил он хрипло и махнул рукой замам и Саше, чтобы они оставили его одного.
Разговаривать с Леночкой прилюдно он так и не научился. Замы задвигали стульями, загрохотали по хлипкому полу ботинками. Проскрипела фанерная дверца. Проскрипела и затихла, приглушив голоса и создав видимость уединения.
– Зачем ты звонишь? – спросил Степан. – Деньги кончились?
– И деньги тоже кончились, – засмеялась Леночка, – ты мой хороший, ты все отлично понимаешь!
– Понимаю, – согласился он.
– Ты чего не приезжаешь, Степа? Я скуча-аю, пла-ачу, жду-у…
– Плачешь? – переспросил Степан, и она опять засмеялась.
Как же его угораздило когда-то жениться на ней?!
– Конечно, плачу, – подтвердила Леночка. – Нет, правда, почему ты не приезжаешь?
– Мне некогда, – выдавил Степан.
Несмотря на то, что они давно разошлись, она продолжала считать Степана своей собственностью, как считала собственностью все вокруг, что ей нравилось или было нужно. Или не нравилось и не было нужно, но почему-то хотелось это получить.
Наверное, Степан никогда не решился бы расстаться с ней, если бы она не ушла сама. Она порабощала и закабаляла его, безоговорочно и целиком, как лихой татарский воин безоружного славянина, и, чувствуя свое унизительное рабское положение, Степан ничего не мог с этим поделать.
Он продолжал встречаться с ней – правда, довольно редко, раз в месяц, а то и реже. Она была ненасытна и изобретательна в постели, и после секса с ней Степан чувствовал себя так, как будто наелся жирных черных пиявок. Он хотел – и не мог – относиться к ней так же легко и весело, как она к нему. Он хотел стать таким же, как она – свободным, раскованным, хватающим все, что подворачивалось под руку, никому и ничем не обязанным. По крайней мере в отношениях с ней. И не мог.
Она вышла за него замуж «на спор», как однажды призналась после очередной неистовой ночи, забравшей у Степана все силы. «Господи, неужели ты думал, что именно тебя я хотела получить в мужья! – кричала она в другой раз. – Кому ты нужен, жирный, уродливый мешок с дерьмом! Ты в зеркало-то на себя смотришь, когда бреешься?!»
Она бросила бы его сразу, если бы у него не было денег.
Леночка была сказочно хороша собой, и на поддержание этой сказочной красоты требовались средства, и немалые. Почему-то, несмотря на буйную красу, желающих содержать ее постоянно не находилось, но она была оптимисткой и твердо верила, что в один прекрасный день все-таки уведет Билла Гейтса у его тупой американской женушки.
Иван был кредитной карточкой, по которой Степан постоянно выплачивал Леночке деньги. «В конце концов, если бы не я, – говорила она весело, – у тебя никогда не было бы детей! А так… пожалуйста! И у тебя есть ребенок, как у всех нормальных людей. Ты ценишь мое благородство? Я даже фигуру не пожалела!»
Степан ненавидел ее и не мог отказать, когда ей приходила прихоть позвать его в постель.
– У Ивана в школе какие-то проблемы, – выдавил Степан неизвестно зачем.
– Господи, да у них всегда сплошные проблемы, – очевидно, она имела в виду детей, – и чем дальше, тем больше. Смотри, Степка, он через год-другой начнет девчонок водить, вот тогда ты попляшешь! Будешь график устанавливать, когда ты трахаешься, а когда он, как в кино, где этот… как его… ну толстый такой… ну еще они вдвоем… Ширвиндт, вот кто!
Почему-то Степану была отвратительна мысль о том, что Иван станет приводить домой каких-то там девчонок. Леночка была большая мастерица вызывать в людях отвратительные чувства.
– Слушай, а чего ты его не отдашь в интернат? – спросила Леночка неожиданно. – Так сейчас все делают, с ними давно уже никто не валандается так, как ты. – Очевидно, она снова имела в виду детей. – Или тебе заняться нечем? Если нечем, то приезжай ко мне, Степочка, миленький…
– Я переведу тебе денег, – пообещал Степан с ненавистью. – Все, Лен. Пока.
– Нет, не пока! – засмеялась Леночка. – Хочешь, я найду ему интернат? Я как раз вчера встретилась с одной девчонкой, которая содержит элитный интернат. Она замужем за Маратиком. Помнишь Маратика?
Степан не помнил никакого Маратика.
– И ему проще будет. Он должен к самостоятельной жизни привыкать!
– Лен, не будет никакого Маратика и интернатика! Надо тебе, сама туда устройся. Ты бы лучше в школу к нему заехала. У них праздник намечается через неделю. А?
– Ой, ну зачем я поеду, – заканючила Леночка, которой совершенно не улыбалось проторчать полдня в какой-то никому не нужной школе, – что мне там делать? С толстожопыми мамашами языком чесать?! Это совсем не в моем духе, ты же знаешь! Только время убивать, а у меня его совсем нет…
– На Ивана бы посмотрела…
– Степ, ну что мне на него смотреть! Только нервировать. И вообще… что ты пристал?! – Еще она виртуозно умела как-то так повернуть любой разговор, что Степан оказывался виноватым. – Ну что? Договорились? Ты сегодня заедешь?
Степан молчал.
– Ну неужели твоя нянька не может лишних два часа побыть с ним? – спросила Леночка. Она почти никогда не называла Ивана по имени. – А я уже вино купила и из ванны целый день не вылезаю… Я же отлично знаю, какие Степочка запахи любит, какие трусики… Приезжай, дорогой!..
– У тебя что, на сегодняшний вечер нет партнера для спаривания? – спросил Степан грубо, но Леночка нисколько не обиделась.
– Но ты же мой самый старый, самый постоянный партнер, Степа! Приезжай, я жду! – И прежде чем она положила трубку, Степан услышал ее удовлетворенный смешок, из которого явствовало, что у нее нет никаких сомнений в том, что он уже в полной боевой готовности и от нетерпения и предвкушения встречи вовсю бьет копытом.
Ему очень хотелось что-нибудь швырнуть или разбить, поэтому он с преувеличенной осторожностью пристроил на край стола трубку мобильника. Если он ее сейчас кинет в стену, придется ехать за новым, а у него нет на это времени. У него труп в котловане, и Ивана отчисляют из школы.
В дверь осторожно поскреблись.
– Можно?
Зашла Саша с подносом в руках. На подносе вкусно дымился чай и горкой лежали какие-то аппетитные бутерброды.
Конечно, она слышала, как он спрашивал Леночку про спаривание…
– Я сама заварила, – объяснила Саша свое появление. – Зина… плохо себя чувствует.
– Зина в курином обмороке пребывает, – просунув в дверь длинный нос, уточнил Чернов. Все ясно. Они слышали разговор и теперь пытались его утешать. Дураки. – Она в куриный обморок погрузилась сразу после отъезда Эркюля Пуаро. И до сих пор в нем.
– Саш, – сказал Степан холодно, – ты уже полчаса назад должна была в Москву уехать. Что происходит? Или я уже не начальник?
– Мне нужно было позвонить, – объяснила Саша туманно. – Кроме того, ты же чай просил.
– Чай ты мне уже дала! – рявкнул Степан. – Хватит дурака валять! Давайте уже немного поработаем.
Проводив глазами Сашу, выскочившую из кабинета так, будто она решила поставить рекорд в беге с препятствиями, Чернов проговорил тихо:
– Зря ты так, Степан. Не только Зина не в себе, Саша тоже. Не видишь, что ли?
– И я не в себе! А ты что, в себе?! Где Белов?
– Уехал на Профсоюзную, – ответил Чернов холодно. – А я сейчас на склад поеду.
– Валяй!
Чернов с грустью посмотрел на Степана. Глядя в окно, за которым жизнерадостно сиял апрель, Степан сопел и шумно прихлебывал из кружки чай.
– Ты бы с Петровичем потолковал за жизнь, – сказал Чернов напоследок, – его Пуаро тоже долго мучил, все какие-то вопросы задавал.
– Ладно, поговорю, – ответил Степан, не оборачиваясь.
Чернов еще постоял секунду, понимая, что сейчас не время поверять Степану собственные опасения относительно Сашиного беспокойства. Кроме того, он хотел еще раз все обдумать, хотя обдумывать было особенно нечего. Потом он вышел, притворив за собой скрипучую дверцу, и хмуро зашагал к машине. В ушах вязла непривычная и потому пугающая тишина.
Про золотую зажигалку с надписью «Кельн Мессе», которая болталась у него в кармане и которую он собирался вернуть Степану, Чернов совсем забыл.
Он опаздывал всего на десять минут, но злился так, словно опаздывал по меньшей мере на час. Ему было жарко, ухо горело от непрерывных разговоров по телефону, и еще он никак не мог найти место, где оставить машину.
Тихий центр был запружен машинами. Под чахлыми наивными липами, которые каждый год по весне покрывались нежными крохотными листочками, неизменно чернеющими и засыхающими к середине июня, паслись стада разнообразных автомобилей – от шикарных представительских «Вольво» до «четыреста двенадцатых» «Москвичей», исправно возивших хозяев с работы на вожделенные шесть соток и обратно.
Степан три раза проехал мимо школы, но найти места так и не смог. Ругаясь себе под нос, он наконец приткнул машину на углу какой-то параллельной улицы и потрусил к школе, надеясь, что никакой придурок не въедет в заднее левое крыло его джипа.
На школьном крыльце он остановился передохнуть и вытереть мокрый лоб.
Чертова училка, сколько времени он из-за нее потерял, сколько усилий приложил, чтобы вырваться с работы! Да еще стоял в пробках – поехал-то он в полшестого, самое пробочное для Москвы время! – да еще ползал по всем окрестным переулкам в поисках свободного места!
В вестибюле молодцеватый охранник читал детектив, засунутый для конспирации в ящик стола. На Степана он посмотрел вопросительно и ящик моментально задвинул.
– Мне нужна… – Степан внезапно забыл, кто именно его вызвал, и полез в нагрудный карман за бумажкой. – Так, сейчас я найду…
– Вы, наверное, Павел Андреевич? – спросили рядом. – Дима, это ко мне, один из родителей. А я Инга Арнольдовна.
Степан обернулся.
Неизвестно почему – может, из-за экзотического имени, а может, потому, что он был страшно зол на нее, – он ожидал увидеть высоченную костлявую стерву средних лет с жалким пучком желтых волос и лошадиными зубами.
Она была не слишком высока и как-то подозрительно молода. У нее были блестящие и прямые каштановые волосы, завивавшиеся к подбородку, ровные длинные брови, светлая кожа и яркие глаза. Держалась она очень строго, но как-то так, что Степану моментально расхотелось с ней скандалить.
– Пойдемте, Павел Андреевич, – сказала она. – У нас всего пятьдесят минут, а разговор предстоит долгий.
– Долгий? – пробормотал Степан, глядя ей в затылок. Она шла впереди, длинная юбка развевалась, приоткрывая изящные щиколотки.
– Сюда, пожалуйста.
Она пропустила его вперед в какую-то небольшую уютную комнату с креслами, диванами, пальмами и аквариумом. Степан протиснулся в дверь, чуть не задев вполне достойную грудь Инги Арнольдовны, туго обтянутую дорогой водолазкой. Забавляясь, он как бы даже немного замешкался в дверях, чувствуя эту грудь в двух сантиметрах от своей рубахи.
Интересно, если ущипнуть ее за зад, что она будет делать? Подпрыгнет, завопит, позовет охрану, вызовет милицию?
– Хотите чаю или кофе? – как ни в чем не бывало спросила учительница его сына, которую он только что так… осязаемо мечтал ущипнуть за зад.
– Нет, – отказался он. Ему было смешно и немножко неловко. – Спасибо. Если вы не против, я хотел бы выслушать ваши претензии. У меня времени совсем нет.
Она взглянула на него своими яркими глазами, задержала взгляд и отвернулась. Сухо щелкнула кофеварка, в комнатке остро запахло кофе.
– Иван очень славный мальчик, – начала она, и Степан посмотрел на ее губы. У нее был выразительный маленький рот, который произносил слова правильно и приятно. Так умеют говорить только прибалты. – Он немного не уверен в себе, но вы, наверное, это и сами знаете…
– Да как вам сказать… – пробормотал Степан. – Я передумал. Налейте мне кофе. – И добавил, решив быть вежливым: – Пожалуйста.
Она налила ему кофе.
– Сахар?
– Нет, – сказал Степан, – не нужно. Так почему вы хотите отчислить моего славного, неуверенного в себе мальчика?
Она прошлась по комнате и села в некотором отдалении от него. Взору Степана снова открылись щиколотки, которые он моментально стал добросовестно рассматривать.
– Павел Андреевич, – начала она негромко, – конечно, я не собираюсь его отчислять. Я сказала это просто так, чтобы… заманить вас в школу. Мы не отчисляем детей, как вы совершенно правильно заметили.
– А если я сейчас допью кофе, встану, пойду к директору и расскажу ему, как вы угрожали моему сыну, вас не отчислят из этой школы? – спросил Степан лениво. – А, Инга Арнольдовна?
Несмотря на грудь и щиколотки, несмотря на яркие глаза и красивый рот, несмотря на тонкую талию, обтягивающую водолазку, и блестящие волосы, он совершенно не собирался прощать ей вчерашний разговор по телефону и свои сегодняшние метания на работе, чтобы вовремя уехать, а потом в переулке – в поисках места для машины. Все-таки он был бизнесмен и начальник, а она – как там ее имя? – училка в средней школе.
Она поставила чашку. Чашка звякнула о блюдце.
– Как вам угодно, – сказала Инга Арнольдовна холодно. – Вы хотите прямо сейчас отправиться к директору?
Степан молчал, рассматривая на стенах детские рисунки. Некоторые были очень даже ничего, особенно вон та лошадь на летнем лугу. И горы, на вершинах которых лежит снег, пальмы на берегу океана. Это, очевидно, рисовал кто-то из старшеклассников. А вон кошка, больше похожая на швабру, с котятами, больше похожими на кроликов. И лондонский Биг-Бен с несколько кривоватым циферблатом знаменитых часов. Огромный букет цветов, лохматых, как клубки шерсти, побитые молью, в крошечной вазочке. А вон картинка, которую в прошлую субботу они старательно рисовали вдвоем с Иваном. Трава, пенек, рядом с пеньком – серый еж. Иван назвал картину «Лето в лесу».
– Так о чем вы хотите со мной разговаривать? – спросил Степан с тяжелым вздохом, отрываясь от созерцания рисунков. – О директоре?
– Павел Андреевич, – начала Инга Арнольдовна и остановилась.
Она совершенно не знала, как с ним разговаривать. Не то чтобы он как-то особенно грубил, или хамил, или пытался поставить ее на место, как многие родители в этой школе для богатых детей. Но он был какой-то на редкость равнодушный. Словно не о его сыне шла речь, а о чьем-то чужом. Или он сразу проникся к ней недоверием?
Он выглядел как большинство страдальцев, составляющих клан предпринимателей, к которому относился и Павел Андреевич Степанов.
У него были хомячьи щечки, сонные голубые глаза и широченный солдатский затылок, просвечивающий наивной розовой кожей сквозь короткие волосы на макушке. Конечно, он был дорого и со вкусом одет, и это как-то… с ним примиряло, хотя и не окончательно.
– Павел Андреевич, – начала она снова, – Иван замечательный мальчик, но у него, как бы это выразиться поточнее, смещены все понятия. Он читает совсем не то, что написано, и не хочет или не может менять свою точку зрения. Его невозможно переубедить. Ему невозможно объяснить, что он не прав. Например, недавно мы читали рассказ Джека Лондона о боксере, который не смог победить потому, что ему не на что было поужинать. Это рассказ… о силе духа, а вовсе не об ужине, вы же понимаете. А Иван ничего не понял, кроме того, что боксер был голоден. И слушать ничего не стал. Он в конце концов даже заплакал, так ему стало жалко этого боксера именно потому, что он был голоден, а не потому, что он проиграл.
– А вы точно знаете, за что именно нужно жалеть, а за что не нужно? – спросил Степан с удивившей его самого злобой в голосе. – Совершенно точно?
Инга Арнольдовна посмотрела на него с изумлением.
– Речь идет о литературе, – произнесла она осторожно. – Только о литературе, и то, что имел в виду писатель…
– Он сам сказал вам, что именно имел в виду?
– Кто? – не поняла она.
– Писатель.
– Павел Андреевич, – кажется, она даже разволновалась немного, – есть непреложные законы, которым необходимо следовать, особенно когда мы пытаемся учить детей…
– Вот я, например, не пытаюсь учить детей и не знаю никаких непреложных законов, кроме закона всемирного тяготения, но могу сказать вам совершенно точно, что читать во втором классе Джека Лондона – это идиотизм. Может, вам для начала попробовать что-нибудь полегче? Например, «Винни-Пуха»?
– Я уверяю вас, что и «Винни-Пуха» ваш сын воспримет неправильно! Как же вы не понимаете, что дело тут вовсе не в конкретной книжке, а в том, как ее воспринимает ваш сын! В сказке про собаку, которая несла через реку мясо и уронила его потому, что увидела свое отражение и хотела отнять мясо у отражения, он жалеет собаку, которая осталась без обеда! Он даже не понимает, что она жадничала и поэтому потеряла свое мясо! И не хочет понимать! Ему совершенно недоступны никакие чувства, кроме самых примитивных – если собака уронила мясо, значит, ему ее жалко. Он не понимает, что есть чувства и мысли более сложные, чем…
Степан допил кофе и осторожно вытянул ноги, устраиваясь удобнее в глубоком засасывающем кресле. Он сильно устал и теперь боялся, что заснет в тишине и покое маленькой уютной комнатки и опозорится перед Ингой Арнольдовной.
Выслушав историю про Джека Лондона, он совершенно успокоился, и его моментально потянуло в сон. Все в порядке. Училка просто самоутверждается, пытаясь высосать из пальца какие-то несуществующие проблемы. Его сын еще слишком мал, чтобы за куском мяса видеть вселенские проблемы, да и на самом деле читать старину Джека во втором классе – рановато.
Сегодня с утра в многострадальном офисе на Профсоюзной рабочие, устанавливавшие противопожарное оборудование, пропороли трубу на пятом этаже и моментально залили два смежных кабинета. Хорошо, что кто-то догадался быстро перекрыть в стояке воду и она не пошла на четвертый. Иначе пришлось бы делать все сначала – потолки, полы, ковролин.
Капитан Никоненко не объявлялся и на звонки не отвечал. Приятный и нежный девичий голосок щебетал Степану в ухо, что «Игорь Владимирович сегодня в городе», и Степан диву давался, откуда в местном райотделе взялась барышня с таким ангельским голоском. Никакой информации о покойном Муркине из райотдела не поступало, и Степан весь извелся от неизвестности и беспокойства. В конце дня Белов поцапался с Черновым, и хотя Чернов ни в чем не был виноват, Степан врезал обоим да еще пригрозил, что лишит премии. Деньги замам Степан платил очень хорошие, премии были еще лучше. Оба зама надулись, как принцы крови, которых заставили убирать навоз. Их неудовольствие означало, что они не какие-то там простые сотрудники, которые работают исключительно за деньги, а такие же бойцы, как Степан, и его угрозы лишить их премии – оскорбительны.
Чиновник из мэрии, который разбирал его тяжбу с окружной управой, заболел какой-то загадочной болезнью, тяжба повисла между небом и землей. Вернее, между офисом Степана и кабинетом начальника управы. Сразу же просочились какие-то слухи, что в мэрии этим чиновником очень недовольны и вроде бы даже собираются снимать, а это грозило катастрофой. Чиновник был свой, давно и сытно прикармливаемый. Со следующим все придется начинать сначала. Кроме того, «свой» чиновник уже сколотил на своем хлебном месте состояние, которое вполне обеспечивало будущее его самого, его супруги, великовозрастных детишек и резвых внучат. Новый чиновник будет гол как сокол, следовательно, жаден и неуправляем. Ах, черт возьми…
– … Павел Андреевич?
Степан встрепенулся, пытаясь сфокусировать взгляд на чем-то или на ком-то, кто обращался к нему с каким-то вопросом.
«Я, наверное, что-то пропустил. Что я мог пропустить? Я просто думал о своих делах, вот и все».
– Павел Андреевич, вы меня не слушаете? – спросила совсем рядом учительница его сына.
– Нет, – признался Степан честно. – А что? Вы говорили мне что-то важное?
Она смотрела на него во все глаза.
Лучше бы он хамил и пытался поставить ее на место, честное слово! Это означало бы по крайней мере, что он слышит то, что она произносит. Павел Степанов даже не давал себе труда сделать вид, что ее пламенная речь хоть как-то его интересует, а она, между прочим, говорит о его сыне! Конечно, какой ребенок сможет нормально относиться к жизни, если он живет с таким чудовищем, как этот папаша. Бедный мальчик. Бедный, неуверенный в себе маленький мальчик…
– Спасибо, что уделили мне время, Павел Андреевич, – сказала она ледяным тоном, позабавившим его. – Уроки скоро закончатся. Вы можете подождать Ивана здесь, я его пришлю сюда.
Она поднялась, гордо выпрямив спину, и стремительно направилась к двери. Степан дал ей возможность как следует осознать, что она вот-вот выйдет победительницей из их маленькой схватки, а потом цапнул ее за руку.
Она остановилась и посмотрела на свою руку, которую держал этот тупой придурок. Она не заметила никакого движения, кажется, он даже не шевельнулся в своем кресле, однако его пальцы цепко держали ее кисть, делая даже немножко больно.
– Отпустите, – сказала она строго, – что вы себе позволяете?
– Нет, это вы себе позволяете! – возразил он довольно резко и руку не отпустил. – Вы почему-то позволяете себе вызывать меня в школу, рассказывая какие-то сказки про то, что вы собираетесь отчислить Ивана, потом несете ахинею про Джека Лондона, поучаете, как именно я должен растить своего ребенка, хотя все ваши поучения гроша ломаного не стоят, и вы сами об этом прекрасно знаете!
– Нет, стоят! – пискнула Инга Арнольдовна и дернула руку.
– Нет, не стоят! Что вы тут наговорили? Что я должен больше времени проводить с ним, что у нас должны формироваться какие-то только вам ведомые общие интересы, что он должен научиться доверять мне…
– Вы же не слушали!
– Это вам так показалось! – рявкнул Степан и даже не выпустил, а отшвырнул ее руку. – Вам же прекрасно известно, что у меня нет жены. Не надо делать квадратные глаза, я все равно не поверю, что вам не рассказали сердобольные мамаши или директор. Я делаю что могу, вам понятно? Я не могу формировать, – он выговорил это слово как ругательство, – никаких общих интересов! Я не хочу, чтобы мой сын во втором классе читал Джека Лондона! Я хочу, чтобы вы научили его писать без ошибок «Мама мыла раму»! Я ничего не имею против дополнительных занятий по литературе, но я не могу посвятить свою жизнь разбирательствам с вами!
Он уже почти что орал и как будто наблюдал за собой со стороны. Он с удовольствием погружался в свой праведный и справедливый гнев, отчитывая перепуганную училку. Он отлично видел, что пугает ее, и точно знал, что именно она сейчас чувствует. Возможно, все это представление было бы ему неинтересно, если бы не ее молодость, свежесть, а также грудь и щиколотки. Развлекаясь, он даже позабыл о собственных неприятностях.
И еще он совершенно точно представлял, чего добивается. Ему нужно, чтобы она раз и навсегда от него отстала, и он отлично понимал, как этого добиться.
«Ты просто удручающе расчетлив, Павлик», – говорила мама, и он даже гордился этим.
Поорав еще немного, он остановился, как бы кипя от возмущения, хотя на самом деле никакого возмущения не чувствовал. Ему было любопытно и смешно. Он отдыхал и с пользой проводил время, оставшееся до окончания уроков.
– Вам все понятно? – строго спросил он наконец. Она посмотрела на него. Глаза у нее были несчастные.
– Кстати, что у вас за имя? – неожиданно спросил он тоном участкового, пришедшего проверять паспорта у временных переселенцев. – Вы что, приезжая?
Это уже не лезло ни в какие ворота и прозвучало как-то на редкость оскорбительно. Впрочем, его основной задаче такой тон вполне соответствовал.
– Меня зовут Ингеборга Аускайте, – сказала она с невесть откуда взявшимся высокомерием. – Детям трудно выговорить мое имя, поэтому в школе меня называют Ингой Арнольдовной.
Почему-то ее имя странно взволновало Степана.
– Мои родители переехали в Москву еще до моего рождения, – продолжала она, как будто и впрямь была на приеме у участкового. – Если это необходимо, я могу показать вам свой паспорт. С пропиской у меня все в порядке.
– Я совсем не имел в виду прописку, – пробормотал Степан, чувствуя себя идиотом.
Она постояла немного, словно собираясь сказать что-то еще, а потом стремительно вышла. Степан слышал, как возмущенно простучали в пустынном холле ее каблучки.
Он задумчиво налил себе кофе из стеклянного кофейника, залпом выпил, поморщившись. Кофе был слабый и чуть теплый. Он прошелся по комнате, рассеянно глядя на рисунки, потом стряхнул на запястье часы, застрявшие под рубахой. До освобождения Ивана оставалось еще семь минут. Зря он так, пожалуй.
Нет, не зря. Он должен был сразу все расставить по своим местам. Собственно говоря, он за этим и приехал. Не для того же, в самом деле, чтобы выслушать всю эту чушь про неправильное отношение Ивана к жизни!
Куда он его денет, когда начнутся каникулы? Хорошо бы отправить Ивана в Озера. Нужно искать няньку, которая согласится по крайней мере месяц пробыть в деревне. Но даже если он ее найдет, нет никаких гарантий, что Иван, в свою очередь, согласится на месяц уехать от отца. «У вас славный мальчик, но не слишком уверенный в себе»!
Откуда у него возьмется уверенность, если его все бросают?!
Бросила мать, которой он совершенно не был нужен с самого начала.
Бросила бабушка, которой он был нужен, но она не смогла победить подлый сердечный приступ. Попробуй объясни ребенку, что он сам ни в чем не виноват, что просто жизнь – такая поганая штука…
В коридоре зазвенел колокольчик. Не какой-то там пошлый электрический звонок, а именно колокольчик, напомнивший Степану швейцарские горные склоны, покрытые изумительно зеленой травой под гладким и глянцевым синим небом.
Степан вышел в коридор, смутно надеясь, что не встретит Ингеборгу Аускайте, – господи, почему от этого имени у него чуть холодеет в позвоночнике? – и спустился по круглой мраморной лестнице на первый этаж.
– Папа! – из разноцветной детской толпы закричал Иван.
Степан повернулся на его голос, и Иван прыгнул на него, обняв сразу и руками и ногами, повис, прижимаясь тощим тельцем, как недокормленная обезьянка. Рюкзак оттягивал назад узкие плечи, ручки-веточки, разрисованные от излишнего усердия разными чернилами, были горячими, а на мордочке сияло такое беспредельное, огромное, ни с чем не сравнимое счастье, что Степан даже зажмурился.
– Привет, – сказал он сыну и откашлялся. В горле что-то странно сместилось и мешало нормально говорить. – Сколько у нас сегодня троек?
– Ни одной! – радостно проорал Иван, продолжая висеть на нем, даже руки перехватил, чтобы было удобнее. – Пять по математике и пять с минусом по английскому!
– Примите мои поздравления. – Иногда, в минуты большой нежности, Степан почему-то называл Ивана на «вы». – Ну что? Поехали?
Как Гулливер в стране лилипутов, он осторожно двинулся в сторону входной двери, зорко глядя себе под ноги и стараясь никого не раздавить.
– Пока, Иван! – закричал кто-то из лилипутов.
– Пока! – важно проговорил в ответ Иван. Двумя руками он держался за Степанову ладонь. На лице у него воцарилось выражение спокойного удовлетворения и полного довольства жизнью.
На школьном дворе, полном вечернего солнца, разнородной ребятни и едва пробивающейся зелени, Иван впал в буйство, игогокнул, перебирая ногами от нетерпения, и заскакал вокруг Степана. Рюкзак подпрыгивал и колотил его по плоской спине.
– А где наша машина, пап?
– А черт ее знает. За углом. Я еле место нашел, чтобы ее поставить.
– Ура-а-а-а!! – закричал Иван в новом приливе восторга.
Вечер удался на славу. Отец заехал за ним сам, а не прислал ненавистную Клару Ильиничну, и не сидел в машине с мрачным и недовольным лицом, а поджидал его в вестибюле, и до джипа, оказывается, еще надо идти, а это такое счастье – скакать вокруг папы после долгого школьного дня и чувствовать полную свободу и знать, что отец никуда не денется, что он в хорошем настроении, а впереди у них еще целый вечер вдвоем и надо только хорошо себя вести, чтобы ничем не рассердить его.
– Как ты считаешь, Иван, – произнес отец у него за спиной задумчиво, – может, нам где-нибудь поесть да и поехать в луга, гусей смотреть? Правда, вечер уже, конечно…
У Ивана от счастья перехватило дыхание, и он моментально сбился со своего кавалерийского галопа. Он пристроился к Степану, взял его за руку и заныл, преданно заглядывая в глаза:
– Ничего, что вечер, папочка! Поедем, пожалуйста! А, пап? Это ты здорово придумал! Можно даже и не есть. Я совсем не хочу есть, только поедем, пап?
Степан сверху посмотрел на него и согласился:
– Можно не есть. – От голода у него в желудке как будто урчал небольшой моторчик. – Заедем в закусочную, возьмем с собой курицу, салат и воды. А, Иван?
– Здорово, пап! – Он был не в силах сдержаться и потому притоптывал и подпрыгивал на месте, опасаясь сделать что-нибудь не то, что заставило бы отца передумать или отложить поездку.
– Залезай! – Степан распахнул дверь в нагретое солнышком кожаное нутро «Тойоты» и, пока сын, пыхтя, лез внутрь, стащил с него рюкзак.
Кажется, это правильно придумано – поехать в луга. Ничего не случится, если он два часа пробудет с Иваном. А мобильный он сейчас выключит. Он не даст Леночке испортить им неожиданный праздник.
Какое странное и волнующее имя – Ингеборга.
И почему у нее акцент, если она родилась в Москве?
…Она своими глазами видела, с каким восторгом Иван бросился к своему хаму-папаше, как повис на нем, как запрыгал вокруг, словно щенок, отставший от знакомой ноги и после нескольких секунд вселенского отчаяния вновь углядевший в толпе хозяина. Она никак не ожидала, что папаша может вызывать у собственного сына такие сильные – а главное, явно положительные! – эмоции.
Почему-то она не могла оторвать от них глаз и, чтобы видеть их подольше, зашла в учительскую на первом этаже и смотрела, как они идут по двору – очень большой и грузный мужчина и маленький худенький мальчик. И даже по Ивановой спине было совершенно ясно, как безудержно он счастлив.
– Странная пара, вы не находите?
Ингеборга оглянулась. Историк Валерий Владимирович стоял у нее за спиной и тоже смотрел во двор. Иван с родителем были уже у самой решетки.
– Пожалуй, – согласилась Ингеборга осторожно. Она не очень поняла, что имелось в виду. – Мальчик такой нежный, такой… – она поискала слово, – ранимый, а отец прямо-таки железобетонный.
– Как все, кто умеет делать деньги. – Валерий Владимирович сказал это с оттенком легкой грусти и некоторого презрения, так что сразу стало понятно: умение делать деньги в его шкале ценностей занимает самое последнее место.
Парочка, за которой она наблюдала – Степанов-отец и Степанов-сын, – уже скрылась из виду, и Ингеборга от окна отошла.
– Зачем я его вызывала? – рассеянно спросила она сама у себя и очень удивилась, когда ей почему-то ответил Валерий Владимирович:
– Наверное, затем, чтобы поговорить?
Он обошел стол и сел напротив, улыбаясь доброй улыбкой.
– Вот именно, – сказала Ингеборга и задумчиво покрутила тяжелый хрустальный стакан для карандашей. Стакан приятно холодил ей ладонь и разбрызгивал по темным стенам вечернее солнце. – Я собиралась с ним поговорить, но совсем не учла того, что он вовсе не собирался говорить со мной.
– Мы часто делаем нечто, о чем потом жалеем, – философски заметил Валерий Владимирович и моментально сообразил, что сказано это было как-то совсем некстати, и Ингеборга непонимающе смотрит на него яркими немигающими глазами.
Эти глаза его смущали. В ее присутствии ему хотелось казаться умным, образованным, тонким, не таким, как все, и от излишнего усердия он часто говорил невпопад – вот как сейчас.
– Я совсем не жалею, что пригласила его, – проговорила Ингеборга четко, как на уроке, и ему почудилось раздражение в ее голосе, – просто я не умею… пока еще не умею находить правильный тон в общении с такими людьми.
– С ними невозможно найти правильный тон! – воскликнул Валерий Владимирович пылко. – Они слышат только себя, а любой разговор подразумевает наличие по крайней мере двух собеседников.
– Это точно, – согласилась Ингеборга все тем же непонятным тоном, – это очень точное наблюдение.
Историк ее раздражал.
Он стал раздражать ее с первого дня работы в этой новой и очень престижной школе. Ей бы радоваться, что поблизости есть кто-то, готовый ее опекать, а она раздражалась. Может быть, потому, что он был немножко… как бы это выразиться… навязчиво галантен, и его внимательность представлялась ей почему-то в виде целлулоидного блестящего шара, в который он старался ее затолкать, а она в него никак не влезала. А может, потому, что ей не нравились его уроки, на которые он сразу стал приглашать ее, его наигранно-доверительный тон, его нарочито современные словечки, на которые, как показалось Ингеборге, он ловил детей, как умный рыбак глупую рыбу, его подчеркнутая свобода и раскованность.
Ингеборга была совершенно уверена, что между учениками и учителем должна быть дистанция, иначе ничему научить преподаватель не сможет – его просто никто не станет слушать, тем более в четырнадцать лет, когда появляется не оправданное ничем ощущение, что ты умнее всех и давно знаешь о жизни все.
– А что вы хотели с ним обсудить? – Голос Валерия Владимировича, сгустившийся, казалось, из ее мыслей, прозвучал совсем близко, и Ингеборга обнаружила, что он почти перегнулся через стол и внимательно смотрит ей в лицо добрым сочувственным взглядом.
– Я хотела обсудить его сына Ивана, – ответила Ингеборга терпеливо, – он очень хороший мальчик, но учится не всегда ровно. Да это и не самое главное. У него очень странные взгляды на жизнь, у этого мальчика. Я бы даже сказала – устойчиво странные. Он похож на ребенка из неблагополучной семьи…
– Так он и есть ребенок из неблагополучной семьи. – Валерий Владимирович пожал плечами. – Матери нет, и, насколько я знаю, давно. Впрочем, это все понятно. Вы же сами видели сегодня отца. Попробуй поживи с таким!
– Но она же не умерла! – воскликнула Ингеборга, заставив историка проглотить какую-то готовую фразу. – Она же существует в природе! Она никогда не приходит в школу и ребенком совсем не интересуется. Я ее даже первого сентября не видела. Мальчик полностью предоставлен сам себе. Сочиняет какие-то сказки и истории, жалеет совсем не тех героев, которые должны вызывать жалость, не понимает таких чувств, как стыд или…
«А вы совершенно точно знаете, кого следует жалеть, а кого не следует?» – вспомнилось ей, и она осеклась на полуслове. Какое-то странное чувство не то чтобы стыда, а недовольства собой медленно выползло из глубины на поверхность сознания и заняло сразу очень много места.
Стремясь отделаться от этого чувства, Ингеборга поднялась и зачем-то полезла в шкаф, где хранила свои тетради. Валерий Владимирович не отводил от нее внимательных утешающих глаз.
«Не нужно смотреть на меня так, словно я начинающая актриса, только что с треском провалившаяся на премьере. Ничего не происходит. А если и происходит, то я сама во всем разберусь».
Конечно, он не прав, этот Степанов.
Все разговоры о Джеке Лондоне и о том, кто должен и кто не должен вызывать жалость, – просто демагогия. Он с самого начала знал, что именно ей скажет, как знал и то, что нападение – лучшая защита. Он просто дал ей понять, что как учитель она ровным счетом ничего собой не представляет, и сделал это просто виртуозно.
Но ведь… По правде говоря, ведь он… прав.
Еще три месяца назад Ингеборга осторожно говорила на педсовете, что даже для очень продвинутой, очень элитной и современной школы Джек Лондон во втором классе – это немножко слишком. Директор тогда развил целую теорию, в которой говорилось о сознательном и бессознательном, о внутреннем «я», об ограничении потребностей собственного «эго», о необходимости воспитания в детях чувства ответственности и вины, о мышлении не только на первом, но на втором и третьем уровнях, и Ингеборга пристыженно примолкла.
Ей был доступен только один уровень мышления – первый, он же и последний.
– Вы пытались объяснить этому типу нечто такое, что находится вне зоны его понимания, – заговорил у нее за спиной историк. – Это все равно что… пытаться объяснить зулусам законы развития цивилизованного общества. Они живут вне этих законов и поэтому понять их не смогут никогда…
Почему-то сравнение Павла Степанова с зулусом Ингеборгу задело, но она не могла сказать об этом историку. Поэтому спросила:
– А чем плохи зулусы? Я вас уверяю, что им так же нужны наши цивилизованные законы, как нам их ритуальные танцы.
– Вот-вот! – подхватил Валерий Владимирович таким тоном, как будто она сказала ему что-то очень приятное и необыкновенно умное. – Люди вроде этого Степанова никогда не поймут нас просто потому, что их вообще ничего не интересует, кроме курса их драгоценного доллара. А мы никогда не сможем понять их потому, что нам нет дела до курса доллара, мы живем в совсем другом мире. Духовном. Тонко организованном.
«Тем не менее, – подумала Ингеборга желчно, – ты почему-то работаешь именно в этой школе, где зарплаты вполне сравнимы с зарплатами в небольшом, но процветающем банке. Почему-то ты не пошел на работу в среднюю школу деревни Хрюкино объяснять хрюкинскому подрастающему поколению, что такое мышление на третьем уровне. Несмотря на все твое презрение к „зулусам“ и курсу доллара».
Тонко организованный Валерий Владимирович выждал некоторую паузу и затем предложил задушевно:
– А не пойти ли нам с вами сейчас куда-нибудь поужинать, Инга Арнольдовна? Ужин-то мы заслужили. Как вы думаете?
– Спасибо, – сказала Ингеборга и выволокла из шкафа целую стопку совершенно ненужных ей тетрадей. – Боюсь, что свой ужин я пока что не заслужила. Спасибо.
Историк поднялся из-за стола, прошелся по комнате и остановился у нее за спиной, сунув руки в карманы.
От нее хорошо пахло – какими-то соблазнительными духами, но тонко, едва ощутимо. Валерий Владимирович не любил резких запахов. Они его почему-то пугали. Ровно подстриженные блестящие волосы на шее загибались концами внутрь. Талия, попка, ножки – все замечательно.
И чего она выламывается? Что пытается изобразить? Мужа у нее нет и не было никогда, это Валерий Владимирович установил сразу, как только она появилась в школе. Живет одна. Никто ее не встречает и не провожает.
А какая бы из них получилась замечательная пара – историк и литератор, как в каком-нибудь хорошем старом фильме! В старых фильмах умели показывать учителей так, что они вызывали уважение и глубочайший душевный трепет. По крайней мере у Валерия Владимировича. Ему нравилось думать, что он пошел работать в школу из-за фильма «Доживем до понедельника», в котором Вячеслав Тихонов как раз представлял очень тонкого историка.
– А может, все-таки поужинаем? – спросил Валерий Владимирович, пристально глядя ей в шею, и откашлялся. – Заодно поговорили бы про Ивана, о котором вы так печетесь. Все-таки я у них воспитатель, кроме того, давно работаю и могу кое-что вам подсказать. – И он осторожно взял Ингеборгу под локоток.
Она обернулась. В ее глазах плескалось веселое недоумение. Локоток как-то на редкость уместно угнездился в ладони Валерия Владимировича. Ему так показалось.
– Соглашайтесь! – попросил он добродушно. – Всего один ужин!
«В конце концов, я ничего не теряю, кроме времени, которого у меня и так полно, особенно по вечерам, – внезапно подумала Ингеборга, чувствуя сквозь ткань водолазки ласковое, но решительное прикосновение историка. – Ужин? Ну и черт с ним, пусть будет ужин, даже в компании Валерия Владимировича. Чем он уж так особенно плох? Ничем он не плох, скорее даже хорош, а дома все равно меня никто не ждет».
– Хорошо, – сказала Ингеборга решительно, словно в чем-то себя убеждая, но локоть все-таки вытащила, – ужин так ужин. Мы прямо сейчас поедем?
Историк почему-то удивился.
– А вам разве не надо переодеться и…
– Освежиться? – подсказала Ингеборга. Ей стало смешно.
«Переодеться и освежиться» – это было в каких-то романах, или фильмах, или еще где-то, где женщины переодевались к обеду, мужчины постукивали по барометру, где дворецкий неслышно возникал за спиной, а на креслах были разложены муслиновые саше с вербеной.
Или не на креслах? Или не с вербеной, а с розмарином?
– Конечно, конечно, – быстро сказала Ингеборга, потому что историк молчал и смотрел с пристальной печалью и, кажется, даже уже начал обижаться на ее непонятное веселье, – вы правы. Мне непременно нужно переодеться и освежиться! Вы заедете за мной?
– В восемь часов, – предложил историк сдержанно. – Подходит?
Итак, планировалась не просто «еда», а романтический ужин на двоих. Зря она согласилась!
А может, и не зря. Даже лучшая подруга Катя Максимова еще в университете говорила ей, что она дикая. Все ходили танцевать и пить портвейн «Три семерки» в общежитие физфака, а Ингеборгу вечно тянуло домой, где были родители, вкусный ужин и удобный диван, накрытый белым литовским пледом.
Хватит быть дикой. Ей уже двадцать девять. Портвейн давно выпит, и танцы давно закончились. Остался один диван, накрытый все тем же пледом…
– Хорошо, – согласилась Ингеборга и улыбнулась. – В восемь. Вы знаете, где я живу?
Оказывается, историк отлично знал, где она живет.
Ровно в восемь, в одной только блузке, без юбки и туфель, которые еще предстояло найти, Ингеборга тянула с балконной веревки колготки и, взглянув вниз, увидела у замусоренного подъездного козырька блестящую полированную крышу вишневой «девятки». Сама Ингеборга всегда и везде опаздывала и ничего не могла с собой поделать, как ни старалась. Мало того, пунктуальные люди почему-то до крайности ее раздражали. Пресловутой прибалтийской педантичности в ней не было и в помине, к огромному недоумению и огорчению ее очень хорошо организованных родителей.
Еще по меньшей мере минут двадцать полуголая Ингеборга металась по квартире, время от времени расстроенно выглядывая с балкона. Внизу Валерий Владимирович уже давно проявлял некоторые признаки нетерпения. Сначала он курил в машине – Ингеборга видела в открытом окне согнутый пиджачный локоть и тонкую струйку синего дыма. Потом он курил рядом с машиной, шикарно облокотившись о ее полированный бок. Потом он стал поглядывать вверх и перестал следить за надлежащей красотой своей позы. Когда почти в половине девятого Ингеборга выскочила из подъезда, Валерий Владимирович уже вовсю посматривал на часы.
– Я прошу прощения, – пробормотала она с искренним страданием в голосе. Процентов пятьдесят этого страдания было вызвано тем, что она так свински опоздала, а пятьдесят – тем, что ботинки, которые она кое-как напялила, с ходу начали натирать ей пятки.
Валерий Владимирович, надо отдать ему должное, простил ее очень быстро и сразу завел какую-то историю о том, как еще осенью провожал ее до дома.
Странно, что она не помнит! Неужели вправду не помнит? Они еще так замечательно разговаривали тогда о Сомерсете Моэме и его творчестве и о том, что это явление не только литературное, но и историческое, но Ингеборга решительно не могла вспомнить никакого осеннего разговора о Сомерсете Моэме.
– Вы, наверное, просто меня тогда не слушали, – заключил историк с извиняющей улыбкой, – или я вас слишком заболтал…
Вот это скорее, подумала Ингеборга, чувствуя себя свиньей. Историк и вправду был очень мил.
Новые брюки, присланные мамой из Парижа и надетые по случаю ужина в ресторане с кавалером, собирались непривычными складками на животе и под коленками. Брюки были «необжитые», и Ингеборге все время хотелось задрать куртку и посмотреть, что именно с ними происходит, не мнутся ли, не нужно ли их одернуть или, наоборот, подтянуть. Она любила новую одежду, но привыкала к ней всегда довольно долго. Кроме того, ей уже давно и сильно хотелось есть, но усилием воли она заставила себя не хватать никаких кусков дома, а ждать до ресторана. Теперь ей казалось, что через десять минут она непременно умрет, если не получит хоть какой-нибудь еды.
– Ну вот мы и приехали, – сообщил историк ласковым голосом. – Вы знаете это место, Инга? Это весьма неплохой китайский ресторанчик и очень-очень популярный!
Очень-очень популярный китайский ресторанчик фасадом смотрел на зацветающий весенний Покровский бульвар. Разноцветные бумажные фонарики словно плыли в светлых апрельских сумерках, и щекастый мандарин в плоской шапочке, поклонами встречающий гостей, казался совсем настоящим.
Пока Валерий Владимирович втискивал «девятку» в узкое пространство между тяжелым и грязным «Лендкрузером» и желтой стеной с осыпавшейся штукатуркой, Ингеборга с любопытством, которое подогревалось почти первобытным голодом, рассматривала китайские фонарики, лесенку вниз, намалеванные на досках иероглифы и улыбающегося раскрашенного мандарина.
Валерий Владимирович сделал последний рывок и заглушил двигатель, но галантно распахнуть Ингеборге дверь не успел – она уже выбралась из машины и критически осматривала «необжитые» брюки, не дававшие ей покоя всю дорогу. Ничего особенного с брюками не произошло, они даже не измялись и вид имели вполне парижский.
– За вами не угонишься, – сказал Валерий Владимирович, несколько озабоченный тем, что элегантный – как в кино! – выход из машины не состоялся. – Вы очень быстрая девушка, Ингеборга!
Сказано это было с доверительным интимным кокетством в голосе, и Ингеборга неожиданно струхнула.
Если Валерий Владимирович вздумал ее соблазнять, значит, вечер будет с самого начала безнадежно испорчен и никакие ресторанные изыски не смогут его спасти.
Напрасно она согласилась. Сидела бы дома, чего лучше! И плед опять же, и чай, и новая книжка любимой авторши из серии true love.
Она моментально рассердилась на себя, на Валерия Владимировича и на жизнь вообще и, не слушая его, мимо приветливого мандарина, мимо каких-то молодых людей, которые многозначительно покуривали у лесенки, сбежала по ступенькам вниз.
– Столик заказан? – Зверского вида гардеробщик при входе бегло осмотрел ее, словно решая, что бы такое с нее снять и повесить на вешалку; снимать ввиду теплой погоды было на первый взгляд нечего. У него было очень русское и мрачное лицо, которое он тщетно пытался сделать любезно-приветливым, русский же бритый затылок и алое шелковое кимоно, расшитое золотыми драконами.
Высший класс, оценила Ингеборга. Суперлюкс.
С заказом все выяснилось очень быстро, и в сизом сигаретном дыму Ингеборгу и ее кавалера проворно проводили в какой-то довольно уютный закуток, где стояло всего несколько столиков, журчал крошечный, но вполне живой фонтанчик и было не так накурено. Деревянный стол оказался чистым, приборы – тяжелыми, в стенной нише неторопливо курились благовония, и справа от вилки лежал длинный пакетик с палочками. Приветливая девушка с подведенными почти до висков глазами принесла меню, разрисованное драконами и пагодами, и Ингеборга наконец перестала злиться на весь мир.
– Я буду маринованные грибы, китайский салат, лапшу и утку по-пекински, – объявила она, едва взглянув в меню.
Валерий Владимирович, до того так старательно читавший названия, что у него шевелились губы, оторвал взор от своей папки и констатировал с уважением:
– Вы разбираетесь в китайской кухне. Ингеборга разбиралась не только в китайской кухне. Ее родители уехали из России, едва-едва забрезжила заря перестройки. Они уехали бы задолго до столь долгожданного рассвета, если бы не были уверены, что последствия их отъезда будут разрушительны и чудовищны не только для них, но и для многочисленных литовских и московских родственников.
Они уехали сначала в Германию, где отцу сразу предложили работу. Очень скоро его перевели в Швейцарию, и за два года он добился всего, чего не мог добиться в России всю «прошлую жизнь», как это называлось в семье. У родителей появился полновесный счет в банке, домик с зеленой лужайкой и белым низким заборчиком, длинная французская машина и приходящая прислуга. Отец Ингеборги был инженер-металлург экстра-класса, а мать – художница, рисовавшая по заказу издательств картинки для детских книжек. В цюрихских издательствах ее картинки никаким спросом не пользовались, и года два она промаялась совсем без работы, пока однажды супруга герра Вансдорфа, хозяина того самого металлургического комбината, на котором работал отец, не увидела у него в кабинете несложную картинку – горы, озеро, изумрудная трава, замшелый серый мостик через горный поток и… два замученных тролля, попивающие эль из каменной фляги. Фрау Вансдорф впала в непередаваемый экстаз, и мать через некоторое время сделалась вполне процветающей швейцарской художницей. Тролли, феи, гоблины и баньши, изображать которых матери всю жизнь страшно нравилось, наконец-то нашли применение, и счет в банке из полновесного сделался солидным.
Вот только строптивая дочь почему-то отказывалась переезжать. Сначала она училась в университете и бросить его никак не могла, потом решила непременно защитить диссертацию, потом жалко было продавать старую квартиру на Соколе, потом нашлись еще какие-то столь же непреодолимые обстоятельства…
Жить за границей Ингеборга не желала. Однако в гости в чистенькую, ухоженную, пряничную, похожую на дореволюционную пасхальную картинку Швейцарию с удовольствием наезжала. Или в Париж, где родители проводили отпуск. Или в Вену, где маленькая художественная галерея выставляла материнских троллей. Или в Гамбург, где отец читал лекции.
Во всех этих сказочных городах родители первым делом начинали усиленно откармливать Ингеборгу, «бедную заброшенную девочку», – от неловкости, как представлялось Ингеборге. Ей было жалко их, и казалось, что она своим присутствием смущает родителей, напоминает им о каких-то невыполненных обязательствах и как бы возвращает обратно, в ненавистное советское прошлое, от которого они оба так старательно и успешно избавлялись. Зато она отлично научилась разбираться не только в европейской, но и во множестве разных других кухонь.
Что там утка по-пекински, поразившая воображение Валерия Владимировича!
– Я люблю китайскую кухню, – сказала Ингеборга и покосилась на официантку в надежде, что та воспримет ее молчаливый голодный призыв и принесет хоть хлеба в плоской плетеной корзинке.
– Я тоже очень люблю, – согласился Валерий Владимирович и закрыл меню. – Видите, даже в этом мы с вами похожи!
Ингеборга покосилась на него с новым всплеском подозрения. Господи, куда его опять несет? Почему он ни черта не понимает, что ей вовсе не нужны его ухаживания и в ресторан она пошла просто потому, что уже сто лет нигде не была с кем-то, кроме родителей.
Вот так поужинаешь разок-другой в приятной мужской компании, да и заделаешься феминисткой на всю оставшуюся жизнь!
– Есть очень хочется, – сообщила Ингеборга. Почему-то она была совершенно уверена, что таких тонких мужчин, как Валерий Владимирович, проза жизни должна непременно раздражать, а ей очень хотелось его позлить.
И зачем только она поперлась с ним в этот чертов ресторан? Лежала бы на диване под белым пледом, думала об Иване Степанове и о том, как ей с ним быть…
Подошла официантка, улыбнулась дежурной улыбкой, посмотрела вежливо и вопросительно. Валерий Владимирович что-то доверительно забубнил, перегибаясь через деревянную ручку кресла. Очевидно, в его шепоте было что-то, о чем Ингеборге знать не полагалось.
Вот идиот.
Она отвернулась, сцепила руки, пристроила на них подбородок и независимо оглядела тесный зальчик. Все столы заняты – видно, и впрямь ресторанчик очень, очень популярный. Какие-то совсем маленькие дети ковырялись на чистом плиточном полу в довольно уютном уголке возле фонтанчика. Официанты, производившие впечатление подрабатывающих студентов, весело, торопливо и осторожно перешагивали через них. Шум был вполне терпимый, а стенные панели – из настоящего дерева.
Ингеборга перевела взгляд на Валерия Владимировича, который как раз кончил шептаться с официанткой и уже несколько секунд пристально смотрел ей в щеку.
– Как вам здесь? Ничего? По-моему, замечательное местечко!
– Есть очень хочется, – повторила Ингеборга, ни за что не желающая становиться неземным созданием и делать вид, что еда ее совершенно не интересует.
– Инга Арнольдовна, здрасьте! Здрасьте, Валерий Владимирович!
Голос был звонкий, радостный, полный искреннего и неподдельного чувства, и прозвучал он так неожиданно, что Ингеборга и историк разом вздрогнули, как парочка восьмиклассников, которых застукали за школой с куревом и пивом.
– Инга Арнольдовна, это я, Иван! Вы что, меня не узнаете?!
Сияющая кривоватыми передними зубами мордаха выглянула откуда-то справа. Она светилась таким счастьем, что Ингеборге стало неловко, словно ее по ошибке приняли за кого-то другого и радость на сияющей мордахе предназначена вовсе не ей.
– Иван.
Голос был властный и негромкий и как будто совершенно не признающий того, что его можно ослушаться.
– Иван, извинись и вернись на место.
– Нет-нет, – пробормотала Ингеборга и оглянулась, но почему-то так и не нашла того, к кому обращалась, – он совсем не мешает. Привет, Иван.
Мордочка засияла вновь и придвинулась поближе.
– А вы тоже ужинаете, да? А мы с папой так захотели есть, что решили не ехать домой, а зайти в ресторан. Я вообще-то не очень люблю рестораны. А вы любите китайскую лапшу? Это моя любимая! А еще…
– Иван.
Голос прозвучал совсем близко, и прямо перед глазами Ингеборги оказался широкий кожаный ремень, ниже которого простирались голубые джинсы, а выше – черная водолазка.
– Иван, сколько раз я должен повторять? Извинись, и пойдем на место!
Как будто щенка урезонивал, честное слово! И ничего не случится с его прекрасным сыном, если тот две минуты поговорит с собственными учителями в неформальной обстановке!
По черной кашемировой водолазке взгляд Ингеборги добрался до пухлых щек, заросших дневной щетиной, и голубых глаз, которые, как обычно, смотрели с сонным неодобрением.
Она мигом отвела глаза.
Зря она так переживала из-за сегодняшнего разговора с ним. Все-таки он на редкость неприятный тип.
– Извиняюсь, – буркнул неприятный тип. – Иван!
– А около нашего столика аквариум, – сообщил Иван, будто и не слыхал призывов грозного папаши, – мы там сидим, потому что мне очень нравятся рыбки. А папа говорит…
– Если ты сию же минуту…
Историк Валерий Владимирович улыбался доброжелательной и грустной улыбкой Вячеслава Тихонова из фильма «Доживем до понедельника», хотя, с точки зрения Ингеборги, ситуацию давно нужно было спасать. Ситуацию и не в меру общительного Ивана Степанова.
– Рыбки? – переспросила Ингеборга. – Настоящие?
– Классные! – подтвердил Иван.
– Пойдем посмотрим?
Ни на кого не глядя, она решительно отодвинула стул, шагнула в сторону, чтобы не уткнуться в живот Павлу Степанову, и подтолкнула вперед Ивана.
– Это не слишком далеко? Если далеко, я не пойду. Мне должны принести еду, а если я не поем, то через пять минут умру с голоду. – Ей казалось, будто под кожу ей ввинчивают два сверла – так пристально смотрели ей вслед оставленные в одиночестве джентльмены.
– Вы еще не ели? – поразился Иван. – А нам уже давно принесли, вы можете есть с нами и смотреть на рыбок! Папа ест очень быстро, а я так не умею. Хотите сесть с нами? Я с вами поделюсь своей китайской лапшой.
Он был очень любезен и гостеприимен, восьмилетний Иван Степанов. Он был совершенно уверен, что ведет себя просто прекрасно, и даже оглянулся через плечо на отца, явно очень гордясь собой. Но у отца было странное – и как будто даже недовольное! – лицо.
Со спины Ингеборги Степан перевел взгляд на физиономию историка Валерия Владимировича, но тот лишь улыбнулся неопределенной улыбкой и слегка пожал плечами.
– Ей нравится ваш мальчик, – сообщил Валерий Владимирович, словно извиняясь за поведение Ингеборги, и сложил пальцы домиком. – Она очень переживает за него и таким образом пытается наладить с ним контакт…
Не дослушав, Степан кивнул и вернулся к своему столу. В некотором отдалении, сталкиваясь головами, Иван и учительница литературы возили носами по передней стене гигантского аквариума.
Значит, эта самая Инга Арнольдовна – подруга историка и… как там говорится? Ничто человеческое нам не чуждо? Занятно. И Иван хорош! Что это за новости – приглашать к столу совершенно чужих людей, даже не спросив разрешения?! Впрочем, вряд ли кто-то когда-то объяснял ему, кого и как следует приглашать к столу…
Купить, что ли, аквариум? Только где его ставить? И кто его будет чистить? Полоумная Клара Ильинична? Она и так за каждую лишнюю вытертую пылинку требует прибавки к жалованью, и Степан соглашается, потому что у него нет времени искать ей замену. За аквариум она потребует самое меньшее купить ей квартиру.
Голосок Ивана звучал все громче. Он всегда начинал орать, когда увлекался и забывал, где находится. Степан протяжно вздохнул, скосил глаза на тлеющий кончик своей сигареты, зачем-то покрутил ее в пальцах, потом смял в пепельнице и тяжело поднялся, решив, что, пожалуй, пора разогнать всю эту лавочку.
– Иван, достаточно. Ты уже все показал… Инге Арнольдовне.
Они оба оглянулись с недоумением и некоторой досадой, как научные сотрудники, которых на самом интересном месте прервала надоедливая уборщица.
– Что? – спросил Степан недовольно.
– Пап… – начал Иван.
– Хватит, я сказал. Садись на место.
На Ингу Арнольдовну он не обращал никакого внимания.
Она выпрямила спину, хотела что-то сказать, но промолчала и только заправила за ухо прямые густые волосы.
Степан проследил за ее жестом.
Он боялся всех женщин в мире. Старых, некрасивых, толстых, худых, умных, идиоток, красоток… Леночка научила его бояться. Он боялся и не доверял им, даже самым близким, даже самым лучшим, самым проверенным и не опасным, вроде Саши Волошиной. Он не доверял им, презирал их и знал, что самый лучший способ спастись – это сделать вид, что их вовсе не существует в природе. Ингеборги Аускайте тоже не существовало. По крайней мере для Павла Степанова. Может быть – и даже скорее всего! – она существовала для историка Валерия Владимировича и еще для кого-то, но для Павла Степанова ее не было. Был просто еще один жизненный… фактор, с которым приходилось считаться. Это как раз легко. Считаться с самыми разнообразными жизненными факторами он научился давным-давно.
Но жест, которым она заправила за ухо волосы, почему-то тронул его.
– Спасибо, – сказала как бы несуществующая Ингеборга Аускайте Ивану. – Мне понравилось. Пойду ужинать, мне, наверное, уже принесли. И ты иди доедай свою лапшу.
– До свидания! – проорал Иван, как показалось Степану, на весь зал. – До завтра!
– До завтра, – попрощалась Ингеборга и перевела взгляд на Степана. – До свидания, Павел Андреевич. Прошу прощения за беспокойство.
Степан кивнул куда-то в сторону Северо-Африканского побережья и повернулся к Ингеборге широкой кашемировой спиной.
Придурок. Невежа. Дикарь.
Как там сказал про него сегодня тонкий Валерий Владимирович? Зулус?
Натуральный зулус. Неподдельный. Истинный.
Кипя от негодования, Ингеборга вернулась за свой столик, к тонкому Валерию Владимировичу. Ноздри у нее слегка раздувались от злости, как у породистой лошади. Она уселась на место, потом подумала и пересела – так, чтобы оказаться спиной к зулусу.
– Тяжко пришлось? – спросил проницательнейший Валерий Владимирович, и в голосе его прозвучали сочувствие и некоторое превосходство, словно он знал нечто такое, о чем не имела никакого представления Ингеборга Аускайте.
– Не слишком, – буркнула она, – все в порядке. Передайте мне, пожалуйста, мои палочки.
– Вы умеете есть палочками? – удивился историк.
– Умею, – ответила Ингеборга мрачно, – глупо любить китайскую кухню и не уметь есть палочками.
Историк пожал плечами. Он был уверен, что любит китайскую кухню, но есть палочками не умел.
– Я же говорил вам, что это люди совершенно из другого мира, – начал он, – и дети их совсем не похожи на детей из нашего, привычного мира. Вот почему учить их надо совсем не так, как учат обычных, нормальных детей. Их нужно заставлять страдать! Нужно, чтобы они на своей шкуре испытали, что такое сильные чувства. У них есть абсолютно все, что только можно купить за деньги, а человеческих чувств никаких нет! Вы видели, какие шоферы привозят некоторых наших учеников?
– Нет, – отрезала Ингеборга, доедая лапшу.
Иван Степанов, который, блестя глазами, показывал ей рыбок, вовсе не производил впечатления ребенка, которого нужно заставлять страдать. Его хотелось… защитить.
– Я уверен, и директор во многом со мной согласен, что, только на своей шкуре почувствовав чужое несчастье, эти дети обретут шанс стать людьми.
– У меня такое впечатление, – перебила его Ингеборга, – что вы говорите про психоневрологический стационар или колонию для несовершеннолетних преступников, а не про нашу школу.
Валерий Владимирович усмехнулся.
– Вы еще многого не понимаете в нашем деле, Инга. Кстати, оно гораздо труднее, чем может показаться на первый взгляд. Вы же до… прошлого года научной работой занимались? Верно? Я ничего не путаю?
– Не путаете.
– Ну вот. А тут – живые люди. Да еще такие сложные, как маленький Степанов и его отец. Это все совсем непросто. Попробуйте втолкуйте этому малышу, ни в чем не знающему отказа, что есть дети, для которых «Сникерс» – непозволительная роскошь.
– Пардон, – сказала Ингеборга и отодвинула пустую пиалу, – вы хотите разъяснить мне суть классовых противоречий? Разделение на бедных и богатых? Несправедливость устройства мира?
– Юпитер, – Валерий Владимирович улыбнулся, – ты сердишься, следовательно, ты не прав. Давайте-ка лучше выпьем вина, Инга. Здесь подают отличное белое вино.
Ингеборга в упор взглянула в кроткие глаза Валерия Владимировича и почти за рукав поймала проходившую мимо официантку с синими стрелами вместо глаз.
– Принесите мне большую кружку светлого пива, – попросила она. – Я не люблю белое вино, Валерий Владимирович. И ничего в нем не понимаю, и никогда его не пью.
В Сафоново Степан приехал к двум часам, с трудом высидев первую половину дня в офисе. Ему совершенно незачем было ехать – ни в первой половине дня, ни во второй. Он прекрасно об этом знал, но все-таки поехал.
Работы по-прежнему были остановлены, на объекте безвылазно сидел Чернов, обремененный трудной задачей ежедневно выискивать какие-то занятия для полусотни работяг и принимать меры, чтобы больше никто не свалился по пьяному делу в котлован. Капитан Никоненко лег на дно и на жалкие телефонные призывы Степана не отзывался. Но три последних дня, когда молчание правоохранительных органов стало явно затяжным, внесли некоторое успокоение в смятенную Степанову душу.
Дураку ясно, что, если бы Володьку убили, капитан Никоненко уже давно поселился бы в их котловане.
Или все-таки не поселился бы?
Степан приткнул джип к вагончику прораба, выключил радио, бросил на щиток темные очки и не спеша оглядел все хозяйство.
Котлован по-прежнему был пуст и необитаем, как лунный кратер. Трос гигантского крана с прицепленным семитонным крюком мерно покачивался из стороны в сторону над той самой плитой. В некотором отдалении человек шесть рабочих красили трубы – интересно, зачем? Еще несколько рыли какую-то подозрительную канаву, совсем далеко, почти у кромки леса, но все-таки в пределах границ Степановых владений. И последняя небольшая кучка – можно сдохнуть от смеха, честное слово! – вяло терла тряпками стены жилых вагончиков.
Ну, Черный, ну, эксплуататор хренов, всех занял! Никто сложа руки не сидит, все при деле!
По-слоновьи фыркнув, Степан вылез из джипа. На пороге прорабской будки нарисовался Петрович и закрутил головой, словно проверяя, все ли в порядке во вверенном ему хозяйстве. Степан не был самодуром, но он был серьезным начальником. И этот начальник приехал без предупреждения…
– Ну чего, Петрович? – спросил Степан, захлопнув тяжелую дверь джипа. – Я смотрю, у вас трудовой энтузиазм прямо как Первого мая – аж через край. А?
– Стараемся, Андреич, – пробормотал прораб со смущенной улыбкой, еще не очень понимая, что именно его ждет – выволочка или похвала. – Чего ж без дела-то сидеть… Совсем плохо, когда люди без дела сидят… С ними потом и не справишься…
Они сошлись на середине дороги между Степановой машиной и шаткой лесенкой, с которой суетливо сбежал прораб, и пожали друг другу руки.
– А поумнее ничего не могли придумать? – спросил Степан не сердито, а скорее насмешливо, как определил про себя прораб. – Что они там копают? Сортир, что ль, новый возводят?
– Точно, – подтвердил прораб смущенно.
Он вообще очень легко смущался, отводил глаза и начинал неловко переминаться с ноги на ногу или чесать лысину под вечной бейсболкой. При этом он был ухватистый, ловкий, хорошо и быстро соображающий мужик. Он никогда ничего не крал, ни о чем не забывал, всегда успевал к сроку и почти не пил. Степан работал с ним последних лет пять, поручал ему самые ответственные работы и радовался, что тогда, пять лет назад, Петровичу пришлось бросить свое инженерство в подыхающей оборонке и переквалифицироваться в прорабы. Где бы он взял другого такого, надежного и верного?
– А Чернов где?
– Только что здесь был, – сказал прораб и зачем-то нагнул голову, заглядывая под будку, как если бы Чернов мог выскочить оттуда. – Найти?
– Сам найдется, – ответил Степан. – Пойдем, Петрович, потолкуем. Менты не наведывались?
Прораб сбоку взглянул на Степана.
– Я свое дело знаю, Пал Андреич, – сказал он непонятно, – если бы объявились, я бы первым делом тебе позвонил. Нет никого и не было. Даже местные нас не слишком донимают, а я, грешным делом, думал, что после… Володьки нам конец придет, штурмом возьмут…
– Здорово, Степ, – проговорил Чернов из-за Степановой спины, – ты чего приехал?
– Не сидится мне на Дмитровке, Черный. – Степан на ходу пожал жесткую и широкую лапищу Чернова. – Что за всемирный день чистоты ты тут устроил? Что это у тебя все гаврики, как один, тряпочками стены моют?
– Не все, – возразил Чернов, моментально приходя в раздражение, – некоторые вон яму под новый санузел копают. А что? Есть предложения получше?
Держась за утлые перильца, Степан активно топал башмаками, стряхивая с них комья грязи.
– Нет у меня никаких предложений, Черный. Пусть делают что хотят, только бы водку не жрали с утра до ночи. Один сортир уже почти возвели, пусть с понедельника второй возводят. Чтоб было у нас все как у людей – «мы» и «жо»…
Он распахнул дверь в вагончик и увидел Тамару. В узкой комнатке, насквозь проткнутой длинными солнечными пиками, за столом сидела Тамара и преданно смотрела на Степана. Она держала ручку, хотя Степан всегда подозревал, что писать она не умеет. Весть о приезде начальника, как правило, облетала подчиненных со скоростью света, и Тамара приготовилась к встрече.
– Здрасьте, Павел Андреевич. Какой день сегодня хороший. Может, кофе? Сварить? Или поесть хотите?
Все это она выпалила единым духом, не отводя от Степана преданных и как будто умоляющих глаз. Для всех подчиненных дам он был «несчастный» – брошенный женой, пропадающий на работе отец-одиночка. Его жалели, вздыхали, печалились, стремились угодить, и все это походило на глупую рекламу – «наш начальник такой умница…».
Степан знал об этом – и бесился.
Только Саша Волошина со своей неуемной заботой никогда его не злила.
Может, жениться на ней?
Не отвечая преданной и до предела вытянувшейся в его сторону Тамаре, Степан прошел в свой «кабинет» – выгороженную часть вагончика, – а миролюбиво настроенный и, может, просто голодный Чернов согласился:
– Давай кофе и бутерброды. Или что там у Зины есть? Пироги?
– Никто не звонил? – не повышая голоса, спросил Степан из-за перегородки. – Капитан Никоненко?
Тамара подскочила на стуле и кинулась к двери в «кабинет».
– Капитан Никоненко не звонил, Павел Андреевич, – отрапортовала она, вытаращив от усердия глаза. – Звонил Сергей Руднев. Я сказала, что вы в Москве, и попросила перезвонить в тот офис. Еще звонили от главы администрации Сафонова, просили связаться. Я вам позвонила, но вы уже уехали…
– А этим что нужно? – Степан бегло просматривал факсы, комкал и швырял в корзину.
– Ничего, я все решил уже, – сказал Чернов. – Они спрашивали, до какой границы у нас участок нарезан.
– Денег им, что ли, опять подавай? – Степан перестал комкать тонкую бумагу и швырять ее в корзину, наполненную уже до половины.
– Я все решил, – повторил Чернов с нажимом. – Не нужно никаких денег, хотя, конечно, все дело в этом. Петрович, ты чего там маешься? Заходи!
Прораб вошел не сразу. Он долго мялся за тонкой дверцей, пыхтел и скреб ботинками по полу, потом осторожно, как будто боясь, что его выставят, вдвинулся в «кабинет» и быстро опустился на стул около двери. И сдернул с лысой головы бейсболку. Стул скрипнул.
– Кофе давай! – приказал Чернов Тамаре и улыбнулся широкой и лихой улыбкой сердцееда и рубахи-парня.
Тамара засияла в ответ и кинулась выполнять, а Степан в сотый раз мимоходом опечалился, что он сам никогда не мог так легко и словно играючи общаться с людьми, особенно с женщинами.
– А фонари по периметру опять ни хрена не горят? – спросил Степан, уткнувшись в какой-то факс. Господи, сколько бумаги! Из всей скопившейся за несколько дней горы он выудит в лучшем случае одну бумажку и засунет ее в папку, и вовсе не потому, что она нужна, а так, на всякий случай. Все остальное он методично пошвыряет в корзину, а бумаги из папки «на всякий случай» будущей весной выкинет Саша Волошина при очередной разборке завалов.
– Фонари горят, – кашлянув в волосатый, плохо сжимавшийся из-за толщины мозолистых пальцев кулак, сказал прораб. – Все горят, Андреич. Мы теперь по ночам… того… дозором ходим… Посменно.
Степан коротко взглянул на прораба:
– Помогает?
– Вроде помогает, Андреич, – ответил прораб как-то смущенно, – пару раз шуганули, и пока все тихо…
– Так шуганули или тихо?
– Все в порядке, Степ, – вмешался Чернов, – ничего противозаконного. За территорию никто не выходит, до крови не дерется, стволов и ножей ни у кого нет…
– Спасибо и на этом, – пробормотал Степан. – Хорошо хоть стволов нет.
– Подъехал кто-то, Андреич. Чужой кто-то. У нас таких машин нет.
Прораб славился тем, что мог по звуку определить на любом расстоянии любой двигатель.
– Тамар, посмотри, кто приехал, – попросил Степан громко, заставляя себя не поворачиваться в сторону окна, из которого была видна вся строительная площадка, хотя ему очень хотелось. Менее озабоченный вопросами имиджа и собственной значимости Чернов уже вскочил и таращился в окно, вытягивая загорелую шею.
– Правоохранительные органы пожаловали, – сообщил он через секунду. – Легки на помине, блин…
Он оглянулся и озабоченно посмотрел Степану в лицо.
– Наш капитан? – уточнил тот и, не выдержав, выбрался из-за стола и пристроился за плечом Чернова.
– Он самый.
Капитан Никоненко уже вылез из красной «пятерки», захлопнул дверь и потянулся, давая всем желающим возможность как следует себя рассмотреть. Потом он повел широкими, вполне кинематографическими плечами, напомнив Степану Сергея Сергеевича Паратова в исполнении Никиты Михалкова, и не спеша двинулся в сторону их вагончика.
Степан отступил назад и плюхнулся за стол со всем проворством, на которое только был способен.
– Павел Андреевич, приехали из милиции, – доложила из «предбанника» глупая Тамара.
– Вижу, – буркнул Степан, уставившись в очередной факс. Капитану Никоненко вовсе незачем знать, как ждет Павел Андреевич того, что он скажет. Как ждет, как трусит, как гадает про себя, с чем капитан приехал, как не уверен в том, что его собственное лицо приготовлено к встрече с капитаном должным образом…
Под тонкой вагонной стенкой отчетливо протопали капитанские ботинки, проскрипела лесенка, открылась дверца. Даже не поднимая глаз от факса, Степан увидел, как прораб втянул голову в плечи.
– Добрый день! Мне бы господина Степанова повидать. Только не говорите мне, что его нет, милая барышня!
– Да я и не собиралась, – пробормотала Тамара.
– И правильно делали, что не собирались, – продолжал резвиться капитан Никоненко, – ибо со свойственной мне смекалкой я моментально уличил бы вас во лжи. Машина господина Степанова подсказала мне, что и хозяин должен быть где-то неподалеку.
Дверь в «кабинет» была распахнута, так что весь спектакль шел в прямом эфире. Одно только огорчило капитана Никоненко. Огорчило сразу, как только он шагнул в вагончик, и гораздо сильнее, чем можно было ожидать. На месте персиковощекой и бежево-золотистой Клаудии Шиффер сидела какая-то вовсе невразумительная деваха с наведенными глазами и алым ртом вампира-профессионала. Дьявольский рот совершенно не вязался с общим простецким видом и поверг капитана Никоненко в некоторое подобие смущения.
Интересно, а куда же они дели свою Клаудию? В тот раз она так тряслась и нервничала, что капитан решил даже, что она что-то знает о смерти разнорабочего Муркина, и с удовольствием планировал, как станет ее допрашивать.
Не судьба, значит. Не только допрашивать не придется, но и увидеть – не судьба.
– Хозяева дома? – громко вопросил он, продолжая свое выступление. Вампирша не выражала никакого желания объявить начальству о приезде местной милиции. – Войти-то можно?
– Можно, – сказал в дверях Павел Андреевич Степанов, – здравствуйте, Игорь Владимирович. Мы вас заждались. Тамара, кофе нам, быстро. Или вам чай, Игорь Владимирович?
– Кофе! – с некоторым даже возмущением воскликнул капитан Никоненко и пожал протянутую руку Степана. – Значит, заждались? Могли бы и позвонить, если так уж ждали. Или подъехать…
Вот оно что.
Подъехать.
Понятно.
Степан звонил капитану Никоненко каждый день. Звонил с упорством, достойным лучшего применения, да так его и не вызвонил.
Значит, нужно было приезжать. Дожидаться под кабинетной дверью. Беседовать «в личном порядке», как говаривал майор Опилкин, заведующий военной кафедрой.
«Что ж ты не сообразил, Степан? Или замы тебя запутали вконец – не езди, не плати, мы еще ничего не знаем, попадем пальцем в небо…»
– Да как подъехать, Игорь Владимирович? Вы со мной даже по телефону ни разу не поговорили! Меня небось взашей вытолкали бы из вашей серьезной организации – сказали: не звал тебя капитан Никоненко, что ж ты, незваный, явился!
Игорю Никоненко было тридцать четыре года. Из них последних лет… сколько же?.. да, пожалуй, десять он работал в милиции. Ничего он не приобрел на этой службе – ни богатств, ни знатности, ни счастья, – зато научился отлично разбираться в людях.
Павел Степанов ему нравился, и разговаривали они на одном языке, а это было большой редкостью. Поэтому капитан Никоненко позволил себе улыбнуться настоящей, нормальной улыбкой, протопал в кабинет, сел к столу и вытянул ноги.
– Здрасьте, мужики, – сказал он прорабу и Чернову, и после этого приветствия всем заметно полегчало. Кавалергарда Белова на этот раз видно не было. Наверное, он на… где там их офис?., на Большой Дмитровке, вот где. Вместе с персиковой и шелковой Клаудией.
– Не буду я вам голову морочить, Павел Андреевич, – произнес капитан Никоненко поспешней, чем ему хотелось бы, – Муркин ваш погиб в результате несчастного случая. Состава преступления не обнаружено. Так, по крайней мере, наши специалисты решили.
Капитан помолчал, занятый изучением давешнего бронзового чудища, взяв его с черного Степанова стола. Было очень тихо. Даже потенциальная вампирша Тамара перестала сопеть за дверью, осознав важность момента.
– Так что правильно сделали, что не приехали, Павел Андреевич, – продолжил капитан Никоненко громко и вернул чудище на стол. Оно сильно грохнуло о крышку. – Нечего вам было ко мне приезжать, только бензин жечь… Вы нам больше неинтересны, ездить мы к вам не будем, разбирайтесь сами как знаете. Всякие службы и инспекции по труду и технике безопасности мы, само собой, в известность поставили. Но что-то мне подсказывает, что вы к ним привычные. Разберетесь.
– Разберемся, – согласился Степан.
Чернов зачем-то негромко матюгнулся и затих. Прораб сидел не шевелясь, даже лысину не скреб под бейсболкой.
– Разберемся, – повторил Степан, и непонятно было, рад он или нет, что произошло никакое не убийство, а обычная бытовуха по пьяной лавочке.
– Так что случилось-то? – спросил он Никоненко с раздражением. – Почему Муркин в котловане оказался, если никто его туда не толкал?
– Ночь сырая была, дождь прошел. Он на глине поскользнулся да и упал… – Капитан пожал плечами. – И на грудь он принял не так чтобы… бокал шампанского. Хорошо принял, конкретно. И место есть, где он поскользнулся, и на ботинках глина с этого места есть. Ударился сильно, височной частью. Вот, собственно, и все, что произошло, Павел Андреевич.
Степан хмуро смотрел на свои руки, в которых неизвестно откуда взялся телевизионный пульт. Телевизор стоял в «предбаннике», и как пульт попал на стол, было для Степана загадкой. Пульт был изящный, длинный – шедевр эргономической мысли, – а пальцы толстыми и неповоротливыми, как переваренные сосиски.
– Вы с официальной версией не согласны, Павел Андреевич? – спросил капитан с простодушным любопытством. – Вам известно что-то, что осталось неизвестным нам?
– Да что вы! – не выдержал Чернов, переводя взгляд с капитана на шефа, который в присутствии посторонних, да не просто посторонних, а опасных посторонних, вел себя как идиот. – Все, что нам известно, мы вам как на духу еще тогда рассказали…
– Да рассказать-то рассказали, – согласился капитан Никоненко, – только вот Павел Андреевич сомневается что-то.
– Он не сомневается! – Чернов посмотрел на Степана, и во взгляде у него было непонимание и отвращение к начальнику, который вздумал чудить в такой неподходящей компании. – Он просто пытается понять все, до конца. Он у нас всегда такой, дотошный…
– Черный.
Голос был холодный и злой. Чернов независимо пожал плечами и умолк.
– Ваш Муркин, насколько нам известно, не был ни председателем совета директоров «Лукойла», ни главой «Газпрома», – непонятно сказал капитан Никоненко и задумчиво щелкнул ногтем по носу бронзового чудища. – Все, что могли, мы сделали, а дальше…
– Дальше, дальше, – пробормотал Степан и откинулся в кресле. И пультом почесал голову. – Дальше…
Если по моей стройке шатается убийца, то это мои проблемы. Правильно я понимаю?
«Что он делает, мать его, – быстро и яростно подумал Чернов, – хочет по новой кашу варить?! Чего ему теперь-то не хватает?! Все же ясно! Нужно этого капитана провожать к Аллаху, а Степан привязался к нему как банный лист…»
