Кадры решают все
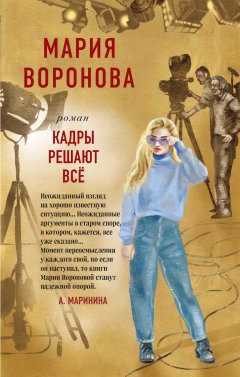
© М.В. Виноградова, текст, 2021
© Оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2021
– Искусство, как говорится, перед обществом в большом долгу, но и вы, дорогая Ирина Андреевна, тоже кое-чем провинились перед творческой интеллигенцией. Почистить карму не угодно ли?
С этими словами председатель суда Павел Михайлович любовно погладил по лысине мраморный бюстик Ленина, расположенный у него на столе под правой рукой возле чернильного прибора.
Ирина нахмурилась:
– Простите?
– Ах, память девичья, – засмеялся председатель, – забыли уже режиссера Пахомова?[1] Нет?
– Ну конечно, нет, Павел Михайлович. Такое не забывается.
Председатель с улыбкой покачал головой:
– Надеюсь, что так. Не каждый день ведь наносите удар в самое сердце советской культуры. Так вот, дорогая моя, появился шанс реабилитироваться.
Начиная понимать, куда клонит начальник, Ирина с тоской посмотрела на скоросшиватели.
– Да, да, и не надо морщиться, Ирина Андреевна. Прекрасное дело!
– Вы думаете? – Ирина усмехнулась.
– Боже мой, конечно! Культурные люди, и никто никого даже не убил. Ну прелесть!
– Павел Михайлович, пожалуйста, – заныла Ирина, для убедительности молитвенно сложив ладони, – я же ничего не смыслю в хозяйственных преступлениях! Пусть Иванов…
– Иванов плотно занят на другом процессе.
– Павел Михайлович, я ведь не кокетничаю, когда говорю, что арифметика не мой конек! Честное слово, клянусь! Например, фраза «квадратная комната три на четыре метра» не вызывает у меня никаких вопросов.
– А должна?
– Квадрат – это равносторонний прямоугольник, – мрачно заметила Ирина.
Председатель засмеялся:
– Вот видите, дорогая, вы уже понимаете в математике больше моего.
Артачиться дальше глупо, дело все равно окажется у нее, раз так решил начальник, но для профилактики надо немножко повыпендриваться, чтобы Павел Михайлович не считал ее совсем уж безответной и безропотной. Ирина состроила гримаску, а председатель выбрался из-за стола, очень отчетливо кряхтя, что было, конечно же, тоже частью спектакля о том, как старого и мудрого руководителя мучают слишком дерзкие подчиненные.
Взяв ее руку в свои, он торжественно произнес:
– Не бойтесь, Ирина Андреевна, все уже посчитано до вас. Над делом работал сам Алексей Сергеевич!
Ирина повеселела. Алексей Сергеевич Очеретный, опер из ОБХСС, был поистине уникальным работником, умел не только вскрыть аферу, но и убедительно выстроить доказательную базу. Следователи буквально молились на него и радовались, что Алексей Сергеевич, обладая гениальным умом, выбрал стезю закона, а не встал на скользкий путь профессора Мориарти, иначе народных средств каждый год недосчитывались бы намного больше.
Жаль, что теперь ей нельзя поговорить с Алексеем Сергеевичем запросто, поскольку она рассматривает дело, над которым он работал вместе со следователем Николаевым. Так что все контакты должны быть строго официальными. Но Очеретный есть Очеретный, а потому в деле должно быть все ясно даже такой незамутненной в финансовом отношении даме, как она.
– Я вам доверяю этот процесс не просто так, – Павел Михайлович вдруг посерьезнел, – а потому, что вы на сегодняшний день у меня самый принципиальный и добросовестный сотрудник.
Ирина поморщилась:
– Большое спасибо, конечно, за лестные слова…
– Это правда, Ирочка. Вы объективны и честны, не поддаетесь ни на угрозы, ни на посулы.
– Просто не пугали и не соблазняли как следует.
– Ладно, ладно, не скромничайте. Я в вас верю. Идите в секретариат, получайте дело.
– Спасибо, – сухо повторила Ирина и с тяжелым вздохом направилась к двери.
Павел Михайлович окликнул ее на самом пороге:
– Ирина Андреевна, учтите, там хищение в особо крупных размерах.
– Неужели там украли свыше десяти тысяч рублей, чтобы попасть под такую статью? – удивилась Ирина.
– Именно.
– Какая радость!
– А вы же еще ни разу к высшей мере не приговаривали?
– Бог миловал.
– Ну вот и не надо начинать именно сейчас. Все-таки кино дело не то чтобы несерьезное, но лишать из-за него жизни как-то глупо.
– Я вообще против смертной казни, Павел Михайлович, вы же знаете.
– Вот и хорошо.
Вернувшись в кабинет, Ирина хотела сразу приняться за бумаги, но вместо этого заварила себе кофейку. Успеет еще погрузиться в эту, по меткому выражению Алексея Сергеевича, поэзию цифр и погнуть себе пару извилин над всякими накладными, платежными поручениями и счетами-фактурами, которые вообще бог знает зачем существуют и что представляют из себя.
Господи, да она когда квитанции за квартиру заполняет, плачет горючими слезами, тратит на это по полдня, и то каждый раз боится, что напутала и платеж не прошел, а Павел Михайлович хочет, чтобы она изучила пять томов финансовых документов!
Смешно подумать, что до сегодняшнего дня процессы Кирилла[2] и Еремеева[3] казались ей верхом сложности. Нет, то легкотня была, а вот где истинное крючкотворство! С тоской взглянув на скоросшиватели, Ирина убрала их в сейф и заперла замок на все обороты. До завтра она к этим бумажкам даже не притронется, а если Павел Михайлович вдруг спросит, то фабула ей известна, слава богу, с коллегами дружит и сплетни слушает.
Ирина следила за перипетиями этого громкого дела с любопытством и азартом, ибо на сто процентов была уверена, что рассматривать его ей не придется. Для этого есть понаторевший в хозяйственных преступлениях Иванов или не менее опытный судья Табидзе, которым бухгалтерская отчетность не кажется древними загадочными письменами.
Подумаешь, Иванов в процессе! Там дело движется к концу, а Табидзе вообще скучает и, как Шерлок Холмс, сетует на тупость и предсказуемость преступного элемента. Он был бы счастлив погрузиться в сложное многоэпизодное дело, но нет. Выбор руководства снова пал на Ирину, и, не будем обольщаться, не за ее великие достоинства, а всего лишь потому, что в свое время коллеги присвоили ей титул «мисс Оправдание».
Когда-то она вынесла оправдательный приговор, несмотря на указание сверху, потом повторила этот фокус, когда на нее прямо не давили, но соблазняли быстрым продвижением по карьерной лестнице в обмен на высшую меру, а потом вышла замуж и родила второго ребенка, чем окончательно убедила коллег в том, что семья и справедливость ей дороже всего на свете.
Ну а раз так, то давай, Ирина Андреевна, бросайся под все танки, тебе, в случае чего, терять нечего, а мы мужики, у нас мало ли как жизнь повернется. Вдруг повышение предложат, а у нас в анамнезе неугодный приговор, конфронтация с партийными органами. Нет, не надо нам такого.
По этому принципу ее не так давно поставили на процесс прокурора Макарова. Бог его знает, куда там кривая выведет, а ты, Ирочка, при любом исходе ничем не рискуешь. С должности тебя, мать двоих детей, никак не сковырнешь, но и выше ты тоже не поднимешься. Все блестящие перспективы заслонила счастливая семейная жизнь и твоя строптивость.
Павел Михайлович симпатизирует режиссеру Соломатину и понимает, что если кто отважится оправдать его, так это будет именно Ирина.
Тем более за ней должок, как председатель не преминул напомнить. Одного деятеля киноискусства опорочила, другого надо вывести из-под удара.
Ирине и самой хотелось оправдать Соломатина, попавшего в число подсудимых явно по распоряжению соответствующих органов, вот если бы только для этого не надо было чахнуть над финансовой документацией…
А впрочем, и не надо, ведь Соломатин руководит творческим процессом, а за финансовый оборот отвечает директор картины, он и подписывает все бухгалтерские документы. Просто заслуженный деятель искусств Игорь Васильевич Соломатин слишком дерзко и талантливо критиковал советскую власть, вот компетентные органы и распорядились пристегнуть его к уголовному делу, чтобы слегка охолонул в своем диссидентском запале.
Выдавал бы идеологически выдержанный продукт, так пошел бы свидетелем, максимум его пожурила бы дирекция «Ленфильма», что не проследил за своим слишком шустрым директором картины. Когда человек весь в искусстве, что с него возьмешь? Если он такой же математический кретин, как Ирина, и хочется кино снимать, а не сверять всякие там дебет с кредитом, тем более что для этого существует специально обученный человек? Режиссерам вообще тяжело, намного хуже, чем писателям, композиторам и художникам, которым взял ручку-бумажку, да и работай. Ладно, художнику еще холст-масло потребуется, но такой расход любой советский человек может себе позволить. А вот кино ты никак не снимешь на собственные средства, ни при каких обстоятельствах, и что делать, если бог одарил тебя талантом именно в этой области? Если ты чувствуешь мучительную потребность воплощать творческие замыслы именно в виде фильма? Писатель может писать в стол, а режиссер без работы вынужден носить свои идеи внутри своей головы, и это, наверное, очень тяжелый груз. И неизвестно еще, кому хуже: тем, кто после многих неудачных попыток поступить во ВГИК смирился и направил свою энергию в другое русло, или тем, кто получил вожделенный диплом и мается без работы.
Взять, например, ее саму. Она занимает завидную должность судьи в городском суде, но если бы не сложилось, то сидела бы в районном, а если бы и там не вышло, могла уехать на периферию и там заниматься любимым делом. Да, скучала бы по Ленинграду, но плодотворно и с интересом работала бы по специальности. Или одареннейший психиатр нашей с вами современности, ведущий специалист по маньякам Витя Зейда. Не срослось бы с аспирантурой, сидел бы в краю летающих собак и там реализовывал свое призвание лечить людей от психических заболеваний.
У кинорежиссеров такой возможности нет. Они или снимают фильмы на киностудиях страны, или работают не по специальности.
Игорю Васильевичу повезло. Его дипломная работа была оценена так высоко, что пошла в прокат, дебютный фильм получил приз на Берлинском кинофестивале, и с тех пор Соломатин частенько радовал советский народ своими гениальными, а на взгляд Ирины, скучнейшими и пустыми фильмами.
Естественно, она никому не признавалась, что не понимает творчество мастера, а послушно закатывала глаза от восторга, когда при ней упоминали «Путь за горизонт», «Мглу над городом» и другие фильмы великого Соломатина.
Если бы встал перед ней выбор, куда идти, на премьеру фильма Соломатина или в сотый раз посмотреть комедию Гайдая, Ирина без колебаний выбрала бы второй вариант с оговоркой, что об этом ее решении никогда и никому не стало бы известно. В культурном багаже советского интеллигента фильмы Соломатина так же обязательны, как «Мастер и Маргарита», Хемингуэй, Феллини и Солженицын.
Стыдясь своих примитивных вкусов, Ирина очень хотела увидеть и понять «оттенки смыслов», «тонкую и нервную ткань сюжета» и «трансцендентность повествования» фильмов Соломатина, но не получалось. Возможно, потому, что она слабо представляла себе значение термина «трансцендентность», а искать в словаре было лень.
Кирилл высоко ценил творчество Игоря Васильевича, но на каждый новый его фильм в кинотеатр не рвался. Он говорил, что ходит в кино поржать и попереживать, а для «подумать» и «посмотреть на красивую картинку» у него есть книги и музеи. Ирина укоризненно качала головой, а сама радовалась, что не одна она такая отсталая в их семействе.
Естественно, в фильмах Игоря Васильевича было полно шпилек в адрес социалистического строя, иначе они не получили бы такого горячего приема у советской интеллигенции, но за мутным повествованием и невнятностью авторского высказывания эти шпильки как-то не кололи глаз.
Года три назад Соломатин то ли решил попробовать себя в новом амплуа, то ли руководство киностудии вспомнило лозунг «Все лучшее – детям», в общем, великий режиссер поставил фильм по мотивам сказок Андерсена.
Картина оказалась преисполнена такой лютой сатирой на социалистический строй, что удивительно, как пошла в прокат, а не легла на полку. Очевидно, в тот день на смену заступила бригада слепоглухих цензоров, другого объяснения Ирина не находила. Да, формально отрицательные персонажи являлись королями и графами, но сходство их с лидерами СССР бросалось в глаза даже первоклассникам, для коих, собственно, фильм и был снят. Тем не менее картину не запретили, даже периодически показывали во «В гостях у сказки», вызывая гнев Егора, который этот фильм отчаянно не любил. Пошел в мать по части примитивных вкусов.
Ирине тоже казалось, что Соломатин, увлекшись обличением социалистического общества, забыл, что работает для детей, которым нужна интересная сказка, а тонкий юмор на злобу дня они по малолетству просто не понимают. Зато большинство родителей было просто в восторге от гражданской смелости режиссера.
Почему же фильм, густо замешанный на антисоветчине, все же вышел на экраны? А просто эффект запредельной наглости никто не отменял. Ведь бывает, слушаешь какую-нибудь лютую ахинею и думаешь, что нет, не может собеседник быть таким дураком, наверное, это я чего-то не знаю и не понимаю. Администрация студии и партийное руководство были твердо убеждены, что ни один человек в здравом уме не позволит себе такие суицидальные шуточки, а раз так, значит, Соломатин ничего плохого не имел в виду, просто такая уж у него творческая манера и художественное видение. Так или иначе, но режиссера не отлучили от работы, а, наоборот, позволили ему снять еще один детский фильм, основанный на вольной интерпретации сказок Шарля Перро.
В этот раз Игорь Васильевич тоже не удержался от рискованных аллюзий, но «Шляпа с пером» по сравнению с предыдущим фильмом выглядела просто апофеозом благонадежности. Подумаешь, злой маркиз обещал своим крестьянам, что они найдут награду за труд в конце борозды, а потом, хохоча, уточнял, что не имел в виду конкретно эту. Просто художник так раскрыл угнетателя, а про советские порядки в тот момент вообще не думал.
Ребятишкам фильм понравился, может, из-за более низкого градуса сатиры, а может, потому, что Соломатин в этой картине много снимал детей.
Цензура пропустила «Шляпу с пером», но вскоре вопросы к создателям шедевра появились совсем у другого ведомства.
ОБХСС стало известно о довольно остроумной афере, которую провернула съемочная группа. Отрицательный маркиз в фильме злодействовал не один, а с помощью бригады пажей, наряженной в черные кожаные плащи. Если цензура не увидела тут аллюзию на чекистов, то, по мнению Ирины, зря ела свой хлеб, ну да не в этом суть. Главное, что кожу высочайшего качества, закупленную для производства плащей, продали в ателье, что называется, «мимо кассы», а пажам пришлось довольствоваться плащами из черного сатина, который на экране выглядел в точности как кожа.
После съемок плащи были на безвозмездной основе переданы в подшефный Дворец культуры города Тихвина, где их через пару лет благополучно списали бы и никто ничего никогда бы не доказал, но в своей тонко продуманной преступной схеме злодеи не учли одного – громкого имени режиссера. Успешный и знаменитый человек всегда окружен завистниками, хищно ожидающими малейшего его промаха, чтобы насолить, а в идеале уничтожить.
Шила в мешке не утаишь, и хоть все посвященные в аферу были замазаны круговой порукой, где-то что-то просочилось, умный человек, видимо, сопоставил и доложил в ОБХСС, где въедливый Алексей Сергеевич Очеретный прикинул, что хоть денежки за продажу кожи налево вышли довольно приличные, но если разделить их между всеми членами преступной группы, получается не та сумма, ради которой солидным людям стоит рисковать и вообще вставать с дивана. Была начата масштабная проверка, в ходе которой выяснилось, что из каждых десяти рублей, выделенных государством на производство фильма, три было украдено. И это по самым осторожным подсчетам, а реально по карманам осела половина бюджета.
Больше всего нарушений выявили при работе с массовкой. Для уличных сцен привлекали, например, двадцать человек, а по ведомости числилось пятьдесят, и зарплату этих «мертвых душ» Чичиковы от кинематографа клали себе в карман, благо специфика картинки узких улочек средневекового города не позволяет посчитать, сколько в кадре одномоментно присутствует человек.
Обилие сцен с актерами-детьми тоже объяснялось не художественным, а преступным замыслом. В подшефном Дворце культуры, расположенном в Тихвине, была отличная секция бальных танцев, коллектив которой многократно побеждал на международных конкурсах. Танцевали ребята действительно прекрасно и без шуток украсили фильм своей отточенной хореографией, но деньги за это получили только по ведомости. Никому из них даже не пришло в голову, что за возможность увековечить себя на кинопленке они должны еще и заработать.
Равно как и пажи в кожаных плащах из сатина бегали по экрану на общественных началах. Это были те же ребята из танцевальной секции.
Съемочный процесс проходил в дни школьных каникул, соответственно, дети от учебы не отвлекались, и родители были только рады, что они с пользой проводят время. Директор картины организовывает автобус, который возит ребят в Ленинград и обратно, на площадке кормят, знаменитые артисты дают им автографы, что еще надо для счастья?
Соломатин был не только гением и самобытным творцом, но и крепким профессионалом, он умел работать с массовкой, делать сцены с одного-двух дублей, поэтому ребята не успели понять, что съемки – это не веселое приключение, а тяжелый труд, который, как и всякий другой труд у нас в стране, должен быть оплачен.
Кроме того, надо понимать специфику маленького городка, хоть и расположенного всего в двухстах километрах от Ленинграда. Дети грезят о большом мире, стремятся вырваться из захолустья, и путей для этого не так много. Реалистичные – армия или лимитчиком на завод, а поступление в институт теоретически возможно, а на самом деле утопия. Шанс появляется, когда ты умеешь что-то делать в разы лучше остальных – поешь, или катаешься на коньках, или бегаешь, или вот танцуешь. Ребята понимали, что танцевальная студия – их билет в интересную жизнь. В такой ситуации педагог, заслуженный работник культуры, по прихоти судьбы оказавшийся в Тихвине, для тебя царь и бог, он ведь не только научил всему, но еще и может устроить тебя в профессиональный коллектив, или способствовать твоему поступлению в тот вуз, где есть танцевальный ансамбль, или просто напишет рекомендацию в институт культуры. И в армию ты благодаря его заступничеству пойдешь не в танкисты, а в ансамбль песни и пляски. Когда человек одним телефонным звонком способен решить всю твою судьбу, ты будешь делать то, что он говорит, и ни о какой оплате труда даже не заикнешься.
На этом махинации творческого коллектива кинематографистов не исчерпались.
Декорации тоже по документам были новыми, а на самом деле являлись реквизитом из другого фильма-сказки, снятого на пять лет раньше, но мастерство Соломатина и кинооператора позволило зрителям этого не заметить.
После того как факт хищений был установлен, следовало выяснить состав преступной группы и роль каждого участника. Кто организатор, кто сообщник, кто пособник, а кто просто дурак, не замечающий, какое лютое безобразие творится у него под носом.
Понятно, что лидером является директор картины, поскольку без его подписи ни одна финансовая операция не может быть осуществлена, совершенно точно замешан начальник пошивочного цеха, который составлял карту раскроя плащей и не мог не знать, что получил сатин вместо кожи. Швеи, непосредственные исполнительницы, тоже понимали, куда ввязались, но с ними, скорее всего, не делились, успокоили тем, что они получат зарплату повыше, как если бы на самом деле шили кожаные плащи.
По работникам ателье, через которое реализовали кожу, дело выделили в отдельное производство, равно как и по сотрудникам Дворца культуры, сдававшим в рабство вверенный им творческий коллектив, так что пусть у тамошних судей голова болит, кто у них был главный, а Ирине придется точно выяснить это в отношении кинодеятелей, потому что от этого напрямую зависит срок. Или оправдание.
К сожалению, кинодеятели следовали золотому правилу уголовного мира «вину признать успеешь на суде», все отрицали, путались в показаниях, а порой и откровенно лгали. Словом, препятствовали расследованию как могли, а тут еще Очеретного повысили, так что Николаев заканчивал дело уже без его помощи. Вероятно, в один прекрасный момент пожилому следователю просто надоело ходить к начальству за продлением сроков, вот он и рассудил, что раз преступление доказано, то и нечего воду в ступе толочь. Пусть дальше судья разбирается, кто главный, а кто так, на подхвате.
Ирина вздохнула. Соломатин отвечает за творческую составляющую картины, к финансам не имеет отношения, поэтому, по логике, у следственной группы не должно было возникнуть к нему вопросов, разве что как к свидетелю.
Но так уж сошлось неблагоприятно… Сверху намекнули, что зарвавшегося правдолюба и антисоветчика хорошо бы проучить, а следователь попался старой закалки, коммунист и, кажется, даже сталинист, с обвинительным уклоном крутым, как обрыв. Тонким ценителем искусства следователь Николаев тоже не был, поэтому ранимая душа творца, блуждающая вдали от всего земного, не явилась для него аргументом, чтобы отстать от режиссера, и он принялся копать.
Разве мог Соломатин, не будучи слепым, принять сатин за кожу? Почему съемки с пажами и танцевальные номера запланировал на дни школьных каникул? Уж не затем ли, чтобы не волновать родителей, которые иначе могли забеспокоиться, почему детей отвлекают от учебы? Как он не заметил, что ему вместо новых декораций втюхали какое-то отработанное барахло? Он же художник, озабоченный красотой каждого кадра, иногда по полдня выбирает цветочки для веночка на голову героини, а тут вдруг такое странное пренебрежение к деталям… И почему весь фильм цветной, а эпизоды с пажами сняты на черно-белую пленку? Чем продиктовано сие оригинальное художественное решение? Желанием показать, что у эксплуататоров и угнетателей нет полутонов, или страхом, что найдется внимательный зритель, который в цветном изображении поймет, из чего пошиты плащи?
Прокурор города Макаров мог бы урезонить своего не в меру пытливого подчиненного, приказать ему не трогать именитого режиссера, но после того, как разоблачил заслуженного следователя Костенко, кресло под ним трещало страшно, и в такой ситуации он предпочел не обострять отношения с соответствующими органами и дал добро на уголовное преследование товарища Соломатина. Что ж, не будем его за это осуждать, своя рубашка ближе к телу. На долю бедного Федора Константиновича и так выпало в последнее время порядочно испытаний, уже не осталось сил заслонять грудью дерзкого кинорежиссера, и будем объективны, Макаров хоть и двуличная коварная сволочь, но прокуратурой управляет очень даже хорошо. Если его снимут за Костенко, то вряд ли сразу найдут равноценную замену.
Из разговоров коллег Ирина знала, что суд над Соломатиным планируется в виде показательной порки, чтобы наглядно и доступно продемонстрировать его коллегам и творцам в других областях искусства, что наглеть не надо. Советская власть, которую вы, дорогие товарищи, с таким наслаждением ругаете, может, и не без греха, но одного у нее точно не отнять – она всегда может упрятать за решетку тех, кто ей не нравится.
Ирина вздохнула. Очень жаль, что роль плетки в этой показательной порке выпала именно ей, ведь внутреннего убеждения в виновности режиссера она совсем не чувствует.
Виновны ли директор картины с экспедитором? Да, без сомнения. На таких должностях расхищение социалистической собственности – естественное состояние, разве что не прописано в служебной инструкции. Девиз советского человека – тащи с работы каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость. А, еще вот что: сколько у этого государства ни воруй, своего не вернешь. Кто-то, как она, простая судья, может стянуть только скрепки и копировальную бумагу, а где есть доступ к материальным ценностям, немедленно начинаются хищения.
Например, если ты работаешь в торговле, то скорее сядешь, если не воруешь, чем если воруешь и делишься с непосредственным начальством. Попробуй быть честным продавцом, не обманывать покупателей, так сразу на тебя повесят какую-нибудь недостачу и поставят перед выбором: или возмещаешь ее с помощью отработанных до автоматизма махинаций, или идешь под суд.
Тащат все и отовсюду, виртуозно прикрывая недостачи безупречной финансовой документацией, так что только такие гении, как Алексей Сергеевич, замечают в них несостыковки, и то не всегда.
Впрочем, это еще одна характерная черта социалистического строя – отчетность в нем отражает не столько действительное, сколько желаемое, и реальность безжалостно впихивается в прокрустово ложе показателей.
Нет ничего удивительного, что граждане решили погреть руки на таком безобидном деле, как кино, и даже как-то не хочется их за это сильно осуждать. Кинематограф, конечно, является важнейшим из искусств, но хищения в нем не угрожают жизни граждан и обороноспособности страны. Да и вообще, какая разница, сколько там украла съемочная группа, если картина многократно окупилась в прокате? В сущности, пострадали от расхитителей только дети из танцевального кружка, так выплатили бы им, что полагается, в досудебном порядке, и разошлись. Ну, стоимость кожи еще взыскали бы с ушлых кинодеятелей – и все. Нет, надо было раздуть дело века, будто эти проходимцы своей пересортицей обрекли на гибель полярную экспедицию, как описано в «Двух капитанах», любимой книге Егора.
Ирина покачала головой. Преступления съемочной группы в среде коллег обсуждались весело, с азартом и даже восхищением, вот, мол, какие ушлые ребята, до чего додумались, молодцы. Когда каждый день сталкиваешься с убийствами, хищениями на производстве, из-за которых гибнут люди, а при обысках у директоров магазинов находят десятки килограммов золота и деньги, закатанные в трехлитровые банки, как огурцы, то махинации киношников представляются веселым водевилем, чем-то в духе деятельности Остапа Бендера, и укладываются в его четыреста сравнительно честных способов отъема денег. Лишение свободы за такое представляется чрезмерным наказанием. По справедливости, так надо взыскать с воришек ущерб – да и пустить гулять на все четыре стороны с запрещением занимать должности, связанные с материальной ответственностью.
Только статья «93. Прим» не предусматривает условного наказания, да и время сейчас такое наступило – идет активная борьба с хищениями социалистической собственности, так что придется выписать прохиндеям-администраторам реальные сроки, за условные судье Ирине Поляковой наверняка влепят выговор, а этих мужиков пересудят по всей строгости закона.
Так что придется отправить шустрых граждан на зону, и поделом в принципе, а вот что делать с режиссером?
На девяносто девять процентов он к хищениям непричастен. Человек заслужил мировое признание, является корифеем, мэтром киноискусства, много и плодотворно работает, получая за свой труд вполне приличное вознаграждение. Разве станет такой впутываться в криминальные делишки?
Ирина как-то видела Соломатина по телевизору в «Кинопанораме», где он давал интервью по случаю выхода нового фильма, и честно говоря, сам режиссер понравился ей больше, чем его творения. И внешне привлекательный, с тонким благородным лицом, и слушать его было интересно. Вот никак Игорь Васильевич не производил впечатление вора и расхитителя, никак.
Завтра она внимательно изучит доказательства причастности Соломатина, собранные ретивым следователем, и чутье подсказывает, что не найдет их особенно убедительными.
Должен был отличать сатин от кожи, старые декорации от новых и съемки массовки от бессовестной эксплуатации детского труда? В принципе, так, но следователь не учел, что Игорь Васильевич является настоящим советским человеком, который с пеленок учится преодолевать трудности, используя для этого исключительно подручные средства. Создавать эти самые трудности, чтобы потом с блеском преодолевать, советский человек учится немного позже, ну да суть не в этом.
Главное, что люди привыкли жить в обстановке дефицита и героизма, а если партия прикажет, комсомол ответит «есть!» и выкопается из любой могилы голыми руками.
Вот Соломатин и научился воплощать свои гениальные творческие замыслы с помощью того, что дают. Директор картины доложил, что вместо кожи выделили сатин, и живите с этим, уважаемый Игорь Васильевич, как хотите. Доверчивый Соломатин не пошел проверять и скандалить с руководством, а погоревал-погоревал, да и придумал взять черно-белую пленку. В смету не заложена оплата работы профессиональных танцовщиков? Не беда, привлечем самодеятельность. Им полагаются копейки, а что даже их не выплатили, о том режиссер знать не обязан.
Про декорации вообще говорить нечего. Или получишь неизвестно что неизвестно когда, потому что рабочие то запьют, то с похмелья, то простаивают, потому что материал не завезли, или вот, пожалуйста тебе проверенные добротные сооружения, смонтируй и хоть завтра начинай снимать. Ничего удивительного, что опытный кинорежиссер не захотел рисковать срывом сроков, ведь декорации в фильме не главное. Не проконтролировал, как директор картины провел это по бухгалтерской отчетности? Ну так нормальный человек ни за что не сунет нос в финансовые документы, если нет крайней необходимости, а сунет, так все равно ничего не поймет.
Интересно, на чем следователь строил обвинения против режиссера? Подпись Соломатина не требовалась в ключевых документах, значит, основными уликами являются показания других фигурантов по делу, которые очень легко могли решиться на оговор в обмен на умаление собственной роли в преступной схеме, или за поблажки во время отсидки, а то и просто из любви к искусству, ведь если ты воруешь, то и соврешь – недорого возьмешь.
Разоблачить спонтанную ложь на суде не так сложно, но если следователь Николаев выполнял задание вышестоящих органов, партии или КГБ, то он уж расстарался и позаботился о том, чтобы показания против Соломатина были согласованы и исполнялись стройным хором.
Конечно, тут достаточно одного лжесвидетеля раскачать, и вся конструкция посыплется, но…
Ирина нахмурилась. Всегда есть это чертово «но».
Как только станет ясно, что судья планирует оправдать режиссера, ее вызовут в просторный кабинет, обшитый дубовыми панелями, в котором ей уже приходилось бывать, и там подробно и убедительно растолкуют, почему Соломатин должен быть осужден независимо от того, виновен он или нет. Есть, видите ли, уважаемая Ирина Андреевна, высшие интересы нашей родины и социалистического общества, которые требуют, чтобы кинорежиссер немножко посидел в тюрьме в назидание одним коллегам и на радость другим. И Павел Михайлович будет только разводить руками и томно закатывать глаза, признавая свое бессилие перед высшим руководством, а когда Ирина сдастся (допустим), вздохнет сначала с облегчением про себя, а потом в ее сторону с укоризной, «ах, голубушка, я был о вас лучшего мнения»… Или: «ах, Ирина Андреевна, дорогая вы моя, вот уж не думал, что вы так легко сдадитесь. Кто угодно, но не вы». И на всю жизнь получит Ирина ярлык приспособленки…
Не так давно Виктор Зейда рассказал историю, много лет циркулирующую в психиатрических кругах. После разоблачения культа личности стало принято инакомыслящих не бросать в лагеря, а помещать в психиатрические больницы, как страдающих интересной болезнью под названием «вялотекущая шизофрения». Хоть этот диагноз являлся чисто советским изобретением, Ирине казалось, что он все же имеет право на существование, ибо приходилось ей иметь дело с жалобщиками, которых никак нельзя было назвать нормальными людьми, несмотря на отсутствие у них бреда и галлюцинаций. Так же, наверное, и с диссидентами. Ну не нравится тебе советский строй, имеешь право, но разве это повод сидеть до сорока лет на шее у родителей и совершать дикие поступки, ставя под удар всю свою семью? Ладно, в этом пусть компетентные органы разбираются, суть в другом. Однажды на кафедру пришло распоряжение освидетельствовать одного ретивого диссидента, является ли его буйная деятельность результатом психического заболевания или осознанного выбора лютого антисоветчика в здравом рассудке. Начальник кафедры, маститый профессор, поручил это молодому доктору, тонко намекнув, что надо бы пойти против указания КГБ и признать диссидента нормальным. Но то ли намек был слишком тонок, то ли что, но доктор влепил диссиденту «вялотекущую шизофрению». Бедняга поехал лечиться, а профессор схватился за сердце и чуть не помер от горя, что окружен такими бессовестными подчиненными. Он же своими руками вытащил молодого негодяя из грязи, отряхнул, к себе приблизил, а он вот так отблагодарил… Не захотел, понимаешь, неприятностей. Профессор так обиделся, что с тех пор пользовался каждой возможностью подчеркнуть, что молодой врач – трусливое ничтожество. Парень и ходил в дураках и приспособленцах под лучами презрения коллег. До тех пор, пока не уволился.
Да, да, допустим, молодой доктор оказался слаб в коленках, но профессор чем лучше? Сам струсил, так от других храбрости не требуй.
Вот и Павел Михайлович молодец, занял безопасную позицию. Если Ирина оправдает Соломатина, то это будет ее личное решение, за которое ей и нести ответственность, а председатель что? Наставлял, направлял, но не совладал со строптивой подчиненной, вы уж простите. И то же самое он скажет в случае обвинительного приговора, только уже не кагэбэшникам, а своим приятелям из мира искусства. Сделал все, что мог, но Ирина Андреевна струсила в последний момент, приспособленка несчастная. А я-то был о ней лучшего мнения, да…
Откинувшись на спинку стула, Ирина потянулась и от души выдохнула. А, ладно, главное, что совсем скоро наступит лето, и на следующий же день после окончания учебы они переедут на дачу. В этом году ей дали отпуск в августе, так что июнь с детьми будет сидеть Кирилл, а ей придется кататься на работу в электричке. Долго, конечно, зато дети на свежем воздухе, а в дороге она наконец перечитает хорошие книжки, до которых давно не доходят руки. Почему- то в электричке прекрасно читается.
Ирина улыбнулась. Псевдокожаные плащи напомнили ей о том, что дома лежит два с половиной метра прекрасного розового сатина, ожидающего превращения в модную юбку со свободными складками и широким поясом, а к ней она попросит Кирилла достать через его сомнительных знакомых писк сезона – пластмассовые туфельки, именуемые в народе «мыльницами». Хорошо бы тоже розовые, в цвет юбки. Тогда она наденет ко всему этому великолепию белую кофточку и отправится на работу! А еще, черт возьми, она уже достаточно опытный и компетентный сотрудник, чтобы позволить себе молодежную стрижку «итальянка». Хватит уже этой скучной «улитки», которую она носила после выпуска из универа, чтобы казаться старше. Больше ей это не требуется. К счастью или к сожалению, но не нужно.
– Ну что, артистка? – спросила Лариса, выйдя в прихожую с Данилкой на руках.
Настя рассмеялась и потянулась к сыну.
– Куда с улицы? – Лариса отступила в маленький коридорчик, ведущий к кухне. – Сначала руки!
Руки так руки.
Переодевшись в домашний халат, Настя отправилась в ванную и как следует намылила ладони. В зеркало она старалась не смотреть, зная, что после слез, которые тщетно пыталась проглотить, выглядит не очень, а сегодня плохого было достаточно и без созерцания своей потускневшей красоты. Ладно, ничего, ляжет пораньше, сразу как Данилка угомонится, выспится, и утром зеркало покажет ей ясноглазую красавицу, у которой все впереди и счастье ждет за первым поворотом. Да, утром получится поверить, что ей не уже, а всего лишь двадцать четыре года, и отчаиваться пока рано.
Вытерев руки, Настя побежала к сыну. Первый раз они расстались так надолго, на целых три с половиной часа, но Данилка, кажется, не слишком соскучился, потянулся к ней, взмахнул машинкой, сказал «мама-мама» и вернулся к своим занятиям в манежике.
Лариса позвала есть. Перед Настей возникла тарелка с горкой картофельного пюре и круглой румяной котлетой размером с шайбу для хоккея. Сбоку скромно притулилась половинка сморщенного соленого огурца.
– Ой, это мне много, – испуганно пискнула Настя.
– Ешь, не выдумывай!
– Правда много…
– Надо кушать, а то ты вон прозрачная вся!
Настя вздохнула. Еда на тарелке манила, особенно котлета, но она так старательно держалась в форме всю беременность и кормление грудью, что будет очень обидно сдаться теперь, когда эти испытания для фигуры уже позади. Неудобно, конечно, перед Ларисой, она так старается повкуснее ее накормить, но внешность – Настин рабочий инструмент. Распускаться никак нельзя. Она, как в детстве, размазала пюре по тарелке, но, увы, маневр этот не работал тогда, не сработал и сейчас.
– Ой, Данилка вроде зовет, посмотри, пожалуйста, – сказала Настя и, когда Лариса выбежала в комнату, быстро отправила полкотлеты и почти все пюре в мусорное ведро.
– Послышалось. Играет себе спокойно, а мы с тобой давай чайку попьем, пока тихо.
Лариса достала круглый фарфоровый чайник с золотой каймой и алой розой на боку, всыпала в него ровно три ложечки заварки (по одной на человека и еще одну на чайник), залила кипятком, но не крутым, а чуть остывшим, закрыла крышку, которая по каким-то неведомым Насте законам физики начала деловито подрагивать, надела на чайник «бабу» и посмотрела на часы, засекая три минуты.
Настя всю самостоятельную жизнь обходилась пакетиками, которые слегка отдавали веником, и, честно говоря, жаль будет возвращаться к ним, если подруга уедет.
– Ну что? – Лариса забрала у нее пустую тарелку. – Успешно?
Настя пожала плечами:
– Сказал, что интересных ролей для меня пока нет, так что лучше мне посидеть еще дома, пока родина позволяет.
В действительности главный режиссер, услышав, что она хочет выйти из декрета, равнодушно бросил «ну давай, воткнем тебя куда-нибудь», а когда она сказала, что готова прервать отпуск по уходу за ребенком только ради главной роли, засмеялся: «Слушай, Астафьева, когда мне завлит принесет пьесу, где центральным персонажем будет дерево, то я обязательно назначу тебя, а пока сама знаешь, нет маленьких ролей, а есть кто?» Он весело подмигнул, а Настя промолчала. Кто-кто… Такие вот смазливые и бездарные дуры, как она.
Странный человек главреж, хам и сволочь, а сердиться на него почему-то не хотелось.
– Завтра на «Ленфильм» еще съезжу, ладно, Ларис?
Пожав плечами, Лариса разлила чай по чашкам и достала вазочку с конфетами.
– Зачем? Появилось что-то? – спросила она.
Настя отвела взгляд от стола и уставилась на куст алоэ, буйно разросшийся в кухонной атмосфере. Вроде бы это растение обладало такими мощными целебными свойствами, что при простуде следовало отламывать от него колючие мясистые листья и заталкивать себе в нос. Якобы это гарантировало немедленное выздоровление, но Настя проверять не собиралась. У них с алоэ было негласное соглашение – ты не трогаешь меня, а я тебя, живем каждый своей жизнью. И эта тактика взаимного невмешательства давала хорошие плоды, обычно и Настя, и алоэ выглядели очень даже неплохо.
– Просто потолкаюсь там, напомню о себе хорошим людям. Посидишь с Данилкой?
– Посижу, конечно, – Лариса задумчиво помешала ложечкой в своей чашке, – но если вдруг ничего не получится?
– Скорее всего, и не получится, – вздохнула Настя.
– Лучше бы тебе о какой-нибудь нормальной работе подумать. А то что это – артистка? Вечерами дома нет, командировки по полгода… Сына не увидишь, как растет… И ради чего, Настенька? В звезды-то единицы только выходят.
Настя развела руками. Она сама себе это повторяла тысячу раз, но куда идти с дипломом театрального училища?
– Я, конечно, всегда готова понянчить Данечку, это мне в радость, но мало ли как дальше повернется… Вдруг поругаемся с тобой да ты меня выгонишь?
– Ларис, ну что ты такое говоришь! Как я могу с тобой поругаться, когда ты наша спасительница! Это я боюсь, как бы мы с Данилкой тебе не надоели.
– Не бойся, золотце! – Лариса потрепала ее по макушке. – Уж чего-чего, а этого точно не случится.
Настя улыбнулась и, прикрыв глаза, чтобы не видеть соблазнительной вазочки с конфетами, принялась слушать привычные речи Ларисы о том, как хорошо работать с детьми, вести театральный кружок во дворце пионеров, или даже устроиться в школу, преподавать музыку и со временем стать завучем по внеклассной работе, а это уже солидная должность. Конечно, зарплата не так, чтобы очень, и славу на этом поприще не стяжать, зато сама себе хозяйка, не зависишь от прихоти режиссеров, вечера все свободны, и сын на глазах.
«Все так, все так», – мысленно соглашалась Настя, бросая осторожные короткие взгляды в сторону телефона. Как она ждала, что ОН позвонит…
Наверное, надо самой набрать его номер. Он просто боится сделать первый шаг после того, как они расстались, он не знает, что она много думала и поняла, что он был прав. Он считает, что она его не простила, тогда как она сделала больше – осознала, что он ни в чем перед ней не виноват, это ей надо просить прощения. Он увидит, что Настя не взбалмошная дура, а верная и преданная женщина…
Допив чай, Настя занялась домашними делами, приготовила на завтра, отдельно для них с Ларисой, отдельно для сына, и до зеркального блеска надраила сантехнику пастой «Санита», соленый запах которой почему-то напоминал детство. Она старалась как можно больше работать по дому сама, чтобы Лариса, не дай бог, не подумала, что ее тут держат за прислугу.
Поздно вечером, уложив сына и сама собираясь спать, Настя не удержалась, достала из ящика письменного стола его фотографию и внимательно вгляделась в любимые глаза.
Ну и пусть это не настоящая фотография, а страница, вырезанная из «Советского экрана». Ведь, в конце концов, и то и то просто бумага.
– Ты увидишь, что я люблю тебя по-настоящему, – прошептала Настя, – я буду верна тебе, что бы ни случилось.
Сегодня Веру отпустили с работы чуть пораньше, так что бежать за сыном на продленку было еще рано, и она зашла домой выпить чаю и поплакать.
Бывает так, живешь-живешь, бредешь себе тихонечко к цели, преодолевая препятствие за препятствием, а потом вдруг раз, и все. Внезапно обнаруживаешь, что пинки судьбы сломали тебе ноги, а ворох невзгод на горбу придавил так, что не подняться. Выхода нет, и помощи ждать неоткуда.
В такие минуты душу заливает тяжелая свинцовая тоска, и, если не хочешь, чтоб она тебя задушила, надо отплакаться, откричаться. Хотя бы самой себе, если никому другому нет до тебя дела.
Было так плохо, что слезы не шли, только сухое колючее всхлипывание. Вера зачем-то сделала себе бутерброд с вареньем, но руки дрожали, и она уронила бутерброд на пол. Конечно, он упал черникой вниз, синие брызги разнеслись по всему полу, задело даже белую пластиковую дверцу буфета. Вера опустилась на колени вытирать, и тут наконец тоска нашла выход.
– Господи, за что, за что! – закричала Вера, сжимая голову ладонями.
Она не верила ни в какого бога, но, похоже, специально для нее мир изменил своим естественно-научным законам и изобрел неумолимую и жестокую судьбу.
– За что ты меня так ненавидишь? Что я сделала не так? – выла она, раскачиваясь.
Вера понимала, что выглядит сейчас отвратительно, но не могла остановиться. Она заслужила хоть эту маленькую передышку – поплакать минуту наедине с собой, когда никто ее не видит.
– За что, за что, – повторяла Вера, обращаясь к безжалостной судьбе, которая других ласкает и щедро одаривает, а у нее отнимает даже те жалкие крохи, которые она выстрадала, выцарапала голыми руками из глухой стены равнодушия, отвоевала у враждебного мира.
И так ведь было с самого рождения, будто бог или судьба, или кто там есть наверху, пустив ее в мир, ухмыльнулся: «Тэк-с, ну-ка поглядим, как эта девчонка будет барахтаться одна, без помощи и поддержки». И устроился поудобнее на диване перед своим райским (или адским?) теликом, смотреть комедию под названием «Верина жизнь», подкидывая ей неприятностей, когда сюжет становился скучноват.
Родители, простые инженеры, не смогли устроить ее в нормальную школу, так что училась Вера «по месту жительства», среди гопников и люмпенов. Учителя выделяли ее из этой серой массы и признавали, что она на голову выше других детей, но круглой отличницей Вера никогда не была, потому что педагоги, видите ли, слишком уважали ее, чтобы завышать оценки. И класса до шестого Вера гордилась своими честными четверками, пока не сообразила, что есть она, которую уважают, и есть дети, которых «ведут на медаль».
Вера до сих пор помнила день, когда познала несправедливость. Чувство было такое, словно ее на морозе окатили ведром помоев. И вроде бы повод был незначительный, и оценка в журнале ни на что не влияла, просто ей за решенную у доски задачу поставили четыре, потому что «хорошо, но ты, Вера, можешь лучше», а Жене Андроникову на следующем уроке вывели пятерку, хотя он нещадно плавал и забывал стихотворение. И тоже учительница сказала, что он может лучше, поэтому отлично авансом. Тут Вера с болезненной ясностью поняла, что дело не в том, кто как подготовился и кто что может, а в том, что она – это она, а Женя это Женя. У нее будут отбирать, ему – давать.
И единственный выход – пробиваться наверх изо всех сил, во что бы то ни стало.
Подслушав как-то слова дедушки, что папа мог бы сделать очень хорошую карьеру, если бы вступил в ряды КПСС, девочка решила, что папа как хочет, а уж она-то своего шанса не упустит.
Вера активно занялась общественной работой, но снова сработал какой-то невидимый стопор, и выше председателя совета отряда, а потом комсорга класса она так и не поднялась.
Школьная программа давалась ей легко, и, может быть, поэтому Вера долго не могла решить, чем хочет заниматься. Не чувствовала она в себе того, что называется призванием. Больше всего ей нравилось руководить, организовывать людей, и получалось у нее это довольно-таки неплохо. Но где такому учат? Разве что в военном училище, но туда девушек не берут.
Без медали и без внушительных комсомольских заслуг в университет соваться было боязно, в технические вузы Вера не хотела, медицина пугала, оставался педагогический.
Она поступила на факультет иностранных языков, дав себе страшную клятву сделать все, чтобы не попасть по распределению в школу. И ведь действительно не попала…
Все годы учебы в институте Вера была сначала комсоргом группы, потом удалось проявить себя в стройотряде, поднять народ на субботник, и ее наконец выбрали комсоргом курса. Веру заметили в райкоме комсомола, на четвертом курсе приняли в КПСС и дали понять, что после института возьмут инструктором в отдел культуры обкома.
Вера радовалась, предвкушая не головокружительную, но уверенную и прочную карьеру. Сначала инструктор, потом завсектором, а там, глядишь, и в Москву переведут…
Но тут суровая судьба, и до этого не баловавшая ее своими подарками, отвесила первый серьезный пинок, сбросив с площадки, на которую Вера с таким трудом вскарабкалась. В отделе кадров решили, что инструктор обкома партии обязан быть безупречным советским человеком во всем, в том числе в личной жизни, а Вера в двадцать три года еще не замужем. А ну как будет аморалку разводить на рабочем месте? Наверное, это был формальный повод, чтобы взять инструктором «родного человечка», которому, как утверждает классик, «грех не порадеть», но Вера еле устояла на ногах от этой оплеухи.
Боже мой, да разве она виновата, что не нашла мужа за годы студенчества? Ведь она мечтала о семье и детях не меньше других, но парни почему-то не обращали на нее внимания. Вроде и не страшная, а для ребят как пустое место. Ну да, не красавица, фигура чуть тяжеловата, но девчонки гораздо уродливее ее находили себе пару, а Вере никак не удавалось увлечь хоть сколько-нибудь приличного молодого человека.
Мама говорила, это потому, что она сильная женщина, волевая, с характером, нынешние мужчины таких боятся, предпочитают глупых и покорных. Нелегко ей будет найти себе мужа, только есть еще худшая опасность: увы, мир устроен так, что безвольных и слабых маменьких сынков влечет как магнитом именно к таким девушкам, как Вера и она сама, и есть очень большой риск, что Вера выйдет за жалкого неудачника и промучается с ним всю жизнь, как мучается мама.
Вера содрогалась – такой судьбы для себя она не хотела. От папы в семье действительно было мало толку. Он зарабатывал меньше мамы, занимал должность ниже и ни во что не вмешивался. Мама называла его ничтожеством и пустым местом, и Вера была с ней согласна. Мог бы папа поднапрячься и если не ради себя, то хотя бы ради семьи отвоевать себе какое-то положение. В партию хотя бы вступил, но нет. У него, видите ли, моральные убеждения, поэтому крутись, дочь, как хочешь. Пусть мама и не могла реально помочь, но беспокоилась за нее, переживала, а папе до лампочки.
…– Всю жизнь сама, все сама, – плакала Вера, вытирая ладонью наконец пролившиеся слезы, – никто не помог, руки не подал, не поддержал, даже не оглянулся… Только отбирала все судьба, сука поганая.
После отказа из обкома Вера загремела по распределению в ПТУ, что было еще хуже школы.
В школе дети хотя бы остаются детьми, а в путяге это уже готовые уголовники, сохранившие детскую жестокость и бесшабашность.
Вера ненавидела свою работу всеми фибрами души, на каждом уроке чувствуя себя первой христианкой на арене Колизея.
Потом немного освоилась, страх перед детской агрессией отступил, она научилась даже держать дисциплину на занятиях, но все равно казалось, что она занимается самой бессмысленной и ненужной работой на свете. Английский язык и так не заходил в пролетарские мозги, да к тому же еще обладатели этих самых мозгов активно сопротивлялись получению новых знаний и делали все возможное, чтобы только, не дай бог, не поумнеть.
К счастью, жизненный опыт уже научил Веру, что помощи ждать неоткуда, и если она хочет выбраться из этой помойки, придется действовать самой. Надо ярко проявить себя на рабочем месте, показать, что она ценный и перспективный кадр, чтобы выбрали именно ее из миллиона преподавателей, мечтающих покинуть каменистую ниву среднего профессионального образования.
Пришлось разыгрывать трудовой энтузиазм, изображать, что она хочет сделать из этих неандертальцев культурных людей и, главное, верит, что это в принципе возможно. Ни на что особо не надеясь, Вера организовала самодеятельный театр, и на удивление дело пошло. Ей было даже немножко неприятно обнаружить, что ученики ее оказались еще не совсем конченые и готовы проводить досуг на репетициях, а не только сосать пиво и устраивать разборки в подворотнях. Вера смотрела, как преображаются ребята, читая страстные шекспировские монологи (на всякий случай она решила ограничиться классическим репертуаром, чтобы не дать ни малейшего повода упрекнуть себя в идеологической невыдержанности), хвалила, растягивала губы в одобрительной улыбке, а сама злорадно думала, что зря стараются, система все равно засосет, перемелет, вылепит из трепетных юношей и девушек тупых алкашей и обрюзгших баб. И никакой Шекспир не поможет.
Театр жил, развивался, крепло мастерство юных артистов, только это никак не отражалось на Вериной судьбе. Комсомольская и партийная организации училища пребывали в совершенно расслабленном состоянии, ограничив свою деятельность сбором членских взносов, через них заявить о себе Вере не удалось, продвинуться по службе тоже. Место завуча по внеклассной работе было занято военруком, и его пышущий здоровьем молодцеватый вид не позволял надеяться, что оно скоро освободится.
Неужели, думала Вера, она тратит время напрасно и труды ее, как всегда, останутся не замечены и не вознаграждены? Нет уж! Пора научиться не только делать, но и сообщать миру о своих достижениях, иначе так и просидишь. Вера обратилась в парторганизацию судостроительного завода, для которого ковало кадры их училище, подала проблему под соусом «все лучшее – детям». Ребята стараются изо всех сил, надо их поощрять, делать красивые костюмы, декорации, да и выступать пора уже не только в училище.
Коммунисты отреагировали довольно бодро, но не так, как Вере бы хотелось. Стали приглашать ребят выступать на праздничных вечерах, расхвалили театр в заводской многотиражке, не упомянув при этом Вериной фамилии, перечислили училищу деньги на приобретение костюмов и постройку декораций, а Вере даже премии не выписали за то, что она тратит свое свободное время на приобщение малолетних дегенератов к искусству. Будто театр зародился в недрах ПТУ сам собой, как средневековый гомункулус, а Вера тут вообще ни при чем.
Зато у Веры появился ухажер. Когда она первый раз привезла свой театр на завод с концертом, из всех сотрудников, среди которых были и руководители, и инженеры, и освобожденные партийные работники, на нее, естественно, обратил внимание самый простой и незатейливый работяга.
Ах, как Вере было обидно тогда… И за то, что нормальным мужикам она неинтересна и что такой замухрышка считает, что может к ней вот так запросто подойти и начать ухаживать.
Сначала обиделась, потом посмеялась, потом снова обиделась, что он никак не понимает, что рубит дерево не по себе, а потом… Потом время шло, приличные варианты не появлялись даже в далекой перспективе, а замухрышка оказался напористым и терпеливым.
Он дарил цветы по праздникам и просто так, доставал билеты на интересные спектакли, и Вера ходила с ним потому, что никто другой никуда ее не звал.
Школьные и институтские подруги выходили замуж, семейные заботы быстро поглощали их, в ПТУ приятельствовать было не с кем, и Вера поняла, что еще чуть-чуть, и она останется совсем одна. Настолько одинока, что некому будет даже познакомить ее с перспективным ухажером. А ей ведь уже двадцать шесть лет, возраст серьезный, надо срочно создавать семью и рожать, а то вдруг все-таки захотят позвать на интересную работу, а она все еще не замужем, и снова все сорвется.
Да и вообще стыдно быть тем, кто она есть – старая дева и преподавательница английского в путяге. Ну позор же и больше ничего. Скоро десять лет окончания школы, как идти на торжественный вечер без семьи и нормальной работы? Дать повод учителям переглядываться и с фальшивым сочувствием вздыхать: «Ах, Верочка, а какие надежды подавала…» Будто и не знают, что одними надеждами против течения не выгребешь.
В конце концов, рассудила Вера, это в восемнадцать лет хорошо быть невинной девушкой, а в двадцать шесть при прочих равных большим успехом у мужчин пользуется замужняя женщина, чем одинокая дева. Так что, решила Вера, выйдет она замуж за замухрышку Мишу Делиева, а если подвернется что получше, тут же разведется!
Самым ярким чувством на свадьбе была досада: почему рядом с ней Миша, а не кто-нибудь другой, на которого она могла бы смотреть такими же влюбленными глазами, как смотрит на нее жених.
У Миши была своя маленькая однокомнатная квартирка, но еще до того, как Вера родила сына, они обменяли ее с доплатой на отличную двушку. Хоть в этом судьба оказалась благосклонна, не пришлось толкаться на одной кухне со свекровью, которая была не то чтобы стерва и гадина, но до зубной боли скучная женщина.
Вообще родители Миши будто выпали в реальность из какого-нибудь фильма про достойную рабочую династию. Дородная и степенная мамаша, послушная своему супругу и повелителю, и сам супруг, жилистый, обветренный и усатый.
Книг они не читали, а в кино ходили на индийские фильмы, что, по мнению Веры, являлось несомненным признаком деградации личности.
Мамаша трудилась на фабрике «Скороход», снабжая граждан такой же скучной, некрасивой и неудобной обувью, как она сама, а отец, именуемый в семье батей, был машинистом в метро.
К невесте сына они отнеслись благосклонно, но с оттенком снисходительности. Вера так и представляла себе, как они, закрыв за нею дверь, качают головами: «Да, набралась девка этой ученой дури, но что поделать, это мы с тобой, мать, прожили с тремя классами, и вон чего добились, а нынче такая жисть, что без образования никуда».
К счастью, не пришлось с ними жить, и встречаться Вера старалась как можно реже, особенно после рождения сына. Ей хотелось, чтобы Славочка понимал, что у него есть настоящие бабушка и дедушка, родные и любимые, мамины папа и мама, и некие баба Катя и деда Олег, с которыми он имеет неприятность состоять в родстве и должен уважать, но любить совсем не обязан.
Вынужденная по работе много общаться с представителями рабочего класса, Вера выяснила, что мужья из пролетариев, те, которые еще не конченые алкоголики, делятся на два типа. Одни называют жен «Зоя, то есть змея особо ядовитая», другие – «моя половина». Миша относился ко второй категории. Он много зарабатывал, нес деньги в дом, ходил по магазинам, и его не нужно было дважды просить починить кран или повесить полочку. Словом, не муж, а мечта. Только, к сожалению, чужая.
Вере с ним было отчаянно скучно, а когда выбирались в люди, то и стыдно. Как назло, все ее многочисленные двоюродные сестры и дочери маминых подруг сделали блестящие партии, у всех мужья занимали перспективные должности: один был моряком и ходил в загранку, а другой вообще собирался на три года работать в Венгрию. Все они были люди образованные, начитанные, серый и ограниченный Миша смотрелся рядом с ними ужасно, и Вере казалось, что муж, как якорь, тянет ее вниз, и потому она больше не может быть с родственниками на равных. Ей представлялось, что сестры исподтишка над ней смеются, поэтому она буквально заболевала после семейных сборищ.
Мама утешала ее, говорила, что так уж на роду им написано, сильным и волевым, тянуть на себе никчемных мужичонок, а папе, наоборот, зять нравился. «Какие у тебя низкие критерии, – фыркала мама, – зарплату не пропивает, уже хорошо. Ах, как приятно, наверное, жить по принципу: много не надо!» Папа улыбался, а Вера чувствовала мамину боль, как свою, ведь пока отец благодушествовал, мама волокла семью, как ломовая лошадь, и похоже, Вере предстоит повторить этот подвиг.
Нет, с замужеством судьба, может, и не издевалась над Верой, но определенно поскупилась.
Да, не пьет, да, проводит досуг не с друзьями, а с семьей, но с ним так скучно, что лучше бы уж пил с приятелями. К счастью, у Миши было хобби – туризм, и он периодически отправлялся в походы. Вера отпускала его как бы нехотя, изображая досаду, но сердце пело. Хоть пару суток отдохнет от этого тупицы. Да, приносит зарплату, и очень даже неплохую, но что толку, если на нее ничего приличного не купишь, ведь доступа к дефициту простой рабочий не имеет. Солить, что ли, эти деньги? Откладывать и двадцать лет стоять в очереди на «Москвич»? Или скупать дорогие и невыносимо мещанские ковры, которые почему-то вдруг наводнили магазины? Не в деньгах ведь счастье, а в общественном положении. Занимаешь нормальную должность – так достанешь все, что надо, и жену устроишь на приличную работу, и детей в хорошую школу, а потом в институт, а работяга что? На что может повлиять в этой жизни? Ему и платят хорошо только затем, чтобы пил, как конь Мюнхгаузена, и ни о чем не думал.
Только забеременев, Вера поняла, какую ужасную ошибку совершила, выйдя замуж. Мама тоже не была счастлива, не жила за каменной стеной, но папа хотя бы был человек интеллигентный, а брак с рабочим, то, что раньше называлось красивым словом мезальянс, саму Веру превратил в женщину более низкого сорта. Придется оставить все надежды на внимание нормального мужчины.
Так грустно оказалось понять, что все кончено бесповоротно и настоящей любви в ее жизни точно не случится, что Вера проплакала почти целый месяц. Миша думал, это из-за беременности, утешал ее, носил с рынка фрукты, а Вера ненавидела его за то, что он – это он.
И по ночам она съеживалась от его поцелуев, потому что было противно, что ее любит ничтожество и тряпка.
Надо было или выбираться из этой ямы, или повеситься. В конце концов, вдруг в поговорке, что хорошие мужья с неба не падают, есть какой-то смысл? Вдруг действительно успехи мужчины – заслуга женщины?
Как раз подошло время идти в декрет, и Вера развернула агитацию за высшее образование. О себе не думаешь, так о детях подумай. Дети должны гордиться своими родителями, а у нас, конечно, всякий труд почетен, но сам понимаешь… Тридцать лет назад, может, это и было здорово, когда у тебя папа рабочий класс, а теперь без высшего образования ты никто и звать тебя никак. Вот подрастет ребенок, скажешь ему, что надо хорошо учиться, а он тебе ответит в том духе, что: а у тебя, батя, как с этим делом обстоит? Вот именно, сам не учился, а мне тут советы раздаешь. Миша долго сопротивлялся, но в конце концов Вера загнала его на заочное отделение в финансово-экономический институт.
Год отсидев со Славочкой, Вера вернулась на работу, где с удивлением обнаружила, что театр, ее детище, прекрасно работает без нее, больше того, мало кто помнит, что именно она стояла у его истоков. За год он вырос в солидное заведение под вычурным названием «Арабески», стал активно гастролировать, ездить на всякие фестивали художественной самодеятельности и оброс таким количеством прихлебателей, что Вере просто некуда стало воткнуться.
Так она прочувствовала и осознала истинный смысл поэмы Маяковского «Владимир Ильич Ленин». «Единица! – кому она нужна?! Голос единицы тоньше писка…» Прав был поэт, черт побери. «Плохо человеку, когда он один, горе одному, один не воин». Когда за тобой никто не стоит, никто не поддерживает, не заступается, нет, как теперь говорят, волосатой лапы, то нечего и дергаться. Будь ты семи пядей во лбу, старайся изо всех сил, а все равно сомнут, отберут все твои достижения.
С досады она чуть не уволилась и не стала домохозяйкой, как предлагал Миша, но тут судьба впервые показала, что может не только поворачиваться задом или пинать, но еще и улыбаться. Однажды Вере пришлось возглавить культпоход в детский театр. Можно было бы отговориться маленьким ребенком, но Вера решила побыть пока инициативным и ответственным сотрудником. Руки опустить она всегда успеет, а пока надо еще побороться за место под солнцем, постараться пробиться, ведь в их семье кроме нее никто этого не сделает.
Она повела группу пэтэушников культурно развиваться в театр, в который сама с удовольствием ходила в детстве и сохранила о нем самые теплые воспоминания. Вновь оказавшись в здании театра, пройдясь по светлому фойе, полюбовавшись сквозь панорамное окно на таинственные зимние сумерки, Вера погрустила об ушедшем детстве, вспомнила о том, какая она была хорошая девочка со светлыми и смелыми мечтами. И совсем не хотелось думать, что ни одна из них не сбылась и ждать от жизни чудес больше не стоит.
На Веру снизошла легкая, даже приятная грусть, но когда начался спектакль, всю ностальгию как ветром сдуло. Происходящее на сцене потрясло Веру до глубины души, и удар оказался тем сильнее, что она собиралась увидеть нечто волшебное и сказочное, а показали ей тяжелую серую драму о жизни конченого быдла.
Возможно, эта современная пьеса имела какой-то глубокий подтекст и являлась гениальной работой, но поставить ее в детском театре мог только человек с извращенным воображением. Господи, думала Вера, да эти несчастные подростки и так это видят в своих семьях, а подрастут, тоже станут поддаваться соблазнам, и душу свою пропьют, и оскотинятся, и погрязнут в бытовухе, так и не узнав ничего высокого. Все будет, не волнуйтесь, но подобными пьесами вы лишаете их последнего крошечного шанса жить иначе. Может, дети стремятся к чему-то хорошему и правильному, а вы их со сцены убеждаете, что не надо. Что пьянство, распущенность и лень – это нормально и даже где-то высокодуховно.
Кажется, дети оказались более устойчивы к искусству, они прохихикали весь спектакль, отпуская иногда весьма рискованные и едкие шуточки, но Вера не делала им замечаний, потому что, по-хорошему, надо было забросать этот балаган гнилыми помидорами, которых, к большому сожалению, под рукой не оказалось, но Вера решила, что открытое письмо в отдел культуры обкома с копией в «Ленинградскую правду» станет адекватной заменой томатам.
В три дня она написала статью и разослала ее по всем нужным адресам, ни на что особенно не рассчитывая, ведь «голос единицы тоньше писка». Но выразить свое возмущение она, черт возьми, имеет право.
Прошло недели три, воспоминания о мерзкой пьесе потускнели, и тут, о чудо, Вере домой позвонила не кто иная, как Альбина Семеновна, бывшая завсектором в отделе культуры в то время, когда Вера там паслась в надежде устроиться на работу. Теперь Альбина возглавила отдел. Оказалось, она помнит Веру и, прочитав ее письмо, была рада узнать, что Вера осталась такой же неравнодушной активной девушкой, как в студенческие времена. Альбина Семеновна сказала, что всецело разделяет Верино возмущение, но хорошо бы получить такое же письмо от имени учеников. Что ж, имея на вооружении «автомат по инглишу», собираешь подписи буквально за секунду. Вера не надеялась тогда на улучшение своей судьбы, просто Альбина Семеновна ей нравилась – редкий пример, как женщина пробилась наверх самостоятельно, и Вера хотела быть на нее похожей.
Кажется, она тоже произвела на Альбину хорошее впечатление, потому что через три месяца художественный руководитель театра был с позором уволен, а Вера заняла наконец место инструктора.
«Годика три поработаешь, освоишься, и сделаю тебя завсектором», – пообещала Альбина Семеновна.
И тут бы Вере насторожиться, вспомнить о своей суровой судьбе, а она радовалась как дура. Сын растет здоровеньким и умненьким, муж скоро будет экономистом, сама она на перспективной должности, и ей, черт возьми, нет еще тридцати! Да, немного засиделась на старте, но цыплят по осени считают. Она еще достигнет высот, еще всем покажет. Еще сестры будут к ней на поклон бегать!
Отправляя мужа на учебу, Вера морально приготовилась к тому, что ей придется проходить программу вместе с ним, возможно, даже писать курсовики, но Миша на удивление справлялся самостоятельно, лишь иногда обращаясь к тестю с самыми сложными моментами. Кажется, новая специальность даже увлекла его, но на заводе в отделе кадров заявили, что не хотят терять прекрасного рабочего ради посредственного экономиста, и Миша вдруг воспринял эти слова всерьез и решил остаться на своем месте, а диплом повесить в рамочку для устрашения сына.
Вера взвилась, первый раз в жизни наорала на мужа (не то чтобы ей раньше не хотелось, просто Миша был настолько безволен, что сразу соглашался с женой, чем гасил любой скандал в зародыше), но кричи не кричи, а ни одна ленинградская организация не жаждала принять в свое лоно великовозрастного заочника, а Вера пока еще не занимала такого положения, чтобы составить мужу протекцию.
Иногда Альбина Семеновна приглашала ее вместе попить чайку, и однажды Вера осмелилась рассказать ей о своей беде. Муж заканчивает институт, а работу не найти, нормальные места все заняты, на девяносто рублей в месяц он не пойдет и на периферию тоже семью не потащит. Ради работы по специальности ленинградскую прописку потерять – спасибо, не надо. Придется ему, видимо, до пенсии кайлом махать, или чем он там на своем заводе занимается.
Начальница улыбнулась в том духе, что мне бы твои заботы, Верочка, и через неделю сказала, что новоиспеченного экономиста готовы принять на киностудии «Ленфильм».
Миша заартачился, мол, кино – это несерьезно, и Вера наконец отвела душу, устроила ему полномасштабный скандал. «А для тебя серьезно что? Только борщи и боеголовки? – орала она. – Поел-поспал, граница на замке, так и день удался?»
Муж улыбался и кивал: да, такой уж я примитивный уродился, одноклеточный, а что поделать.
Вера прорыдала до утра, и только когда сказала, что если Миша не придет на «Ленфильм», то у нее будут серьезные неприятности на работе, он сдался, буркнув, чтобы в следующий раз она не решала его судьбу без его ведома.
Он устроился на «Ленфильм», зачем-то сохранив еще полставки на заводе. Впрочем, Веру это устраивало, потому что теперь Миша почти не бывал дома и по ночам беспокоил ее гораздо меньше. И снова она забыла про свою проклятую судьбу, и смотрела в будущее с надеждой, рисовала себе радужные картины, как Миша, человек компанейский, сойдется со знаменитыми артистами и режиссерами, они начнут дружить семьями, ведь инструктор обкома партии – это, конечно, не самая крупная фигура, но иметь ее в своих приятелях будет не лишним. А там, может, какой-нибудь признанный деятель культуры замолвит за нее словечко, чтобы побыстрее повысили.
Но не прошло и года, как Миша с треском проворовался. Вера была раздавлена, но не слишком удивлена этим известием. Что тут странного, ведь «тащи с работы каждый гвоздь, ты тут хозяин, а не гость» – это кредо советского работяги, которое Миша впитал с молоком матери. Поэтому, когда мужу предложили немножко погреть руки на производстве фильма, он даже не задумался о том, что это незаконно и вообще нехорошо. Человек безвольный и безотказный, он пошел на это даже не ради наживы, а чтобы не обижать товарищей, соответственно и долю этот блаженный дурак получил самую малую. Во всяком случае, Вера в последнее время не ощутила серьезного приращения семейного бюджета. Купил ей симпатичный норковый полушубок, на который Вера давно заглядывалась, получив доступ к нижнему звену партийного распределителя, положил двести рублей на сберкнижку, вот и все. Куда дел остальные неправедно нажитые деньги? Наверное, обновил свое туристское снаряжение или спрятал где-нибудь. Хорошо бы найти, ведь до приговора счет в сберкассе арестован, а потом его конфискуют вместе с другим имуществом. Радовало только, что Вера сообразила всю наличность и украшения отвезти к маме до того, как к ним домой пришли с обыском.
…Вера последний раз всхлипнула, резко вздохнула и поднялась с пола – мыть лицо и смотреть в глаза безжалостной судьбе.
Сегодня ее вызвала к себе Альбина Семеновна и, усадив перед собой, как школьницу, многозначительно показала на лозунг у себя над головой. На лакированной деревянной доске было выгравировано: «Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи» и рельефный профиль Ленина. Вера послушно взглянула и вдруг заметила, что очертаниями голова Владимира Ильича поразительно похожа на Австралию.
– Вот видишь, – вздохнула Альбина Семеновна, – ум, честь и совесть, а также руководящая и направляющая сила нашего общества. И что прикажешь мне отвечать, если спросят, почему я держу на ответственной должности человека, не способного направить собственного мужа и удержать его от воровства народного имущества?
Вера потупилась:
– Но он же взрослый человек, как я могла…
Альбина Семеновна засмеялась:
– Дорогая моя, ты не поверишь, но наши любимые народные массы, которыми мы призваны руководить, тоже состоят из взрослых людей. Детьми занимается пионерская организация и комсомол. Коммунист, Верочка, отвечает за все, в том числе и за свою семью. Ты должна быть безупречной, чтобы оправдать высокое доверие, которое было тебе оказано.
– Альбина Семеновна, я разведусь, – Вера до хруста сжала ладони, – сразу после приговора, и выгадывать ничего не буду, пусть конфискуют все, что нужно, для возмещения ущерба. Ну и скажу где надо, что у меня ничего общего не может быть с расхитителем социалистической собственности.
Начальница вздохнула:
– Это все, конечно, хорошо… И ты, Верочка, такой работник, что жаль тебя терять. Честно скажу, ты у меня ценнейший кадр. Умница, исполнительная, надежная… Нет, второй такой, как ты, я не найду, нечего и пытаться. Ты меня не обманывала, потому и я не хочу тебе лгать, моя дорогая, лучше сразу признаюсь, что не стану рисковать ради тебя своим положением. Даже не потому, что страшно все потерять, а просто не поможет. Обе погибнем, да и все.
– Я понимаю, Альбина Семеновна, – пробормотала Вера.
– Заметь, Верочка, другая начальница давно бы тебе руки выкрутила, чтобы ты заявление «по собственному желанию» написала, да еще задним числом, а я – нет.
– Спасибо, Альбина Семеновна!
– Пока не за что. Ты иди сейчас домой, обдумай все как следует, а я посмотрю, что можно сделать, не ставя себя под удар.
Вера была еще молодым, но уже достаточно опытным аппаратчиком, чтобы понимать, что именно ей надо как следует обдумать. Увольнение по якобы собственному желанию, вот что. Если она сама проявит инициативу, Альбина, так и быть, даст ей две недели отработать, чтобы она за это время нашла себе место и стаж не прервался. А будет Вера артачиться, проведет увольнение задним числом, и все. Непрерывный трудовой стаж плакал горькими слезами. Ну а если Вера окажется вдруг совсем крепким орешком и знатоком трудового права, то можно провести партсобрание, на котором истинные коммунисты исторгнут из своих рядов паршивую овцу, а с таким пятном на биографии, как исключение из партии, вообще никуда не сунешься. Это жизнь, считай, кончена.
Альбина ждет, чтобы Вера сегодня поплакала-поплакала, а завтра приползла к ней с заявлением об уходе. Тогда, может, подыщет ей приличное местечко, а в идеале даст доработать до развода, чтобы на новую работу прийти уже не женой вора, а свободной женщиной, к которой у закона нет вопросов.
Вера умылась ледяной водой, причесалась и надела свежую блузку, но все равно видно было, что она плакала. Ладно, скажет Славику, что очень торопилась за ним, бежала, поэтому и раскраснелась.
Вот еще вопрос, что надо знать сыну-первокласснику? Пока он думает, что папа уехал в командировку, а дальше как, когда Мишу посадят? Правду сказать, что его отец – вор? Нет, для ребенка это слишком суровое испытание. Лучше мертвый отец, чем преступник. Да, потянет полгодика или даже год, насколько у Славы хватит терпения ждать папу из командировки, а потом придумает про несчастный случай на производстве.
Заодно будет повод отвадить бабушку с дедушкой. Хорошо хоть они сейчас к ней не лезут с утешениями и нравоучениями, но ведь все впереди. Соскучатся по внуку, а она скажет, что она бы с удовольствием, но чем быстрее Славочка забудет отца, тем лучше. А станут навязываться, так она оборвет: «Вы сына воспитали вором, так к внуку я вас не подпущу». И не подпустит. Хватит с нее этой семейки.
Нет, боже мой, какая тварь! Вера изо всех сил надавила кончиками пальцев на виски, чтобы снова не заплакать. Она уже смирилась, что достался ей муж-никчемушник, чемодан без ручки, что и носить нельзя, и выбросить жалко. Терпела, тащила семью на своем горбу, приноровилась даже, и тут такой предательский удар. Неужели прощать Мишке свою загубленную жизнь и тереться по тюремным очередям вместе с опустившимися бабами? Может, еще женой декабриста к нему в колонию поехать? Ага, сейчас!
Настя потянулась к телефону и сразу отдернула руку, как от горячей сковородки. Чего же она так боится? Ведь ему звонят разные люди, и она тоже может. Даже должна, иначе как он узнает, что она готова разделить с ним все невзгоды? Надо перебороть смущение и ложный стыд, потому что сейчас это даже важнее для нее, чем для него.
Собравшись, как перед стартом, Настя снова протянула руку, но тут за дверью послышались шаги и звяканье ключей. Со смесью досады и облегчения Настя поняла, что пришла Лариса, а при ней разговор точно не получится.
Подруга сильно вымокла под дождем и, стоя на пороге, долго отряхивала зонт, потом плащ и шаркала ногами по коврику.
– Да входи уже, – засмеялась Настя.
– У нас маленький ребенок, нечего грязь в квартиру тащить, – наставительно произнесла Лариса.
Настя вздохнула. Все-таки безалаберная она и растяпа. В первую очередь о безопасности сына должна думать мать, а не чужая тетя. Хотя как чужая? Родней родни.
Родня по обязанности, а Лариса – вопреки.
– Вроде и теплый дождь, а пробирает, – засмеялась Лариса, – пойду-ка в душ.
Настя принесла ей банное полотенце, свое лучшее, купленное во время поездки в ГДР.
Взяв на руки Данилку, она подошла к окну. Дождь зарядил такой сильный, что сирень, тополя и лавочки виделись нечетко в его жемчужной пелене, но это был бодрый летний ливень, а не тоскливая осенняя морось.
За окном шумела вода, и в ванной тоже, сын доверчиво прижимался к ней, и Настя вдруг остро почувствовала, что все будет хорошо. Она быстро, чтобы не успеть передумать, шагнула в прихожую и набрала заветный номер. Данилка одобрительно залопотал, когда в трубке раздались длинные гудки, а у Насти сжалось сердце от предчувствия, что сейчас решится ее судьба.
– Алло, – сказал строгий женский голос, – алло, я слушаю.
Сердце будто подпрыгнуло, ударило Настю по зубам и застряло в горле, не давая дышать.
– Говорите, вас не слышно, – повторила женщина спокойно.
Бросив трубку, Настя вернулась в комнату и опустилась на диван. Сын будто почувствовал неладное и прильнул сильнее, она поцеловала бархатистую макушечку, изо всех сил стараясь не заплакать. Сейчас Лариса выйдет из душа, увидит ее в слезах, сразу догадается, в чем дело, расстроится, а Насте станет очень стыдно.
Снова расцеловав сына, она посадила его в манежик и отправилась в кухню готовить ужин. Сама бы обошлась хлебом с кефиром, но Лариса весь день работала, ей надо вкусно поесть и отдохнуть. Только сегодня с утра шел дождь, и Настя не ходила в магазин за продуктами. Распахнув дверцу холодильника и увидев в его ледяной глубине пачку масла, одинокую старую сосиску, вызывающую не слишком пристойные ассоциации, половинку помидора да бутылку молока, Настя тяжело вздохнула.
К счастью, в лоточке на дверце перекатывалось несколько яиц, и Настя решила приготовить омлет. Она покрошила сосиску на сравнительно ровные кружочки, бросила на сковородку вместе с кусочком сливочного масла, и пока все там разогревалось, взболтала яйца с молоком.
Когда Настя вылила смесь на сковороду, масло вскипело по краям черноватой пеной, пришлось кое-где проткнуть омлет, чтобы спрятать это безобразие.
Тут вошла Лариса, закутанная в Настин махровый халат.
– Ничего, что я надела? – сказала подруга, усаживаясь на табуретку, – просто я так замерзла, а он такой уютный…
«Могла бы хотя бы спросить», – подумала Настя с неприязнью, удивившей ее саму. Что ей, халата жалко, в самом деле? Постирает, и все.
– Конечно, носи на здоровье, – улыбнулась она.
– Спасибо, дорогая. Ну, пожуем чего-нибудь?
– Вот, пожалуйста, омлет. Я сегодня из-за дождя не выходила. Все-таки с ребенком в такую погоду гулять нехорошо, а дома одного оставить тоже страшно.
Лариса засмеялась:
– А в морозилке посмотреть? Там буквально клондайк у нас, и котлет я накрутила, и блинчиков с мясом, и что хочешь.
– Ой, правда?
– Ну а то! Не могу же я, в самом деле, уморить голодом свою подопечную, как ты думаешь?
– А сейчас, наверное, поздно уже доставать? – спросила Настя, подавая подруге тарелку с плоским сероватым омлетом.
Лариса улыбнулась:
– Ах, зайчик, какая ты у меня все-таки еще маленькая и глупенькая. Совсем ребенок, а сама уже мама…
Настя потупилась.
– Ну ничего, освоишься, научишься еще.
«Конечно, научусь! – хотелось сказать Насте. – Потому что впереди у меня непростая жизнь. Мало ли куда еще придется за ним поехать».
Но вместо этого она молча улыбнулась и развела руками. Конечно, Данилка уже подрос, уже не требует столько хлопот, как раньше, иногда даже сам просится на горшочек, поэтому она просто обязана готовить, пока сидит дома. В самом деле, для него же она готовила бы, если бы он на ней женился?
Настя вздохнула. Первая обязанность жены это порядок в доме и горячее питание, провозглашала Ларисина мать, наставительно подняв палец, а Настя стеснялась заметить, что это вообще-то две обязанности.
В Настиной семье тоже на первый взгляд было так, да не так. Никто там не тыкал друг в друга пальцами, не изрекал прописных истин, а просто жили весело, да и все.
Порой папа приходил с работы и, обнаружив, что они с мамой весь день просидели дома из-за пурги, поэтому в доме шаром кати, быстро целовал их и бежал в кулинарию. А мама, вооружившись разводным ключом и флотской смекалкой, ремонтировала кран в кухне, ну а от Насти вообще ничего не требовали, только ходи в школу да не болей, а если посуду помоешь – так ты вообще лучший ребенок в мире.
Настя потом долго привыкала к жизни в Ларисиной семье, долго не могла понять, что бывает иначе. Что она не мамина и папина любимая цыпа, а несносная и разбалованная девчонка. Что родители у нее безалаберные и неприспособленные к жизни мечтатели, и доченьку вырастили под стать себе, а тетя Нина, Ларисина мама, теперь мучайся.
Настя, хоть убей, не могла взять в толк, зачем мучиться, когда можно жить весело и радостно, рвалась домой, но папа служил на Севере, в поселке, где была только восьмилетка, и выбор у Насти был не слишком богатый. Либо оставаться недоучкой, либо становиться приличным человеком в суровых, но справедливых руках тети Нины.
В результате на каникулы Настя прилетела домой в полной уверенности, что она неряха, лентяйка и хамка, а поскольку тетя Нина, несмотря на дороговизну междугородних звонков, докладывала родителям о каждом прегрешении воспитанницы, девочка думала, что родители встретят ее неласково.
Нет, мама с папой по-прежнему были убеждены, что она лучшая дочь на свете, и за лето Настя отогрелась возле них, ожила, а осенью пришлось вернуться в тягостную и мрачную атмосферу тети-Нининого дома.
«Почему так? – недоумевала Настя. – Вроде бы одинаковые совершенно семьи, там мама-папа-дочь, и у нас тоже, папы не пьют, мамы тоже очень положительные, получает папа чуть побольше дяди Жоры, но зато они живут в Ленинграде, а родители едут, куда пошлют. У нас нет особых поводов для радости, а у них – для печали, но почему-то у нас хорошо, а у тети Нины вечно будто кто-то умер».
Лариса была для нее единственным лучом света в этом темном царстве. В отличие от ветреной Насти она была серьезная, воспитанная и домовитая, хотя, по мнению тети Нины, тоже далеко не идеал, но несмотря на несходство характеров, два года разницы в возрасте и необходимость жить в одной комнате, девочки быстро сблизились и решили считать себя не просто троюродными сестрами, а лучшими подругами.
Когда Настя летела с каникул в Ленинград, в аэропорту Новосибирска, где они почти на сутки застряли из-за непогоды, судьба свела ее с работниками «Ленфильма», возвращавшимися из командировки. Они решили, что хорошенькая Настя идеально подойдет на роль Снегурочки в новой детской сказке. Настя, в голове которой соединенными усилиями мамы и тети Нины твердо укоренилась мысль, что ни при каких обстоятельствах нельзя верить незнакомым мужчинам, резко отказалась от разговора и на всякий случай старалась держаться поближе к работникам аэропорта, но как ни странно, это оказались настоящие киношники, и они настолько впечатлились Настиной суровостью, что после посадки побежали договариваться о пробах к встречающему ее дяде Жоре.
Насте это все еще представлялось розыгрышем, блажью скучающих мужиков, которым просто хотелось развлечься во время долгого перелета, но на пробы она сходила и, наверное, именно потому, что не принимала их всерьез, прошла.
Снегурочка была классная. Не просто Ледяная дева в кокошнике, а настоящая героическая оторва, и Настя воплотила этот образ с огромным удовольствием, и фильм получился настоящим, как говорят на Западе, хитом, а с Настей случилось то, о чем на Западе говорят: проснулась знаменитой.
Тут в отпуск прилетела мама, и какая-то у нее случилась размолвка с тетей Ниной насчет Настиных денег за картину, но в итоге мама положила все Насте на книжку, на срочный вклад. И хоть дамы пребывали в весьма натянутых отношениях, в одном были единодушны – нельзя Насте заболеть звездной болезнью. То, что произошло – это именно случайность, удача, которая может никогда не повториться. Очень мало юных дарований сделали успешную карьеру в кино, гораздо больше ребят оказались сломлены внезапной славой и успехом, поэтому Настина задача – закончить школу и поступить в институт, получить профессию, а кино – как будет, так и будет. Если поймут гении, что без нее никак, то можно еще подумать, а самой навязываться не стоит. Ведь артистка – это такая работа, что можно всю жизнь под запертой дверью простоять, а тебе так и не откроют.
Настя слушала, но, наверное, все-таки подхватила эту звездную заразу, потому что была уверена, что после такого успеха режиссеры будут к ней выстраиваться в очередь. Она же не только удивительно красива, но и адски талантлива, а при этом еще и не дура. Что может пойти не так, в самом-то деле?
Тогда только Лариса поддерживала ее решение стать артисткой, помогала разучивать монологи и придумывать этюды, ездила с ней на прослушивания и строго следила за такой необходимой экипировкой, как пятачок под левой пяточкой и счастливый лифчик.
Настя прошла все туры и поступила, едва не срезавшись на сочинении. Мама сказала, что, раз ребенка приняли без блата в такой вуз, значит, дар у него на грани гениальности, поэтому она очень рада и не сердится, что дочь не вняла ее предостережениям и не зарыла свой талант в землю в угоду родительским страхам.
Зато тетя Нина почему-то восприняла ее поступление как личное оскорбление, ходила с поджатыми губами и каждую вторую фразу, обращенную к Насте, начинала со слов: «Ты бы лучше…»
Обстановка в доме, и так бывшая довольно тягостной, сделалась совсем несносной, и Настя задумала съехать в общежитие, только там места не было, спасибо хоть прописали. Она бы, может, все равно съехала, но Лариса так убедительно сказала «я без тебя пропаду», что Настя осталась. Впрочем, дел было столько, что домой она приходила только ночевать. На первом же курсе снялась в продолжении Снегурочки. Фильм получился не хуже первого, но слишком на него похожий, поэтому хитом не стал. Сразу вслед за этим один известный режиссер решил, что Настин типаж хорошо ложится на девятнадцатый век, и пригласил ее в экранизацию Чехова, где она не понравилась ни себе, ни критикам. Наверное, рановато ей еще было в высокое искусство. Она тяжело перенесла первую неудачу, но Лариса и тут поддержала, заставила читать классику, наверстывать школьную программу, и вообще доходчиво объяснила, что мастерство с неба не упадет, профессии надо учиться.
Когда она заканчивала первый курс, погибли родители. Папу, военного хирурга, вызвали к больному в отдаленный район, мама полетела с ним, и санитарный вертолет разбился.
Долго, долго Настя просыпалась с мыслью: «Какой страшный сон приснился!», и так тяжело было каждый день заново понимать, что нет, это не сон. Крушение вертолета произошло над горами, тела не нашли, поэтому не было похорон, и Настя не знала, лучше это или хуже. То она сознавала, что мамы с папой больше нет, то в голове придумывались дикие истории, как родители спаслись в юрте какого-нибудь отшельника и теперь просто не знают, как сообщить о себе.
Настя понимала, что это бред, галлюцинации, вызванные горем, и прогоняла их, но очень долго еще сердце сжималось от неожиданного звонка в дверь или по телефону. А вдруг скажут, что мама с папой живы, или родители сами появятся на пороге, веселые, с обветренными лицами, пахнущие хвоей и костром…
Тетя Нина отнеслась тогда к ней очень по-доброму, Настя даже не ожидала. Обнимала, поила горячим молоком, говорила, что девочка ей теперь как родная дочь и в обиду она ее ни за что не даст. Предлагала даже взять академку, но инстинкт самосохранения подсказывал, что лежать лицом в стенку бессмысленно. Родителей этим не вернешь, а собственную жизнь разрушишь. Поэтому Настя быстро вернулась к учебе и параллельно сыграла роль второго плана в легкой исторической комедии, навсегда влюбившись в кринолины и высокие воротники.
Тоска по родителям никуда не девалась, но горевать было некогда. Настя стала нарасхват, настолько востребованной, что ее даже в институте не ругали за пропуски занятий. Наверное, потому что она считалась не настоящей артисткой, а просто смазливым девичьим личиком, присутствие которого в кадре еще ни один фильм не сделало хуже.
Так бы, наверное, и шло, если бы судьба не свела ее с Игорем Соломатиным. Точнее, если бы он не разглядел в пустышке Анастасии Астаховой что-то… Нет, не талант, но что-то полезное для воплощения своего творческого замысла.
Она попробовалась на роль просто ради интереса и страшно была удивлена, когда получила телеграмму о том, что ее утвердили. Черт возьми, если она с Чеховым не справилась, то что говорить о фильмах Игоря Васильевича, смысл которых вообще мало кто может уловить?
Настя не поняла ни идеи фильма, ни сверхзадачи своей роли, но на площадке послушно выполняла указания режиссера, и Соломатин остался ею доволен. И даже более чем… Она сама не заметила, как влюбилась в Игоря Васильевича. Может быть, сразу, при первой встрече, и предвкушала с восторгом каждый съемочный день потому, что уже была влюблена? Да, наверное, чувство возникло в сердце сразу, как у новорожденного дыхание. Странное дело, чем сильнее она любила его, тем меньше оставалось слов выразить свои чувства, в голову приходили только цитаты из пьес, и, странное дело, чем затертее и банальнее была фраза, тем точнее она описывала Настино состояние. Наверное, все по-настоящему влюбленные чувствуют одинаково, и нечего тут изобретать велосипед…
Класса с восьмого ей так энергично приходилось отбиваться от ухажеров, что просто руки не доходили полюбить кого-нибудь самой. Было даже немного обидно и тревожно, а вдруг с ней что-то не так, вдруг она действительно холодная и бесчувственная, поэтому, влюбившись в Соломатина, Настя наслаждалась своими переживаниями, не думая о взаимности. В самом деле, кто он и кто она? Всемирно известный режиссер и начинающая актрисулька, по всеобщему мнению, бездарная.
Она решила, что работа над фильмом Соломатина станет самым романтическим воспоминанием в ее жизни. Даже кусочек для мемуаров придумала: «В те далекие дни я впервые узнала, что такое настоящая любовь. Я преклонялась перед мастером и обратила свои чувства в работу над картиной».
Настя жадно ловила мимолетные знаки внимания Игоря Васильевича именно потому, что не надеялась ни на что большее, и далеко не сразу заметила, что эти знаки становятся все настойчивее и убедительнее. Очень долго она думала, что Соломатин просто доволен, что она такая исполнительная и понятливая, поэтому и подвозит домой на своей машине, и по коленке гладит чисто по-отечески, и расспрашивает ее о житие-бытие, только чтобы слегка поощрить да выжать из не самой талантливой артистки побольше эмоций на съемочной площадке.
Но вот наступил день, когда Игорь Васильевич признался, что влюблен. Настя почувствовала себя на вершине блаженства. Так счастлива была, что все последующие события не смогли стереть чудесных воспоминаний о том дне.
Что тогда ослепило ее? Жажда взаимности? Вера в великую любовь? Или детское убеждение, что все люди хорошие? Она знала, что Соломатин женат, но черт возьми, разве это важно, когда соединяются сердца, созданные друг для друга? Ведь Игорь Васильевич взрослый мужчина, он ответственный и добрый и так любит ее, конечно же, все продумал, чтобы им быть вместе на всю жизнь. Такой великий человек не обманет, не предаст свою единственную настоящую любовь. Насте очень льстило, что из всех женщин, встреченных им за пятьдесят лет жизни, только она смогла пробудить в Игоре Васильевиче великое чувство. Ни одна не вдохновила, не запала в душу, а Настя, вот, пожалуйста, сразу.
Они стали любовниками. К счастью, это произошло уже после завершения картины, потому что Настя была так счастлива, что не смогла бы, наверное, выдать в кадре ничего, кроме блаженной улыбки, тогда как роль требовала от нее совсем других эмоций.
Встречи проходили в глубокой тайне на съемной квартире, на официальных мероприятиях Игорь с ней не появлялся и с друзьями не знакомил, на ночь никогда не оставался и о разводе речь не заводил, но Настю это не смущало. Просто у них сейчас период романтики, вот и все.
За бурными переживаниями она не сразу заметила, что тетя Нина, к которой она по-настоящему привязалась после смерти родителей, сменила милость на гнев и снова ходит со скорбным лицом и поджатыми губами, а за столом швыряет ей тарелку, как собаке кость. Вообще при появлении этих симптомов Насте с Ларисой предписывалось немедленно начинать лебезить, заглядывать в глаза и дрожащим голосом осведомляться: «Мамочка (тетя Ниночка), чем ты расстроена? Чем я тебя обидела?» На это всегда следовал ответ «Сама должна понимать!» Иногда удавалось припомнить какой-нибудь неподметенный пол или неосторожно произнесенное слово, но порой обидчица не чувствовала за собой никакой вины, тогда она делалась еще и «неблагодарной дрянью, которая даже не видит…». Только после слез и мольбы неблагодарной дряни объясняли, чего именно она не видит, и тогда наступало примирение, непременно омытое новой порцией слез.
Лариса обычно упиралась, пыталась оправдываться, доказывала, что ничего дурного не хотела, а Насте проще было быстренько поплакать и жить в мире, но в этот раз она, опьяненная любовью, долго не замечала, что тетка ею крайне недовольна, но как только решила все исправить, обнаружила, что привычные методы почему-то не действуют.
Стадия «сама должна понимать» затянулась, между тем Насте хотелось переживать самые прекрасные минуты жизни без гарнира из семейных склок. Она голову сломала, пытаясь понять, чем умудрилась обидеть тетку. К поздним возвращениям Насти в семье давно привыкли, понимали, что такова специфика работы, а ночевать она всегда приходит. Пьяной тоже никогда не бывает, не курит, домашние обязанности выполняет как всегда… Что не так-то?
Ах, романтика и тайные встречи, конечно, прекрасны, но хорошо бы Игорь уже поскорее решил вопрос с разводом и женился на ней.
Атмосфера в доме все накалялась. Тетя Нина отказывалась замечать Настю, нарочито громко хлопала дверьми у нее за спиной, фыркала вслед и проделывала другие подобные штучки, которые вроде бы особенно ничего не означают, но делают жизнь невыносимой.
Наконец ситуацию прояснил дядя Жора. Отчаянно смущаясь и пряча взгляд, он пробормотал, что Настя уже взрослая, а нахлебничает, как маленькая, и пора бы ей уже самой себя содержать.
Настя вспыхнула. Самое обидное, что даже ей самой было непонятно, справедливы ли упреки в дармоедстве. Пока родители были живы, они посылали тете Нине деньги на ее содержание, и так продолжалось, даже когда Настя стала сама неплохо зарабатывать. «Пока можем, помогаем, – говорила мама, – потом состаримся, ты станешь помогать».
Так что Настя все свои гонорары относила в сберкассу, позволяя себе потратить только немножко на тряпочки, которые, кстати, не особенно-то и любила. Игорь даже удивлялся, что она такая равнодушная к вещам.
После смерти родителей она спросила про деньги, но тетя Нина замахала на нее руками: «Ну что ты, девочка моя! Разве же я куска хлеба для тебя пожалею? Не обижай меня даже такими разговорами!» Настя отступила, но все-таки старалась компенсировать свое содержание, покупая то продукты в дом, то дорогие подарки с каждого гонорара. А когда окончательно накрылся старенький холодильник, Настя достала новенький «Минск», который в магазинах продавали только участникам войны, и сама оплатила его. Тетя Нина тогда ее прямо елеем обмазала, и добытчица-то Настя, и умница, и благодарная, и практичная, и как бы она хотела, чтобы родная дочь хоть чуть-чуть на нее была похожа…
А теперь этого будто и не было никогда. Теперь тетя Нина без устали рисовала своим подругам и родне образ конченой эгоистки, неблагодарной крысы, которую, ты подумай, вырастили, выучили, кормят, поят, а она только кубышку свою набивает. Настолько деньги все застили, что даже после смерти родных родителей плясала перед камерой как ни в чем не бывало, тварь бесчувственная. Слава богу, хоть родная дочь не такая, да… Хоть в кино не снимается, зато совесть имеет.
Настя пыталась поговорить с тетей Ниной, предлагала вносить в семейный бюджет сколько нужно, но в ответ та огрызалась: «Не надо нам твоих подачек». Когда Настя молча принесла сто пятьдесят рублей на месяц, деньги полетели ей в лицо с криком: «В одно место их себе засунь!»
Долго Настя недоумевала, пока не поняла, что тетя Нина хочет получить все ее деньги. Дядя Жора и Лариса сдают свои зарплаты тете Нине, а та им выдает, сколько считает нужным, и Настя тоже должна была так делать, причем с самого начала своей карьеры.
Наверное, это было правильно, ведь у них одна семья, а в семье должен вестись общий бюджет, и действительно, Настя просто обязана была сама догадаться, и лучшее, что она могла сделать, это повиниться и передать свой вклад в руки тети Нины, но так мучительно жаль было расставаться с деньгами, доставшимися ей, конечно, не по`том и кровью, но все-таки не без труда…
Совесть с жадностью сцепились в ее душе мертвой хваткой, но тут Игорь одним махом положил конец этой борьбе. «У тебя ж хватает на кооператив, – развел он руками, – вступай да вали из этой семьи вурдалаков как можно скорее!»
Действительно, Настино детское скопидомство дало неплохие плоды, хватало не только на первый взнос, но и на взятку, потому что просто так с улицы вступить в жилищный кооператив было, естественно, нельзя.
Взятку благородно заплатил Игорь и через своих знакомых устроил ей двухкомнатную квартиру в практически достроенном доме. Настя была уверена, что он старается для них обоих, и почему-то ее не смутило, что за все время их связи он ни разу не произнес слово «развод» и не обещал жениться. Это подразумевалось, ведь если их сердца бьются в унисон, значит, и мечтают они об одном и том же, не правда ли?
Только когда он, поздравив ее со вступлением в кооператив, проговорился: «Будем у тебя встречаться, а не по съемным хатам», – Настя заподозрила что-то неладное, но не успели ее подозрения разгореться, как на очередных съемках она почувствовала себя беременной.
Ну тут уж он уйдет от жены, никуда не денется, ведь ребенок – это же такое счастье! Это же чудо, с которым ничто не сравнится, и счастье воспитывать любимое дитя вместе с любимой женщиной, разумеется, перевесит какие-то там скучные обязательства перед какой-то скучной женой.
Это были последние отблески счастья, агония великой любви.
Игорь потребовал сделать аборт, Настя отказалась, надеясь, что его тронет ее решимость, и в итоге пропустила все сроки.
Когда выяснилось, что придется рожать, Игорь вручил ей довольно пухлый конверт с деньгами и сухо сказал, что никогда не обещал на ней жениться, поэтому виноватым себя не считает и не призна`ет ребенка, который, очень может быть, и в самом деле не от него. Если Настя подаст на установление отцовства, то с карьерой артистки может проститься навсегда в тот самый день, как отнесет заявление в суд. Так что пусть берет конверт, в котором столько денег, что ей хватит на весь декретный отпуск, и распрощается с ним раз и навсегда, не портя воспоминаний о красивой любовной истории дрязгами и скандалами.
Настя денег не взяла, о чем потом иногда жалела, ну и напоследок не удержалась, высказала Игорю все, что положено.
Пока она надеялась, что Игорь женится, не спешила объявлять родственникам о своей беременности, но тут пришлось признаться. Скандал, конечно, разразился нешуточный, а Настя, деморализованная всеми этими «проститутками» и «позорами семьи», сыплющимися на ее голову как из рога изобилия, взяла да и ляпнула, что вступила в жилищный кооператив и родственникам надо ее только еще полгодика потерпеть, пока дом достроится.
Может, просто так совпало и тетя Нина была оскорблена исключительно моральным падением Насти, но вышвырнули ее на улицу только после того, как выяснили, что деньги шлюхи и неблагодарной дряни уже потрачены.
Настя растерялась. Идти было некуда, разве что унижаться в общежитии, чтобы выделили койку, но там комендант такой же безжалостный, как тетя Нина.
Тут на помощь пришла Лариса. Уговаривая мать позволить Насте остаться и получив ультиматум: «Или заткнись, или вали отсюда вместе с этой проституткой», – подруга молча собрала чемодан.
Первое время приходилось нелегко, именно в те дни Настя иногда с тоской вспоминала о пухлом конверте, но потом безденежье отступало, и она снова гордилась собой, что не взяла.
К счастью, ей удалось до родов получить диплом и распределиться в детский театр. Не предел мечтаний, но все же оставили в Ленинграде, а не отправили на Камчатку, как бедную Таню Самарцеву.
И еще очень повезло, что дом сдали вовремя, а не затянули на несколько лет, как это обычно бывает, так что новорожденного Данилку они принесли уже в квартиру, а не в съемную комнату.
Если посмотреть объективно, то судьба у Насти складывалась много лучше, чем у других матерей-одиночек. В декрет ушла не со студенческой скамьи, а с рабочего места, имеет свою жилплощадь, в общем, жаловаться грех. И все же без Ларисы она бы ни за что не справилась.
Нет, растила бы ребенка и сама с голоду не сдохла, но наверняка превратилась бы в безнадежную злобную истеричку, ненавидящую весь белый свет за то, что так жестоко с нею обошелся. А когда рядом родной человек, считай, вторая мама Данилки, вроде не так страшно и вроде надо сохранять в сердце теплоту, потому что есть кому возле тебя греться.
Она даже Игоря перестала ненавидеть. Ведь действительно, он не мог отвечать за то, что она напридумывала в своей голове, и силой он ни к чему ее не принуждал, а когда случилась беременность, рисковал своей репутацией примерного семьянина, чтобы устроить ее к надежному гинекологу, который сделал бы все под наркозом и почти наверняка без плохих последствий. Он по-настоящему любил ее, только обязательства оказались сильнее, так это говорит только о том, что он благородный человек. И, может быть, когда-нибудь…
Додумывать, каким именно образом они, два созданных друг для друга сердца, все-таки соединятся, Настя опасалась. Просто иногда приятно было помечтать, ведь столько книг и фильмов рассказывают о том, как люди обретают друг друга, так неужели в жизни подобное не случается? Прямо вот никогда-никогда?
Появление ребенка без мужа сильно сказалось на Настиной репутации, ее начали усиленно предавать забвению, предложения с киностудии не поступали, но сплетни все еще доходили.
Узнав, что Соломатина обвиняют в хищениях, Настя… ну да, убеждала себя, будто расстроилась, но на самом деле воспрянула духом, но не от злорадства, а потому что появилась надежда все-таки быть им вместе.
Жена отвернется от вора… Да нет, точно отвернется. В том, что жена Игоря подаст на развод, Настя не сомневалась ни секунды. Ольга Соломатина, красивая, но на удивление не обаятельная женщина, служила в БДТ и, не будучи любимицей публики, возглавляла там зато партийную организацию и планировала дальше двигаться по этой части, так что муж-вор был ей совершенно не нужен.
Зато она, Настя, наоборот, докажет Игорю свою верность и преданность. В колонию за ним поедет, если придется. Он увидит, что она не просто красивая дурочка, решившая выбиться в звезды через постель режиссера, а любит его по-настоящему, всем готова пожертвовать, лишь бы только быть рядом с ним.
За воспоминаниями Настя не заметила, как перемыла всю посуду. Лариса давно ушла в комнату и лежала на диване с книгой, так и не сняв ее любимого халата. «Нет, могла бы все-таки спросить, – уколола неприятная мыслишка, – или даже не брать, ведь она знает, как я его люблю».
Настя тряхнула головой, чтобы глупые обидки высыпались из нее, как мелочь из копилки, но мысли от этого не стали лучше.
Почему это жена Игоря подходит к телефону в его квартире? Конечно, по правилам муж должен уходить с одним чемоданом, но тут ситуация другая. Игорь, бедненький, сидит под подпиской о невыезде, на имущество наложен арест, поэтому он никуда уехать не может, но ведь жену его никто ни в чем не обвинял и свободу передвижения ей не ограничивал, между тем суд вот-вот начнется, а мадам Соломатина все еще живет с законным супругом, отвечает на звонки как ни в чем не бывало, хотя, по логике, давно должна была съехать к маме или ко всем чертям, спасая свою кристально честную репутацию коммунистки.
Да господи, только эта несчастная репутация одна и потянула вниз чашу весов, чтобы не разводиться, когда они с Игорем полюбили друг друга. Он признался, что давно не любит жену, но с его стороны будет слишком подло разрушать жизнь женщине, которая ни в чем перед ним не виновата. Придется стиснуть зубы да терпеть ради ее драгоценной карьеры. И Настя терпела как дура, а теперь выясняется, что мадам не так уж дорожит своими перспективами, раз даже не пытается избавиться от мужа-вора. Разве так делают? Последовательной надо быть, Ольга Батьковна!
Настя вздохнула, размышляя, как связаться с Игорем. Или уже не звонить, а сразу прийти на суд, ведь как только Игорь увидит ее, сразу все поймет, без всяких слов.
Хорошо бы дали условный срок… Или вообще оправдали, но это маловероятно.
А вдруг наоборот? Вдруг Игоря сделают главным ворюгой и дадут максимум? Настя вздрогнула, даже мысленно боясь произнести слово «расстрел». Как быть тогда?
Господи, зачем она только наседала на Игоря с этой женитьбой! Можно подумать, ей так уж прямо хотелось варить борщи и гладить сорочки… Ну да, мечталось появиться с ним вместе на каком-нибудь кинофестивале, вот, смотрите, этот прекрасный мужчина принадлежит мне, он выбрал меня, и мы вместе навсегда, но разве эти минуты триумфа и есть счастье? Нет, счастье было в их мимолетных встречах, в задушевных разговорах, в том, как они прижимались друг к другу в постели, даже в прощаниях тоже было счастье. Немного минут выпадало им провести вместе, но зато они проживали их ярко, чувствуя друг друга каждой клеточкой своих тел. И совсем не надо было расставаться… Не хватило ей женской мудрости признаться, что она согласна быть любовницей, и был бы у них еще целый год счастья…
