Аббатиса
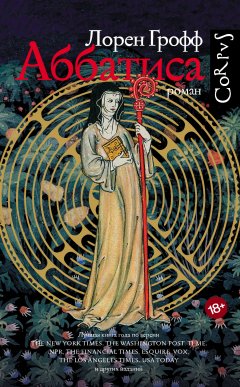
First published by Riverhead Books
© Lauren Groff, 2021
© Ю. Полещук, перевод на русский язык, 2023
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2023
18+
Завораживает и берет за душу.
Time Magazine
Истинное удовольствие.
Эта книга словно поднимает ввысь.
New York Times
Лорен Грофф рассказывает историю аббатства XII века, описывает утопическую коммуну, созданную монахинями. Прекрасный пример того, как велика сила духа.
Wall Street Journal
Удивительное чувство стиля, умнейшая книга, в которой есть и эмоциональный накал, и проницательность, и юмор. Очень современный роман об устремлениях, умелом руководстве и общинной жизни.
The Guardian
Завораживающее исследование о вере, страсти и силе.
Harper’s Bazaar
Всем моим сестрам
Часть первая
1
Она в одиночестве выезжает из леса. Семнадцати лет, под ледяной мартовской моросью, Мари, родом из Франции.
Год 1158-й, мир несет бремя усталости Великого Поста. Близится Пасха, в этом году она ранняя. На полях в черной холодной земле прорастают семена, готовые пробиться на вольный воздух. Мари впервые видит вдали аббатство, тускло и равнодушно высящееся на холме в этой сырой долине: облака, напитавшись водою из океана, затяжными дождями выжимают ее здесь до капли. Большую часть года эти края изумрудны, сапфирны, изнемогают от влаги, кишат овцами, зябликами, тритонами, сквозь плодородную почву проклевываются слабенькие грибы, теперь же, ранней весной, все сумеречно и серо.
Старая боевая лошадь плетется уныло, на сундуке за спиной Мари трепещет в ивовой клетке кречет.
Ветер стихает. Деревья не шелохнутся.
Кажется, будто природа следит за каждым ее движеньем.
Мари высокая, для девушки великанша, колени и локти нескладно торчат; изморось копится в складках ее плаща, струится по тюленьей коже, зеленый плат на ее голове почернел от сырости. Угловатое анжуйское лицо лишено прелести: оно дышит проницательностью и страстью, пока что не знающей меры. Лицо мокро от дождя, не от слез. Она еще успеет поплакать над тем, что ее прогнали прочь, как собаку.
Двумя днями ранее королева Алиенора появилась на пороге покоев Мари, пышногрудая, златовласая, в синем платье, отороченном соболями, запястья, мочки и блестящие четки в драгоценных камнях, запах духов валит с ног. Она всегда стремилась очаровать и тем самым обезоружить. За королевой, пряча улыбки, толпились придворные дамы. Среди этих предательниц затесалась и сводная сестра Мари, как она сама, незаконнорожденная сестра государыни, плод греховной отцовской страсти, но эта притворщица давно осознала выгоду от положения любимицы двора, и как Мари ни пыталась с ней подружиться, бледнела и убегала. В один прекрасный день она станет принцессой Уэльской.
Мари неуклюже сделала реверанс, Алиенора скользнула в комнату и наморщила нос.
У меня новости, сказала королева, и очень приятные новости, такая радость, только что нам прислали произволение Папы Римского, у коня сердце разорвалось от стремительного галопа: гонец так спешил доставить послание сегодня утром. Благодаря ее, королевы, длительным уговорам, эту бедную незаконнорожденную Мари из мэнской глуши все же назначили приорессой королевского монастыря. Это ли не чудо. Наконец-то они нашли, куда пристроить эту странную полусестру королевы. Наконец-то и для Мари отыскалось занятие.
Королева остановила на Мари взгляд густо подведенных глаз, перевела его на высокое окно, выходящее на сады, ставни были распахнуты, чтобы Мари, привстав на цыпочки, могла любоваться гуляющими внизу людьми.
Когда к Мари вернулся дар речи, она промямлила, что благодарна королеве за ее сиятельную заботу, но монахиней Мари быть никак не может, она недостойна и не чувствует в себе ни малейшего призвания служить Богу.
Так оно и было: религия, в которой ее воспитывали, всегда казалась ей глуповатой, пусть и богатой таинствами и ритуалами: к чему бы детям рождаться во грехе, к чему бы ей молиться незримым силам, к чему бы Господу быть триединым, к чему бы ей, в чьей крови кипит величие, считаться низшим существом потому лишь, что первая женщина, сотворенная из ребра, съела плод и лишилась праздного рая? Бессмыслица. С младых ногтей Мари уклонялась в вере, та понемногу искажалась все сильнее и в конце концов обратилась в самостоятельную, нескладную, грандиозную конструкцию.
Но Мари было семнадцать, она обитала в гостевых покоях при дворе в Вестминстере и не могла сравниться с изящной, любящей истории королевой: та, хоть и невелика ростом, вобрала в себя весь свет, все мысли из головы Мари, все дыхание ее легких.
Под взглядом Алиеноры Мари почувствовала себя такой маленькой, какой не бывала с тех пор, как в последний раз видела Ле-Ман: шестеро ее теток-амазонок отправились или на тот свет, или замуж, или в монастырь, а мать ее взяла Мари за руку, прижала ее ладонь к яйцу, растущему меж своих грудей, широко улыбнулась, хоть в глазах и стояли слезы, и сказала: прости меня, доченька, я умираю; ее большое крепкое тело стремительно обращалось в скелет, дыхание сперва кислое, потом никакого, Мари прижималась к ее ребрам, пытаясь передать им всю свою жизненную силу, все свои молитвы, но сердце не билось. На продуваемом всеми ветрами погосте на взгорье Мари овладела горькая тоска, ее одиночество растянулось на два года: мать просила держать ее смерть в секрете, поскольку, едва прослышав об этом, родственники-волки отберут у Мари земли, она еще ребенок, бастардка, плод насилия, и ей не положено ничего; два одиноких года Мари выжимала из земли сколько могла. Потом на дальнем мосту застучали копыта, потом дорога в Руан и через Ла-Манш в Вестминстер, ко двору ее законнорожденной полусестры-королевы, где все неприятно дивились отменному аппетиту Мари, ее неотесанности, нескладному костистому телу, где из-за изъянов своей натуры она лишилась всех привилегий, причитающихся ей по праву рождения.
Алиенора посмеялась отказу Мари от такой милости, принялась насмехаться над нею. Но-но-но. Уж не чает ли Мари выйти замуж? Это она-то, деревенщина, по которой виселица плачет? На три головы выше нормальной девушки, топает, басит, ручищи огромные, вечно всем перечит, вдобавок учится фехтовать. Какой супруг польстится на создание, лишенное не то что красоты, а и капли женской мудрости? Нет-нет, так лучше, да и давно было решено, еще осенью, и вся семья с этим согласна. Мари умеет управлять большим поместьем, пишет на четырех языках, ведет счета, после смерти матери она, хоть и нежное дитя, великолепно с этим справлялась, да так ловко, что два года водила всех за нос: все принимали ее за мать. Все это к тому, что монастырь, приорессой которого станет Мари, отчаянно беден, и монахини, увы, умирают с голоду. Несколько лет назад они впали в немилость у Алиеноры и с тех пор окончательно обнищали. Вдобавок там до сих пор бушует болезнь. Не может же Алиенора допустить, чтобы монахини королевского аббатства умирали и с голоду, и от ужасного кашля! Это бросит на нее тень.
Ее холодные, подведенные черным глаза впились в Мари, и той не хватило духа выдержать взгляд королевы. Не теряй веры, сказала Алиенора, со временем из тебя получится примерная монахиня. Всяк, кто не слеп, видит, что ты создана для благочестивого целомудрия.
Придворные дамы зашлись смехом. Мари так и подмывало зажать их щебечущие клювы. Алиенора протянула руку в кольцах. Кротко проговорила, что Мари обязана научиться любить свою новую жизнь, должна научиться видеть в ней хорошее, ибо таково желание Бога и королевы. Мари отправится в путь завтра в сопровождении королевской свиты и с благословения Алиеноры.
Мари, не зная, что еще сделать, взяла белую ручку в свои шершавые лапищи и поцеловала. В душе ее кипели страсти. Ей хотелось впиться в мягкую плоть зубами, прокусить до крови, хотелось кинжалом перерезать эту кисть, спрятать в лиф платья и хранить как реликвию.
Королева ушла. Мари охватила дурнота, она прилегла на кровать, к своей служанке Цецилии, та целовала ее в лоб, в губы, в шею. Цецилия была туповата и преданна, как собака. Она клокотала гневом и шептала наветы: королева-де грязная южная развратница, она и королевой-то стала в первый раз из-за взбесившейся французской свиньи[1], а во второй из-за блюда удушающих английских миног[2], она с любым ложится за песенку, пропой ей романс – она и задерет юбки, не зря же все ее дети не похожи друг на друга, не иначе сам дьявол вложил коварство в голову королевы, о ней рассказывают страшное, Цецилия сама слышала.
Мари опомнилась и велела служанке замолчать: в покоях бдительным призраком витал запах королевских духов.
Цецилия принялась вытирать сопли с мокрого, пошедшего красными пятнами лица Мари и нанесла госпоже второй удар. Сообщила, что она-то сама не поедет ни в какое аббатство. Как ни любит она госпожу, Цецилия еще слишком молода, у нее вся жизнь впереди, и она не собирается хоронить себя заживо в обществе монашек с пустыми глазами. Цецилия создана для брака, вон какие у нее бедра, она выносит и десяток крепких младенцев, да и в коленках она слабовата, где уж ей день-деньской преклонять их в молитве. Весь день сесть-встать, сесть-встать, как сурки. Да, завтра утром Цецилия и Мари расстанутся.
И Мари – едва ли не с рождения дружившая с Цецилией, дочкой кухарки, служившей в ее фамильном поместье в Мэне, с этой грубиянкой, которая до сих пор была для нее всем, любовницей, сестрой, служанкой, наслаждением, единственной любящей душой во всей Англетерре, – наконец осознала, что на муки ее сошлют в одиночестве.
Служанка плакала, снова и снова повторяла: милая Мари, меня ранили в самое сердце.
На что Мари, отстранившись, ответила: это, наверное, самая предательская рана.
А потом встала, подошла к окну, выглянула в сад, окутанный пеленою тумана; казалось, в душе ее закатилось солнце. Мари сунула в рот косточку из абрикоса, который летом сорвала украдкой с личного дерева королевы, потому что осенью и зимой любила высасывать горечь из абрикосовых косточек. В душе ее сквозил сумеречный холодок, и все, что скрывалось в тени, казалось чужим и нелепым.
Она чувствовала, как из нее утекает ослепительная любовь, что переполняла ее все годы при дворе Алиеноры в Англетерре и заливала ярким светом даже трудности и одиночество. Первый день при дворе в Вестминстере, ошеломленная Мари сидела за ужином, еще чувствуя на губах морскую соль, заиграли гобои и лютни, в дверях показалась Алиенора, опухшая, на сносях, с круглой грудью и животом, правую щеку разнесло, королеве в тот день вырвали зуб, она семенила – плыла лебедем, – и лицо у нее было в точности такое, какое Мари видела в детстве и любила во снах. Свет в обеденной зале умалился до искры, освещавшей только Алиенору. Мари увидела ее и пропала. В тот вечер, когда она вернулась к себе, Цецилия уже храпела в постели, и Мари разбудила ее тем, как истово терлась о ее руку. Мари отправилась бы на поиски Святого Грааля, утаила свой пол и ушла на войну, убивала без трепета, с преклоненной главою сносила жестокость, смиренно делила кров с прокаженными, она сделала бы что угодно по велению Алиеноры. Все добро исходило от Алиеноры: музыка, смех, куртуазная любовь, из ее красоты рождалась красота, ведь всем известно, что красота – внешний признак милости Божьей.
И даже теперь, когда ее выбросили, как ветошь, Мари, к стыду своему, понимает, направляя коня к мрачному сырому аббатству, что по-прежнему готова для Алиеноры на все.
Ее ошеломляет бедность этого места под холодным моросящим дождем, бедность этих блеклых строений, лепящихся на вершине холма. Правда, Англия беднее Франции, города здесь меньше, темнее, грязнее, народец ледащий, в цыпках, но даже для Англии монастырь выглядит жалко: заброшенные службы, покосившиеся заборы, в саду дымят сожженные кучи прошлогоднего бурьяна. Ее лошадь плетется вперед. Кречет заунывно пищит, вырывает перья из-под крыльев. Мари медленно въезжает на церковный двор. О монастыре ей известно лишь, что его основала некая сестра короля, много веков назад причисленная к лику святых, и теперь фаланга ее пальца исцеляет нарывы; во времена вторжений викинги грабили аббатство, насиловали монахинь, на болотистых пустошах в округе по сей день находят скелеты, на которых так глубоко были выбиты руны, что следы их заметны на черепе. А когда на постоялом дворе, где Мари остановилась на ночлег, она робко сказала название аббатства служанке, принесшей ужин, та побледнела и произнесла что-то по-английски, стремительно и неразборчиво, однако, судя по интонации, здешние сельские жители считают монастырь местом мрачным, странным и убогим, вдобавок оно внушает им страх. Вот Мари и оставила спутников в городке, чтобы в одиночестве ехать туда, где ее погребут заживо.
Мари насчитала под тисом четырнадцать свежих могил, блестящих от влаги. Позже она узнает, что там погребены двенадцать монахинь и две девочки-облатки: всего неделю назад их унесла диковинная болезнь, от которой тела несчастных посинели, точно те утонули в собственных легких; Мари узнает, что кое-кто из монахинь не оправился до сих пор и по ночам заходится оглушительным хриплым кашлем.
Свежие могилы укрыты срезанным остролистом, его ягоды краснеют сквозь пелену дождя – единственное цветное пятно в мире, лишенном красок.
Отныне все будет серым, думает она, серым до конца моих дней. Серая душа, серое небо, серая мартовская земля, серовато-белое аббатство. Бедная серая Мари. В высоких дверях аббатства появляются две маленькие серые монахини в шерстяных хабитах.
Приблизившись, Мари видит, что у одной из монахинь – непонятно, сколько ей лет – большое доброе лицо, а глаза затянула белесая дымка. Об аббатстве Мари рассказывали немногое, но и этого достаточно, чтобы догадаться: перед нею слепая аббатиса Эмма, в утешение ей дарована внутренняя музыка. Мари говорили, что аббатиса абсолютно помешанная, но добрая.
Вторая монахиня, с лицом желтоватым и кислым, как мушмула (в здешних диких и влажных краях этот плод называют “гузнодыркой”, то есть дырой в гузне, потому что Господь соделал его похожим на афедрон) – субприоресса Года. Ее выбрали наспех, когда прежняя аббатиса и субприоресса скончались от удушья: кроме нее, не осталось монахинь, которые умели бы разборчиво писать по-латыни. Предложенного королевой приданого хватит, чтобы монахини какое-то время не умерли с голоду, с досадой писала Года Алиеноре, поэтому они примут бастардку Мари. Письмо изобиловало грубыми ошибками.
Мари останавливается у порога и с трудом сползает с коня. Пытается шагнуть, но они ехали тридцать часов без остановки, и теперь от усталости и испуга Мари словно лишилась костей. Она плюхается в грязь, смешанную с навозом, падает ниц перед аббатисой. Эмма смотрит на нее белесыми глазами, смутно видит очертания новой приорессы, распростертой на земле.
Эмма говорит – скорее выпевает, – что смирение новой приорессы красноречивее слов. Слава Пресвятой Деве, Звезде морской, пославшей столь скромную и кроткую особу королевских кровей, чтобы возглавить аббатство и избавить его от скорбей, голода и болезней. Аббатиса беспечно улыбается в пустоту.
Года поднимает Мари на ноги, бормочет себе под нос: вот же дылда неуклюжая, и выглядит-то не по-людски, хотя одежда красивая – была, пока эта неряха не замарала, – ну ничего, глядишь, Эльфхильда отчистит, разумеется, это нужно продать, за одни рукава дадут столько, что можно купить муки на целую неделю. Так говоря, она заводит девицу в дом, аббатиса идет следом. У Годы обиженное лицо, точно в ее обычае прятаться в углу, подслушивать гадости о себе, а потом долго смаковать обиду.
Стекол в окнах нет, сквозь деревянные ставни, затянутые вощеной тканью, сочится слабый свет, в просторной и длинной зале холоднее, чем на дворе, огонь в очаге еле теплится. Холодный пол не устлан аиром, голые каменные плиты блестят. Из всех дверей выглядывают монахини и тут же прячутся.
Мотыльки, думает Мари. Наверное, она бредит.
Года ногтями соскребает грязь прямо на пол, снимает с Мари испачканный платок, нарочно уколов ее булавками. Входит служанка с лоханью горячей воды. Аббатиса становится на колени, снимает с заледеневших ног Мари бесполезные чулки и туфли, омывает ее ступни.
Мари оживает, ноги колет и жжет. Лишь теперь, от нежных прикосновений аббатисы, потрясение утихает. Быть может, это блеклое место и есть тот свет, но под руками аббатисы Мари снова чувствует себя человеком.
Она тихонько благодарит аббатису за омовение ног, Мари не заслужила такой доброты.
Мы всем путникам омываем ноги, шипит Года, неужели тебе это неизвестно, таков наш устав.
Аббатиса велит Годе передать кухаркам, чтобы ужин подали к ней в келью. Года уходит, ворча себе под нос.
Не сердись на нее, говорит Мари аббатиса, Года питала кое-какие надежды, но с твоим появлением они пошли прахом. Разумеется, предки Годы принадлежали к самым знатным английским фамилиям – Беркли, Суинтоны, Мелдреды, – и она не может смириться с тем, что незаконнорожденная сестра нормандской выскочки, чей род обманом захватил власть, заняла ее место. Делать нечего, продолжает Эмма, Алиенора потребовала принять Мари: разве Эмма могла пойти против воли королевы? Да и какая из Годы приоресса? Ей впору быть набольшей над скотиной, за которой она ухаживает, а не над сестрами: она вечно со всеми сварится, всех язвит. Аббатиса вытирает ноги Мари мягкой – когда-то белой – тканью.
Она ведет босую Мари по холодной и темной каменной лестнице. Келья у аббатисы тесная, пергаменты и книги валяются там, где их бросила Года, но окна дорогие, сквозь кусочки прозрачного рога в келью сочится восковой свет, наполняя ее сиянием. Кречет уже греется на жердочке у огня, синее пламя лижет белую кору березовых поленьев. Стол накрыт: черствый ржаной хлеб, тонко намазанный маслом, вино – к счастью, не разбавленное водой – привезено в лучшие времена из Бургундии, две плошки похлебки, в каждой по четыре куска репы. Аббатиса поясняет Мари, что есть в монастыре, увы, нечего, монахини голодают, но страдание очищает душу, и в глазах Бога эти праведные смиренницы становятся еще праведнее. По крайней мере сегодня Мари поужинает.
Аббатиса рассматривает Мари, глядит поверх ее головы – глаза ее затянула молочная пленка, – спрашивает, что Мари известно о жизни монахинь в аббатстве. Ничего, признается Мари. Похлебка безвкусная, а может, Мари проглотила ее так быстро, что не почувствовала вкуса. Она не наелась, в животе бурчит. Аббатиса слышит это и с улыбкой пододвигает к Мари свой хлеб с маслом.
Что ж, говорит аббатиса, наверняка Мари всему быстро научится, королева писала, что ума девице не занимать. Аббатиса описывает распорядок дня. Восемь часов молитв: глухой ночью вигилия, на рассвете лауды, затем служба первого часа, третьего, шестого, потом чтение глав Святого Писания, час девятый, вечерня, легкая трапеза, комплеторий, отход ко сну. В продолжение дня – труд, размышления и молчание. Все склоняются в молитве, ежедневные службы – молитва, тяжкий труд – тоже молитва. И молчание монахинь – молитва, и чтение Библии, которое они слушают, тоже молитва, и смирение – молитва. И, конечно, любовь – молитва. Послушание, выполнение долга, стремление служить друг другу суть проявления любви, обращенные к великому Творцу.
Аббатиса кротко улыбается и запевает жидким высоким голоском.
О нет, любовь не унижение, любовь – это восторг, оскорбленно размышляет Мари. Скудный ужин никак не уляжется в животе. Монашеская жизнь представляется Мари скверной, как она и предполагала.
Аббатиса осекается и говорит, что Мари может оставить себе кречета и вещи в сундуке, пока не примет обет: после церемонии все это перейдет в собственность аббатства. Мари не догадывается, что аббатиса оказала ей великую милость, которой иная не удостоилась бы.
В сыром сумраке звенит колокол. Комплеторий. Аббатиса оставляет Мари отдохнуть в своей келье. Мари слышит, как монахини поют в часовне Nunc dimittis[3], и засыпает. Проснувшись, видит рядом Эмму, раскрасневшуюся от блаженства Божественного служения.
Мари пора искупаться, ласково говорит Эмма.
Благодарю вас, отвечает Мари, но в купании нет нужды, я мылась в ноябре, аббатиса смеется: омовение – тоже молитва, все здешние монахини купаются раз в месяц, а служанки – раз в два месяца, ибо запах немытого тела противен Богу.
Из тени в углу кельи выступает тень еще более темная, старая монахиня с длинными седыми волосками на подбородке и лицом, будто вырубленным из полена. Ванна готова, сердитым плаксивым голосом произносит монахиня. У нее такой сильный английский акцент, что по-французски она говорит, будто жует камни. Мари морщится.
Аббатиса вздрагивает и жалобно поясняет: не люблю, когда подкрадываются неожиданно и застигают меня врасплох. Это магистра, поясняет Эмма, наставница новициаток. Ее зовут сестра Вевуа. Странное дело: невзирая на то, что в городском кафедральном соборе Мари поспешно посвятили в Христовы невесты и, разумеется, в монастырь она приехала уже приорессой, но считается новициаткой, пока не приняла обет и не стала монахиней. Вевуа умеет обращаться с новициатками. Она с ними не церемонится, но благодаря этому они обучаются всему очень споро и принимают монашество на удивление быстро.
Магистра кивает. От нее, точно духовным ветром, веет недовольством и Мари, и аббатисой. Магистра сильно хромает: в детстве лошадь наступила ей на ногу, раздавила кости и нервные окончания.
Я видела ее ступню давным-давно, говорит аббатиса, когда магистра только пришла в монастырь и мне пришлось омыть ей ноги, ступня страшно искалечена, сущий кошмар.
Болит по сей день так, словно ступню лижет адово пламя, удовлетворенно добавляет Вевуа.
И они идут вниз, три женщины, через темный клуатр, сырые камни холодят босые ноги Мари, в мыльню, та еще полнится голосами и грязью: монахини вернулись с полей и моются перед службой. Над большой деревянной ванной в углу в студеный и влажный воздух поднимается призрачный пар. Едва они приближаются к ванне, как Мари обволакивает густой аромат трав, ей приходится дышать ртом, чтобы не сомлеть от усталости. Травы от вшей и блох, королевский двор кишит ими, говорит Вевуа, и кажется, будто она откусывает слова передними зубами. Она повесит платье Мари в уборной, где облегчаются монахини: испарения аммиака, содержащегося в моче, убивают паразитов.
Две монахини снимают с Мари оставшуюся одежду, узкую шелковую сорочку, вырезанную из широкой сорочки ее матери, и исподнее. Мари, пылая негодованием, прикрывается худыми руками. Вевуа наклоняется, чтобы рассмотреть ее срам, потом трогает Мари там холодными пальцами и говорит: новая приоресса такая великанша, с такими ручищами и голосищем, а лицо у нее такое неженственное, что надо было проверить, не мужчина ли она, но теперь Вевуа видит, Мари та, за кого себя выдает; с этими словами карга толкает ее в плечо, чтобы Мари ступила в ванну.
Мари опускает руки, смотрит Вевуа в глаза, и старая магистра отступает на шаг.
Не стоило так издеваться над девушкой, мягко замечает аббатиса. Плавно указывает на воду и добавляет: после такой долгой холодной дороги, какую пришлось вытерпеть Мари, ванна наверняка доставит ей удовольствие. Мари садится. Вода обжигает ей щиколотки, икры, колени, бедра, срам, живот, грудь, подмышки, шею. Травяная вонь бьет в ноздри, пробирается в самую голову.
Сестра Вевуа и аббатиса оборачивают руки дерюгой, намыливают жидким мылом и стирают с тела Мари серых червей кожи, оставляя местами кровавые ссадины. В горячей воде, в тепле и ошеломлении, в усталости и тревоге тело изменяет Мари. Она заливается слезами, хотя поклялась, что никогда не заплачет, будет сильной, вынесет любые потери, никакого больше двора, никакой Цецилии, никакого будущего, никаких красок, никакой Алиеноры, на которую она любовалась издалека и чувствовала, как желание ее сопровождает королеву, точно невидимый друг. Мари плачет, когда ее мышиного цвета волосы заплетают в мокрый кнут, когда ее заставляют подняться из блаженного зноя на холод, когда полотнищем вытирают ее великанское тело, когда одевают. Льняную сорочку с огромным бурым пятном с груди до края подола явно сняли с мертвой монахини. Шерстяное одеяние пахнет лавандой и чужим телом; Мари оно чуть ниже колен. Очень уж коротко, раздраженно говорит Вевуа аббатисе. И скапулярий тоже короток. Как и сорочка: она не защитит эти бедные ноги от коварной мартовской стужи, от дождя со снегом и яростного ветра.
Аббатиса вздыхает. Завтра, говорит она, Руфь отрежет худшее от сменных хабитов и пришьет эти лоскутья к подолу сорочки и к скапулярию. На случай мороза Мари выдадут три пары чулок. Она будет страдать, но страдания – удел человеческий, каждый миг страдания приближает бренное тело к небесному трону.
Аббатиса своими руками надевает на Мари белый головной убор новициатки, чепец, плат и покров, Вевуа грубо натягивает на нее три пары чулок. И произносит скрипучим голосом: на такие ноги все башмаки будут малы.
Бедное дитя, бормочет аббатиса, что же нам делать? Приданое Мари королева еще не прислала, денег почти не осталось, не на что заказать новые башмаки. Не ходить же ей босиком, парирует Вевуа, даже служанки в монастыре не ходят босые, грешно новой приорессе разгуливать необутой. Ты права, говорит аббатиса, пусть Мари ходит в чем приехала, она приехала в идиотских придворных лайковых туфлях, от них никакого проку, как она в них пойдет в сырое весеннее поле надзирать за севом, она же мгновенно промочит и отморозит ноги, подхватит от земли простуду и умрет, а им придется решать, как быть с великаншей-бастардкой, покойной сестрой королевы, будто мало им прочих хлопот. На что аббатиса – уже не певучим, а самым обычным голосом – отвечает: тогда пусть Вевуа прибавит к своим ежевечерним молитвам просьбу о чуде башмаков, пока же чуда не случится, Мари придется нести свое бремя, а оно, бесспорно, не самое тяжкое: есть в их аббатстве лишения и похуже. Мари понимает, что между женщинами давняя вражда, война страданий между искалеченной ногой и облачными глазами. Войне этой не один десяток лет, и она очевидна, как кольца на поваленном дереве.
Аббатиса поворачивается и уверенно направляется в темноту, остальные две женщины ступают осторожно, держась за стену. Клуатром в ночь. Аббатиса поднимается по своей лестнице, сверху желает новой приорессе спокойной ночи, а завтра Мари начнет усердно трудиться: разбирать пергаменты и вести счетные книги.
Мари идет вслед за Вевуа в часовню, там горит лишь одна тонкая восковая свеча. В час нужды аббатство распродало все убранство, остались лишь деревянные скульптуры: тощие ноги, раны, терновые шипы, кровь, ребра, всю эту древнюю историю Мари знает наизусть. По темной ночной лестнице в дортуар, где горит одинокий светильник над рядами узких кроватей, на которых уже спят двадцать монахинь, не снявшие облачений, ведь, быть может, именно сегодня ангелы воскресения вострубят в рога, и монахини должны быть готовы лететь в объятия рая. Мари мерещится, будто за ней следят, но лица, которые она видит, спокойны во сне, притворном или настоящем. От ряда кроватей доносятся шепотки, слышится хриплый кашель. Сквозь щели в ставнях дует ветер, в дортуаре летают снежинки и тают в воздухе. Мари ложится на кровать, которую указывает ей Вевуа. Кровать ей тоже коротка, лежать неудобно, пока Мари не додумывается скользнуть к краю, согнуть ноги в коленях и поставить их на пол, встретивший ее плоть беспощадным холодом.
Сейчас бы почувствовать матушкину огромную доброту, услышать ее громоподобный смех, от которого теплело на сердце, вдохнуть вербеновый запах ее шеи, но матери вот уж пять лет как нет на свете. Сейчас бы обнять Цецилию: та согрела бы ее тело, рассудила бы здраво и грубо, разделила бы ненависть Мари к этому стылому страшному месту, и ей не пришлось бы нести это бремя одной. Что сказала бы об этом месте Цецилия, в детстве она в пыли и вони курятника – густые лучи солнца сочились косо сквозь его щели – просунула руку под курицу, нашарила яйцо и, облаченная вместо риз в замурзанное кухонное платьице, с самым серьезным видом, размахивая, точно кадилом, ведерком с золой, нараспев несла околесицу, они играли в мессу, Цецилия вылила в рот Мари разбитое яйцо, еще теплое от внутренностей матери-курицы, плоть и кровь смешались воедино, Мари перекрестилась и с трудом проглотила чересчур густое клейкое месиво. Потом дыхание Цецилии на лице Мари, Цецилия жевала морковные очистки, она скоблила морковь, шершавый язык слизывает желток с подбородка Мари. Второе кощунство, губы к губам. Ее откровенное опытное тело: у слуг не водилось секретов, у них Цецилия и выучилась этим штукам. Жар, открытие внутри этой крепкой девицы с ямочками на щеках и соломинкой в волосах. Биение ее тела на теле Мари.
Мари сжимает свои руки, но они холодные и костлявые, это не руки Цецилии.
Дортуар понемногу прогревается от дыхания и тепла тел монахинь. Снаружи воет одинокий ветер. Мари перестает дрожать. Ей кажется, она уже никогда не уснет, но потом засыпает.
И сразу видит яркий сон. Воспоминание, порт, окутанный дымкой, за ним море сверкает под солнцем. Мучительный сухой зной, рыбы в сетях разевают рты в беззвучном крике, толпа, женщины с глиняными кувшинами на головах, запахи гнили, крови, тел, дыма, морской воды. Внизу сквозь тенистую чащу ног пробираются дети. Повсюду белые с красным крестом одеяния рыцарей. Гул голосов на неразличимых языках, далекие флейты, скрип дерева, плеск волн. Под ляжками Мари чьи-то крепкие плечи, какая-то женщина придерживает ее детские ноги, ах да, это мать. Толпа собирается в круг. В центре его обнаженная женщина, она маслянисто блестит на солнце, такая красавица. Волнистые черные волосы до пояса, кудряшки под мышками и в паху. На шее серебряная цепь: рабыня. На лице написано презрение, женщина не смотрит на растущую толпу, она смотрит поверх голов, в далекое небо. Крики, звуки шарманки, кнут щелкает в опасной близости от мягкого живота рабыни. Бесстыжая, словно кошка, обнаженная женщина пятится, залезает в ящик, он доходит ей до колен. Женщина приседает, скрывшись из виду. В крышку ящика забивают гвозди. Блестит воздетый к небу меч, его с ревом вонзают в ящик, у Мари занимается дух, под ящиком, наверное, расплывается красная лужа, не смотри, но Мари смотрит, лужи пока что нет, тут заносят второй меч, протыкают ящик, потом третий, четвертый, быстрей и быстрей. То, что застыло в спящей Мари, тает, закипает борьба, ужас, остановите их, где та власть, что способна остановить их, ящик щетинится рукоятями. Тише, раздается в ушах голос матери, тише, не кричи, это всего лишь фокус. Мечи медленно вынимают. Отдирают крышку. Толпа ахает от ужаса, надолго умолкает. Наконец женщина медленно поднимается из ящика, в котором лежала. Такая прекрасная, по-прежнему блестящая, по-прежнему полная ненависти и злости. Она жива, не ранена, на ее теле, безупречном и гладком, ни царапины, вся ее кровь по-прежнему под кожей. По кругу пускают шапку, в нее сыплются монеты. Мари до самых костей пробирает дрожь, в ушах вновь раздается голос любимой матери, все хорошо, моя милая, эта женщина свернулась в ящике калачиком, точно змейка.
Мари просыпается, над ней грозовой тучей темнеет Вевуа, колени пронзает боль, Вевуа пинает ноги Мари носком башмака, говорит ей: вставай, лентяйка, вставай, дохлая ты верзила, уже вигилия, подъем, подъем, подъем, голубая кровь, лежебока, оглобля, чучело, унылая бастардка, тоже мне приоресса, подъем, подъем, подъем, магистра не замечает любви к Богу в нечестивом сердце Мари, Вевуа посеет ее силой, или эта девица умрет без покаяния.
Мари встревоженно поднимается и видит, что за окном в черном небе круглится луна, все окрест окутано мраком. Перед нею в мерцании одинокого светильника другие монахини скрываются на ночной лестнице, безликие в темноте. Мари, еще во власти живого сна, слышит сухой холодный шелест их хабитов и думает лишь о крыльях стервятников, что медленными кругами спускаются на трапезу смерти.
2
Мари нисходит по ночным ступеням. Точно с ослепительного дневного света попала в темную комнату. Вокруг она не видит ничего, кроме призрачных осколков сияния того, что потеряла.
Вевуа толкает Мари на скамью и устраивается рядом. Подле Мари садится еще одна новициатка, ладонью касается ее спины, чтобы утешить. Мари украдкой косится на эту пучеглазую девицу с торчащими передними зубами; позже она узнает, что это Лебединая Шея, а новициатку, что сидит с другого бока от Мари, зовут Руфью: ее глаза словно все время шутят. Обе станут задушевными подругами Мари.
От усталости Мари мерещится, будто тени по бокам часовни угрожающе меняют форму.
Во время вигилии, узнает Мари, приходится петь молитвы и дрожать подле незнакомок промозглой ночью. Кажется, она длится вечно. Свеча мигает, над промокшими насквозь полями воет ветер. Грудь сдавливает, точно кто-то сжимает внутренности в кулаке. Мари едва не вскрикивает. Хранившее ее оцепенение испарилось. У нее все болит.
На миг часовня расплывается перед глазами, исчезает, и перед Мари, как бывало, появляется королевский двор, будто телом она по-прежнему там, в большом зале тепло, слуги светлячками снуют в полумраке, зажигают свечи, их сияние изгоняет тьму, в зал вбегают мастифы, аланы, борзые, в нос Мари бьет запах вкусной пищи, что несут на блюдах к столам, входят дворяне в ярких роскошных нарядах, гурьбою и поодиночке, дамы негромко и весело переговариваются, в углу запевают лютни, два голоса переплетаются в грустной балладе о рыцарской любви, Мари слышит узор в этом новом волнующем виде любви, он разворачивается в воздухе, как холст: брак не повод не любить, тот, кто не ревнует, не любит, две любви не связывают никого, любовь всегда усиливается или умаляется, любовь легкодоступная достойна презрения, а недоступная драгоценна. На столе – жареный лебедь с загнутой назад шеей, барашек, груды мягкого белого хлеба, голова сыру, пирог со свининою и инжиром, тут и там расставлены эль и вино. И великое диво, дар наслаждения, василиск из зеленой от петрушки кабаньей головы и жареной тушки павлина с пришитыми обратно хвостовыми перьями, в пасти – тряпка, смоченная спиртом и камфарой, тряпка горит, и кажется, будто чудище изрыгает зеленое пламя. Шум, свет, краски, тепло.
А в центре сборища, во главе стола, сидит великая любовь всей жизни Мари и сияет так ярко, что Мари в этом ослепительном свете не видит человека, а видит только сияние.
Мимолетное видение тускнеет. Она снова среди призраков и теней, по карнизам гуляет ветер, и даже древние стены аббатства настолько бедны, что, кажется, смирились с таящимися в них голодом и болезнями.
Стайка монахинь вновь вспархивает и бесшумно поднимается по ночным ступеням к остывшим постелям. Лебединая Шея пропускает вперед хромоногую Вевуа и придерживает Мари за руку. Я так рада, что ты приехала, шепчет она Мари на ухо, от Эммы нет проку, Годе только за скотиной ходить, кто-то должен быть главной, слава Пресвятой Деве за то, что прислала Мари.
Снова сон, но чуть погодя начинаются лауды, в дремотной темноте взлетают голоса, потом омовение, бежать в мыльню, мыться в холодной воде, принесенной служанками, потом в уборную, мочиться и испражняться, обратно в часовню на службу первого часа, сквозь ставни на окнах сочатся первые лучи солнца. В трапезной им раздают работу, самым слабым поручают самую трудную, ибо в аббатстве боль – доказательство благочестия. Вевуа ведет новициаток мыть ледяной водой пол в часовне, скрести его щеткой. Мари в жизни не мыла и не скребла пол. Странно, что Цецилия не возненавидела меня, думает Мари. Далее следует первая трапеза, кусок черного хлеба, глоток парного, еще теплого молока. Служба третьего часа; размышления о Боге в калефактории[4], монахини вслух читают книги, но Мари не выдали книгу, и она читает по памяти стихи. Служба шестого часа. Псалмы, постоянно псалмы, их затягивает дрожащим голосом канторесса.
Шаркая, подходит угрюмая Года. Мари требуют в покои аббатисы, бог весть зачем, Года и сама вполне способна писать под диктовку. Субприоресса в гневе уходит собирать яйца.
В тепле крохотной белой кельи аббатисы Мари охватывает такое облегчение, что она, обессилев, опускается на табурет. Аббатиса еле заметно улыбается и начинает говорить; Мари с опозданием понимает, что та диктует ей письмо к Алиеноре. Мари поспешно хватает перо и пергамент, но не стоило и трудиться: речи аббатисы невнятны и сбивчивы, изобилуют лестью и обличениями, Мари ничего не записывает, слушает, силясь уловить суть, а после составляет краткое, холодно-вежливое послание на латыни с требованием немедля прислать приданое Мари, ибо монахини умирают от голода. Лишь в приветствие Мари осмеливается вложить любовь. Она читает письмо аббатисе, та довольно улыбается и говорит с восторженным удивлением: Мари исключительно точна в диктовке, слово в слово передала сказанное аббатисой.
Сперва письмо к Алиеноре, затем счетные книги – набравшись смелости заглянуть в них, Мари обнаружила беспорядок; от напряжения ее охватила дурнота. Семьи вилланов, крестьян, закрепленных за аббатством, выстроились у восточного входа, чтобы увидеть новую приорессу. А ведь долгий день не перевалил и за половину.
Мари хочется улечься на пол в этой теплой белой келье. Оставить темницу плоти в этом унылом, болотистом, дурно пахнущем месте, отдать Богу душу, воссоединиться с покойной матерью.
Но она трудится, Эмма дремлет, слабо посапывая, муха бьется твердым тельцем о ставни.
Вскоре до Мари доносится бормотание, но во время рабочих часов разговоры запрещены, вероятно, это женщины ниже этажом прядут шелк, Мари замечает отверстие в полу – наверное, для воздуха, – приникает к нему и прислушивается.
Чей-то голос произносит: из шлема торчала ветка ракитника, так мать бедняжки и узнала, кто надругался над ее дочерью; Мари с ледяным изумлением понимает, что говорят о ее матери, об обстоятельствах рождения Мари. А ведь девчонке было всего-то тринадцать, уже теплее добавляет голос, но высокая, миловидная, невинная, одна в поле погожим днем, плела венок из маков, мечтала, как вдруг загремел металл, убежать она не успела, ее схватили за волосы да втащили на луку седла, неподалеку был бивак, а девчонка в поле одна, как тут не соблазниться. Потом она, пошатываясь, вернулась в замок, рассказала, что помнила – только о ветке ракитника, – мать ее рассвирепела, схватила фамильный меч, поехала в лагерь и наделала шуму. Ракитник – это Плантагенеты, да-да, Плантагенеты. Между прочим, потомки Мелюзины, королевы фей, она вместе с детьми жила среди людей, но однажды, когда Мелюзина принимала ванну, чужие глаза увидели ее хвост, и она вылетела в окно, навсегда покинула мир людей. А через девять месяцев на свет появился плод насилия Плантагенетов, наша новая приоресса Мари. Потому-то наша новая приоресса – незаконнорожденная полусестра королевы. Из-за насилия, запятнавшего честь ее семьи. Подумать только: в ней течет королевская кровь, смешанная с таким позором!
Мари мутит. Останься в ней хоть капля самолюбия, она убежала бы, но она раздраженно приникает ухом к отверстию в полу, чтобы узнать, что еще им о ней известно.
Кто-то шепчет “Аве Мария”.
Кто-то говорит торопливо: да, наша новая приоресса родом из Мэна, оттуда рукой подать до Нормандии и Бретани. Поместье у них небольшое, но и не маленькое, неплохое, близ реки и старой римской дороги, местность красивая, рассказчица – дальняя родственница и знает это семейство не понаслышке, все женщины в нем воительницы, вдовая бабка Мари и семь ее дочерей, Мари восьмая: отчаянные девицы. Когда рассказчица была маленькой, девочек из ее семьи даже пугали: станете вести себя как эти мужички – удавим, где это видано, скакать по полям верхом, сидя в седле, как мужчины, наставники обучают их сражаться мечом и кинжалом, читать на восьми наречиях, даже по-гречески и по-арабски, всякие пыльные рукописи, эти нахалки вечно спорят, перекрикивая друг друга, дерутся до крови, владеют алебардой, все это дико и неприлично. Рассказчица не такова. Нет-нет, и она сама, и ее сестры ведут себя, как подобает женщинам, чопорно добавляет голос.
Мари охватывает тоска по реке в Мэне, широкой и сильной, точно змея. По зеленым полям, где порхают золотистые птицы. По бабушке-великанше, по теткам, какими помнила их Мари с тех пор, когда была маленькой, а семейство целым, по далеким историям и песням, по армариям[5], полным книг.
А я тоже слыхала об этом семействе, восклицает нежный голос, все женщины в нем были ведьмы, да, на третье полнолуние обращались в волчиц, воровали у прислуги дочек и растили их как собак, с острыми мордами и зубами, чтобы ездить с ними охотиться.
Неправда, обрывает ее предыдущая рассказчица. Ложь. Семейство славилось набожностью. Четыре старшие девочки и Мари – она тогда была совсем маленькой – даже участвовали в крестовом походе с Женским эскадроном королевы.
“Наша приоресса – крестоносица?” – изумляется нежный голос, и Мари видит вновь, как Женский эскадрон спускается по склону холма в Византийской империи, грозные всадницы в белых и красных одеждах сидят в седле по-мужски, волосы их развеваются, они улюлюкают и кричат, обнажив мечи. Монашки внизу восхищенно бормочут, ведь крестоносцы облечены святостью своего странствия, отмыты от греха пролитой кровью. Мари вспоминает свою тетку Евфимию, та делала сальто с лошадиной спины, тетку Онорину с двумя белыми сапсанами, тетку Урсулу с ее золотыми сапогами и яростной красотой, свою мать, ее силу и громкий смех, все они тогда были очень молоды, все искали в крестовом походе приключений и милости Божьей.
Внутренний взор Мари словно чуть расширяется, перед ней простираются равнины Фракии, вдалеке сияет Византия, в ту ночь Мари, совсем ребенок, поднялась, когда дыхание спящих стало спокойным и ровным, препоясалась кинжалом, заменявшим ей меч, босая вышла в опасную тьму, во весь дух пробежала мимо костров – кто-то пытался ее схватить, но она увернулась – и вошла в шатер с орлом наверху. Когда мать и тетки увидели его, принялись шептаться: подсыпать им яд в вино, перерезать им горло кинжалом, удавить тетивой, Мари догадалась, что это из-за нее, мать и тетки поглядывали на нее, пока говорили, и Мари поняла, что обязана кому-то за что-то отомстить. Полог шатра крепился колышком к земле, Мари выдернула его рукоятью кинжала, откинула полог и вошла в шатер. Внутри горел один светильник. Повсюду лежали спящие, собаки у входа приподняли головы, зарычали утробно, но лаять не стали. Мари, обнажив кинжал, направилась к ложу. На нем громоздились два вороха, дальний храпел гортанно и влажно, ближний по рассмотрению превратился в плоть, грудь над меховым одеялом, длинная шея, путаница блестящих волос, глаз, подведенный черным, открылся и уставился на нее. Женщина. Мари почувствовала изумление, мощное, как удар под ложечку: первая любовь. Ты не демон ли, шепотом спросила женщина, но, разглядев кинжал и маленькое лицо, все поняла и сказала себе: нет, эта мерзкая жаба – всего лишь дитя. Мари приблизилась к ложу. Обнаженная женщина села и, глядя Мари в лицо, проговорила: а, так это и есть знаменитая бастардка, и правда очень похожа, хотя в лице ни грана известной прелести Плантагенетов. Экая богатырша, добавила женщина, жаль, родилась девчонкой. Женщина накинула шелковый халат, прикрыв наготу, и забрала у Мари кинжал. Возвращайся к матери, сухо велела она, на ее бедное ложе смиренной отшельницы. Женщина взяла Мари за руку, провела мимо спящих, мимо собак у входа, они попятились: женщина излучала силу. Отойдя от шатра на достаточное расстояние, чтобы те, кто проснулся, ее не услышали, женщина тихо спросила, которая из грозных сестер мать Мари, красавица в золотых сапогах, или та, что с птицами, или та, что с обезьяньим лицом, или же толстуха, под которой дрожит земля. Моя мать не толстуха, сказала Мари, просто она очень сильная; понимаю, ответила женщина, у тебя верное и храброе сердце, ты пришла отомстить за постыдное преступление, совершенное против твоей матери. Дурочка малолетняя. Ты явилась не в тот шатер, трус, которого ты искала, не пошел в поход, остался дома бездельничать и жиреть. Нет-нет, этот шатер принадлежит другу, он не ладил с жалким предметом интересов Мари, когда та была еще плодом в материнской утробе. Плодом надругательства, ха-ха.
И разве тебе не известно, добавила дама, что настоящая женщина не станет марать руки в чужой крови, это грязное дело под ее мягким влиянием выполнят за нее другие.
Потом дама погладила Мари по голове и велела ей что есть мочи лететь к матери, ведь если язычники поймают девочку, то продадут ее в рабство и ей придется мыть полы, а кормить ее будут тем, что не доели собаки. Она подтолкнула Мари, та, пошатываясь, сделала три шага, обернулась, но дама скрылась во мраке. Мари в изумлении бросилась в свой шатер, омыла грязные ноги в лохани. Вытереть их было нечем. С мокрыми ногами Мари забралась под меховую полость, к пышущему жаром материнскому телу, та обняла дочь во сне, но, почуяв холод, в полудреме спросила, куда ходила Мари. А потом, пробудившись окончательно, принюхалась, села и поинтересовалась, почему от Мари пахнет духами королевы.
Так Мари впервые встретилась с могущественной Алиенорой, правительницей Франции, а позже и Англии, матерью десяти детей, орлицей из орлиц, сильнейшей из сильных. Образ ее на всю жизнь врезался в память Мари: так дряхлый сом носит в себе рыбацкий крючок, вонзившийся в его плоть в ранней юности.
Мари чувствовала любовь, любовь острую, тугую, непреложную.
Но Алиенора осталась в далеком придворном мире, отослала Мари навсегда. Из всех потерь – мать, дом, двор – эта казалась самой невыносимой. От отчаяния Мари расхотелось слушать сплетни монахинь.
Она поднимается с пола, подходит к ставням, распахивает их в серое, продуваемое ветром пространство.
Замерзнув, Мари затворяет ставни, оборачивается и чувствует, что Эмма проснулась. Аббатиса открывает молочные глаза и ласково говорит: “Прости их пустые речи. Они не хотели тебя обидеть”. Мари молчит.
Аббатиса с широкой улыбкой на кротком лице поднимает руку, опускает – и вмиг ударяет колокол, созывающий их на службу, будто звон с небес раздался по мановению пухлой белой руки аббатисы.
3
Позже первые дни в аббатстве представлялись Мари сплошь густой чернотой. Когда она вспоминала ту пору, ей казалось, будто она из освещенных покоев вглядывается в ночь и видит лишь собственное лицо, луной плывущее в отражении.
Голод был такой, что в темноте дортуара осунувшиеся лица монахинь походили на черепа. Мясо варили и убирали для будущих супов. Ногти от холода были синие, как небо.
А потом, через неделю после приезда, во время службы третьего часа – Мари притворялась, будто поет в унылом сумраке, – ее вдруг осенило, что нужно делать.
Превыше всего Алиенора ценит истории – любовь, которую отдают и которую получают в песне.
Мари явились рифмованные строки бретонского лэ[6], неожиданные и прекрасные в своей полноте. Руки дрожат на коленях. Она сочинит сборник лэ, переведенных на изысканный, музыкальный придворный французский. Она пошлет свою рукопись, точно горящую стрелу, к своей любви, и стрела эта, достигнув цели, воспламенит жестокое сердце. Королева раскается. Мари позволят вернуться ко двору, туда, где не знают голода, где всегда музыка, собаки, птицы, жизнь, где в сумерках сады полнятся цветами, влюбленными и интригами, где Мари может учить языки и подмечать в коридорах огненные хвосты новых мыслей, что кометами проносятся в разговорах. А не одни рассуждения о триедином Боге-Отце, Сыне и Духе – как здесь, в аббатстве, где труды без конца, лишения и молитвы.
По окончании службы Мари выбегает из часовни, порывшись в своем сундуке, достает деньги, подкупает служанку, чтобы та сходила в город, раздобыла связку свечей, пергамент, чернила и вощеных дощечек для письма. Мари вырывает у разгневанного гуся перо и очиняет его. Она двигается, она дышит, она ест то немногое, что еще осталось. Ночью ждет, пока звуки в дортуаре смолкнут в сонной тишине, поднимается и, босая, крадется по темной лестнице вниз.
На дворе темно-синяя ночь. Яркие звезды глядят на нее с укоризной. В конюшне тепло, не хлещет ветер, от тел животных исходит жар, Мари приникает застывшим лицом к лошадиной шее, силясь его отогреть. Старая боевая кобыла поворачивает голову, влажным и мягким носом тычется в щеку Мари. Та достает принесенное, стараясь не разбудить служанок, спящих на сеновале, уходит туда, где крысы щелкают в темноте, садится на мешки с овсом у каменной стены (их осталось немного). Высекает искру, поджигает солому, ждет, пока огонь разгорится, затепливает свечу, затаптывает тлеющую солому. Мари пишет при тусклом свете свечи, глаза крыс мерцают во мраке зелеными огоньками.
Днем она вспоминает строки, написанные ночью.
Жизнь аббатства лишь сон. Сборник лэ – вот явь.
В стихи Мари облекает шатер, увиденный в Утремере[7], он по-прежнему ей мерещится, высокий, пурпурный, увенчанный золотым орлом, в шатре на роскошных мехах лежит обнаженная женщина. Мари облекает в стихи бедную сестру Мамиллу, оставшуюся без носа, его откусила ревнивая гончая в тот день, когда новобрачную привезли в дом мужа, и Мамиллу отправили в монастырь, муж не притронулся к ней, опасаясь, что дети родятся без носа. Мари облекает в слова облатку Аделизу, новициатка Эдита, злыдня из злыдень, запустила бедняжке в шею гнилым яблоком, падалицей из сада, Tels purchace le mal d’altrui dunt tuz li mals revert sur lui! Да падет нечестие на голову того нечестивца, кто его совершил. Мари так меняет старинный лэ, чтобы в нем считывался и буквальный смысл, и история Данжерозы, бабки Алиеноры, знаменитой красавицы, поступавшей как ей заблагорассудится: уже будучи матерью и женой, Данжероза влюбилась и сбежала от мужа – неслыханное, непростительное прелюбодеяние. Мари облекает в стихи вспомнившуюся ей ласку с красным цветком в пасти, прошмыгнувшую мимо, когда мать тащила ее домой из незадавшегося крестового похода в Утремер – ласка это была или все же лисица? – Мари выбрала ласку. Она облекает в стихи Мелюзину, фею, чья диковинная кровь бежит по ее, Мари, жилам. Она облекает в стихи самое королеву, ее великую красоту, безупречное образование, ее тело, которому природа щедро даровала идеальную гармонию, неотразимое очарование, пленительное лицо, искрящиеся глаза, пухлый рот, точеный нос, блестящие белокурые волосы, куртуазные манеры, сладкие речи, румянец щек. Никакая женщина в мире не сравнится с Алиенорой.
В том лэ, который втайне нравится Мари больше прочих, она описывает первое свое воспоминание. Незадолго до того, как ее мать умерла, а всех теток отдали замуж или отправили в монастырь, единственная оставшаяся тетка, Урсула, подолгу молилась в семейной часовенке. Наконец она в слезах пришла к матери Мари и сказала: лучше смерть, чем брак. Будь я охотником, я желала бы, чтобы нож вонзался в плоть, но добычей быть не желаю. Я не стану лежать и терпеть, пока чей-то нож входит и выходит из моей плоти, пояснила Урсула. Мать Мари, пряча улыбку, ласково заверила сестру, что тревожиться не о чем, она уже выделила приданое монастырю Фонтенвро, куда Урсула поступит новициаткой.
За два дня до отъезда Урсула в последний раз повела Мари на охоту. Они проснулись зябкой апрельской ночью и пешком отправились к лесному источнику, куда в темноте приходили на водопой звери. Там Мари и Урсула сели у подножия дерева, мысли их рассеялись, теперь они больше походили на корни дерева, под которым сидели, человеческое в них стерлось. Они долго сидели, не думая ни о чем, понемногу светало, клочья тумана поднимались над поверхностью теплеющей воды, и у дальнего края источника Мари увидела силуэт оленя. Нет, все-таки это была оленуха – в ее живот тыкался носом детеныш, но какая-то неземная: ее голову венчали рога, и тело ее было соткано из чистейшей белизны, словно туман сгустился, стал плотью. Мари замерла, затаила дыхание. Если бы тетка заметила оленуху, та уже была бы мертва, кровавые ленты вились бы в воде пруда.
Потом белая оленуха подняла голову, посмотрела на Мари, вложив в этот взгляд всю себя. Она поведала нечто бессловесности в глубине души Мари. Время остановилось. Лес наблюдал за ними. Оленуха развернулась и одним прыжком скрылась в зарослях, олененок ускакал за нею. На следующий день Урсула уехала в Фонтенвро, а Мари унесла с собой оленуху, этот восторг и тайну, и вот наконец излила их на пергамент.
Она пишет день за днем, доводит лэ до совершенства. Она пишет в чаду, мало спит, кожа ее становится полупрозрачной, исчез подкожный жир – его и прежде было немного, – Мари совсем исхудала, ею движет только желание поскорее вернуться в конюшню и продолжить работу при свете оплывающего свечного огарка. Днем она просматривает счетные книги, мысли ее далеко, но постепенно Мари понимает, как движется скрипучий, убогий механизм монастырского хозяйства – впрочем, новое знание не трогает ее сердца.
Сестра Евлалия – всякий раз, как она наклоняется, ее прыщи лопаются от гноя, пачкая плат, и бедняжке приходится по нескольку раз на дню переменять засаленный головной убор, – говорит, наблюдая за Мари, что от новой приорессы остались одни глаза – огромные, горящие.
У нее и кожа горит, добавляет Лебединая Шея, так и пышет, рядом с ней в часовне сидеть жарко.
По-моему, она скоро умрет, произносит Руфь, у нас в роду все провидцы, я вижу на ее челе печать смерти.
Мари пишет пролог к сборнику лэ. Те, кого Бог наделил разумом и красноречием, не должны молчать и скрывать свой дар, они обязаны так возвратить свой дар, чтобы он расцвел в лучах чужого восторга. В прологе Мари посвящает свое сочинение не напрямую истинному адресату, а несколько обиняком, куда менее значимому супругу, пусть и наделенному властью куда более великой. Быть может, если лэ не растрогают королеву, все-таки ревность к этому посвящению вернет Мари ко двору.
Наконец небольшая связка пергаментов готова, Мари вложила в них все умение и талант. Спохватившись, она обнаруживает, что завтра Благовещение, день Пресвятой Богородицы, с приезда Мари в аббатство минул без малого месяц. Она достает из сундука деньги и, самовольно пропустив службу шестого часа, едет в город; вокруг все зеленеет. Мари купит вдоволь мягкой белой муки для хлеба, меду для пирогов, теленка – его зарежут для пира, – иначе завтрашний праздник будет тоскливым, монахиням придется жевать орехи, сушеные ягоды и довольствоваться мертворожденным теленком, Года отняла его у сокрушенно мычащей коровы и на плечах притащила на кухню. Лицо кухарки вытянулось от испуга, но субприоресса отрезала: зажаришь его, сунешь яблоко в пасть – никто ничего не заметит. Мари прижимает к груди рукопись и предвкушает праздник. В городе заворачивает свои стихи и письмо в лучшую кожу, какую сумела найти, выкладывает круглую сумму, чтобы их в тот же день доставили в Вестминстер – до него несколько лиг[8], посыльному придется гнать коня галопом, – лично в руки королеве, и та наверняка вернет Мари, не сегодня, так очень скоро. Мари смеется: монеты, которые она платит, чтобы подарок доставили ко двору, схожи с заявленным адресатом, пусть и не истинным.
А потом она ждет, едва не задыхаясь от нетерпения. Мари представляет, как Алиенора склонит голову над рукописью, прочтет, наконец-то заметит Мари, постигнет ее до конца. Мари кажется, что она умрет, не вынесет своей любви. Или славы, которая ее непременно найдет. Свет Мари воссияет через Алиенору, словно через хрусталь, королева велит снять копии с рукописи, раздаст их всем, кого любит, и каждый, кто прочтет стихотворения Мари, преисполнится ее блеска.
И по заступничеству королевы, по ее ответной любви, опьяненно мечтает Мари, она удостоится жизни вечной.
Она смотрит, как восходит теплое солнце в день нового года, в Благовещение Пресвятой Богородицы, первый день сотворения, день, когда ангел спустился с небес, шепнул весть на ухо Марии и наполнил ее божественной святостью.
От волнения она не в силах помогать аббатисе; Мари берет из армария Amores[9] и погружается в чтение, пока аббатиса впустую диктует строгое письмо кредитору. Но сегодня книга не говорит с Мари, perfer et obdura, dolor hic tibi proderit olim[10], говорит она другой женщине, в чьем сердце не осталось надежды.
Аббатиса все диктует, но Мари поднимается, сажает на плечо кречета и, не обращая внимания на громкий укор аббатисы, идет на конюшню, седлает кобылу, рысью скачет с холма на поле озимой ржи, а очутившись на поле, выпускает кречета, галопом несется по полям и лесам, высматривая гонца. Но вот за деревьями показался город, а на дороге по-прежнему ни души, Мари натягивает поводья, разворачивает лошадь, прислушиваясь, не раздастся ли позади стук копыт. Но и на обратном пути ничего. Работающие в саду монахини выпрямляются, замирают, как семейство куниц, смотрят на приближающуюся Мари: неслыханная дерзость – кататься в свое удовольствие, ведь работа в монастыре не переводится. Вевуа наверняка заставит Мари жестоко поплатиться за этот проступок.
Ясное светлое небо заволакивают облака, начинается ливень. Мари свистит, свистит кречету, но птица не возвращается. Дождь усиливается, Мари уже не может свистеть, она заводит кобылу в стойло, чистит ее скребницей, острой палочкой выковыривает грязь из копыт. Звонят к службе девятого часа; в часовне с хабита Мари стекает вода, под лавкой собирается лужа, Мари трясется от холода. После богослужения Вевуа лупит ее хворостиной по ладоням – за то, что сбежала, за то, что так бездумно промокла; ладони опухли, кровоточат, такими не поработаешь. Но Мари надеется, что ее вот-вот избавят от этого места, и почти не чувствует боли.
После службы Мари идет в трапезную – в мокром хабите ее бьет дрожь, ладони саднят, – из трапезной восхитительно пахнет праздничными блюдами, вкушать положено молча, но монахини радостно перешептываются, наконец поднимается аббатиса и, сердито нахмурившись (что бывает нечасто), произносит: “Довольно. Тишина”. Монахини молча едят мягкий хлеб, мясо, пироги, жареную репу, едят и едят, они не просто насытились, они переели, бедная Аделина выбегает на двор, ее выворачивает, и она тут же мчится обратно, чтобы успеть набить желудок. Но пищи довольно, а времени едва хватает. В тот день нищие у ворот получают щедрое подаяние.
Дождь перестал, но земля холодная, влажная, дорогу развезло.
Вечерня.
Комплеторий. Мари вслушивается до боли в ушах. Гонца все нет.
Комплеторий окончен; в клуатре, у выхода из часовни, дожидается крестьянка, что прислуживает на кухне. Едва выходит Мари, как крестьянка сует ей в руки грязную тряпку, под которой прощупывается легкое тело птицы.
Сперва Мари охватывает боль оттого, что мертв ее кречет, ее славный сильный дружок. А потом ее пронзает необычайный восторг: в ее сборнике лэ есть история о влюбленных, они обмениваются посланиями с помощью мертвого соловья, завернутого в вышитую тряпицу – быть может, это и есть послание, которого она так ждала.
Да, понимает Мари, ради этого я готова пожертвовать даже кречетом.
Она распахивает тряпицу и видит там, как и предполагала, разорванное, окровавленное тело своей птицы, убитой соколом покрупнее: кречет всю зиму провел в клетке, утратил ловкость и прыть. В грязной тряпке кухонной девки Мари ищет посланье, но ничего не находит.
Крестьянка что-то произносит смиренным голосом. Подходит Года, переводит для Мари на французский. Крестьянка возвращалась домой и видела, как огромный сокол – дикая соколиха – с серебристой ранней луны упала камнем на кречета, на лету впилась в него когтями и сжала так крепко, что капли крови усеяли землю, точно пшено, крестьянка направилась по кровавым следам и нашла на тропинке кречета госпожи приорессы, крестьянка подумала, госпожа приоресса наверняка захочет знать, что стало с ее птицей, хоть этих хищных лесных чертей и не держат дома, не по-людски это, но у благородных свои причуды, что проку их осуждать, ведь всем набожным людям известно: осуждение, как поток воды, льется не вверх, а вниз, увы, так уж заведено. И крестьянка улыбается щербатым ртом.
Будьте добры, просит Мари субприорессу, поблагодарите эту женщину и скажите ей, что я завтра найду ее и дам ей пенни.
Крестьянка, похоже, недовольна таким ответом, Года резко ей возражает, крестьянка выхватывает у Мари тряпку, сует ей в руки мертвую птицу и, бормоча, скрывается в темноте.
Она просила два пенни, цедит Года сквозь зубы, я ей сказала, нечего жадничать, теперь не получишь ни одного.
Остальные монахини, должно быть, уже ушли в дортуар. Рядом с Мари в клуатре только слепая аббатиса. Она протягивает руку, касается лица приорессы, чувствует, что оно мокрое.
Вот что бывает, говорит аббатиса, когда своевольничают и небрегут своим долгом.
Да, отвечает Мари глухим от ненависти голосом.
В наказание я собиралась отправить тебя в мизерикорд[11], говорит аббатиса. Дать тебе пять плетей, а между службами первого и третьего часа поставить тебя коленями на нелущеный ячмень. Но, полагаю, с тебя довольно. Да и ячменем разбрасываться не след. Бедная птица. Мне нравилось слушать, как она пищит по ночам.
Да, отвечает Мари.
Из дверей выходит Вевуа. Все сестры Мари уже засыпают, а ее кровать пустует, и если Мари не хочет получить плетей, пусть ложится немедленно.
Да, отвечает Мари. Молча следует за Вевуа в дортуар. Ложится. Руки болят от холода; чтобы согреться, она прячет их в рукава. Всю ночь Мари прислушивается, дважды убеждает себя, будто это не ветки тиса трещат от ветра, а стучат копыта коня. Но это обман слуха. Никто не приехал. И не приедет. Никто не отвезет ее домой.
С удвоенной тоской – монахини голодают, несмотря на минувший пир, – в серости и унынии этой жизни Мари всерьез подумывает покончить с собой.
Она сидит на лаудах, не слыша ни звука.
Уныние – грех, Мари это знает. И отчаяние.
А ненависть и того хуже, она разорвет Мари на части, стоит ей только зазеваться.
Мари подумывает убежать из аббатства, укрыться в лесу, самой ловить дичь, пить из ручьев, превратиться в дикарку, в разбойницу, жить отшельницей в древесном дупле. Но даже на этом острове не так много глухих мест, и нет ни одного, по соседству с которым не оказалась бы обитаемая деревня. Нет-нет, Мари заложница своего пола и великанского роста, ее мигом узнают, без английского языка она пленница, она уже жила, как в тюрьме, все одинокие годы после смерти матери, когда Мари вынужденно таилась, выдавала себя за мать, иначе ее родственники волками вцепились бы в наследство, нипочем не отдали бы такое богатство малолетней бастардке. Те два года, когда лишь Цецилия скрашивала ее дни, заточили Мари в клетку нынешней судьбы, и Мари больше не хочет странствовать по этой пустыне духа. Она не создана выживать в одиночку.
В мысли Мари влетает ручной соловей королевы, Алиенора вырастила его собственноручно из крохотного яйца, найденного в саду. Теснота при дворе была такая, что даже кое-кому из дворян приходилось ночевать бок о бок на полу в большой зале, но соловью отвели отдельные покои. Весь день птица порхала с окна на жердочку, открывала клюв и пела, а королева и придворные дамы наслаждались ее пением. Но Мари прекрасно знала соловьев – le rossignol, le laüstic, – ей не раз доводилось слышать, как его дикие сородичи поют за окном долгими жаркими летними ночами ее счастливого детства, а поодаль от замка журчит река. Мари не выносила голос королевского соловья. Он пел не о вдохновенном полете, не те диковинные мелодии, что изливаются из сердца иных птиц: соловей день за днем повторял одни и те же песни. Воображение его ограничивалось стенами тесной комнатенки да зубчиком неба в окне, дворцовой духотой, червями, которых ему один за другим скармливала королева.
Когда требования двора душили ее нестерпимо, Мари порой хотелось взять соловья в руки и свернуть ему шейку.
И тем дамам, чьи взоры туманились от песен несчастного соловья – тем дамам, что бесконечно сновали между двором, личными покоями и часовней, кому и в голову не пришло бы оседлать коня и промчаться галопом по полям, или охотиться, или сражаться, или спорить, или читать великих покойных философов, или купаться голой в реке, где теченье ухватит за ногу да унесет за милю, тем дамам, кого не интересовало вообще ничего, кроме шитья, вздохов над рассказами о куртуазной любви, адюльтере и тайных страданиях, – тем костлявым дамам Мари тоже хотелось свернуть шею могучей рукой.
Беленую западную стену часовни озаряет рассвет, и Мари чувствует, что у нее горят кончики пальцев. Жжение возвращает ее к грубой правде тела. А тело ее опирается на деревянную скамью. К ее бедрам прижимаются бедром Вевуа и Лебединая Шея. Нос Мари чует запах их кожи, язык ощущает на зубах вкус ее сна. За голосом канторессы слышно, как в кусте боярышника у стен часовни поет лесной дрозд, боярышник этот только вчера облекся дрожащим кружевом белых цветов.
Мари чудится, будто она ясно видит песню этой второй птицы, видит, как песня устремляется вверх из клювика, но, поскольку дрозд поет под открытым небом, песня его рассеивается на ветру.
Мари навострила уши: все монахини поют. Аббатиса пылко зажмурила молочные глаза, ее серебристый голос взлетает выше прочих.
И эту песню Мари тоже видит, волны ее зримы.
Песня вьется изо ртов монахинь струйками белого дыхания, ширится на лету, касается высокого белого потолка, копится там, тяжелеет, каскадом льется по стенам, окнам, колоннам, струится по каменному полу под деревянные башмаки монахинь, просачивается в подошвы, касается нежной живой кожи, проникает в кровь и очищается, распространяясь по телу, сквозь смрадные внутренности и воздух, выдыхаемый из легких. Та песня, что поднимается в них и выходит из их ртов, – усиленная молитва: изливаясь из них, она с каждым разом удваивает свою мощь.
Молитва эта крепнет, чтобы достигнуть слуха, благодаря ограничивающим ее стенам часовни, понимает Мари, а вовсе не вопреки им.
Быть может, песня птицы в дворцовых покоях ценнее пения вольной птицы, и ценность ей придают сами покои.
Быть может, вольный воздух, из-за которого дикая птица поет лучше, ограничивает протяженность ее молитвы.
Такая мелкая мысль. На удивление незначительная. Но и ради нее стоит жить.
Хорошо же, с горечью думает Мари. Я останусь в этом убогом месте, я не стану спорить с судьбой. Я сделаю все, что в моих силах, дабы возвыситься на этом земном поприще. И те, кто вышвырнули меня, пожалеют о том, что сделали. Однажды они увидят мое духовное величие и проникнутся благоговением.
Мари похоронит любовь к Алиеноре, пусть эта любовь еще жива и будет вспыхивать до конца дней, так что придется снова и снова гасить ее в себе, эта любовь будет превращаться в ненависть, вновь разгораться и гаснуть, сменяться скорбью, опустошающей душу.
Мари озирается и видит, как под плотными шерстяными хабитами монахинь проступают холмики позвонков.
Она смотрит на свои руки – кости без плоти – и вырывается из цепенящего отчаяния.
В редком холодном свете клуатра она поворачивается к монахиням, выходящим из часовни, и просит их задержаться. В конце концов, она приоресса, она старшая. Вевуа пытается утихомирить Мари, но та впивается в нее взглядом, и Вевуа умолкает.
Я кое-что придумала на досуге, говорит Мари и разбивает монахинь на группы. Я возьму дела в свои руки, сухо поясняет она.
Прядильщиц шелка Мари отводит на пруд и учит ловить форель, это так просто, говорит Мари, я в четыре года уже рыбачила, нужна лишь пеньковая веревка да червяк из навозной кучи, монахини вскрикивают от омерзения, и Мари добавляет: мне стыдно за вас. Тем, кто работает в поле, Мари велит нарвать молодой крапивы и набрать грибов, но те грибы, что жгут руки, не берите, поясняет она, если не хотите наяву видеть кошмары, всяких чертей и диковинные яркие звезды. Вечером у нас будет хотя бы рыба и суп.
После этого Мари, а следом за нею товарки-новициатки, Руфь и Лебединая Шея, поспешает к келарше и требует, чтобы та пустила ее в келарню; там Мари обнаруживает свиную грудинку и бочонок доброго эля, припрятанные на случай, если келарше и ее любимицам придет охота полакомиться.
“Свинина? – говорит Мари. – Я читала устав, парнокопытных животных нельзя употреблять в пищу”.
Стоящая в дверях Года насмешливо фыркает и отвечает: одним хлебом столько ртов не накормишь. Если б не мясо моей скотины, мы умерли бы с голоду.
Вряд ли я проживу в этом сыром и суровом месте, думает Мари, не имея возможности утешиться грудинкой. Что ж, хорошо: пусть будет свинина.
Мясо в аббатстве – обычное дело, сердито напирает келарша, скрестив на груди могучие руки, в других аббатствах подают мясо парнокопытных каждый день, кроме пятницы, как другие келарши, так и я, только и всего.
“А другие келарши тоже припрятывают для себя провизию, когда их сестры голодают?” – спрашивает Мари. Руфь потом вспоминала лицо приорессы в эту минуту, оно было каменным, страшным, настолько жестоким, что тучная громкоголосая келарша, привыкшая раздавать пощечины служанкам и младшим монахиням, сжалась от страха. Мари не кричит, хоть и отправляет келаршу работать в поле, при том что обычно на эти работы посылают монахинь из местных, уж точно не тех, в ком течет голубая французская кровь.
Келаршей Мари назначает безносую сестру Мамиллу; с тех пор как собака отгрызла ей нос, она не чувствует голода, вдобавок она всегда поступает по совести и справедливости. Мамилла будет отличной, заботливой келаршей до самых последних дней Мари, тогда уже аббатисы.
Не сразу, но все же Мари заставляет себя достать из сундука деньги и отправить Году – та честна, хоть и невыносима – в город за мукой, поросятами и гусями, чтобы кормить монахинь, пока в саду не появятся первые плоды, и еще Года должна купить Мари деревянные башмаки, ей надоело, что холодные камни леденят ее подошвы. Мари протягивает субприорессе палку, на которой отметила размер своей ноги.
Года берет палку, деньги, смотрит на них, дрожа от злости. Если у вас есть деньги, произносит субприоресса, брызжа слюной, почему вы не потратили их раньше, почему не избавили монахинь от страданий?
Ради всего святого, думает Мари, да потому что я рассчитывала на эти деньги долгие годы жить при дворе, а не среди монахинь в монастыре, не среди отверженных простодушных ничтожеств в этом хлеву, однако вслух произносит, стараясь, чтобы лицо не выдало мыслей: голова была другим занята (тем более что в этом есть доля правды).
Мари поднимается к аббатисе, садится у роговых ставень, сквозь которые льется свет; Мари дрожит, как фитиль горящей свечи. Она ясно, целиком и полностью понимает, что обязана сделать дальше.
Весь день Мари разбирается со счетными книгами – и выясняет, что Эмма, дабы задобрить здешнее мелкопоместное дворянство, передала им в пользование бо́льшую часть монастырской земли. Аббатиса улыбается в уголке, мурлычет себе под нос. Когда Мари разъяренно спрашивает, почему аббатиса так долго не требовала с арендаторов плату, Эмма говорит: я слепая, люди они бессовестные, вот я и подумала, что, если засужу хотя бы одного, дары в обитель иссякнут, все здешние дворяне родственники, Мари и сама это знает, кто идет против одного, идет против всех.
Лучше утратить сбережения, чем добрые отношения, добавляет аббатиса с таким видом, будто и правда сказала что-то мудрое.
Неужели почтенная аббатиса, уточняет Мари, действительно предпочла фунт-другой перцу и несколько возов дров, подаренных монастырю, тем деньгам, на которые вверенные ее попечению монахини могли бы кормиться и жить припеваючи?
Но аббатиса уже сказала все, что хотела, и, рассудив, что лучше оправдается песней, запевает высоким серебристым голоском.
Мари снимает верхние чулки, засовывает их кончики в уши и вновь склоняется над счетами.
Днем из всех арендаторов, кто не вносит плату за монастырский надел, объявив его своей собственностью, Мари выбирает самых отъявленных, семейство, барствующее на чужой земле, на земле голодающих монахинь.
Ночью внутренний голос шепчет ей, что ничего у нее не выйдет, она просто-напросто неотесанная девица без роду и племени, никем не любимая, ей только семнадцать лет, она даже еще не монахиня, ее хабит в позорных латках другого цвета, лицо ее некрасиво, а руки – обычные женские руки. Как она смеет…
Что ж, отвечает Мари, не выйдет, значит, не выйдет, в худшем случае я умру, а это не так уж плохо, не правда ли. Но тут перед ее мысленным взором появляется лицо бедняжки Аделизы, осунувшееся от голода, синее, жалкое, и в Мари закипает гнев. Она обязана попытаться.
Мари поднимается, ее армия монахинь следует за ней, ибо все уже знают, что она крестоносица, ей знакома священная справедливость меча. Чуть свет они прибывают на ферму. Лицо Мари по-королевски надменно, она грозно восседает на боевой лошади. Мари стучит в дверь. Открывает зевающая девка-чернавка, видит нелепую долговязую монашку и захлопывает дверь.
Мари невозмутимо садится на лошадь, оборачивается и просит сестру Руфь постучать еще раз. Девка вновь отворяет дверь, кричит на монахинь: вы перебудили весь дом; Мари верхом проносится мимо чернавки, заезжает на лошади в залу, где на полу еще спят слуги и домочадцы; захваченным из обители посохом аббатисы Мари разит направо и налево, пока перепуганные домочадцы в кровоточащих ссадинах и синяках не выбегают из кухни и не мчатся в лес. За деревьями невдалеке караулят служанки и работницы обители с лопатами и сковородами – на случай, если дойдет до рукопашной; Мари подзывает к себе нищую вдову, она всегда была предана аббатству, у нее шестеро детей, большинство уже взрослые, смелые и способны постоять за себя. Мари объявляет их законными обитателями фермы. И, наконец, раздает имущество посрамленных должников, комнату за комнатой, монахини и служанки уносят вещи в охапке: все серебро, скопленное семьей, всю посуду и все картины, даже тронутые плесенью рукописи и гербарий, найденный в кабинете, ведь обитель распродала почти все свои ценные вещи, чтобы прокормить голодные рты, даже книг почти не осталось – пищи для размышлений. Еще Мари забирает всех дойных коров, только одну оставляет вдове, и всех коз, и куриц.
В тот день приоресса Мари в великом гневе объезжает всех арендаторов-должников – в лице фамильные черты Плантагенетов, из-под хабита выглядывают шитые золотом рукава, – ее сопровождает Года на осле, потому что субприорессе часто приходится переводить с французского на английский и вновь на французский. Все должники уже знают о том, как Мари расправилась с наглецами на ферме. Все понимают, что с пришествием юной приорессы для них настали суровые времена.
В тот день, когда арендаторов созывают в аббатство, чтобы стребовать долг, они являются как один, и Мари не щадит тех, кто жалуется на бедность, на то, что много детей; в конце концов даже они уступают, лезут в карман и отдают причитающееся обители, некоторые ворчат, но большинство даже гордится тем, что приходится держать ответ перед такой знатной, строгой, отважной, воинственной приорессой. Ибо глубокая истина природы людской заключается в том, что большинство душ на земле не ведают покоя, пока не препоручат себя силе, превосходящей их самих.
Часть вторая
Той первой весной по приезде в аббатство Мари сажает абрикосовые косточки, украденные из королевского сада, чтобы избавиться от них, ведь они напоминают ей об утраченном. Косточки пробьются сквозь почву, дадут слабые тонкие листья. Мари будет казаться, что в этих деревьях – вся ее жизнь. Она и сама пока что не понимает, чего ей хочется больше – чтобы деревья благополучно росли или чтобы они завяли.
Бремя церковной иерархии дает о себе знать каждый день. Мари привыкает по звуку шагов узнавать, кто из набольших по епархии идет по коридору: епископы носят сапоги, не деревянные башмаки, как монахини обители, и Мари, заслышав их топот, вскакивает и молча скрывается через черный ход, оставляя лукавую Эмму – в конце концов, она все еще аббатиса – разбираться с требованиями, правилами, вымогательством, бесконечными просьбами пожертвовать время, усилия, молитвы монахинь: Эмма любезно на все соглашается, а потом – очень кстати – забывает поставить в известность Мари.
Что ж, решает Мари, вышестоящих необходимо дрессировать, как соколов или собак, не спеша, с поощрениями, чтобы они не догадались, что их дрессируют.
Ее упрекают: вас-де никогда нет в обители. Мари шлет извинения – на письме она не так неучтива, больше похожа на ту, какой надеется стать. Она перечисляет дела, требующие ее внимания: обрезать яблони, дознаться, почему молоко отдает гнилым луком, помочь пожилой монахине, у которой кровь льет из носа не переставая, решить, как быть с крестьянской девочкой, ту укусила собака, и теперь у обеих изо рта идет пена, взыскать долги с арендаторов земельных наделов, да еще служанку поймали на том, что она ест мел, выданный для стирки. Желала бы я вместо этого проводить время в приятных беседах за добрым вином и пирогами, смиренно пишет Мари, взвешенно обнаруживая вспышку злости.
И все равно вышестоящие с их зловонным дыханием, щеками, прыщавыми от бритья тупой церковной бритвой, самодовольными ухмылками и толстым брюхом не оставляют попыток отыскать Мари. А она ускользает, оставляя им Эмму.
Вскоре они привыкают увозить свои особы обратно в город и писать Мари письма, на которые она отвечает с изысканной учтивостью и уступками, но мало-помалу все дольше медлит с ответом. Она превращает их требования в одолжения, которые она им делает.
Мастерство ее будет постепенно расти и к тому времени, как она – много лет спустя – станет аббатисой, достигнет совершенства.
Время после Пасхи самое скудное: зимние запасы уже подъели, а до изобилия плодов еще далеко. Одно семейство крестьян, не выдержав голода, украло озимую рожь с монастырского поля – до него от обители полдня езды – и напекло хлеба. Но зерно оказалось больным – а может, его проклял сам дьявол, – и одни крестьяне, наевшись хлеба, плясали нагими на улицах, другие кричали от ужаса, им являлись пугающие видения, третьи каменели, дышали с трудом.
Ничто не могло изгнать недуг: несчастных отмаливали, окунали в святую воду, привязывали к кровати, выскакивали на них из тьмы, чтобы напугать, опускали в холодную реку, придерживая за щиколотку, хлестали по голове тисовой веткой, зарывали с макушки до пят в теплый навоз, вешали вверх ногами на высокое дерево и кружили, пока больного не затошнит, просверливали в черепе дырочку, чтобы выпустить из мозга вредоносный гумор. Ходили слухи, будто по землям аббатства шатаются черти и вселяются в тех, кто съест выросшее на этих землях.
Эмма ахает, силясь за музыкой расслышать предсказание, и бормочет: сперва монастырское зерно объявили негодным для продажи, того и гляди самих монахинь ославят пособницами дьявола. На них и так поглядывают косо: все-то у них не как у людей, они сродницы ведьмам.
Аббатиса велит запрягать лошадей. Они с Мари поедут в поля изгонять нечистую силу.
Утро погожее, над самой травой стелется дымка тумана. Мари наблюдает, как продуваемый ветром простор сменяется густым темным лесом, подступающим к ближайшим полям аббатства. Над вершинами деревьев мелькнула огромная арка, творение рук человека, и тут же скрылась из виду. Мари удивленно ахает, аббатиса говорит, да, это римляне. Кажется, для воды. Эмма мурлычет себе под нос привычный мотив, а Мари с восхищением размышляет о людях настолько великих, что созданное ими пережило их на тысячу лет. Должно быть, человечество обращается в прах: люди нынешние – ничтожества по сравнению с теми, какие жили тысячу лет назад. Римляне, греки – исполины по сравнению с нормандцами или, того хуже, с ничтожными тщедушными англичанами. А еще через тысячу лет люди будут неразумными, как жвачные животные. Мари хотелось бы очутиться среди великих людей прежних времен. Быть может, там она встретила бы близких по духу. И ей не было бы так одиноко.
Почти в сумерках приезжают они на зараженное поле. Мари с аббатисой спешиваются, коротко поют вечерние молитвы; к полю стекаются крестьяне. Мари с аббатисой направляются в дом, где неподвижно лежат, задыхаясь, члены семейства, укравшего рожь. Девица с исхудавшим лицом таращит глаза – так, что не видно век – в закопченный потолок, словно на нем пляшет дьявол. Аббатиса благословляет недужных, после чего Мари уводит ее на поле. Эмма велит людям собраться вокруг зараженной ржи, но факелы пока что не зажигать, и каждый, кто еще может держать в руках лопату или грабли, пусть принесет их с собой.
Чудесная перемена совершается с аббатисой: она подбирается, словно выходит за пределы своего худощавого тела. Эмма стоит в последних лучах солнца, сочащихся сквозь деревья, ее бледный лик виден даже тем, кто в фурлонге[12] от нее. Эмма поднимает руки. Голос ее становится громче, глубже, она произносит нараспев молитву по-латыни, Мари никогда ее не слышала и не читала. Амен, восклицает аббатиса, кивает, Мари своим факелом зажигает факелы тех, кто стоит рядом с нею, а те – факелы соседей, пламя пылает в сгущающейся темноте, и вот уже поле окружают точки света. Аббатиса с криком роняет руки, и все опускают факелы. Маслянистая рожь занимается быстро, кролики и птицы порскают в разные стороны. Мимо Мари юркает с писком полевка, Мари догоняет мышь и давит ее башмаком, потому что ее крохотное тельце объято огнем. Наконец пламя – его сбивают лопатами, чтобы не перекинулось на незараженные посевы, – угасает, аббатиса и приоресса становятся на колени и читают молитвы. Прочие скрываются в темноте: идут спать.
Две монахини всю ночь молятся на тлеющем поле; на рассвете дым рассеивается. Мари бьет озноб, у нее болит все тело, она лютой ненавистью ненавидит столь бессмысленные страдания. Чтобы отвлечься от боли, Мари молилась за каждую из монахинь, прозревала мысленным взором их слабости. Постепенно она решила, что не станет делать так, как аббатиса, не станет назначать послушания по слабостям: Мари будет поручать сестрам труд по их силе. Хватит больным монахиням кашлять в полях, слабым – развешивать мокрые простыни, хватит Годе устраивать диспуты, хватит сестре Люси доить коров: та плачет от страха, ведь ее сестре корова размозжила копытом голову. Сколько времени потеряно даром из-за немощи и неохоты. Нет ничего дурного, рассуждает Мари, в том, чтобы гордиться своими трудами. Никто и никогда не убедит ее в пользе уничижения. Бог соделал все так хорошо, наверняка Ему угодно, чтобы люди делали дела на славу.
Наконец показывается краешек солнца, Мари помогает Эмме подняться с колен и едва ли не на себе несет пожилую женщину во двор, где оставили лошадей.
На прощание аббатиса раздает указания: в следующие три года на этом поле сеять только пшеницу, на северном его краю воздвигнуть высокий деревянный крест, чтобы отпугнуть нечистую силу. Хозяйка дома берет ледяные руки аббатисы в свои ладони и растирает их, пока Эмма не перестает дрожать.
Провизию, привезенную из обители, они оставляют изнуренным крестьянам и уезжают голодными. Отъехав от деревни на достаточное расстояние, чтобы никто не слышал, Мари спрашивает у Эммы, где она научилась изгонять нечистую силу с полей. Ни в одной известной Мари книге не описан такой обряд.
Измученная аббатиса бледна. Разумеется, я его выдумала, с улыбкой отвечает Эмма. Любой обряд влечет за собой катарсис, Мари. Мистические деяния порождают мистические верования. И, убаюканная покачиванием коренастой своей лошаденки, аббатиса погружается в дрему.
Так вот в чем подлинный смысл этой ночи, осеняет Мари. Женщины уязвимы в этом мире, уцелеть им помогает лишь репутация. Аббатису не трогали страдания голодающих монахинь, однако под угрозой дурных слухов она встрепенулась и принялась за дело.
И Мари понимает Алиенору, та всегда окружала себя новыми и новыми стенами – богатства, родовитости, брака, друзей, советчиков, соглядатаев, и внешней стеной служила ее репутация: королева поддерживала ее, не жалея денег. Власть женщины не выходит за определенные пределы, и мудрая Алиенора понимает, что должна отыскать свободу в таком неприступном виде. Перед глазами Мари мелькает образ: она сама, крохотная, лезет на стену; ничего, однажды она возьмет приступом бастион королевы, однажды она очутится внутри, где не дует ветер.
Я приму Алиенору за образец, размышляет Мари, и найду свою цель в жизни, в этом аббатстве, которое так ненавижу. Я окружу себя стеною богатства, друзей, доброго незапятнанного имени, и за этой стеной мои слабые сестры окажутся в безопасности. Мари вылепит из себя подобие королевы. Аббатиса храпит, лошадь пускает ветры, день тянется, мысли Мари скачут, мелькают: она планирует будущее.
Мари постригают в монахини на Вознесение; ночь накануне она спит беспокойно, ей снится, будто широкую реку ее детства жарким летним днем вдруг сковал лед, он сияет на солнце, слепит глаза. Утром того дня, когда должно окончиться ее недолгое новициатство, Мари сама не своя от жары и тревоги. От беспокойства она даже не слышит мессу, не видит и не чувствует радости на лицах сердечно улыбающихся ей монахинь, это невыносимо, она опускает глаза, она не будет видеть ничего, кроме того, что в руках, в одной сложенный хабит, в другой незажженная свечка; Мари следует за Руфью и Лебединой Шеей, когда они с великой торжественностью удаляются, чтобы облачиться в хабиты и, затеплив свечи, возвращаются к алтарю, Мари в отчаянии, она молится о том, чтобы свеча не погасла, наконец произносят благословение – Accipe virgo Christi velamen virginitatis[13], – окропляют святой водой, на голову Мари опускается тяжелое черное покрывало. Цвет смерти, думает она, цвет ночи, отчаяния. И все равно разжимает пальцы, чтобы принять в дар кольцо.
Новоиспеченным невестам Христовым полагается провести три дня в молчании, а потом устраивают дивный пир. Мари и две ее сестры, зардевшись, сидят во главе стола.
Мари перешла из времени в вечность, посвятила себя этому запущенному жуткому месту, этим женщинам, которых едва знает. В ней и правда совершилась перемена, но настолько неуловимая, что, как ни пытается Мари ее ухватить, повернуть, рассмотреть, у нее ничего не выходит.
По ночам в дортуаре в ее душу закрадывается сомнение, ее охватывает мрачнейшая горечь: она допустила ошибку, позволив похоронить себя заживо. Из краешков ее глаз на виски стекают слезы, их впитывает в себя ткань, все еще пахнущая овцами, из чьей шерсти ее спряли, и теми руками, что соткали и сшили хабит.
Теперь Мари кажется, что она, как ни старается, никогда ничего не успевает. Чем дольше она в обители, тем быстрее летит время.
Вздохнуть некогда: первые годы Мари борется за то, чтобы ее монахини хотя бы не умерли с голоду. Дни напролет она в разъездах: к арендаторам, к дворянам, в поля. До крупы добрались крысы, у нетелей растет зоб, а на загривке ссыхается плоть, половина урожая яблок погибла, потому что из-за поздних заморозков с деревьев опали цветы, сыр отдает горечью, кто-то ищет Мари, вечно ищет Мари, побыть в одиночестве ей удается лишь когда она едет куда-то. Спит она мало. А когда просыпается, мысли ее уже скачут во весь опор. После утрени уже не ложится, в эти часы она пишет письма – ухаживает за садом друзей, оставшихся в большом мире. Она оказывает услуги: в каждой семье найдется хоть одна дочь или племянница, девица, питающая отвращение к браку, в каждом доме радуются монастырскому меду, мылу и элю, а также молитвам за покойных ближних.
Сестра Эльфхильда умирает от золотухи, горло так распухло, что бедняжка задохнулась.
Мари навидалась мертвых тел. Мать, а во время крестового похода – тетка Евфимия, ее так мучила жажда, что она не дождалась, пока закипит вода, выпила зараженную, три дня ее несло, а на четвертый ее нашли мертвой на ложе – подол юбки задран выше пояса, по глазу ползет муха. Вскоре женщины повернули назад, не бывать им в Иерусалиме, они дожидались корабль, который отвезет их обратно во Францию, и тетка Онорина – та, что с кречетами – рассеянно почесала ногу; никто и подумать не мог, к чему это приведет, пока женщины не пошли в мыльню и тамошняя служанка не выпроводила их оттуда, крича на своем языке. Нога у тетки пожелтела, потом почернела, покраснела от гноя и гнили; три дня на том душном и гнусном постоялом дворе Онорина, всю жизнь молчаливая, бесновалась и богохульствовала, так что пришлось засунуть ей в рот удила, чтобы ее утихомирить. Когда Онорина испустила последний вздох, птицы захлопали широкими крыльями и издали вопль, похожий на бабий плач. Онорины не стало.
И все же смерть монахини потрясла Мари: у Эльфхильды на шее вскочили крупные черные желваки, Мари омывала несчастную, задерживая дыхание, чтобы не стошнило.
В тот же день – словно Эльфхильда была горевестником – Мари прислали короткую анонимную записку из дворца с известием о тяжелой болезни императрицы Матильды.
“Ты знакома с Матильдой? – недоверчиво спросила Эмма. – Мне всегда нравилась эта королева. Воительница. А какие истории о ней рассказывают! Как она всю ночь шла по льду реки, чтобы ее не поймали. Я обожала их, обожала непокорную королеву”. Эмма весело напевает.
Не то чтобы знала, отвечает Мари. Нет, я с ней незнакома. Она жена моего… Того, кто… В некотором смысле она моя мачеха, но… А впрочем, пустое. После того как меня вышвырнули из материнских владений, я ездила к ней однажды.
И она рассказывает аббатисе, что, когда родственники матери явились выкурить ее из материного замка – Мари как бастардка не имела права его наследовать, – она бежала со всеми фамильными деньгами и драгоценностями, какие удалось унести в сундуке, с кречетом, лошадью и Цецилией, с болью в сиротском сердце. Победительницами ехали они ночью по сельской местности.
Очень скоро они прибыли в Руан. Сгорбленный, подозрительный город провожал их злобной ухмылкой. На дороге блестели лиловые кишки какого-то крупного зверя, стороживший их огромный пес скалил зубы. Дворец императрицы Матильды в королевском парке Кевийи. Пугающе маленький, чересчур аккуратный.
Гобелены трачены молью, мебель плотная, темная.
После длительного ожидания в залу, шелестя юбками, явилась императрица: иссохшая оболочка женщины с мелкими чертами, сдавленными в середину лица. В ту пору, когда Алиенора из постели Франции перепрыгнула в постель Англии, именно эта императрица – новая свекровь Алиеноры и почти не мачеха Мари – наставляла королеву в искусстве управления государством. Мари изумилась, что эта крохотная трясущаяся женщина некогда командовала армиями, добивалась расположения союзников, была коронована и в Риме, и в Лондоне, пережила не одну осаду и пешком переходила по льду реки, лишь бы не признать свое поражение. Теперь, казалось, стоит ветру подуть, и она улетит, как листок. Впрочем, хватит и чиха.
Будешь звать меня императрицей, сказала старуха, не предложив Мари сесть. Не мачехой, никаких мачех. Они с Мари не родственницы, однако же эта бастардка, плод насилия, явилась сюда. Впрочем, императрица никому не ставит в укор незаконнорожденность: лучшие люди были бастардами, даже многие из ее братьев и сестер. Даже лучшие из них. Однако она никогда не любила зря тратить деньги, не хотела их тратить, не просила их тратить, да пришлось, потому что у нее одной были деньги, когда случилось это. Изнасилование. Поначалу, когда мать Мари написала Матильде с просьбой о помощи, предчувствуя скорую гибель, императрица решила, что заберет Мари к себе, но вот Мари здесь, и Матильда рада, что тогда передумала. Высоченная деревенщина с листьями в волосах, и воняет от нее, если честно, нестерпимо. Подойди ближе, велела императрица, хочу тебя рассмотреть. Нет, стой на свету, только повернись ко мне. Нет, Мари никуда не годится, благослови ее Матерь Божия, никуда, такая высокая, если честно, это попросту неприлично. Выше на три головы нормального женского роста, упирается маковкой в потолочную балку, тощая, словно цапля. Захлопает крыльями и улетит в небо. Все-таки правильно, что Мари собирается в Англетерру, если б не императрица, в тамошних краях, сказать по правде, обитали бы лишь кабаны, кельты и сам дьявол, императрица лично спасла эту дикую глушь. Нет-нет, Матильда уже слишком стара и не оставит Мари у себя, не сумеет привить ей женственные манеры, после того как Мари всю жизнь провела в обществе своих знаменитых теток-мужичек. Этих страшилищ. Как удачно, что невестка императрицы, Алиенора, окультурит Мари быстро-быстро, о, уж она-то не потерпит рядом с собой деревенщину, Алиенора набелит это лицо пудрой из корня лилии, подведет эти глаза, обрядит это гадкое тело в достойное платье, в этих ужасных старых платьях Мари буквально тонет, просто посмешище. Жаль благородной крови, жаль крови, что течет в детях императрицы. Мари ничуть не похожа на своих братьев и сестер, разве что подбородок, рост, нос, лоб, волосы и немного глаза. Никогда, никогда Мари не составит удачную партию: нечего и мечтать. Только представьте Мари в драгоценностях, это же просто смешно! Ряженое пугало, невозможно, ха-ха-ха-ха-ха. Ох, добавила императрица, надо приказать подать вина, да побольше, судя по этой девчонке, она способна сожрать трех коров от морды до хвоста, и в ее животе еще останется место для гуся. Принесите еды, крикнула императрица в двери, да побольше, чтобы хватило на четверых здоровяков. Почему ты стоишь, раздраженно спросила императрица. Мари села. Долгая тишина, ожидание, в камине трещат поленья.
