Затерянный мир
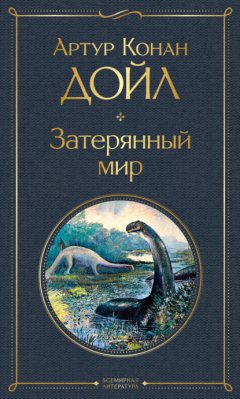
- Вот бесхитростный рассказ,
- И пусть он позабавит вас —
- Вас, юношей и ветеранов,
- Кому стареть пока что рано.
Глава I
Человек – сам творец своей славы
Мистер Хангертон, отец моей Глэдис, отличался невероятной бестактностью и был похож на распушившего перья неопрятного какаду, правда, весьма добродушного, но занятого исключительно собственной особой. Если что-нибудь могло оттолкнуть меня от Глэдис, так только крайнее нежелание обзавестись глуповатым тестем. Я убежден, что мои визиты в «Каштаны» три раза на неделе мистер Хангертон приписывал исключительно ценности своего общества и в особенности своих рассуждений о биметаллизме – вопросе, в котором он мнил себя крупным знатоком.
В тот вечер я больше часу выслушивал его монотонное чириканье о снижении стоимости серебра, обесценивании денег, падении рупии и о необходимости установления правильной денежной системы.
– Представьте себе, что вдруг потребуется немедленная и одновременная уплата всех долгов в мире! – воскликнул он слабеньким, но преисполненным ужаса голосом. – Что тогда будет при существующем порядке вещей?
Я, как и следовало ожидать, сказал, что в таком случае мне грозит разорение, но мистер Хангертон, недовольный моим ответом, вскочил с кресла, отчитал меня за мое всегдашнее легкомыслие, лишающее его возможности обсуждать со мной серьезные вопросы, и выбежал из комнаты переодеваться к масонскому собранию.
Наконец-то я остался наедине с Глэдис! Минута, от которой зависела моя дальнейшая судьба, наступила. Весь этот вечер я чувствовал себя как солдат, ожидающий сигнала к атаке, когда надежда на победу сменяется в его душе страхом перед поражением.
Глэдис сидела у окна, и ее гордый тонкий профиль оттеняла малиновая штора. Как она была прекрасна! И в то же время как далека от меня! Мы с ней были друзьями, большими друзьями, но мне никак не удавалось увести ее за пределы тех отношений, какие я мог поддерживать с любым из моих коллег-репортеров «Дейли-газетт», – чисто товарищеских, добрых и не знающих разницы между полами. Мне претит, когда женщина держится со мной слишком свободно, слишком смело. Это не делает чести мужчине. Если возникает чувство, ему должна сопутствовать скромность, настороженность – наследие тех суровых времен, когда любовь и жестокость часто шли рука об руку. Не дерзкий взгляд, а уклончивый, не бойкие ответы, а срывающийся голос, опущенная долу головка – вот истинные приметы страсти. Несмотря на свою молодость, я знал это, а может быть, такое знание досталось мне от моих далеких предков и стало тем, что мы называем инстинктом.
Глэдис была одарена всеми качествами, которые так привлекают нас в женщине. Некоторые считали ее холодной и черствой, но мне такие мысли казались предательством. Нежная кожа, смуглая, почти как у восточных женщин, волосы цвета воронова крыла, глаза с поволокой, полные, но прекрасно очерченные губы – все это говорило о страстной натуре. Однако я с грустью признавался себе, что до сих пор мне не удалось завоевать ее любовь. Но будь что будет – довольно неизвестности! Сегодня вечером я добьюсь от нее ответа. Может быть, она откажет мне, но лучше быть отвергнутым поклонником, чем довольствоваться ролью скромного братца!
Вот какие мысли бродили у меня в голове, и я уже хотел было прервать затянувшееся неловкое молчание, как вдруг почувствовал на себе критический взгляд темных глаз и увидел, что Глэдис улыбается, укоризненно качая своей гордой головкой.
– Чувствую, Нэд, что вы собираетесь сделать мне предложение. Не надо. Пусть все будет по-старому, так гораздо лучше.
Я придвинулся к ней поближе.
– Почему вы догадались? – Удивление мое было неподдельно.
– Как будто мы, женщины, не чувствуем этого заранее! Неужели вы думаете, что нас можно застигнуть врасплох? Ах, Нэд! Мне было так хорошо и приятно с вами! Зачем же портить нашу дружбу? Вы совсем не цените, что вот мы – молодой мужчина и молодая женщина – можем так непринужденно говорить друг с другом.
– Право, не знаю, Глэдис. Видите ли, в чем дело… столь же непринужденно я мог бы беседовать… ну, скажем, с начальником железнодорожной станции. – Сам не понимаю, откуда он взялся, этот начальник, но факт остается фактом: это должностное лицо вдруг выросло перед нами и рассмешило нас обоих. – Нет, Глэдис, я жду гораздо большего. Я хочу обнять вас, хочу, чтобы ваша головка прижалась к моей груди. Глэдис, я хочу…
Увидев, что я собираюсь осуществить свои слова на деле, Глэдис быстро поднялась с кресла.
– Нэд, вы все испортили! – сказала она. – Как бывает хорошо и просто до тех пор, пока не приходит это! Неужели вы не можете взять себя в руки?
– Но ведь не я первый это придумал! – взмолился я. – Такова человеческая природа. Такова любовь.
– Да, если любовь взаимна, тогда, вероятно, все бывает по-другому. Но я никогда не испытывала этого чувства.
– Вы с вашей красотой, с вашим сердцем! Глэдис, вы же созданы для любви! Вы должны полюбить!
– Тогда надо ждать, когда любовь придет сама.
– Но почему вы не любите меня, Глэдис? Что вам мешает – моя наружность или что-нибудь другое?
И тут Глэдис немного смягчилась. Она протянула руку – сколько грации и снисхождения было в этом жесте! – и отвела назад мою голову. Потом с грустной улыбкой посмотрела мне в лицо.
– Нет, дело не в этом, – сказала она. – Вы мальчик не тщеславный, и я смело могу признаться, что дело не в этом. Все гораздо серьезнее, чем вы думаете.
– Мой характер?
Она сурово наклонила голову.
– Я исправлюсь, скажите только, что вам нужно. Садитесь, и давайте все обсудим. Ну, не буду, не буду, только сядьте!
Глэдис взглянула на меня, словно сомневаясь в искренности моих слов, но мне ее сомнение было дороже полного доверия. Как примитивно и глупо выглядит все это на бумаге! Впрочем, может, мне только так кажется? Как бы там ни было, но Глэдис села в кресло.
– Теперь скажите, чем вы недовольны?
– Я люблю другого.
Настал мой черед вскочить с места.
– Не пугайтесь, я говорю о своем идеале, – пояснила Глэдис, со смехом глядя на мое изменившееся лицо. – В жизни мне такой человек еще не попадался.
– Расскажите же, какой он! Как он выглядит?
– Он, может быть, очень похож на вас.
– Какая вы добрая! Тогда чего же мне не хватает? Достаточно одного вашего слова! Что он – трезвенник, вегетарианец, аэронавт, теософ, сверхчеловек? Я согласен на все, Глэдис, только скажите мне, что вам нужно!
Такая податливость рассмешила ее.
– Прежде всего вряд ли мой идеал стал бы так говорить. Он натура гораздо более твердая, суровая и не захочет с такой готовностью приспосабливаться к глупым женским капризам. Но что самое важное – он человек действия, человек, который безбоязненно взглянет смерти в глаза, человек великих дел, богатый опытом, и необычным опытом. Я полюблю не его самого, но его славу, потому что отсвет ее падет и на меня. Вспомните Ричарда Бертона. Когда я прочла биографию этого человека, написанную его женой, мне стало понятно, за что она любила его. А леди Стенли? Вы помните замечательную последнюю главу из ее книги о муже? Вот перед какими мужчинами должна преклоняться женщина! Вот любовь, которая не умаляет, а возвеличивает, потому что весь мир будет чтить такую женщину как вдохновительницу великих деяний!
Глэдис была так прекрасна в эту минуту, что я чуть было не нарушил возвышенного тона нашей беседы, однако вовремя сдержал себя и продолжал спор.
– Не всем же быть Бертонами и Стенли, – сказал я. – Да и возможности такой не представляется. Мне, во всяком случае, не представилось, а я бы ею воспользовался!
– Нет, такие случаи представляются на каждом шагу. В том-то и сущность моего идеала, что он сам идет навстречу подвигу. Его не остановят никакие препятствия. Я еще не нашла такого героя, но вижу его как живого. Да, человек – сам творец своей славы. Мужчины должны совершать подвиги, а женщины – награждать героев любовью. Вспомните того молодого француза, который несколько дней назад поднялся на воздушном шаре. В то утро бушевал ураган, но подъем был объявлен заранее, и он ни за что не захотел его откладывать. За сутки воздушный шар отнесло на полторы тысячи миль, куда-то в самый центр России, где этот смельчак и опустился. Вот о таком человеке я и говорю. Подумайте о женщине, которая его любит. Какую, наверно, она возбуждает зависть у других! Пусть же мне тоже завидуют, что у меня муж – герой!
– Ради вас я сделал бы то же самое!
– Только ради меня? Нет, это не годится! Вы должны пойти на подвиг потому, что иначе не можете, потому, что такова ваша природа, потому, что мужское начало в вас требует своего выражения. Вот, например, вы писали о взрыве на угольной шахте в Вигане. А почему вам было не спуститься туда самому и не помочь людям, которые задыхались от удушливого газа?
– Я спускался.
– Вы ничего об этом не рассказывали.
– А что тут особенного?
– Я этого не знала. – Она с интересом посмотрела на меня. – Смелый поступок!
– Мне ничего другого не оставалось. Если хочешь написать хороший очерк, надо самому побывать на месте происшествия.
– Какой прозаический мотив! Это сводит на нет всю романтику. Но все равно, я очень рада, что вы спускались в шахту.
Я не мог не поцеловать протянутой мне руки – столько грации и достоинства было в этом движении.
– Вы, наверное, считаете меня сумасбродкой, не расставшейся с девическими мечтами. Но они так реальны для меня! Я не могу не следовать им – это вошло в мою плоть и кровь. Если я когда-нибудь выйду замуж, то только за знаменитого человека.
– Как же может быть иначе! – воскликнул я. – Кому же и вдохновлять мужчин, как не таким женщинам! Пусть мне только представится подходящий случай, и тогда посмотрим, сумею ли я воспользоваться им. Вы говорите, что человек должен сам творить свою славу, а не ждать, когда она придет ему в руки. Да вот хотя бы Клайв! Скромный клерк, а покорил Индию! Нет, клянусь вам, я еще покажу миру, на что я способен!
Глэдис рассмеялась над вспышкой моего ирландского темперамента.
– Что ж, действуйте. У вас есть для этого все – молодость, здоровье, силы, образование, энергия. Мне стало очень грустно, когда вы начали этот разговор. А теперь я рада, что он пробудил в вас такие мысли.
– А если я…
Ее рука, словно мягкий бархат, коснулась моих губ.
– Ни слова больше, сэр! Вы и так уже на полчаса опоздали в редакцию! У меня просто не хватало духу напомнить вам об этом. Но со временем, если вы завоюете себе место в мире, мы, может быть, возобновим наш сегодняшний разговор.
И вот почему я, такой счастливый, догонял в тот туманный ноябрьский вечер кемберуэллский трамвай, твердо решив не упускать ни одного дня в поисках великого деяния, которое будет достойно моей прекрасной дамы. Но кто мог предвидеть, какие невероятные формы примет это деяние и какими странными путями я приду к нему.
Читатель, пожалуй, скажет, что эта вводная глава не имеет никакой связи с моим повествованием, но без нее не было бы и самого повествования, ибо кто, как не человек, воодушевленный мыслью, что он сам творец своей славы, и готовый на любой подвиг, способен так решительно порвать с привычным образом жизни и пуститься наугад в окутанную таинственным сумраком страну, где его ждут великие приключения и великая награда за них!
Представьте же себе, как я, пятая спица в колеснице «Дейли-газетт», провел этот вечер в редакции, когда в голове моей созрело непоколебимое решение: если удастся, сегодня же найти возможность совершить подвиг, который будет достоин моей Глэдис. Что руководило этой девушкой, заставившей меня рисковать жизнью ради ее прославления, – бессердечие, эгоизм? Такие мысли могут смущать в зрелом возрасте, но никак не в двадцать три года, когда человек познает пыл первой любви.
Глава II
Попытайте счастье у профессора Челленджера
Я всегда любил нашего редактора отдела «Последние новости», рыжего ворчуна Мак-Ардла, и полагаю, что он тоже неплохо ко мне относился. Нашим настоящим властелином был, разумеется, Бомонт, но он обычно обитал в разреженной атмосфере олимпийских высот, откуда взору его открывались только такие события, как международные кризисы или крах кабинета министров. Иногда мы видели, как он величественно шествует в свое святилище, устремив взгляд в пространство и витая мысленно где-нибудь на Балканах или в Персидском заливе. Для нас Бомонт оставался недосягаемым, и мы обычно имели дело с Мак-Ардлом, который был его правой рукой.
Когда я вошел в редакцию, старик кивнул мне и сдвинул очки на лысину.
– Ну-с, мистер Мелоун, судя по всему, что мне приходится слышать, вы делаете успехи, – приветливо сказал он.
Я поблагодарил его.
– Ваш очерк о взрыве на шахте превосходен. То же самое могу сказать и про корреспонденцию о пожаре в Саутуорке. У вас все данные хорошего журналиста. Вы пришли по какому-нибудь делу?
– Хочу попросить вас об одном одолжении.
Глаза у Мак-Ардла испуганно забегали по сторонам.
– Гм! Гм! А в чем дело?
– Не могли бы вы, сэр, послать меня с каким-нибудь поручением от нашей газеты? Я сделаю все, что в моих силах, и привезу вам интересный материал.
– А какое поручение вы имеете в виду, мистер Мелоун?
– Любое, сэр, лишь бы оно было сопряжено с приключениями и опасностями. Я не подведу газету, сэр. И чем труднее мне будет, тем лучше.
– Вы, кажется, не прочь распроститься с жизнью?
– Нет, я не хочу, чтобы она прошла впустую, сэр.
– Дорогой мой мистер Мелоун, вы уж слишком… слишком воспарили. Времена не те. Расходы на специальных корреспондентов перестали оправдывать себя. И, во всяком случае, такие поручения даются человеку с именем, который уже завоевал доверие публики. Белые пятна на карте давно заполнены, а вы ни с того ни с сего размечтались о романтических приключениях! Впрочем, постойте, – добавил он и вдруг улыбнулся. – Кстати, о белых пятнах. А что, если мы развенчаем одного шарлатана, современного Мюнхгаузена, и поднимем его на смех? Отчего бы вам не разоблачить его ложь? Это будет неплохо. Ну, как вы на это смотрите?
– Что угодно, куда угодно – я готов на все!
Мак-Ардл погрузился в размышления.
– Есть один человек, – сказал он наконец, – только не знаю, удастся ли вам завязать с ним знакомство или хотя бы добиться интервью. Впрочем, у вас, кажется, есть дар располагать к себе людей. Не пойму, в чем тут дело – то ли вы такой уж симпатичный юноша, то ли это животный магнетизм, то ли ваша жизнерадостность, – но я сам на себе это испытал.
– Вы очень добры ко мне, сэр.
– Так вот, почему бы вам не попытать счастья у профессора Челленджера? Он живет в Энмор-Парке.
Должен признаться, что я был несколько озадачен таким предложением.
– Челленджер? Знаменитый зоолог профессор Челленджер? Это не тот, который проломил череп Бланделлу из «Телеграф»?
Редактор отдела «Последние новости» мрачно усмехнулся:
– Что, не нравится? Вы же были готовы на любое приключение.
– Нет, почему же? В нашем деле бывает всякое, сэр, – ответил я.
– Совершенно верно. Впрочем, не думаю, чтобы он всегда бывал в таком свирепом настроении. Бланделл, очевидно, не вовремя к нему попал или не так с ним обошелся. Надеюсь, что вы будете удачливее. Полагаюсь также на присущий вам такт. Это как раз по вашей части, а газета охотно поместит такой материал.
– Я ровным счетом ничего не знаю об этом Челленджере. Помню только его имя в связи с судебным процессом об избиении Бланделла, – сказал я.
– Кое-какие сведения у меня найдутся, мистер Мелоун. В свое время я интересовался этим субъектом. – Он вынул из ящика лист бумаги. – Вот вкратце, что о нем известно: «Челленджер Джордж Эдуард. Родился в Ларгсе в 1863 году. Образование: школа в Ларгсе, Эдинбургский университет. В 1892 году – ассистент Британского музея. В 1893 году – помощник хранителя отдела в Музее сравнительной антропологии. В том же году покинул это место, обменявшись ядовитыми письмами с директором музея. Удостоен медали за научные исследования в области зоологии. Член иностранных обществ…» Ну, тут следует длиннейшее перечисление, строк на десять петита: Бельгийское общество, Американская академия, Ла-Плата и так далее, экс-президент Палеонтологического общества, Британская ассоциация и тому подобное. Печатные труды: «К вопросу о строении черепа калмыков», «Очерки эволюции позвоночных» и множество статей, в том числе «Ложная теория Вейсмана», вызвавшая горячие споры на Венском зоологическом конгрессе. Любимые развлечения: пешеходные прогулки, альпинизм. Адрес: Энмор-Парк, Кенсингтон». Вот, возьмите это с собой. Сегодня я вам больше ничем не могу помочь.
Я спрятал листок в карман и, увидев, что вместо краснощекой физиономии Мак-Ардла на меня смотрит его розовая лысина, сказал:
– Одну минутку, сэр. Мне не совсем ясно, по какому вопросу нужно взять интервью у этого джентльмена. Что он такое совершил?
Глазам моим снова предстала краснощекая физиономия.
– Что он совершил? Два года назад отправился один в экспедицию в Южную Америку. Вернулся оттуда в прошлом году. В Южной Америке побывал несомненно, однако указать точно, где именно, отказывается. Начал было весьма туманно излагать свои приключения, но после первой же придирки замолчал, как устрица. Произошли, по-видимому, какие-то чудеса, если только он не преподносит нам грандиозную ложь, что, кстати сказать, более чем вероятно. Ссылается на испорченные фотографии, как утверждают, фальсифицированные. До того его довели, что он стал буквально кидаться на всех, кто обращается к нему с вопросами, и уже не одного репортера спустил с лестницы. На мой взгляд, это просто-напросто профан, балующийся наукой и к тому же одержимый манией человекоубийства. Вот с кем вам придется иметь дело, мистер Мелоун. А теперь марш отсюда и постарайтесь выжать из него все, что можно. Вы человек взрослый и сумеете постоять за себя. В конце концов, риск не так уж велик, принимая во внимание закон об ответственности работодателей.
Ухмыляющаяся красная физиономия снова скрылась у меня из глаз, и я увидел розовый овал, окаймленный рыжеватым пушком. Наша беседа была закончена.
Я отправился в свой клуб «Дикарь», но по дороге остановился у парапета Адельфи-Террас и в раздумье долго смотрел вниз на темную, подернутую радужными масляными разводами реку. На свежем воздухе мне всегда приходят в голову здравые, ясные мысли. Я вынул лист бумаги с перечнем всех подвигов профессора Челленджера и пробежал его при свете уличного фонаря. И тут на меня нашло вдохновение, иначе это никак не назовешь. Судя по всему, что я уже узнал об этом сварливом профессоре, было ясно: репортеру к нему не пробраться. Но скандалы, дважды упоминавшиеся в его краткой биографии, говорили о том, что он фанатик науки. Так вот, нельзя ли сыграть на этой его слабости? Попробуем!
Я вошел в клуб. Было начало двенадцатого, и в гостиной уже толпился народ, хотя до полного сбора было еще далеко. В кресле у камина сидел какой-то высокий, худой человек. Он повернулся ко мне лицом в ту минуту, когда я пододвинул свое кресло ближе к огню. О такой встрече я мог только мечтать! Это был сотрудник журнала «Природа» – тощий, весь высохший Тарп Генри, добрейшее существо в мире. Я немедленно приступил к делу.
– Что вы знаете о профессоре Челленджере?
– О Челленджере? – Тарп недовольно нахмурился. – Челленджер – это тот самый человек, который рассказывал всякие небылицы о своей поездке в Южную Америку.
– Какие небылицы?
– Да он будто бы открыл там каких-то диковинных животных. В общем, невероятная чушь. В дальнейшем его, кажется, заставили отречься от своих слов. Во всяком случае, он замолчал. Последняя его попытка – интервью, данное Рейтеру. Но оно вызвало такую бурю, что он сразу понял: дело плохо. Вся эта история носит скандальный характер. Кое-кто принял его рассказы всерьез, но вскоре он и этих немногочисленных защитников оттолкнул от себя.
– Каким образом?
– Своей невероятной грубостью и возмутительным поведением. Бедняга Уэдли из Зоологического института тоже нарвался на неприятность. Послал ему письмо такого содержания: «Президент Зоологического института выражает свое уважение профессору Челленджеру и сочтет за любезность с его стороны, если он окажет институту честь присутствовать на его очередном заседании». Ответ был совершенно нецензурный.
– Да не может быть!
– В сильно смягченном виде он звучит так: «Профессор Челленджер выражает свое уважение президенту Зоологического института и сочтет за любезность с его стороны, если он провалится ко всем чертям».
– Господи боже!
– Да, то же самое, должно быть, сказал и старик Уэдли. Я помню его вопль на заседании: «За пятьдесят лет общения с деятелями науки…» Старик совершенно потерял почву под ногами.
– Ну, а что еще вы мне расскажете об этом Челленджере?
– Да ведь я, как вам известно, бактериолог. Живу в мире, который виден в микроскоп, дающий увеличение в девятьсот раз, а то, что открывается невооруженному глазу, меня мало интересует. Я стою на страже у самых пределов Познаваемого, и, когда мне приходится покидать свой кабинет и сталкиваться с людьми, существами неуклюжими и грубыми, это всегда выводит меня из равновесия. Я человек сторонний, мне не до сплетен, но тем не менее кое-что из пересудов о Челленджере дошло и до меня, ибо он не из тех людей, от которых можно просто-напросто отмахнуться. Челленджер – умница. Это сгусток человеческой силы и жизнеспособности, но в то же время он оголтелый фанатик и к тому же не стесняется в средствах для достижения своих целей. Этот человек дошел до того, что ссылается на какие-то фотографии, явно фальсифицированные, утверждая, будто они привезены из Южной Америки.
– Вы назвали его фанатиком. В чем же его фанатизм проявляется?
– Да в чем угодно! Последняя его выходка – нападки на теорию эволюции Вейсмана. Говорят, что в Вене он устроил грандиозный скандал по этому поводу.
– Вы не можете рассказать подробнее, в чем тут дело?
– Нет, сейчас не могу, но у нас в редакции есть переводы протоколов Венского конгресса. Если хотите ознакомиться, пойдемте, я покажу их вам.
– Это было бы очень кстати. Мне поручено взять интервью у этого субъекта, так вот надо подобрать к нему какой-то ключ. Большое вам спасибо за помощь. Если еще не поздно, то пойдемте.
Полчаса спустя я сидел в редакции журнала, а передо мной лежал объемистый том, открытый на статье «Вейсман против Дарвина» с подзаголовком «Бурные протесты в Вене. Оживленные прения». Мои научные познания не отличаются фундаментальностью, поэтому я не мог вникнуть в самую суть спора, тем не менее мне сразу стало ясно, что английский профессор вел его в крайне резкой форме, чем сильно разгневал своих континентальных коллег. Я обратил внимание на первые же три пометки в скобках: «Протестующие возгласы с мест», «Шум в зале», «Общее возмущение». Остальная часть отчета была для меня настоящей китайской грамотой. Я до такой степени мало разбирался в вопросах зоологии, что ничего не понял.
– Вы хоть бы перевели мне это на человеческий язык! – жалобно взмолился я, обращаясь к своему коллеге.
– Да это и есть перевод!
– Тогда я лучше обращусь к оригиналу.
– Действительно, непосвященному трудно понять, в чем тут дело.
– Мне бы только извлечь из всей этой абракадабры одну-единственную осмысленную фразу, которая заключала бы в себе какое-то определенное содержание! Ага, вот эта, кажется, подойдет. Я даже почти понимаю ее. Сейчас перепишем. Пусть она послужит связующим звеном между мной и вашим грозным профессором.
– Больше от меня ничего не потребуется?
– Нет-нет, подождите! Я хочу обратиться к нему с письмом. Если вы разрешите написать его здесь и воспользоваться вашим адресом, это придаст более внушительный тон моему посланию.
– Тогда этот субъект немедленно нагрянет сюда со скандалом и переломает нам всю мебель.
– Нет, что вы! Письмо я вам покажу. Уверяю вас, там не будет ничего оскорбительного.
– Ну что ж, садитесь за мой стол. Бумагу найдете вот здесь. И прежде чем отсылать письмо, дайте его мне на цензуру.
Мне пришлось порядочно потрудиться, но в конце концов результаты получились неплохие. Гордый своим произведением, я прочел его вслух скептически настроенному бактериологу:
– «Глубокоуважаемый профессор Челленджер! Будучи скромным естествоиспытателем, я с глубочайшим интересом следил за теми предположениями, которые Вы высказывали по поводу противоречий между теориями Дарвина и Вейсмана. Недавно мне представилась возможность освежить в памяти Ваше…»
– Бессовестный лгун! – пробормотал Тарп Генри.
– «…Ваше блестящее выступление на Венском конгрессе. Этот предельно четкий по изложенным в нем мыслям доклад следует считать последним словом науки в области естествознания. Однако там есть одно место, а именно: «Я категорически возражаю против неприемлемого и сверхдогматического утверждения, будто каждый обособленный индивид есть микрокосм, обладающий исторически сложившимся строением организма, вырабатывавшимся постепенно в течение многих поколений». Не считаете ли Вы нужным в связи с последними изысканиями в этой области внести некоторые поправки в свою точку зрения? Нет ли в ней некоторой натяжки? Не откажите в любезности принять меня, так как мне крайне важно разрешить этот вопрос, а некоторые возникшие у меня мысли можно развить только в личной беседе. С Вашего позволения, я буду иметь честь посетить Вас послезавтра (в среду) в одиннадцать часов утра. Остаюсь, сэр, Вашим покорным слугой,
уважающий Вас Эдуард Д. Мелоун».
– Ну, как? – торжествующе спросил я.
– Что ж, если ваша совесть не протестует…
– Она меня никогда не подводила.
– Но что вы собираетесь делать дальше?
– Пойду к нему. Мне бы только пробраться в его кабинет, а там я соображу, как надо действовать. Может быть, даже придется чистосердечно во всем покаяться. Если в нем есть спортивная жилка, я ему только угожу этим.
– Угодите? Берегитесь, как бы он в вас сам не угодил чем-нибудь тяжелым. Советую вам облачиться в кольчугу или в американский футбольный костюм. Ну, всего хорошего. Ответ будет ждать вас здесь в среду утром, если только он соблаговолит ответить. Это свирепый, опасный субъект, предмет всеобщей неприязни и посмешище для студентов, поскольку они не боятся дразнить его. Для вас, пожалуй, было бы лучше, если б вы никогда и не слыхали о нем.
Глава III
Это совершенно невозможный человек!
Опасениям или надеждам моего друга не суждено было оправдаться. Когда я зашел к нему в среду, меня ждало письмо с кенсингтонским штемпелем. Адрес был нацарапан почерком, похожим на колючую проволоку. Содержание письма было следующее:
«Энмор-Парк, Кенсингтон.
Сэр.
Я получил Ваше письмо, в котором Вы заверяете меня, что поддерживаете мою точку зрения, каковая, впрочем, не нуждается ни в чьей поддержке. Говоря о моей теории по поводу дарвинизма, Вы взяли на себя смелость употребить слово «предположения». Считаю необходимым отметить, что в данном контексте оно является до некоторой степени оскорбительным. Впрочем, содержание Вашего письма убеждает меня, что Вас можно обвинить скорее в невежестве и бестактности, чем в каких-либо дурных намерениях, а посему это пройдет Вам безнаказанным. Вы цитируете выхваченную из моего доклада фразу и, видимо, не совсем понимаете ее. Мне казалось, что смысл этой фразы может остаться неясным только для существа, стоящего на самой низшей ступени развития, но если она действительно требует дополнительного толкования, то я согласен принять Вас в указанное Вами время, хотя всякие посещения и всякие посетители мне крайне неприятны. Что же касается «некоторых поправок» к моей теории, то да будет Вам известно, что, высказав по зрелом рассуждении свои взгляды, я не имею привычки менять их. Когда Вы придете, будьте любезны показать конверт от этого письма моему лакею Остину, ибо ему вменяется в обязанность ограждать меня от навязчивых негодяев, именующих себя репортерами.
Уважающий Вас
Джордж Эдуард Челленджер».
Таков был полученный мною ответ, и я прочитал его вслух Тарпу Генри, который нарочно пришел пораньше в редакцию, чтобы узнать результаты моей смелой попытки. Тарп ограничился лишь следующим замечанием:
– Говорят, есть какое-то кровоостанавливающее средство – кутикура или что-то в этом роде, – действует лучше арники.
Странным и непонятным чувством юмора наделены некоторые люди!
Я получил письмо в половине одиннадцатого, но кеб без опозданий доставил меня к месту моего назначения. Дом, у которого мы остановились, был весьма внушительного вида, с большим порталом и тяжелыми шторами на окнах, что свидетельствовало о благосостоянии этого грозного профессора. Дверь мне открыл смуглый, сухонький человек неопределенного возраста, в черной матросской куртке и коричневых кожаных гетрах. Впоследствии я узнал, что это был шофер, которому приходилось выполнять самые разнообразные обязанности, так как лакеи в этом доме не уживались. Его светло-голубые глаза испытующе оглядели меня с головы до ног.
– Вас ожидают? – спросил он.
– Да, мне назначено.
– Письмо при вас?
Я показал конверт.
– Правильно.
Этот человек явно не любил тратить слов попусту. Я последовал за ним по коридору, как вдруг навстречу мне из дверей, ведущих, должно быть, в столовую, быстро вышла женщина. Живая, черноглазая, она походила скорее на француженку, чем на англичанку.
– Одну минутку, – сказала эта леди. – Подождите, Остин. Пройдите сюда, сэр. Разрешите вас спросить, вы встречались раньше с моим мужем?
– Нет, сударыня, не имел чести.
– Тогда я заранее приношу вам свои извинения. Должна вас предупредить, что это совершенно невозможный человек, в полном смысле слова невозможный! Зная это, вы будете снисходительнее к нему.
– Я ценю такое внимание, сударыня.
– Как только вы заметите, что он начинает выходить из себя, сейчас же бегите вон из комнаты. Не перечьте ему. За такую неосторожность уже многие поплатились. А потом дело получает огласку, и это очень плохо отражается и на мне, и на всех нас. О чем вы собираетесь говорить с ним – не о Южной Америке?
Я не могу лгать женщинам.
– Боже мой! Это самая опасная тема. Вы не поверите ни единому его слову, и, по правде сказать, это вполне естественно. Только не выражайте своего недоверия вслух, а то он начнет буйствовать. Притворитесь, что верите ему, тогда, может быть, все сойдет благополучно. Не забывайте, он убежден в собственной правоте. В этом вы можете не сомневаться. Он сама честность. Теперь идите – как бы ему не показалась подозрительной такая задержка, – а когда увидите, что он становится опасен, по-настоящему опасен, позвоните в колокольчик и постарайтесь сдержать его до моего прихода. Я обычно справляюсь с ним даже в самые тяжелые минуты.
С этим ободряющим напутствием леди передала меня на попечение молчаливого Остина, который во время нашей краткой беседы стоял, словно вылитая из бронзы статуя, олицетворяющая величайшую скромность. Он повел меня дальше. Стук в дверь, ответный рев разъяренного быка изнутри, и я оказался лицом к лицу с профессором.
Он сидел на вращающемся стуле за широким столом, заваленным книгами, картами, чертежами. Как только я переступил порог, вращающийся стул круто повернулся. У меня перехватило дыхание при виде этого человека. Я был готов встретить не совсем обычную личность, но такое мне даже не мерещилось. Больше всего поражали его размеры. Размеры и величественная осанка. Такой огромной головы мне в жизни не приходилось видеть. Если б я осмелился примерить его цилиндр, то, наверно, ушел бы в него по самые плечи. Лицо и борода профессора невольно вызывали в уме представление об ассирийских быках. Лицо большое, мясистое, борода квадратная, иссиня-черная, волной спадающая на грудь. Необычное впечатление производили и волосы – длинная прядь, словно приклеенная, лежала на его высоком, крутом лбу. У него были ясные серо-голубые глаза под мохнатыми черными бровями, и он взглянул на меня критически и весьма властно. Я увидел широчайшие плечи, могучую грудь колесом и две огромных руки, густо заросшие длинными черными волосами. Если прибавить ко всему этому раскатисто-рыкающий, громоподобный голос, то вы поймете, каково было мое первое впечатление от встречи со знаменитым профессором Челленджером.
– Ну? – сказал он, с вызывающим видом уставившись на меня. – Что вам угодно?
Мне стало ясно, что если я сразу во всем признаюсь, то это интервью не состоится.
– Вы были настолько добры, сэр, что согласились принять меня, – смиренно начал я, протягивая ему конверт.
Он вынул из ящика стола мое письмо и положил его перед собой.
– Ах, вы тот самый молодой человек, который не понимает азбучных истин? Однако, насколько я могу судить, мои общие выводы удостоились вашей похвалы?
– Безусловно, сэр, безусловно! – Я постарался вложить в эти слова всю силу убеждения.
– Скажите пожалуйста! Как это подкрепляет мои позиции! Ваш возраст и ваша внешность делают такую поддержку вдвойне ценной. Ну что ж, лучше уж иметь дело с вами, чем со стадом свиней, которые набросились на меня в Вене, хотя их визг не более оскорбителен, чем хрюканье английского борова. – И он яростно сверкнул на меня глазами, сразу сделавшись похожим на представителя вышеупомянутого племени.
– Они, кажется, вели себя возмутительно, – сказал я.
– Ваше сочувствие неуместно! Смею вас уверить, что я сам могу справиться со своими врагами. Приприте Джорджа Эдуарда Челленджера спиной к стене, сэр, и большей радости вы ему не доставите. Так вот, сэр, давайте сделаем все возможное, чтобы сократить ваш визит. Вас он вряд ли осчастливит, а меня и подавно. Насколько я понимаю, вы хотели высказать какие-то свои соображения по поводу тех тезисов, которые я выдвинул в докладе.
В его манере разговаривать была такая бесцеремонная прямолинейность, что хитрить с ним оказалось нелегко. Все-таки я решил затянуть эту игру в расчете на то, что мне представится возможность сделать лучший ход. На расстоянии все складывалось так просто! О, моя ирландская находчивость, неужели ты не поможешь мне сейчас, когда я больше всего в тебе нуждаюсь? Пронзительный взгляд стальных глаз лишал меня сил.
– Ну-с, не заставляйте себя ждать! – прогремел профессор.
– Я, разумеется, только начинаю приобщаться к науке, – сказал я с глупейшей улыбкой, – и не претендую на большее, чем звание скромного исследователя. Тем не менее мне кажется, что в этом вопросе вы проявили излишнюю строгость к Вейсману. Разве полученные с тех пор доказательства не… не укрепляют его позиции?
– Какие доказательства? – Он проговорил это с угрожающим спокойствием.
– Мне, разумеется, известно, что прямых доказательств пока еще нет. Я ссылаюсь, если можно так выразиться, на общий ход современной научной мысли.
Профессор наклонился над столом, устремив на меня сосредоточенный взгляд.
– Вам должно быть известно, – сказал он, загибая по очереди пальцы на левой руке, – что, во-первых, черепной указатель есть фактор постоянный.
– Безусловно! – ответил я.
– И что телегония пока еще sub judice?
– Несомненно!
– И что зародышевая плазма отличается от партеногенетического яйца?
– Ну еще бы! – воскликнул я, восхищаясь собственной наглостью.
– А что это доказывает? – спросил он мягким, вкрадчивым голосом.
– И в самом деле, – промямлил я, – что же это доказывает?
– Сказать вам? – все так же вкрадчиво проговорил профессор.
– Будьте так любезны.
– Это доказывает, – с неожиданной яростью взревел он, – что второго такого шарлатана не найдется во всем Лондоне! Вы гнусный, наглый репортеришка, который имеет столь же отдаленное понятие о науке, сколь и о минимальной человеческой порядочности!
Он вскочил со стула. Глаза его горели сумасшедшей злобой. И все же даже в эту напряженную минуту я не мог не изумиться, увидев, что профессор Челленджер маленького роста. Он был мне по плечо – эдакий приплюснутый Геркулес, вся огромная жизненная мощь которого словно ушла вширь, вглубь да еще в черепную коробку.
– Я молол чепуху, сэр! – возопил он, опершись руками о стол и вытянув вперед шею. – Я нес несусветный вздор! И вы вздумали тягаться со мной – вы, у которого весь мозг с лесной орешек! Эти проклятые писаки возомнили себя всесильными! Они думают, будто одного их слова достаточно, чтобы возвеличить человека или смешать его с грязью. Мы все должны кланяться им в ножки, вымаливая похвалу. Вот этому надо оказать протекцию, а этого изничтожить… Я знаю вашу подлую натуру! Уж очень высоко вы стали забирать! Было время, ходили смирненькие, а теперь зарвались, удержу вам нет. Пустомели несчастные! Я поставлю вас на место! Да, сэр. Джордж Эдуард Челленджер вам не пара. Этот человек не позволит собой командовать. Он предупреждал вас, но если вы все-таки лезете к нему, пеняйте потом на себя. Фант, любезнейший мистер Мелоун! С вас причитается фант! Вы затеяли опасную игру и, на мой взгляд, остались в проигрыше.
– Послушайте, сэр, – сказал я, пятясь к двери и открывая ее, – вы можете браниться, сколько вашей душе угодно, но всему есть предел. Я не позволю налетать на меня с кулаками!
– Ах, не позволите? – Он начал медленно, с угрожающим видом наступать на меня, потом вдруг остановился и сунул свои огромные ручищи в карманы коротенькой куртки, приличествующей больше мальчику, чем взрослому мужчине. – Мне не впервой выкидывать из дома таких субъектов. Вы будете четвертым или пятым по счету. За каждого уплачен штраф в среднем по три фунта пятнадцать шиллингов. Дороговато, но ничего не поделаешь: необходимость! А теперь, сэр, почему бы вам не пойти по стопам ваших коллег? Я лично думаю, что это неизбежно. – Он снова начал свое крайне неприятное для меня наступление, выставляя носки в стороны, точно заправский учитель танцев.
Я мог бы стремглав броситься в холл, но счел такое бегство позорным. Кроме того, справедливый гнев уже начинал разгораться у меня в душе. До сих пор мое поведение было в высшей степени предосудительно, но угрозы этого человека сразу вернули мне чувство собственной правоты.
– Руки прочь, сэр! Я не потерплю этого!
– Скажите пожалуйста! – Его черные усы вздернулись кверху, между раздвинувшимися в злобной усмешке губами сверкнули ослепительно-белые клыки. – Так вы этого не потерпите?
– Не стройте из себя дурака, профессор! – крикнул я. – На что вы рассчитываете? Во мне больше двухсот фунтов весу. Я крепок, как железо, и каждую субботу играю в регби в ирландской сборной. Вам со мной не…
Но в эту минуту он ринулся на меня. К счастью, я уже успел открыть дверь, иначе от нее остались бы одни щепки. Мы колесом прокатились по всему коридору, каким-то образом прихватив по дороге стул. Профессорская борода забила мне весь рот, мы стискивали друг друга в объятиях, тела наши тесно переплелись, а ножки этого проклятого стула так и крутились над нами. Бдительный Остин распахнул настежь входную дверь. Мы кувырком скатились вниз по ступенькам. Я видел, как братья Мэк исполняли нечто подобное в мюзик-холле, но, должно быть, этот аттракцион требует некоторой практики, иначе без членовредительства не обойтись. Ударившись о последнюю ступеньку, стул рассыпался на мелкие кусочки, а мы, уже порознь, очутились в водосточной канаве. Профессор вскочил на ноги, размахивая кулаками и хрипя, как астматик.
– Довольно с вас? – крикнул он, еле переводя дух.
– Хулиган! – ответил я и с трудом поднялся с земли.
Мы чуть было не схватились снова, так как боевой дух еще не угас в профессоре, но судьба вывела меня из этого дурацкого положения. Рядом с нами вырос полисмен с записной книжкой в руках.
– Что это значит? Как вам не совестно! – сказал он. Это были самые здравые слова, которые мне пришлось услышать в Энмор-Парке. – Ну, – допытывался полисмен, обращаясь ко мне, – объясните, что это значит.
– Он сам на меня напал, – сказал я.
– Это верно, что вы первый напали? – спросил полисмен.
Профессор только засопел в ответ.
– И это не первый случай, – сказал полисмен, строго покачивая головой. – У вас и в прошлом месяце были неприятности по точно такому же поводу. У молодого человека подбит глаз. Вы предъявляете ему обвинение, сэр?
Я вдруг сменил гнев на милость.
– Нет, не предъявляю.
– Это почему же? – спросил полисмен.
– Тут есть и моя доля вины. Я сам к нему напросился. Он честно предостерегал меня.
Полисмен захлопнул книжку.
– Чтобы эти безобразия больше не повторялись, – сказал он. – Ну, нечего! Расходитесь! Расходитесь!
Это относилось к мальчику из мясной лавки, к горничной и двум-трем зевакам, которые уже успели собраться вокруг нас. Полисмен тяжело зашагал по тротуару, гоня перед собой это маленькое стадо. Профессор взглянул на меня, и в глазах у него мелькнула смешливая искорка.
– Входите! – сказал он. – Наша беседа еще не кончилась.
Хотя эти слова прозвучали зловеще, но я последовал за ним в дом. Лакей Остин, похожий на деревянную статую, закрыл за нами дверь.
Глава IV
Это величайшее в мире открытие!
Не успела дверь за нами захлопнуться, как из столовой выбежала миссис Челленджер. Эта крошечная женщина была вне себя от гнева. Она стала перед своим супругом, точно растревоженная клушка, грудью встречающая бульдога. Очевидно, миссис Челленджер была свидетельницей моего изгнания, но не заметила, что я уже успел вернуться.
– Джордж! Какое зверство! – возопила она. – Ты искалечил этого милого юношу!
– Вот он сам, жив и невредим!
Миссис Челленджер смутилась, но быстро овладела собой.
– Простите, я вас не видела.
– Не беспокойтесь, сударыня, ничего страшного не случилось.
– Но он поставил вам синяк под глазом! Какое безобразие! У нас недели не проходит без скандала! Тебя все ненавидят, Джордж, над тобой все издеваются! Нет, моему терпению пришел конец! Это переполнило чашу!
– Перетряхиваешь грязное белье на людях! – загремел профессор.
– Это ни для кого не тайна! – крикнула она. – Неужели ты думаешь, что всей нашей улице, да если уж на то пошло – всему Лондону неизвестно… Остин, вы нам не нужны, можете идти. Тебе перемывают косточки все кому не лень. Ты забываешь о чувстве собственного достоинства. Ты, которому следует быть профессором в большом университете, пользоваться уважением студентов! Где твое достоинство, Джордж?
– А где твое, моя дорогая?
– Ты довел меня бог знает до чего! Хулиган, отъявленный хулиган! Вот во что ты превратился!
– Джесси, возьми себя в руки.
– Беспардонный скандалист!
– Довольно! К позорному столбу за такие слова! – сказал профессор.
И, к моему величайшему изумлению, он нагнулся, поднял жену и поставил ее на высокий постамент из черного мрамора, стоявший в углу холла. Постамент этот, вышиной по меньшей мере в семь футов, был такой узкий, что миссис Челленджер еле могла удержаться на нем. Трудно было представить себе более нелепое зрелище – боясь свалиться оттуда, она словно окаменела с искаженным от ярости лицом и только чуть переступала с ноги на ногу.
– Сними меня! – наконец взмолилась миссис Челленджер.
– Скажи «пожалуйста».
– Это безобразие, Джордж! Сними меня сию же минуту!
– Мистер Мелоун, пойдемте ко мне в кабинет.
– Но помилуйте, сэр!.. – сказал я, глядя на его жену.
– Слышишь, Джесси? Мистер Мелоун ходатайствует за тебя. Скажи «пожалуйста», тогда сниму.
– Безобразие! Ну, пожалуйста, пожалуйста!
Он снял ее с такой легкостью, словно она весила не больше канарейки.
– Веди себя прилично, дорогая. Мистер Мелоун – представитель прессы. Завтра же он тиснет все это в своей ничтожной газетке и большую часть тиража распродаст среди наших соседей. «Странные причуды одной высокопоставленной особы». Высокопоставленная особа – это ты, Джесси, вспомни, куда я тебя посадил несколько минут назад. Потом подзаголовок: «Из быта одной оригинальной супружеской четы». Этот мистер Мелоун ничем не побрезгует, он питается падалью, подобно всем своим собратьям, – porcus ex grege diaboli – свинья из стада дьяволова. Правильно я говорю, мистер Мелоун?
– Вы и в самом деле невыносимы, – с горячностью сказал я.
Профессор захохотал.
– Вы двое, пожалуй, заключите против меня союз, – прогудел он, выпятив свою могучую грудь и поглядывая то в мою сторону, то на жену. Потом уже совсем другим тоном: – Простите нам эти семейные развлечения, мистер Мелоун. Я предложил вам вернуться совсем не для того, чтобы делать вас участником наших безобидных перепалок. Ну-с, сударыня, марш отсюда и не извольте гневаться. – Он положил свои огромные ручищи ей на плечи. – Ты права, как всегда. Если б Джордж Эдуард Челленджер слушался твоих советов, он был бы гораздо более почтенным человеком, но только не самим собой. Почтенных людей много, моя дорогая, а Джордж Эдуард Челленджер один на свете. Так что постарайся как-нибудь поладить с ним. – Он влепил жене звучный поцелуй, что смутило меня куда больше, чем все его дикие выходки. – А теперь, мистер Мелоун, – продолжал профессор, снова принимая величественный вид, – будьте добры пожаловать сюда.
Мы вошли в ту же самую комнату, откуда десять минут назад вылетели с таким грохотом. Профессор тщательно прикрыл за собой дверь, усадил меня в кресло и сунул мне под нос ящик с сигарами.
– Настоящие «Сан-Хуан Колорадо», – сказал он. – На таких легковозбудимых людей, как вы, наркотики хорошо действуют. Боже мой! Ну кто же откусывает кончик! Отрежьте – надо иметь уважение к сигаре! А теперь откиньтесь на спинку кресла и слушайте внимательно все, что я соблаговолю сказать вам. Если будут какие-нибудь вопросы, потрудитесь отложить их до более подходящего времени. Прежде всего о вашем возвращении в мой дом после вполне справедливого изгнания. – Он выпятил вперед бороду и уставился на меня с таким видом, словно только и ждал, что я опять ввяжусь в спор. – Итак, повторяю: после вполне заслуженного вами изгнания. Почему я пригласил вас вернуться? Потому, что мне понравился ваш ответ этому наглому полисмену. Я усмотрел в нем некоторые проблески добропорядочности, несвойственной представителям вашей профессии. Признав, что вина лежит на вас, вы проявили известную непредвзятость и широту взглядов, кои заслужили мое благосклонное внимание. Низшие представители человеческой расы, к которым, к несчастью, принадлежите и вы, всегда были вне моего умственного кругозора. Ваши слова сразу включили вас в поле моего зрения. Мне захотелось познакомиться с вами поближе, и я предложил вам вернуться. Будьте любезны стряхивать пепел в маленькую японскую пепельницу вон на том бамбуковом столике, который стоит возле вас.
Все это профессор выпалил без единой задержки, точно читал лекцию студентам. Он сидел лицом ко мне, напыжившись, как огромная жаба, голова у него была откинута назад, глаза презрительно прищурены. Потом он вдруг повернулся боком, так что мне стал виден только клок его волос над оттопыренным красным ухом, переворошил кучу бумаг на столе и вытащил оттуда какую-то весьма потрепанную книжку.
– Я хочу рассказать вам кое-что о Южной Америке, – начал он. – Свои замечания можете оставить при себе. Прежде всего будьте любезны запомнить: то, о чем вы сейчас услышите, я запрещаю предавать огласке в какой бы то ни было форме до тех пор, пока вы не получите на это соответствующего разрешения от меня. Разрешение это, по всей вероятности, никогда не будет дано. Понятно?
– К чему же такая чрезмерная строгость? – сказал я. – По-моему, беспристрастное изложение…
Он положил книжку на стол.
– Больше нам говорить не о чем. Желаю вам всего хорошего.
– Нет, нет! Я согласен на любые условия! – вскричал я. – Ведь выбирать мне не приходится.
– О выборе не может быть и речи, – подтвердил он.
– Тогда обещаю вам молчать.
– Честное слово?
– Честное слово.
Он смерил меня наглым и недоверчивым взглядом.
– А почем я знаю, каковы ваши понятия о чести?
– Ну, знаете ли, сэр, – сердито крикнул я, – вы слишком много себе позволяете! Мне еще не приходилось выслушивать такие оскорбления!
Моя вспышка не только не вывела его из себя, но даже заинтересовала.
– Короткоголовый тип, – пробормотал он. – Брахицефал, серые глаза, темные волосы, некоторые черты негроида… Вы, вероятно, кельт?
– Я ирландец, сэр.
– Чистокровный?
– Да, сэр.
– Тогда все понятно. Так вот, вы дали мне слово держать в тайне те сведения, которые я вам сообщу. Сведения эти будут, конечно, весьма скупые. Но кое-какими интересными данными я с вами поделюсь. Вы, вероятно, знаете, что два года назад я совершил путешествие по Южной Америке – путешествие, которое войдет в золотой фонд мировой науки. Целью его было проверить некоторые выводы Уоллеса и Бейтса, а это можно было сделать только на месте, в тех же условиях, в каких они проводили свои наблюдения. Если б результаты моего путешествия лишь этим и ограничились, все равно они были бы достойны всяческого внимания, но тут произошло одно непредвиденное обстоятельство, которое заставило меня направить свои исследования по совершенно иному пути.
Вам, вероятно, известно – впрочем, кто знает: в наш век невежества ничему не удивляешься, – что некоторые места, по которым протекает река Амазонка, исследованы не полностью и что в нее впадает множество притоков, до сих пор не занесенных на карту. Вот я и поставил перед собой задачу посетить эти малоизвестные места и обследовать их фауну, и это дало мне в руки столько материала, что его хватит на несколько глав того огромного, монументального труда по зоологии, который послужит оправданием всей моей жизни. Закончив экспедицию, я возвращался домой, и на обратном пути мне пришлось заночевать в маленьком индейском поселке, недалеко от того места, где в Амазонку впадает один из ее притоков – о названии и географическом положении этого притока я умолчу. В поселке жили индейцы племени кукама – мирный, но уже вырождающийся народ, умственный уровень которого вряд ли поднимается над уровнем среднего лондонца… Я вылечил нескольких тамошних жителей еще в первый свой приезд, когда поднимался вверх по реке, и вообще произвел на индейцев сильное впечатление, поэтому неудивительно, что меня ждали там. Они сразу же стали объяснять мне знаками, что в поселке есть человек, который нуждается в моей помощи, и я последовал за их вождем в одну из хижин. Войдя туда, я убедился, что страждущий, которому требовалась помощь, только что испустил дух. К моему удивлению, он оказался не индейцем, а белым, белейшим из белых, если можно так выразиться, ибо у него были совсем светлые волосы и все характерные признаки альбиноса. От его одежды остались одни лохмотья, страшно исхудавшее тело свидетельствовало о долгих лишениях. Насколько я мог понять индейцев, они никогда раньше не видели этого человека; он пришел в поселок из лесной чащи, один, без спутников, и еле держался на ногах от слабости. Вещевой мешок незнакомца лежал рядом с ним, и я обследовал его содержимое. Внутри был вшит ярлычок с именем и адресом владельца: «Мепл-Уайт, Лейк-авеню, Детройт, штат Мичиган». Перед этим именем я всегда готов обнажить голову. Не будет преувеличением сказать, что, когда важность сделанного мною открытия получит общее признание, его имя будет стоять рядом с моим.
Содержимое мешка ясно говорило о том, что Мепл-Уайт был художником и поэтом, отправившимся на поиски новых ярких впечатлений. Там были черновики стихов. Я не считаю себя знатоком в этой области, но мне кажется, что они оставляют желать лучшего. Кроме того, я нашел в мешке довольно посредственные речные пейзажи, ящик с красками, коробку пастельных карандашей, кисти, вот эту изогнутую кость, что лежит на чернильнице, том Бекстера «Мотыльки и бабочки», дешевенький револьвер и несколько патронов к нему. Предметы личного обихода он, по-видимому, растерял за время своих странствий, а может, их у него совсем не было. Никакого другого имущества у этого странного представителя американской богемы в наличии не оказалось.
Я уже собрался уходить, как вдруг заметил, что из кармана его рваной куртки что-то торчит. Это был альбом для этюдов – вот он, перед вами, и такой же потрепанный, как тогда. Можете быть уверены, что с тех пор, как эта реликвия попала мне в руки, я отношусь к ней с не меньшим благоговением, чем относился бы к первоизданию Шекспира. Теперь я вручаю этот альбом вам и прошу вас просмотреть его страницу за страницей и вникнуть в содержание рисунков.
Он закурил сигару, откинулся на спинку стула и, не сводя с моего лица свирепого и вместе с тем испытующего взгляда, стал следить, какое впечатление произведут на меня эти рисунки.
Я открыл альбом, ожидая найти там какие-то откровения – какие, мне и самому было не ясно. Однако первая страница разочаровала меня, ибо на ней был нарисован здоровенный детина в морской куртке, а под рисунком стояла подпись: «Джимми Колвер на борту почтового парохода». Дальше последовало несколько мелких жанровых набросков из жизни индейцев. Потом рисунок, на котором изображался благодушный толстяк духовного звания, в широкополой шляпе, сидевший за столом в обществе очень худого европейца.
Подпись поясняла: «Завтрак у фра Кристоферо в Розариу». Следующие страницы были заполнены женскими и детскими головками, а за ними шла подряд целая серия зарисовок животных с такими пояснениями: «Ламантин на песчаной отмели», «Черепахи и черепашьи яйца», «Черный агути под пальмой» – агути оказался весьма похожим на свинью, – и, наконец, следующие две страницы занимали наброски каких-то весьма противных ящеров с длинными носами. Я не знал, что подумать обо всем этом, и обратился за разъяснениями к профессору:
– Это, вероятно, крокодилы?
– Аллигаторы! Аллигаторы! Настоящие крокодилы не водятся в Южной Америке. Различие между тем и другим видом заключается…
– Я только хочу сказать, что не вижу тут ничего особенного – ничего, что могло бы подтвердить ваши слова.
Он ответил мне с безмятежной улыбкой:
– Переверните еще одну страницу.
Но и следующая страница ни в чем не убедила меня. Это был пейзаж, чуть намеченный акварелью, один из тех незаконченных этюдов, которые служат художнику лишь наметкой к будущей, более тщательной разработке сюжета. Передний план этюда занимали бледно-зеленые перистые растения, поднимавшиеся вверх по откосу, который переходил в линию темно-красных ребристых скал, напоминавших мне чем-то базальтовые формации. На заднем плане эти скалы стояли сплошной стеной. Правее поднимался пирамидальный утес, по-видимому отделенный от основного кряжа глубокой расщелиной; вершина его была увенчана огромным деревом. Надо всем этим сияло синее тропическое небо. Узкая кромка зелени окаймляла вершины красных скал. На следующей странице я увидел еще один акварельный набросок того же пейзажа, сделанный с более близкого расстояния, так что детали его выступали яснее.
– Ну-с? – сказал профессор.
– Формация, действительно, очень любопытная, – ответил я, – но мне трудно судить, насколько она исключительна, ведь я не геолог.
– Исключительна? – повторил он. – Да это единственный в своем роде ландшафт! Он кажется невероятным! Такое даже присниться не может! Переверните страницу.
Я перевернул и не мог сдержать возгласа удивления. Со следующей страницы альбома на меня глянуло нечто необычайное. Такое чудовище могло возникнуть только в видениях курильщика опиума или в бреду горячечного больного. Голова у него была птичья, тело как у непомерно раздувшейся ящерицы, волочащийся по земле хвост щетинился острыми иглами, а изогнутая спина была усажена высокими шипами, похожими на петушьи гребешки. Перед этим существом стоял маленький человечек, почти карлик.
– Ну-с, что вы на это скажете? – воскликнул профессор, с торжествующим видом потирая руки.
– Это что-то чудовищное, гротеск какой-то.
– А что заставило художника изобразить подобного зверя?
– Не иначе как солидная порция джина.
– Лучшего объяснения вы не можете придумать?
– Хорошо, сэр, а как вы сами это объясняете?
– Очень просто: такое животное существует. Совершенно очевидно, что этот рисунок сделан с натуры.
Я не расхохотался только потому, что вовремя вспомнил, как мы колесом прокатились по всему коридору.
– Без сомнения, без сомнения, – сказал я с той угодливостью, на какую обычно не скупятся в разговоре со слабоумными. – Правда, меня несколько смущает эта крошечная человеческая фигурка. Если б здесь был нарисован индеец, можно было бы подумать, что в Америке существует какое-то племя пигмеев, но это европеец, на нем пробковый шлем.
Профессор фыркнул, словно разъяренный буйвол.
– Вы обогащаете меня опытом! – крикнул он. – Границы человеческой тупости гораздо шире, чем я думал! У вас умственный застой! Поразительно!
Эта вспышка была так нелепа, что она меня даже не рассердила. Да и стоило ли впустую тратить нервы? Если уж сердиться на этого человека, так каждую минуту, на каждое его слово. Я ограничился усталой улыбкой.
– Меня поразили размеры этого пигмея, – сказал я.
– Да вы посмотрите! – крикнул профессор, наклоняясь ко мне и тыча волосатым, толстым, как сосиска, пальцем в альбом. – Видите, вот растение позади животного? Вы, вероятно, приняли его за одуванчик или брюссельскую капусту, ведь так? Нет, сударь, это южноамериканская пальма, именуемая «слоновой костью», а она достигает пятидесяти-шестидесяти футов в вышину. Неужели вы не соображаете, что человеческая фигура нарисована здесь не зря? Художник не смог бы остаться в живых, встретившись лицом к лицу с таким зверем, уж тут не до рисования. Он изобразил самого себя только для того, чтобы дать понятие о масштабах. Ростом он был… ну, скажем, пяти футов с небольшим. Дерево, как и следует ожидать, в десять раз выше.
– Господи боже! – воскликнул я. – Значит, вы думаете, что это существо было… Да ведь если подыскивать ему конуру, тогда и вокзал Чаринг-Кросс окажется маловат!
– Это, конечно, преувеличение, но экземпляр действительно крупный, – горделиво сказал профессор.
– Но нельзя же, – воскликнул я, – нельзя же отметать в сторону весь опыт человеческой расы на основании одного рисунка! – Я перелистал оставшиеся страницы и убедился, что в альбоме больше ничего нет. – Один-единственный рисунок какого-то бродяги-художника, который мог сделать его, накурившись гашиша, или в горячечном бреду, или просто в угоду своему больному воображению. Вы, как человек науки, не можете отстаивать такую точку зрения.
Вместо ответа профессор снял какую-то книгу с полки.
– Вот блестящая монография моего талантливого друга Рэя Ланкестера, – сказал он. – Здесь есть одна иллюстрация, которая покажется вам небезынтересной. Ага, вот она. Подпись внизу: «Предполагаемый внешний вид динозавра – стегозавра юрского периода. Задние конечности высотой в два человеческих роста». Ну, что вы теперь скажете?
Он протянул мне открытую книгу. Я взглянул на иллюстрацию и вздрогнул. Между наброском неизвестного художника и этим представителем давно умершего мира, воссозданным воображением ученого, было, несомненно, большое сходство.
– В самом деле поразительно! – сказал я.
– И все-таки вы продолжаете упорствовать?
– Но, может быть, это простое совпадение или же ваш американец видел когда-нибудь такую картинку и в бреду вспомнил ее?
– Прекрасно, – терпеливо сказал профессор, – пусть будет так. Теперь не откажите в любезности взглянуть на это.
Он протянул мне кость, найденную по его словам, среди вещей умершего. Она была дюймов шести в длину, толще моего большого пальца, и на конце ее сохранились остатки совершенно высохшего хряща.
– Какому из известных нам животных может принадлежать такая кость? – спросил профессор.
Я тщательно осмотрел ее, призывая на помощь все знания, какие еще не выветрились у меня из головы.
– Это может быть ключица очень рослого человека, – сказал я.
Мой собеседник презрительно замахал руками:
– Ключица человека имеет изогнутую форму, а эта кость совершенно прямая. На ее поверхности есть ложбинка, свидетельствующая о том, что здесь проходило крупное сухожилие. На ключице ничего подобного нет.
– Тогда затрудняюсь вам ответить.
– Не бойтесь выставлять напоказ свое невежество. Я думаю, что среди зоологов Южного Кенсингтона не найдется ни одного, кто смог бы определить эту кость. – Он взял коробочку из-под пилюль и вынул оттуда маленькую косточку величиной с фасоль. – Насколько я могу судить, вот эта косточка соответствует в строении человеческого скелета той, которую вы держите в руке. Теперь вы имеете некоторое представление о размерах животного? Не забудьте и про остатки хряща – они свидетельствуют о том, что это был свежий экземпляр, а не ископаемый. Ну, что вы теперь скажете?
– Может быть, у слона…
Его так и передернуло, словно от боли.
– Довольно! Довольно! Слоны – в Южной Америке! Не смейте и заикаться об этом! Даже в нашей современной начальной школе…
– Ну, хорошо, – перебил я его. – Не слон, так какое-нибудь другое южноамериканское животное, например, тапир.
– Уж поверьте мне, молодой человек, что элементарными познаниями в этой отрасли науки я обладаю. Нельзя даже допустить мысль, что такая кость принадлежит тапиру или какому-нибудь другому животному, известному зоологам. Это кость очень сильного зверя, который существует где-то на земном шаре, но до сих пор неведом науке. Вы все еще сомневаетесь?
– Во всяком случае, меня это очень заинтересовало.
– Значит, вы еще не безнадежны. Я чувствую, что у вас что-то брезжит в мозгу, так давайте же терпеливо раздувать эту искорку. Оставим теперь покойного американца и перейдем снова к моему рассказу. Вы, конечно, догадываетесь, что я не мог расстаться с Амазонкой, не доискавшись, в чем тут дело. Кое-какие сведения о том, откуда пришел этот художник, у меня были. Впрочем, я мог бы руководствоваться одними легендами индейцев, ибо мотив неизведанной страны проскальзывает во всех преданиях приречных племен. Вы, конечно, слыхали о Курупури?
– Нет, не слыхал.
– Курупури – это лесной дух, нечто злобное, грозное; встреча с ним ведет к гибели. Никто не может толком описать Курупури, но имя это вселяет ужас в индейцев. Однако все племена, живущие на берегах Амазонки, сходятся в одном: они точно указывают, где обитает Курупури. Из тех же самых мест пришел и американец. Там таится нечто непостижимо страшное. И я решил выяснить, в чем тут дело.
– Как же вы поступили?
От моего легкомыслия не осталось и следа. Этот гигант умел завоевать внимание и уважение к себе.
– Мне удалось преодолеть сопротивление индейцев – то внутреннее сопротивление, которое они оказывают, когда заводишь с ними разговор об этом. Пустив в ход всяческие увещания, подарки и, должен сознаться, угрозы, я нашел двоих проводников. После многих приключений – описывать их нет нужды, – после многих дней пути – о маршруте и его протяженности позволю себе умолчать – мы пришли наконец в те места, которые до сих пор никем не были описаны и где никто еще не бывал, если не считать моего злополучного предшественника. Теперь будьте любезны посмотреть вот это.
Он протянул мне небольшую фотографию.
– Ее плачевное состояние объясняется тем, что, когда мы спускались вниз по реке, нашу лодку перевернуло и футляр, в котором хранились непроявленные негативы, сломался. Результаты этого бедствия налицо. Почти все негативы погибли – потеря совершенно невознаградимая. Вот этот снимок – один из немногих более или менее уцелевших. Вам придется удовольствоваться таким объяснением его несовершенства. Ходят слухи о какой-то фальсификации, но я не расположен спорить сейчас на эту тему.
Снимок был действительно совсем бледный. Недоброжелательный критик мог бы легко придраться к этому. Вглядываясь в тускло-серый ландшафт и постепенно разбираясь в его деталях, я увидел длинную, огромной высоты линию скал, напоминающую гигантский водопад, а на переднем плане – пологую равнину с разбросанными по ней деревьями.
– Если не ошибаюсь, этот пейзаж был и в альбоме, – сказал я.
– Совершенно верно, – ответил профессор. – Я нашел там следы стоянки. А теперь посмотрите еще одну фотографию.
Это был тот же самый ландшафт, только взятый более крупным планом. Снимок был совсем испорчен. Все же я разглядел одинокий, увенчанный деревом утес, который отделяла от кряжа расщелина.
– Теперь у меня не осталось никаких сомнений, – признался я.
– Значит, мы не зря стараемся, – сказал профессор. – Смотрите, какие успехи! Теперь будьте добры взглянуть на вершину этого утеса. Вы что-нибудь видите там?
– Громадное дерево.
– А на дереве?
– Большую птицу.
Он подал мне лупу.
– Да, – сказал я, глядя сквозь нее, – на дереве сидит большая птица. У нее довольно солидный клюв. Это, наверное, пеликан?
– Зрение у вас незавидное, – сказал профессор. – Это не пеликан и вообще не птица. Да будет вам известно, что мне удалось подстрелить вот это самое существо. И оно послужило единственным неоспоримым доказательством, которое я вывез оттуда.
– Оно здесь, у вас? Наконец-то я увижу вещественное подтверждение всех этих рассказов!
– Оно было у меня. К несчастью, катастрофа на реке погубила не только негативы, но и эту мою добычу. Ее подхватило водоворотом, и, как я ни старался спасти свое сокровище, в руке у меня осталась лишь половина крыла. Я потерял сознание и очнулся, только когда меня вынесло на берег, но этот жалкий остаток великолепного экземпляра был цел и невредим. Вот он, перед вами.
Профессор вынул из ящика стола нечто напоминающее, на мой взгляд, верхнюю часть крыла огромной летучей мыши. Эта изогнутая кость с перепончатой пленкой была по меньшей мере двух или более футов длиной.
– Летучая мышь чудовищных размеров? – высказал я свое предположение.
– Ничего подобного! – сурово осадил меня профессор. – Живя в атмосфере высокого просвещения и науки, я и не подозревал, что основные принципы зоологии так мало известны в широких кругах общества. Неужели вы не знакомы с элементарнейшим положением сравнительной анатомии, которое гласит, что крыло птицы представляет собой, в сущности, предплечье, тогда как крыло летучей мыши состоит из трех удлиненных пальцев с перепонкой между ними? В данном случае кость не имеет ничего общего с костью предплечья, и вы можете убедиться собственными глазами в наличии всего лишь одной перепонки. Следовательно, о летучей мыши нечего и вспоминать. Но если это не птица и не летучая мышь, тогда с чем же мы имеем дело? Что же это может быть?
Мой скромный запас знаний был исчерпан до дна.
– Право, затрудняюсь вам ответить, – сказал я.
Профессор открыл монографию, на которую уже ссылался раньше.
– Вот, – продолжал он, показывая мне какое-то чудовище с крыльями, – вот великолепное изображение диморфодона, или птеродактиля, – крылатого ящера юрского периода, а на следующей странице схема механизма его крыла. Сравните ее с тем, что у вас в руках.
При первом же взгляде на схему я вздрогнул от изумления. Она окончательно убедила меня. Спорить было нечего. Совокупность всех данных сделала свое дело. Набросок, фотографии, рассказ профессора, а теперь и вещественное доказательство! Что же тут еще требовать? Так я и сказал профессору – сказал со всей горячностью, на какую был способен, ибо теперь мне стало ясно, что к этому человеку относились несправедливо.
Он откинулся на спинку стула, прищурил глаза и снисходительно улыбнулся, купаясь в лучах неожиданно блеснувшего на него солнца признания.
– Это величайшее в мире открытие! – воскликнул я, хотя во мне заговорил темперамент не столько естествоиспытателя, сколько журналиста. – Это грандиозно! Вы Колумб науки! Вы открыли затерянный мир! Я искренне сожалею, что сомневался в истине ваших слов. Все это казалось мне невероятным. Но я не могу не признать очевидных фактов, и они должны быть столь же убедительны для всех.
Профессор замурлыкал от удовольствия.
– Что же вы предприняли дальше, сэр?
– Наступил сезон дождей, мистер Мелоун, а мои запасы продовольствия пришли к концу. Я обследовал часть этого огромного горного кряжа, но взобраться на него так и не смог. Пирамидальный утес, с которого я снял выстрелом птеродактиля, оказался более доступным. Вспомнив свои альпинистские навыки, я поднялся на него примерно до середины. Оттуда уже можно было разглядеть плато, венчающее горный кряж. Оно было просто необъятно! Куда ни посмотреть – на запад, на восток, – конца не видно этим покрытым зеленью скалам. У подножия кряжа расстилаются болота и непроходимые заросли, кишащие змеями и прочими гадами. Настоящий рассадник лихорадки. Вполне понятно, что такие препятствия служат естественной защитой для этой необыкновенной страны.
– А вы видели там еще какие-нибудь признаки жизни?
– Нет, сэр, не видел, но за ту неделю, что мы провели у подножия этих скал, нам не раз приходилось слышать какие-то странные звуки, доносившиеся откуда-то сверху.
– Но что же это за существо, которое нарисовал американец? Как он с ним встретился?
– Я могу только предположить, что он каким-то образом проник на саму вершину кряжа и увидел его там. Следовательно, туда есть какой-то путь. Путь, несомненно, тяжелый, иначе все эти чудовища спустились бы вниз и заполонили бы все вокруг. Уж в чем другом, а в этом не может быть сомнений!
– Но как они очутились там?
– На мой взгляд, ничего загадочного тут нет, – сказал профессор. – Объяснение напрашивается само собой. Как вам, вероятно, известно, Южная Америка представляет собой гранитный материк. В отдаленные века в этом месте, очевидно, произошло внезапное смещение пластов в результате извержения вулкана. Не забудьте, что скалы эти базальтовые, следовательно, они вулканического происхождения. Площадь величиной примерно с наше графство Суссекс выперло вверх со всеми ее обитателями и отрезало от остального материка отвесными скалами такой твердой породы, которой не страшно никакое выветривание. Что же получилось? Законы природы потеряли свою силу в этом месте. Всевозможные препятствия, обусловливающие борьбу за существование во всем остальном мире, либо исчезли, либо в корне изменились. Животные, которые в обычных условиях вымерли бы, продолжали размножаться. Как вы знаете, и птеродактиль, и стегозавр относятся к юрскому периоду, следовательно, оба они древнейшие животные в истории Земли, уцелевшие только благодаря совершенно необычным, случайно создавшимся условиям.
– Но добытые вами сведения не оставляют места для сомнений! Вам нужно только представить их соответствующим лицам.
– Я сам так думал в простоте душевной, – с горечью ответил профессор. – Могу сказать вам только одно: на деле все вышло по-другому – мне приходилось на каждом шагу сталкиваться с недоверием, в основе которого лежала людская тупость или зависть. Не в моем характере, сэр, пресмыкаться перед кем-нибудь и доказывать свою правоту, когда мои слова берут под сомнение. Я сразу же решил, что мне не подобает предъявлять вещественные доказательства, которые были в моем распоряжении. Самая тема стала мне ненавистной, я не хотел касаться ее ни единым словом. Когда мой покой нарушали люди, подобные вам, люди, угождающие праздному любопытству толпы, я был не в состоянии дать им отпор, не теряя при этом чувства собственного достоинства. По характеру я, надо признаться, человек довольно горячий и, если меня выведут из терпения, могу наделать всяких бед. Боюсь, что вам пришлось испытать это на себе.
Я потрогал свой заплывший глаз, но смолчал.
– Миссис Челленджер постоянно ссорится со мной из-за этого, но, по-моему, каждый порядочный человек поступал бы точно так же на моем месте. Впрочем, сегодня я намерен явить пример выдержки и показать, как воля может победить темперамент. Приглашаю вас полюбоваться этим зрелищем.
Он взял со стола карточку и протянул ее мне.
– Как видите, сегодня в восемь часов тридцать минут вечера в Зоологическом институте состоится лекция довольно популярного естествоиспытателя мистера Персиваля Уолдрона на тему «Скрижали веков». Меня приглашают занять место в президиуме специально для того, чтобы я от имени всех присутствующих выразил благодарность лектору. Так я и сделаю. Но это не помешает мне – конечно, с величайшим тактом и осторожностью! – обронить несколько замечаний, которые заинтересуют аудиторию и вызовут кое у кого желание более обстоятельно ознакомиться с поднятыми мною вопросами. Спорные моменты, разумеется, не будут затронуты, но все поймут, какие глубокие проблемы таятся за моими словами. Я обещаю держать себя в руках. Кто знает, может быть, моя сдержанность приведет к лучшим результатам.
– А мне можно прийти туда? – поспешил спросить я.
– Разумеется… разумеется, можно, – радушно ответил профессор.
Его любезность была почти так же ошеломительна, как и грубость. Чего стоила одна его благодушная улыбка! Глаз почти не стало видно, а щеки вспухли, превратившись в два румяных яблочка, подпертых снизу черной бородой.
– Обязательно приходите. Мне будет приятно знать, что у меня есть по крайней мере один союзник в зале, хоть и весьма беспомощный и не сведущий в вопросах науки. Народу соберется, вероятно, много, так как Уолдрон пользуется большой популярностью, несмотря на то что он шарлатан чистейшей воды. Так вот, мистер Мелоун, я уделил вам гораздо больше времени, чем предполагал. Отдельная личность не может монополизировать то, что принадлежит всему человечеству. Буду рад увидеть вас сегодня вечером на лекции. А пока разрешите вам напомнить, что материал, с которым я вас ознакомил, ни в коей мере не подлежит огласке.
– Но мистер Мак-Ардл… это наш редактор… потребует от меня отчета о беседе с вами.
– Скажите ему первое, что придет в голову. Между прочим, можете намекнуть, что, если он пришлет ко мне кого-нибудь еще, я явлюсь к нему сам, вооружившись хорошей плеткой. Во всем остальном полагаюсь на вас: ни слова в печати! Так, прекрасно. Значит, в восемь тридцать – в Зоологическом институте.
Он помахал мне на прощание рукой. Я увидел в последний раз его румяные щеки, волнистую иссиня-черную бороду, дерзкие глаза и вышел из комнаты.
Глава V
Это еще не факт!
То ли на мне сказался физический шок, полученный в первый мой визит к профессору Челленджеру, то ли тут сыграло роль моральное потрясение – результат второго визита, но, очутившись снова на улице, я почувствовал, что как репортер я совершенно деморализован. Голова у меня разламывалась от боли, и все же в мозгу, не утихая ни на минуту, стучала мысль, что этот человек говорит правду, значение которой трудно переоценить, и что когда мне будет позволено использовать его рассказ для статьи, наша газета получит сенсационный материал. Увидев на углу кеб, я вскочил в него и поехал в редакцию. Мак-Ардл, как всегда, был на своем посту.
– Ну? – нетерпеливо крикнул он. – Говорите, сколько вам надо строк! У вас такой вид, молодой человек, точно вы явились сюда прямо с поля битвы. Неужели без драки не обошлось?
– Да, сначала мы немножко не поладили.
– Вот человек! Ну, а потом?
– Потом он образумился, и беседа прошла мирно. Но мне ничего не удалось у него выудить, даже для маленькой заметки.
– Это как сказать! А подбитый глаз разве не материал для заметки? Довольно ему нас терроризировать, мистер Мелоун! Поставим его на место. Завтра же помещу статейку, от которой ему жарко станет. Дайте мне только материал, и я раз и навсегда заклеймлю этого субъекта. «Профессор Мюнхгаузен» – что вы скажете о такой шапке? «Воскресший Калиостро»! Вспомним всех мистификаторов и шарлатанов, которых знала история. Он у меня получит сполна за все свои мошенничества!
– Я бы не советовал, сэр.
– Почему?
– Потому что этот человек совсем не мошенник.
– Как?! – взревел Мак-Ардл. – Вы что же, поверили его россказням про мамонтов, мастодонтов и морского змея?
– По-моему, у него этого и в мыслях нет. Во всяком случае, я ничего такого не слышал. Но мне теперь совершенно ясно, что Челленджер может внести нечто новое в науку.
– Тогда о чем же вы думаете? Садитесь и пишите статью.
– Я бы рад написать, да он обязал меня хранить все в тайне и только при этом условии согласился говорить со мной. – Я изложил в двух-трех словах рассказ профессора. – Видите, как обстоит дело?
Физиономия Мак-Ардла выразила глубочайшее недоверие.
– Тогда займемся этим заседанием, мистер Мелоун, – сказал он наконец. – Уж в нем-то, наверное, нет ничего секретного. Другие газеты вряд ли им заинтересуются, потому что о лекциях Уолдрона писалось уже сотни раз, а о том, что там собирается выступить Челленджер, никто и не подозревает. Если нам повезет, мы получим сенсационный материал. Во всяком случае, поезжайте туда и представьте мне подробный отчет. До двенадцати часов придержу для вас свободную колонку.
Мне предстоял хлопотливый день, поэтому я решил пообедать в клубе пораньше и, пригласив за столик Тарпа Генри, рассказал ему вкратце о своих приключениях. С его худого смуглого лица не сходила скептическая улыбка, а когда я признался, что профессор убедил меня в своей правоте, Тарп не выдержал и громко захохотал.
– Дорогой мой друг, таких чудес в жизни не бывает! Где это видано, чтобы люди случайно натыкались на величайшие открытия, а потом теряли все вещественные доказательства? Предоставьте сочинять небылицы романистам. По части ловких проделок ваш профессор заткнет за пояс всех обезьян в зоологическом саду. Ведь это же невероятная чушь!
– А художник-американец?
– Вымышленная фигура.
– Я же сам видел его альбом!
– Это альбом Челленджера.
– Значит, вы думаете, что рисунок тоже его собственный?
– Ну конечно! А чей же еще?
– А фотографические снимки?
– На них ведь ничего не видно. Вы же сами говорите, что разглядели только какую-то птицу.
– Птеродактиля.
– Да, если верить его словам. Вы поддались внушению и поверили.
– Ну, а кости?
– Первую он извлек из рагу, вторую смастерил собственными руками. Нужны только известная смекалка да знание дела, а тогда все что угодно сфальсифицируешь – и кость и фотографический снимок.
Мне стало как-то не по себе. Может быть, действительно, я слишком увлекся? И вдруг меня осенила счастливая мысль.
– Вы пойдете на эту лекцию? – спросил я.
Тарп Генри на минуту задумался.
– Ваш гениальный Челленджер не пользуется особой популярностью, – сказал он. – С ним многие не прочь свести счеты. Пожалуй, во всем Лондоне не найдется другого человека, который вызывал бы к себе такое неприязненное чувство. Если на лекцию прибегут студенты-медики, скандалов там не оберешься. Нет, что-то мне не хочется идти в этот сумасшедший дом.
– По крайней мере отдайте ему должное – выслушайте его.
– Да, пожалуй, справедливость этого требует. Хорошо, буду вашим компаньоном на сегодняшний вечер.
Когда мы подъехали к Зоологическому институту, я увидел, что сверх моих ожиданий народу на лекцию собирается много. Электрические кареты одна за другой подвозили к подъезду седовласых профессоров, а более скромная публика потоком вливалась в сводчатые двери, свидетельствуя о том, что в зале будут присутствовать не только ученые, но и представители широких масс. И в самом деле, стоило нам занять места, как мы сразу убедились, что галерея и задние ряды ведут себя более чем непринужденно. Там сидели, судя по всему, студенты-медики. Вероятно, все крупные больницы отрядили сюда своих практикантов. Публика была настроена добродушно, но за этим добродушием крылось озорство. То и дело раздавались обрывки популярных песенок, распеваемых хором и с большим подъемом, – весьма странная прелюдия к научной лекции! Склонность аудитории к бесцеремонным шуткам ясно давала себя чувствовать. Это сулило в дальнейшем массу развлечений для всех, кроме тех лиц, к кому эти сомнительные шутки должны были непосредственно относиться.
Например, как только на эстраде появился доктор Мелдрам в своем знаменитом цилиндре с изогнутыми полями, со всех сторон раздались дружные крики: «Вот так ведро! Где вы его раздобыли?» Старик сейчас же стащил цилиндр с головы и украдкой сунул его под кресло. Когда страдающий подагрой профессор Уэдли заковылял к своему месту, шутники, к его величайшему смущению, хором осведомились о том, не болит ли у профессора пальчик на ноге. Но самый горячий прием был оказан моему новому знакомцу, профессору Челленджеру. Чтобы добраться до своего места – крайнего в первом ряду, – ему пришлось пройти через всю эстраду. Как только его черная борода показалась в дверях, аудитория разразилась такими бурными приветственными криками, что я подумал: опасения Тарпа Генри подтвердились – публику привлекла сюда не столько сама лекция, сколько возможность посмотреть на знаменитого профессора, слухи о выступлении которого, по-видимому, успели разнестись повсюду.
При его появлении в передних рядах, занятых хорошо одетой публикой, раздались смешки – на сей раз партер относился сочувственно к бесчинству студентов. Публика приветствовала Челленджера оглушительным ревом, точно хищники в клетке зоологического сада, заслышавшие вдали шаги служителя в час кормежки. В этом реве ясно звучали неуважительные нотки, но, в общем, шумный прием, оказанный профессору, выражал скорее интерес к нему, чем неприязнь или презрение. Челленджер улыбнулся устало и снисходительно, как улыбается добродушный человек, когда на него налетает свора тявкающих щенков, потом медленно опустился в кресло, расправил плечи, любовно погладил бороду и, прищурившись, надменно глянул в переполненный зал. Рев еще не успел стихнуть, как на эстраде появились председатель, профессор Рональд Меррей, и лектор, мистер Уолдрон. Заседание началось. Надеюсь, профессор Меррей извинит меня, если я упрекну его в том, что он страдает недостатком, свойственным большинству англичан, а именно – невнятностью речи. По-моему, это одна из загадок нашего века. Почему люди, которым есть что сказать, не желают научиться говорить членораздельно? Это так же бессмысленно, как переливать драгоценную влагу через трубу с закрытым краном, отвернуть который до конца можно без всякого труда.
Профессор Меррей обратился с несколькими глубокомысленными замечаниями к своему белому галстуку и графину с водой, затем шутливо подмигнул серебряному канделябру, стоявшему по правую его руку, и опустился в кресло, уступив место известному популярному лектору мистеру Уолдрону, которого публика встретила аплодисментами. Физиономия у мистера Уолдрона была мрачная, голос резкий, манеры заносчивые, но он обладал даром усваивать чужие мысли и преподносить их непосвященным в доступной и даже увлекательной форме, расцвечивая свои доклады множеством шуток на самые, казалось бы, неподходящие темы, так что в его изложении даже перемещение равноденствий или эволюция позвоночных приобретали юмористический характер.
В простой, а подчас и живописной форме, которой не мешала научность терминологии, лектор развернул перед нами картину возникновения мира, взятую как бы с высоты птичьего полета. Он говорил о земном шаре – огромной массе светящегося газа, пылавшей в небесной сфере. Потом рассказал, как эта масса начала охлаждаться и застывать, как образовались складки земной коры, как пар превратился в воду. Все это было постепенной подготовкой сцены к той непостижимой драме жизни, которой предстояло разыграться на нашей планете. Перейдя к возникновению всего живого на Земле, мистер Уолдрон ограничился несколькими туманными, ни к чему не обязывающими фразами. Можно почти с уверенностью сказать, что зародыши жизни не выдержали бы первоначальной высокой температуры земного шара. Следовательно, они возникли несколько позже. Откуда? Из остывающих неорганических элементов? Весьма вероятно. А может статься, они были занесены извне каким-нибудь метеором? Вряд ли. Короче говоря, даже мудрейшие из мудрых не могут сказать ничего определенного по этому вопросу. Пока что нам не удается создать в лабораторных условиях органическое вещество из неорганического. Наша химия не в силах перебросить мост через ту пропасть, которая отделяет живую материю от мертвой. Но природа, оперирующая огромными силами на протяжении многих веков, сама является величайшим химиком, и ей может удаться то, что непосильно для нас. И больше тут сказать нечего.
Вслед за этим лектор перешел к великой шкале животной жизни и ступенька за ступенькой – от моллюсков и беспозвоночных морских тварей к пресмыкающимся и рыбам – добрался наконец до производящей на свет живых детенышей кенгуру, прямого предка всех млекопитающих, а следовательно, и тех, что находятся в этом зале («Ну, положим!» – голос какого-то скептика из задних рядов). Если юный джентльмен в красном галстуке, крикнувший «Ну, положим!» и, по-видимому, имеющий основание думать, что он вылупился из яйца, соблаговолит задержаться после заседания, лектор будет очень рад ознакомиться с такой достопримечательностью. (Смех.) Подумать только, что процессы, веками происходившие в природе, завершились созданием юного джентльмена в красном галстуке! Но разве эти процессы действительно завершились? Следует ли считать этого джентльмена конечным продуктом эволюции, так сказать, венцом творения? Лектор не хочет оскорблять джентльмена в красном галстуке в его лучших чувствах, но ему кажется, что, какими бы добродетелями ни обладал сей джентльмен, все же грандиозные процессы, происходящие во Вселенной, не оправдали бы себя, если б конечным результатом их было создание вот такого экземпляра. Силы, обусловливающие эволюцию, не иссякли, они продолжают действовать и готовят нам еще большие сюрпризы.
Расправившись под общие смешки со своим противником, мистер Уолдрон вернулся к картинам прошлого и рассказал, как высыхали моря, обнажая песчаные отмели, как на этих отмелях появлялись живые существа, студенистые, вялые, рассказал о лагунах, кишащих всякой морской тварью, которую привлекало сюда тинистое дно и особенно изобилие пищи, что способствовало ее стремительному развитию.
– Вот, леди и джентльмены, откуда пошли те чудовищные ящеры, которые до сих пор вселяют в нас ужас, когда мы находим их скелеты в вельдских или золенгофенских сланцах. К счастью, все они исчезли с нашей планеты задолго до появления на ней первого человека.
– Это еще далеко не факт! – прогудел кто-то на эстраде.
Мистер Уолдрон был человек выдержанный, к тому же острый на язык, что особенно почувствовал на себе джентльмен в красном галстуке, и перебивать его было небезопасно. Но последняя реплика, очевидно, показалась ему настолько нелепой, что он даже несколько растерялся. Такой же растерянный вид бывает у шекспироведа, задетого яростным бэконианцем, или у астронома, столкнувшегося с фанатиком, который утверждает, что Земля плоская. Мистер Уолдрон умолк на секунду, а затем, повысив голос, с расстановкой повторил свои последние слова:
– К счастью, все они исчезли с нашей планеты задолго до появления на ней первого человека.
– Это еще не факт! – снова прогудел тот же голос.
Уолдрон бросил удивленный взгляд на сидевших за столом профессоров и наконец остановился на Челленджере, который улыбался с закрытыми глазами, словно во сне, откинувшись на спинку стула.
– А, понимаю! – Уолдрон пожал плечами. – Это мой друг профессор Челленджер! – И под хохот всего зала он вернулся к прерванной лекции, как будто дальнейшие пояснения были совершенно излишни.
Но этим дело не кончилось. Какой бы путь ни избирал докладчик, блуждая в дебрях прошлого, все они неизменно приводили его к упоминанию об исчезнувших доисторических животных, что немедленно исторгало из груди профессора тот же зычный рев. В зале уже предвосхищали заранее каждую его реплику и встречали ее восторженным гулом. Студенты, сидевшие тесно, сомкнутыми рядами, не оставались в долгу, и, как только черная борода Челленджера приходила в движение, сотни голосов, не давая ему открыть рот, дружно вопили: «Это еще не факт!» – а из передних рядов неслись возмущенные крики: «Тише! Безобразие!» Уолдрон, лектор опытный, закаленный в боях, окончательно растерялся. Он замолчал, потом начал что-то бормотать, запинаясь на каждом слове и повторяя уже сказанное, увяз в длиннейшей фразе и под конец набросился на виновника всего беспорядка.
– Это переходит всякие границы! – разразился он, яростно сверкая глазами. – Профессор Челленджер, я прошу вас прекратить эти возмутительные и неприличные выкрики!
Зал притих. Студенты замерли от восторга: высокие олимпийцы затеяли ссору у них на глазах! Челленджер не спеша высвободил свое грузное тело из объятий кресла.
– А я, в свою очередь, прошу вас, мистер Уолдрон, перестаньте утверждать то, что противоречит научным данным, – сказал он.
Эти слова вызвали настоящую бурю. В общем шуме и хохоте слышались только отдельные негодующие выкрики: «Безобразие!», «Пусть говорит!», «Выгнать его отсюда!», «Долой с эстрады!», «Это нечестно – дайте ему высказаться!»… Председатель вскочил с места и, слабо взмахивая руками, взволнованно забормотал что-то. Из тумана этой невнятицы выбивались только отдельные отрывочные слова: «Профессор Челленджер… будьте добры… ваши соображения… после…» Нарушитель порядка отвесил ему поклон, улыбнулся, погладил бороду и снова ушел в кресло. Разгоряченный этой перепалкой и настроенный весьма воинственно, Уолдрон продолжал лекцию. Высказывая время от времени какое-нибудь положение, он бросал злобные взгляды на своего противника, который, казалось, дремал, развалившись в кресле, все с той же блаженной широкой улыбкой на устах.
И вот лекция кончилась. Подозреваю, что несколько преждевременно, ибо заключительная ее часть была скомкана и как-то не вязалась с предыдущей. Грубая помеха нарушила ход мыслей лектора. Аудитория осталась неудовлетворенной и ждала дальнейшего развертывания событий.
Уолдрон сел на место, председатель чирикнул что-то, и вслед за этим профессор Челленджер подошел к краю эстрады. Памятуя об интересах своей газеты, я записал его речь почти дословно.
– Леди и джентльмены, – начал он под сдержанный гул в задних рядах. – Прошу извинения, леди, джентльмены и дети… Сам того не желая, я упустил из виду значительную часть слушателей. (Шум в зале. Пережидая его, профессор благостно кивает своей огромной головой и высоко поднимает руку, словно осеняя толпу благословением.) Мне было предложено выразить благодарность мистеру Уолдрону за его весьма картинную и занимательную лекцию, которую мы с вами только что прослушали. С некоторыми тезисами этой лекции я не согласен, о чем счел своим долгом заявить без всяких отлагательств. Тем не менее факт остается фактом: мистер Уолдрон справился со своей задачей, которая заключалась в том, чтобы изложить в общедоступной и занимательной форме историю нашей планеты, вернее, то, что он понимает под историей нашей планеты. Популярные лекции очень легко воспринимаются, но… (тут Челленджер блаженно улыбнулся и бросил взгляд на лектора) мистер Уолдрон, конечно, извинит меня, если я скажу, что такие лекции в силу особенностей изложения всегда бывают поверхностны и недоброкачественны с точки зрения науки, ибо лектор так или иначе, а должен приспосабливаться к невежественной аудитории. (Иронические возгласы с мест.) Лекторы-популяризаторы по сути своей паразиты. (Протестующий жест со стороны возмущенного Уолдрона.) Они используют в целях наживы или саморекламы работу своих безвестных, придавленных нуждой собратьев. Самый незначительный успех, достигнутый в лаборатории, – один из тех кирпичиков, что идут на сооружение храма науки, – перевешивает все полученное из вторых рук, перевешивает всякую популяризацию, которая может поразвлечь часок, но не принесет никаких ощутимых результатов. Я напоминаю об этой общеизвестной истине отнюдь не из желания умалить заслуги мистера Уолдрона, но для того, чтобы вы не теряли чувства пропорции, принимая прислужника за высшего жреца науки. (Тут мистер Уолдрон шепнул что-то председателю, который привстал с места и обратил несколько суровых слов к стоявшему перед ним графину с водой.) Но довольно об этом. (Громкие одобрительные крики.) Позвольте мне перейти к вопросу, представляющему более широкий интерес. В каком месте я, самостоятельный исследователь, был вынужден поставить под вопрос осведомленность нашего лектора? В том, где речь шла об исчезновении с поверхности Земли некоторых видов животной жизни. Я не дилетант и выступаю здесь не как популяризатор, а как человек, научная добросовестность которого заставляет его строго придерживаться фактов. И поэтому я настаиваю на том, что мистер Уолдрон глубоко ошибается, утверждая, будто так называемые доисторические животные исчезли с лица Земли. Ему не приходилось видеть их, но это еще ничего не доказывает. Они действительно являются, как он выразился, нашими предками, но не только предками, добавлю я, а и современниками, которых можно наблюдать во всем их своеобразии – отталкивающем, страшном своеобразии. Для того, чтобы пробраться в те места, где они обитают, нужны только выносливость и смелость. Животные, которых мы относили к юрскому периоду, чудовища, которым ничего не стоит растерзать на части и поглотить самых крупных и самых свирепых из наших млекопитающих, существуют до сих пор… (Крики: «Чушь! Докажите! Откуда вы это знаете? Это еще не факт!») Вы меня спрашиваете, откуда я это знаю? Я знаю это, потому что побывал в тех местах, где они живут. Знаю, потому что видел таких животных… (Аплодисменты, оглушительный шум и чей-то голос: «Лжец!») Я лжец? (Единодушное: «Да, да!») Кажется, меня назвали лжецом? Пусть этот человек встанет с места, чтобы я мог увидеть его. (Голос: Вот он, сэр!» – и над головами студентов взлетает яростно отбивающийся маленький человечек в очках, совершенно безобидный на вид.) Это вы осмелились назвать меня лжецом? («Нет, сэр!» – кричит тот и, словно петрушка, ныряет вниз.) Если кто-либо из присутствующих сомневается в моей правдивости, я охотно побеседую с ним после заседания. («Лжец!») Кто это сказал? (Опять безобидная жертва взмывает высоко в воздух, отчаянно отбиваясь от своих мучителей.) Вот я сейчас сойду с эстрады, и тогда… (Дружные крики: «Просим, дружок, просим!» Заседание на несколько минут прерывают. Председатель вскакивает с места и размахивает руками, словно дирижер. Профессор окончательно разъярен. Он стоит, выпятив вперед бороду, багровый, с раздувающимися ноздрями.) Все великие новаторы встречали недоверие толпы, а недоверие – это клеймо дураков! Когда к вашим ногам кладут великие открытия, у вас не хватает интуиции, не хватает воображения, чтобы осмыслить их. Вы способны только поливать грязью людей, которые рисковали жизнью, завоевывая новые просторы науки. Вы поносите пророков! Галилей, Дарвин и я… (Продолжительные крики и полный беспорядок в зале.)
Все это я извлек из своих торопливых записей, которые хоть и были сделаны на месте, но не могут дать должного представления о хаосе, воцарившемся к этому времени в аудитории. Началось такое столпотворение, что некоторые дамы уже спасались бегством. Общему настроению поддались не только студенты, но и более солидная публика. Я сам видел, как седобородые старцы вскакивали с мест и потрясали кулаками, гневаясь на закусившего удила профессора. Многолюдное собрание бурлило и кипело, точно вода в котле. Профессор шагнул вперед и воздел руки кверху. В этом человеке чувствовались такая сила и мужественность, что крикуны постепенно смолкли, усмиренные его повелительным жестом и властным взглядом. И зал притих, приготовившись слушать.
– Я не стану вас задерживать, – продолжал Челленджер. – Стоит ли попусту тратить время? Истина остается истиной, и ее не поколебать никакими бесчинствами глупых юнцов и, с сожалением должен добавить, не менее глупых пожилых джентльменов. Я утверждаю, что мною открыто новое поле для научных исследований. Вы это оспариваете. (Общие крики.) Так давайте же проведем испытание. Согласны ли вы избрать из вашей среды одного или нескольких представителей, которые проверят справедливость моих слов?
Профессор сравнительной анатомии мистер Саммерли, высокий желчный старик, в суховатом облике которого было что-то придававшее ему сходство с богословом, поднялся с места. Он пожелал узнать, не являются ли заявления профессора Челленджера результатом его поездки в верховья реки Амазонки, предпринятой два года тому назад.
Профессор Челленджер ответил утвердительно.
Далее мистер Саммерли осведомился, каким это образом профессору Челленджеру удалось сделать новое открытие в местах, обследованных Уоллесом, Бейтсом и другими учеными, пользующимися вполне заслуженной известностью.
Профессор Челленджер ответил на это, что мистер Саммерли, по-видимому, спутал Амазонку с Темзой. Амазонка гораздо больше Темзы, и если мистеру Саммерли угодно знать, река Амазонка и соединяющаяся с ней притоком река Ориноко покрывают в общей сложности площадь в пятьдесят тысяч квадратных миль. Поэтому нет ничего удивительного, если на таком огромном пространстве один исследователь обнаружит то, чего не могли заметить его предшественники.
Мистер Саммерли возразил с кислой улыбкой, что ему хорошо известна разница между Темзой и Амазонкой, заключающаяся в том, что любое утверждение касательно первой легко можно проверить, чего нельзя сказать о второй. Он был бы премного обязан профессору Челленджеру, если б тот указал, под какими градусами широты и долготы лежит та местность, где обретаются доисторические животные.
Профессор Челленджер ответил, что до сих пор он воздерживался от сообщения подобных сведений, имея на это веские основания, но сейчас – конечно, с некоторыми оговорками – он готов представить их комиссии, избранной аудиторией. Может быть, мистер Саммерли согласен войти в эту комиссию и лично проверить правильность утверждения профессора Челленджера?
Мистер Саммерли. Да, согласен. (Бурные аплодисменты.)
Профессор Челленджер. Тогда я обязуюсь представить все необходимые сведения, которые помогут вам добраться до места. Но, поскольку мистер Саммерли намерен проверять меня, я считаю справедливым, чтобы его тоже кто-нибудь проверял. Не скрою от вас, что путешествие будет сопряжено со многими трудностями и опасностями. Мистеру Саммерли необходим спутник помоложе. Может быть, желающие найдутся здесь в зале?
Вот так нежданно-негаданно наступает перелом в жизни человека! Мог ли я подумать, входя в этот зал, что я стою на пороге самых невероятных приключений, таких, которые мне даже не мерещились? Но Глэдис! Разве не об этом она говорила? Глэдис благословила бы меня на такой подвиг. Я вскочил с места. Слова сами собой сорвались у меня с языка. Мой сосед Тарп Генри тянул меня за пиджак и шептал:
– Сядьте, Мелоун! Не стройте из себя дурака при всем честном народе!
В ту же минуту я увидел, как в одном из первых рядов поднялся какой-то высокий рыжеватый человек. Он сердито сверкнул на меня глазами, но я не сдался.
– Господин председатель, я хочу ехать! – повторил я.
– Имя, имя! – требовала публика.
– Меня зовут Эдуард Дан Мелоун. Я репортер «Дейли-газетт». Даю слово, что буду совершенно беспристрастным свидетелем.
– А ваше имя, сэр? – обратился председатель к моему сопернику.
– Лорд Джон Рокстон. Я бывал на Амазонке, хорошо знаю эти места и поэтому имею все основания предлагать свою кандидатуру.
– Лорд Джон Рокстон пользуется мировой известностью как путешественник и охотник, – сказал председатель. – Но участие в этой экспедиции представителя прессы было бы не менее желательно.
– В таком случае, – сказал профессор Челленджер, – я предлагаю, чтобы настоящее собрание уполномочило обоих этих джентльменов сопровождать профессора Саммерли в его путешествии, целью которого будет расследование правильности моих слов.
Под крики и аплодисменты всего зала наша судьба была решена, и я, ошеломленный огромными перспективами, которые вдруг открылись перед моим взором, смешался с людским потоком, хлынувшим к дверям. Выйдя на улицу, я смутно, как сквозь сон, увидел толпу, с хохотом несущуюся по тротуару, и в самом центре ее чью-то руку, вооруженную тяжелым зонтом, который так и ходил по головам студентов. Потом электрическая карета профессора Челленджера тронулась с места под веселые крики озорников и стоны пострадавших, и я зашагал дальше по Риджент-стрит, поглощенный мыслями о Глэдис и о том, что ждало меня впереди. Вдруг кто-то дотронулся до моего локтя. Я оглянулся и увидел, что на меня насмешливо и властно смотрят глаза того высокого худого человека, который вызвался вместе со мной отправиться в эту необычайную экспедицию.
