Похождения бравого солдата Швейка
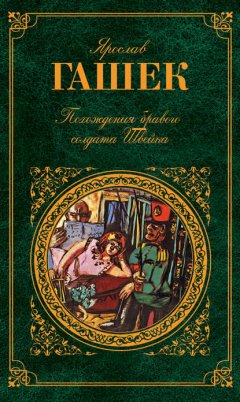
Ярослав Гашек и его роман о Швейке
Как-то раз на одной из выставок графики в Москве можно было увидеть остроумный рисунок, на котором был изображен земной шар и три поддерживающие его фигуры – Дон Кихот, Гамлет и Швейк. Три олицетворения разных сторон человеческого духа – веры, сомнения и юмора. Швейк принадлежит сейчас к числу самых известных образов мировой литературы, ставших общезначимыми символами. Любопытно при этом, что создан этот знаменитый образ автором, который, казалось бы, не отличался особым усердием в литературном творчестве. Писал Гашек, словно довольствуясь импровизацией, не признавал ни набросков, ни черновиков, рукописей практически не правил. Только что написанные странички романа о Швейке он сразу отправлял в издательство, а себе оставлял всего две-три строчки, чтобы не забыть, на чем остановился. Он не склонен был просиживать над листом бумаги дни и ночи, предпочитая проводить время в богемных компаниях, в кабачках и пивных или в странствиях, общаясь с пастухами, бродягами и цыганами. Часть рассказов он откровенно писал для заработка и действительно не придавал им особого значения. Иногда литературные занятия превращались им в шутку. Он мог поспорить в пивной на пари, что в очередную фразу до половины написанного рассказа вставит любое имя, которое предложат его собеседники и при этом не нарушит последовательности повествования. Многие литераторы-современники вначале вообще не принимали Гашека как писателя всерьез. А между тем пройдет два десятилетия с момента появления его первых рассказов и юморесок, и он создаст роман, который получит широчайшую известность во всем мире. Бертольт Брехт запишет в своем дневнике: «Если бы кто-нибудь предложил мне выбрать из художественной литературы нашего века три произведения, которые, на мой взгляд, представляют мировую литературу, то одним из этих произведений были бы «Похождения бравого солдата Швейка» Ярослава Гашека».[1]
Парадокс этот имеет свое объяснение. Силу Гашека-писателя составляло как раз то, что иным казалось его слабостью. «Нужно уметь не писать, а видеть, писать – это уже следствие», – заметил однажды Антуан де Сент-Экзюпери. И надо сказать, мало кто видел столько, сколько довелось видеть Гашеку, и мало кто умел так видеть, как видел он, и так жить увиденным. Гашек был поистине одержим жаждой новых встреч с людьми. Эта страсть уводила его от домашнего очага, вызывала интерес ко всему необычному, пробуждала инстинкт перелетных птиц и звала в дальние страны. В чешской литературе нет другого писателя, который так много общался бы с людьми. Всю свою жизнь он провел на людях. Началось это еще в детстве.
Гашек родился 30 апреля 1883 года в плебейском районе Праги – Жижков, в семье учителя. Отец его не имел специального педагогического образования и получал пониженное жалованье. Позднее он вообще служил мелким чиновником в банке. Семья жила в стесненных условиях, ютилась в полутемных наемных квартирах. С самого детства мальчик был предоставлен самому себе и имел полную возможность познакомиться с жизнью улицы и городских дворов, вдоволь насладиться мальчишескими проказами и похождениями. В тринадцать лет он лишился отца и два года спустя вынужден был оставить гимназию. Мать устроила его помощником в лавку москательных и аптекарских товаров. Служба эта, живо описанная Гашеком впоследствии в одном из его рассказов, состояла в постоянном общении с людьми. Позднее ему все же удалось продолжить образование. В 1902 году он окончил коммерческое училище, от которого у него осталось, в частности, прекрасное знание нескольких иностранных языков – немецкого, русского, французского и венгерского – и каллиграфический почерк (коммерческие бумаги тогда писали от руки, и на выработку почерка обращалось особое внимание). Однако карьера банковского служащего мало привлекала очень живого по натуре юношу. Поначалу он пытался скрасить службу в банке «Славия» всевозможными веселыми затеями и розыгрышами. Но не прошло и полугода, как его неодолимо потянуло из чиновничьего и мещанского мира на вольный простор.
Настроения Гашека тех лет хорошо переданы в воспоминаниях его друга Ладислава Гаека: «Стояла ранняя весна. Был прекрасный лунный вечер. Гашек размечтался, как, наверное, хорошо и красиво сейчас в Словакии. Мы добрались до Староместской площади, по привычке зашли в чайную Короуса и немного с ним поболтали… В довольно веселом настроении мы направились ко мне домой. Но на Тынской улице, где я жил, Гашек неожиданно остановился, посмотрел на небо, на луну и сказал: “А знаешь, я к тебе сегодня не пойду, не хочу, чтобы святой Петр опять грозил нам пальцем (хозяин квартиры, где жил приятель Гашека, был мастером по церковным витражам, и в окне у него было вставлено стекло с изображением святого Петра. – С. Н.). Домой тоже не вернусь. Сегодня я получил за сверхурочные, махну-ка ночью в Словакию”».[2] На следующий день молодого человека не оказалось на службе. Тяга к странствиям, «дух бродяжий» отчасти объяснялись юношеской романтикой, интересом к неизведанному. Но сказывался и внутренний протест против рутины жизни, когда постоянно ощущалось неравноправное положение его народа в империи Габсбургов. Молодого человека все время тянуло то в Африку на помощь бурам в их освободительной войне против англичан, то в Македонию, где в 1903 году вспыхнуло восстание против турок, то просто в путешествия.
В юности Гашек странствовал каждое лето. В обществе таких же, как он, студентов, случайных попутчиков, нищих, бродяг, порой нанимаясь на поденную работу, нередко ночуя в стогах сена, а иногда и в местных полицейских участках, он в течение нескольких лет исходил пешком всю Австро-Венгерскую империю, а отчасти и соседние страны. Побывал в Словакии, Галиции, южной Польше, Румынии, на Буковине, в Венгрии, Болгарии, Хорватии, Сербии, посетил Словению, северную Италию (включая Венецию), Баварию и Швейцарию. Предпринималась даже попытка перейти границу России. Впечатления от этих странствий и от общения с людьми, в том числе оказавшимися на дне жизни, дали материал для многих его ранних рассказов, очерков, юморесок. Ладислав Гаек вспоминал: «Гашек очень любил русских авторов и сам имел так много общего с Максимом Горьким. Мы хотели жить по-русски… Мы хотели познать жизнь и изобразить ее такой, какой мы сами ее познали».[3]
Поначалу в творчестве Гашека преобладала мягко-юмористическая тональность. Он изображал смешных в своей чванливости провинциальных помещиков, прижимистых богатеев, подтрунивал над человеческими слабостями небезгрешных священников, развеивал цыганскую экзотику, снимая с нее романтический флер весьма прозаическими зарисовками и одновременно с юмором изображая всевозможные плутни цыган и проделки молодых цыганок, которые дурачат панских отпрысков. Вместе с тем его привлекали цельные натуры из народа – удалые словацкие парни, знающие себе цену и умеющие постоять за себя девчата, хлебосольные крепкие хозяева, заядлые охотники. Он подмечал находчивость расторопных простолюдинов в их общении с господами и чиновниками, их плутоватую изобретательность в сопротивлении панскому гнету. В то же время социальные трагедии, с которыми он сталкивался, отзывались в его произведениях и щемящими нотами. Но преобладала все же жизнерадостная атмосфера. Молодого человека манили края, где вода в реках «зелена, как поросль кукурузы», где столько неожиданных человеческих типов.
Однако через три-четыре года тон его рассказов меняется. На первый план все больше выступает жесткая сатира, нередко проникнутая духом вызова и эпатажа. Действие перемещается в город. Рассказы строятся теперь на резких социальных контрастах, из них уходят пейзажи, юмористические полутона. Автор усматривает прямую зависимость между благоденствием одних и нищетой и страданиями других. Иногда звучат прозрачные предсказания социальной революции. Нет, наверное, ни одного звена государственно-политической системы Австро-Венгрии, которое не было бы затронуто сатирой Гашека. И все время словно слышится вызывающий и веселый хохот улицы. Передана живая готовность низов насолить властям, посодействовать любой неприятности должностного лица. На пути всех этих «отцов народа», сановных особ, чиновников, карьеристов-депутатов, церковнослужителей, блюстителей порядка, сыщиков то и дело оказывается веселый плебей, который путает им карты и делает их посмешищем в глазах публики.
Социальная острота сатиры Гашека во многом была связана и с его возраставшим интересом к политической жизни, которым отмечено творчество стольких писателей XX века. Еще в 1904 году он сблизился с чешскими анархистами, к которым его привело чувство протеста против социального и национального угнетения. Не случайно на одной из фотографий этих лет мы видим его в сербском головном уборе, который он демонстративно носил в знак симпатии к родственному славянскому народу, противостоявшему австрийскому владычеству и экспансии. Гашек занимался редактированием анархистских газет, распространял брошюры Кропоткина, не раз конфликтовал с полицией и как-то целый месяц провел в заключении. Однако через три года он разочаровался в анархизме, не увидев в то же время перспектив и в деятельности других чешских политических партий, оппозиционность которых казалась ему мелкой и вялой.
Отход от анархизма не означал примирения с окружающей действительностью и политическим гнетом. Часто его обличения принимали форму конкретной, адресной сатиры. Он был автором многих жгучих, как крапива, фельетонов, памфлетов, шаржей, пародийных портретов. Со страниц его «галереи карикатур» встает череда лицемеров, казнокрадов, карьеристов и честолюбцев, героев фразы. Нередко они изображались под собственными именами.
Тем временем жизнь молодого писателя складывалась нелегко. Его преследовали неустроенность и вечные поиски постоянной работы, которые осложнялись и его нежеланием приспосабливаться к обывательскому образу жизни. С 1906 года очень близким человеком стала для него Ярмила Майерова, дочь одного пражского домовладельца, с которой его связывало большое и глубокое чувство. Однако родители противились ее браку с несостоятельным литератором и беспокойным анархистом. Только в 1910 году удалось наконец получить их согласие. Но долго согревавшая Гашека любовь к Ярмиле пришла в конце концов в непримиримое противоречие с его привычкой к свободе, и брак, которого они так долго добивались, распался. После этого Гашек жил один, сотрудничая в разных газетах и журналах и не имея своего угла. Порой он ночевал в редакциях, в которых служил, или поселялся у кого-либо из друзей. Ему знакомы были и моменты трудных психологических состояний, иногда отмеченных печатью трагизма. Вместе с тем с годами к нему все больше приходило ощущение силы и власти смеха, его магического действия на людей. И если в некоторых его произведениях тех лет можно почувствовать подспудную горечь сарказма, то вместе с тем сохраняется и атмосфера заразительно веселого смеха. Он умел так осмеять тех, кого считал достойными обличения, что, казалось, они уже сами наказаны своими пороками и неполноценностью. Это и позволяло ему смеяться не злорадным, а веселым смехом развенчания.
Не меньше, чем литературное творчество, Гашека увлекала устная комика. То и другое сливалось в некое единое целое. Розыгрыш, затеянный где-нибудь в веселой компании, находил затем продолжение в литературном произведении, оказывался темой рассказа, юморески. В свою очередь, литературные юмористические находки получали развитие в устных импровизациях.
Особенно увлекали Гашека всевозможные комические мистификации, в которых он не знал себе равных. Памятна история с редактированием им журнала «Мир животных». Научно-популярное издание было рассчитано на сельских хозяев и любителей всякой живности, державших собак, певчих птиц, черепах и т. п. Печатались сведения о диких и домашних животных, советы по уходу за ними. Заступив на место редактора и соскучившись вскоре по юмору, Гашек начал понемногу предлагать читателям описания выдуманных им животных, а известным представителям земной фауны приписывать неслыханные повадки и свойства. В журнале рассказывалось, например, о гигантских ящерах, якобы обитающих на Островах блаженных. При этом умалчивалось, что Острова блаженных – это те самые мифические острова, которые в античных сказаниях описывались как райская земля вечной весны и обиталище душ праведников (Элизиум, Елисейские поля). Читателям журнала была предоставлена возможность узнать, что мандрилы (те самые обезьяны, у которых шерсть ярко-красного, зеленого и белого цвета, словно они разряжены) имеют склонность «влюбляться в дочерей смотрителей зоопарков», что муравьи любят музыку и их легко приманить мелодиями из «Травиаты». Была опубликована заметка о том, что новый редактор журнала Л. Гаек (уже упоминавшийся друг Гашека) вместо гимнастики проводит каждое утро сеанс борьбы со взрослым бенгальским тигром. А однажды Гашек распространил слух, будто на звероферме владельца журнала Фукса имеются в продаже волкодлаки, то есть волки-оборотни (по поверьям, способные превращаться в людей). Нашлись вроде бы и покупатели, принимавшие, видимо, волкодлаков за экзотическую породу собак. Все подобные сообщения включались в серьезный контекст журнала, и грань между тем и другим стиралась. Читатель рисковал попасть впросак как поверив, так и не поверив занимательной информации, ибо в журнале одновременно печатались и вполне реальные, хотя нередко тоже удивительные, но малоизвестные сведения о животных.
Однако все это меркнет по сравнению с сатирическими акциями Гашека, имевшими политический характер. Особую известность приобрела буффонада 1911 года, когда во время дополнительных выборов в парламент по одному из пражских избирательных округов Гашек, воспользовавшись предвыборной свободой слова и собраний, инсценировал вместе с друзьями создание партии умеренного прогресса в рамках закона. Коллективная пародия затрагивала разные стороны общественной жизни – официальную политику имперских и местных властей, поведение оппозиции, нравы, царящие в партийных кругах и в среде депутатов, и т. д. Надо сказать, что Гашек вообще не без скепсиса относился к надеждам на парламентскую демократию, отмечая, в частности, что непослушные парламенты нередко попросту разгоняются властями. («…У правительства пушки, у депутатов – органы речи»,[4] – писал он.) Шумный политический спектакль длился около двух месяцев. Основные события разворачивались в одной из пражских пивных, где регулярно собиралась публика, среди которой задавали тон Гашек и его друзья. Проводились пародийные собрания и митинги. Гашек играл роль лидера и кандидата в депутаты, выступал с импровизированными пародийными речами, изобиловавшими партийно-пропагандистской лексикой и фразеологией. Был составлен манифест партии, призывавший ограничиваться лишь умеренным прогрессом, сочинен был гимн, в котором воспевалось приспособленчество и осмеивалось корыстолюбие депутатов. О программе партии Гашек заявил, что она у него имеется, но будет держаться в тайне до самых выборов, а возможно, и после них, так как программы часто крадут другие партии. Расклеивались плакаты, на которых можно было прочесть обещания: «В случае избрания нашего кандидата выступим против землетрясения в Мексике», «То, что вы не получите от Вены, получите от нас», «Нам не хватает всего пятнадцати голосов. Денег не жалеем» и «Отдавший голос за нашего кандидата получит в награду малый карманный аквариум».[5]
Буффонада не только получила широкий резонанс в Праге, но и послужила импульсом для создания веселой книги Гашека «Политическая и социальная история партии умеренного прогресса в рамках закона» (1912). Это было самое крупное сочинение Гашека до романа о Швейке. Оно состояло из восьмидесяти с лишним глав-фрагментов, в которых в юмористической форме рассказывалась история создания партии, тесно переплетавшаяся с хроникой веселых похождений неунывающей гашековской компании. Воспроизведен был манифест партии, некоторые речи Гашека. Одновременно книга представляла собой собрание юмористических и эпиграмматических портретов современников и участников «движения». В колких шаржах автор высмеивал мелких хвастунов и позеров, мнивших себя борцами за права народа, ремесленников из мира искусства, псевдопоэтов, худосочных критиков, бездарных журналистов – людей, хотевших казаться совсем не теми, кем они были на самом деле. При этом в книге нет ни одного вымышленного персонажа. Все ее комические герои, а их десятки и десятки, – реальные лица, выведенные под собственными именами. Некоторые из них, прослышав о замысле нового сочинения Гашека, даже якобы обращались к автору с просьбами не писать о том, что касается их лично. Гашек с неподражаемым юмором рассказал об этих просьбах, использовав и этот материал для веселых и озорных характеристик. Колоритен, например, этюд о переводчике с западных языков Адольфе Готвальде, который заявил Гашеку: «Пиши обо мне, что тебе вздумается, но только, прошу тебя, не приписывай мне каких-нибудь глупых высказываний». Гашек ответил в книге: «Я и впрямь не знаю, как мне поступить с Адольфом Готвальдом. Я действительно не помню, чтобы он сказал какую-нибудь глупость, сколько ни напрягаю память, не могу припомнить ничего подобного. Дело в том, что своих-то мыслей у Адольфа Готвальда вообще никогда не было и от собственного имени он никогда ничего не говорил. Все, что он произносил, были цитаты из всемирно известных философов… Смело берусь утверждать, что из уст Адольфа Готвальда исходили только чужие мысли, которых он имел возможность в великом множестве наглотаться из книг, так как зарубежная научная и развлекательная литература – это и есть его хлеб как переводчика. Именно цитатами из переводимых книг он и сыплет во время дебатов во всевозможных питейных заведениях, ибо истинная правда и то, что он любит выпить, о чем он и разрешил мне написать». И в заключение: «И еще два слова, камрад Готвальд. Ты дочитываешь эти строки и радуешься, что наконец-то я оставил тебя в покое. Но ты жестоко ошибаешься. В одной из глав я еще расскажу, как ты ведешь себя в обществе».[6]
Многие образы книги имеют политическую окраску. С первых же страниц перед читателем появляется могучая фигура «борца за права угнетенного народа» Яна Климеша, который рвется на Балканы на помощь восставшим братьям-славянам, но оказывается потом редким трусом. Великолепна характеристика «этических анархистов» Магена и Маха, этих, по определению Гашека, «чешских якобинцев», один из которых однажды признался в своих стихах:
- Для будущих подвигов силу и волю
- Мы черпали больше всего в алкоголе.[7]
Книга обещала прозвучать как веселый и шумный вызов и официальным представлениям, и наивным политическим иллюзиям, и мещанскому самолюбию. Однако издатель, взявшийся в 1912 году выпустить ее, в конце концов так и не отважился это сделать и продал рукопись частному лицу. Лишь в середине 1920-х годов, уже после смерти Гашека, была опубликована приблизительно четвертая часть текста, но затем рукопись снова исчезла из поля зрения. Чудом она уцелела во время Второй мировой войны. Частная библиотека, где она хранилась, полностью погибла. По счастью оказалось, что владелец рукописи до этого кому-то отдал ее на время. Только в 1960-е годы, спустя полвека после того, как это сочинение было написано, оно стало доступно читателям. (На русском языке оно опубликовано в полном виде пока что всего один раз – в шеститомном собрании сочинений Гашека.[8])
В предвоенные годы Гашеком были написаны сотни и сотни рассказов, юморесок, комических зарисовок, фельетонов. Тогда же в его рассказах впервые появилось и имя Швейка. Но об этом чуть позже.
Войну Гашек встретил с теми же чувствами, что и большинство его соотечественников, не горевших желанием сражаться за победу Австро-Венгерской империи и предпочитавших сдаваться в плен, особенно на русском фронте, и даже участвовать потом в боях против Австро-Венгрии. Были случаи, когда сдавались целыми полками. Еще перед отправкой на фронт Гашек тоже заявлял, что на передовой, конечно, не упустит возможности заглянуть и на противоположную сторону. Расставаясь с одним из знакомых, он подарил ему книгу своих рассказов с небезопасной и выразительной надписью: «Через несколько минут я уезжаю куда-то далеко. Может быть, вернусь казачьим атаманом. Если же буду повешен, пришлю тебе на память кусок той веревки»[9] (по австрийским законам за переход на сторону врага полагалась смертная казнь через повешение).
Попав на русский фронт, Гашек при первой же возможности сдался в плен. Более пяти лет он находился в России, вначале в лагерях для военнопленных – в Дарнице под Киевом и в Тоцком близ Бузулука. Весной 1916 года в лагерях стало известно о формировании в России чехословацких добровольческих частей. Гашек сразу же записался добровольцем и стал агитировать за это других пленных. С этой целью он посещал даже больничные бараки, но вскоре сам заразился тифом. По мнению врачей, состояние его было безнадежным, но он выжил (и более того – три года спустя, уже в Красной Армии, еще раз перенес тиф).
В июне 1916 года его направили в Киев. Некоторое время он служил писарем при штабе, периодически выезжая на фронт. Возобновилась и его литературная активность. Он сотрудничал с журналом «Чехослован», издававшемся в Киеве на чешском языке, посылая туда корреспонденции с фронта, рассказы, фельетоны, направленные против Австро-Венгерской империи.
Гашек с восторгом встретил Февральскую революцию, увидев в ней предвестие падения Австро-Венгерской монархии. По отношению к большевикам он занимал вначале негативную позицию, считая это движение антипатриотическим. Лишь позднее его захватила идея социальной справедливости, которую провозглашали коммунисты, и весной 1918 года он добрался до Москвы, а затем уехал в Самару, где участвовал в формировании интернациональных отрядов Красной Армии. Что, впрочем, не означало, что у него не оставалось колебаний. Он, например, решительно не одобрял Брестского мира. Возможно, подобные колебания сыграли какую-то роль и в том, что в июне 1918 года он не отошел с частями Красной Армии, отступавшей от Самары, и после взятия города четыре месяца скрывался в Самарской губернии, в тылу чехословацких войск, рискуя каждый день быть схваченным. Только осенью (10 октября, как установил по архивам несколько лет тому назад московский историк Ю. Н. Щербаков) он вновь появился в расположении частей Красной Армии – теперь уже в районе Симбирска. Характерно, что в одном из писем Гашек и сам позднее объяснил эту историю своим тогдашним «непостоянством».
Самым крупным событием в жизни Гашека стало его участие в военном походе Пятой армии длительностью в два года (1918–1920) и протяженностью в пять тысяч километров – от Волги до Байкала. За это время он побывал помощником коменданта города Бугульмы, начальником походной типографии, редактировал армейские газеты и журналы. На его долю выпала огромная организационная и разъяснительная работа с бывшими военнопленными и иностранцами, сотни тысяч которых скопились в зоне действий Пятой армии в Сибири, а также с местными национальными меньшинствами. Известна, например, его инициатива в создании бурятского букваря и первой газеты на бурятском языке. Гашек окончил свою армейскую службу в должности начальника интернационального отделения политотдела армии. Все время не прекращалась и его литературная работа, причем значительную часть фельетонов и статей он писал теперь на русском языке. Тексты, опубликованные Гашеком в России, составили впоследствии целых два тома (из шестнадцати) в собрании его сочинений (причем воспроизведены там далеко не все его сочинения военных лет). Правда, среди его выступлений в печати в 1916–1920 годах немало «проходных» и прямолинейно плакатных публикаций на злобу дня. Но есть и более значительные вещи, в том числе связанные с образом Швейка.
Имя Швейка впервые появилось в творчестве Гашека еще в 1911 году. Решающее значение в возникновении этого образа имели антимилитаристские убеждения писателя и его резко оппозиционное отношение к австрийской монархии. Но сыграло роль и знакомство писателя с молодым пражским ремесленником Йозефом Швейком, у которого он позаимствовал имя и некоторые черты своего героя.[10]
Ирония и юмор, которыми наполнены рассказы Гашека о Швейке, основаны на том, что за естественную и как бы само собой разумеющуюся норму молчаливо принимается нежелание чешских подданных служить в армии Австро-Венгерской империи, а читателю демонстрируется психическая аномалия – идиотское рвение наивного солдата «служить государю-императору до последнего вздоха». При этом его усердие, граничащее с кретинизмом, все время оборачивается медвежьими услугами, смахивающими на провокацию. Попадая в невероятные переделки, удачливый герой каждый раз остается жив и невредим. Он одержим «экзальтацией мученичества», как определил автор. Изображение доведенного до абсурда верноподданнического экстаза (похожего в то же время на притворство) позволило Гашеку создать едкую пародию на официозный идеал солдата.
Имя Швейка мелькнуло затем раз-другой в довоенных юмористических пьесах, которые Гашек сочинял вместе со своими друзьями и ставил в кабаре. Однако нельзя сказать, чтобы пьесы в чем-то дополнили и обогатили этот образ. Новый сдвиг в истории персонажа произошел лишь позднее, после новых встреч Гашека с реальным Йозефом Швейком, которые состоялись уже в России, где Швейк, как и Гашек, оказался во время Первой мировой войны – сначала в плену, а затем в добровольческих чехословацких частях. По воле случая они даже служили некоторое время в одном полку. Новое общение со Швейком и натолкнуло Гашека на мысль вернуться к дальнейшей разработке этого типажа. Так возникла повесть «Бравый солдат Швейк в плену», написанная в начале 1917 года. В ней уже наметились многие образы персонажей, мотивы и звенья сюжета, повторенные и развитые затем в вершинном произведении Гашека – романе «Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны». Образ героя романа вписан в широкую картину военных событий. Книга выросла в целую комическую эпопею, поражающую и мощной стихией смеха, и неподдельной народной атмосферой сатиры, вскрывающей абсурдность происходящего. Произведение насыщено площадным, плебейским, солдатским юмором. В нем господствует смех городской улицы и казармы, грубоватый, соленый юмор низов, видящих мир без косметики, на свой аршин мерящих высокие материи, дела и слова властей и «чистой» публики. Нормы поведения, внушаемые верхами, сталкиваются с представлениями, выворачивающими официальную картину мира наизнанку.
Блестяще найден образ главного героя романа. Швейк – совершенно особый тип, а роман Гашека – особое произведение. В нем не совсем обычная роль отведена и читателю. При чтении этого романа восприятие не ограничивается привычным сопереживанием и соразмышлением. Читатель втянут еще в один увлекательный и интригующий процесс. Он все время гадает и не может до конца угадать, где кончается наивность героя и начинается притворство и плутовство, где усердие (и есть ли оно), а где спектакль. По глупости или по умыслу в день объявления войны Швейк появляется на пражских улицах в инвалидной коляске и с воинственными возгласами потрясает костылями? Случайно или намеренно он переодевается в форму русского военнопленного и попадает в австрийский плен? И так вплоть до мелочей – состроил или не состроил Швейк гримасу, когда военные врачи попросили его показать язык, по недомыслию или нарочно он будит только что уснувшего офицера, чтобы спросить, когда его разбудить, и т. п. Швейк обладает необыкновенной способностью, особенно в общении с начальством, при полном послушании создавать профанирующие комические ситуации, причем остается неясным, возникают они из-за его придурковатости или хитрости, хотя вольная или невольная провокация в его поведении то и дело перевешивает. В образ заложен механизм игры, комической мистификации, направленной отчасти и на читателя, которого Швейк тоже немножко водит за нос. На грани наивности и подвоха часто удерживаются и бесконечные разглагольствования Швейка, его комментарии к происходящему, которые вобрали в себя вульгарный опыт плебса, контрастирующий с приглаженной, официальной картиной мира. Одним из главных источников комизма в романе является столкновение противоположных представлений – предписанных и тех, что подсказывает жизнь.
Поэтика смеховой игры, составляющая подоплеку образа Швейка и романа в целом, дает возможность автору вовлекать читателя в стихию безудержного и веселого развенчания милитаризма, полицейского режима, национального и социального гнета. Писатель вскрыл и покарал смехом абсурдность многих отношений в современном мире, их бесчеловечность и фальшь, выставил на осмеяние целую систему мифов, громких фраз и фетишей, прикрывающих и маскирующих ненормальность этих отношений.
Комическая эпопея Гашека была создана за поразительно короткое время. Он начал работу ранней весной 1921 года, а к концу следующего года было написано уже около сорока авторских листов. Однако роман остался незавершенным. Писатель умер (3 января 1923 года) в разгар работы над книгой в возрасте всего сорока лет. Сказалась бурная, полная драматизма жизнь, годы, проведенные на фронте, дважды перенесенный тиф.
Гашек собирался написать еще довольно много. Дальнейшие события должны были происходить в России. Общий замысел романа зафиксирован в рекламных плакатах, которые автор и его друзья распространяли еще весной 1921 года, когда публиковались первые главы романа, – он печатался сначала по частям, небольшими тетрадями, выпускаемыми по мере продвижения работы. Заглавие романа на плакатах гласило: «Похождения бравого солдата Швейка во время мировой и гражданской войны у нас и в России». В оставшихся ненаписанными частях романа Швейку предстояли тысячи километров пути на восток, которые проделал и его прототип. Гашек намеревался изобразить своего героя не только в чехословацких добровольческих частях, но и в Красной Армии (хотя реальный Швейк служил в чехословацком корпусе). К сожалению, этим планам писателя не суждено было сбыться.
Однако и в незавершенном виде роман Гашека получил широчайшую известность и вызвал восторг читателей не только в Чехии, но и за рубежом. Гашек не дожил до своей всемирной славы каких-нибудь семи-восьми лет. Образ его главного героя оказался настолько выразительным, что имя Швейка сделалось нарицательным (как, впрочем, и имена некоторых других персонажей романа: поручика Дуба, фельдкурата Отто Каца и т. д.). К образу Швейка стали охотно обращаться представители разных видов искусства, создавая все новые и новые его воплощения. Вспомним всевозможные его скульптурные изображения, различные фигурки и статуэтки, театральные постановки и киноэкранизации романа, в том числе кукольные (к последним относится замечательный чешский фильм Иржи Трнки), не говоря уже о многочисленных графических изображениях, начиная с прославленных иллюстраций друга Гашека Йозефа Лады (Гашек, к сожалению, видел лишь отдельные рисунки, основная их масса была создана позднее). Можно назвать и прекрасных русских иллюстраторов – Е. А. Ведерникова и других. К образу Швейка иногда обращаются и другие писатели, создающие новые литературные произведения о нем. Авторы сохраняют основной типаж, но переносят его в иную обстановку и среду, включают в новые сюжеты. Первым был соотечественник Гашека, пражский прозаик Карел Ванек, который попробовал дописать роман Гашека и уже в 1920-е годы осуществил свой замысел. Идея была, конечно, наивной и утопичной, но, может быть, Ванек потому и ухватился за нее, что интуитивно почувствовал в образе Швейка своего рода архетипический потенциал и богатую возможность вариаций. Позднее Бертольт Брехт, восторженный отзыв которого о романе Гашека уже приводился, напишет пьесу о похождениях Швейка во время Второй мировой войны.
Примечательно бытование образа Швейка в Советском Союзе в годы Великой Отечественной войны. Роман Гашека своей сатирической энергией направлен отчасти и против германского милитаризма. Это привлекло советских сатириков и журналистов военных лет, сочинявших новые и новые похождения Швейка, где находчивый и неуязвимый герой Гашека водил за нос гитлеровских фельдфебелей и офицеров или непосредственно сражался с ними. Уже на 16-й день войны в Севастополе, в газете Черноморского флота «Красный черноморец», капитан-лейтенант А. В. Баковиков начал публиковать главы «Новых похождений Швейка». Всего появилось 13 глав. Кстати говоря, в первой же из них автор пророчески предсказал устами Швейка, что Гитлеру придется покончить с собой: «Этот идиот Гитлер объявил Советам войну, – говорит Швейк в начале повести. – Не иначе как он решил покончить самоубийством. Живым он из этой войны не выйдет». Новые рассказы о Швейке, написанные разными авторами, появлялись в газетах Юго-Западного фронта, в обороняющемся Ленинграде и т. д. В течение трех лет, с 1941 по 1944 год включительно, в газете Западного фронта «Красноармейская правда» М. Р. Слободской публиковал главы повести «Новые похождения Швейка» (всего вышло около 90 глав). Неоднократно они перепечатывались и в других армейских газетах, передавались по радио, выходили в виде книжных изданий. Известный кинорежиссер Сергей Юткевич снял о Швейке два фильма.
О популярности имени Гашека в нашей стране свидетельствует читательский спрос на книги чешского чародея юмора и смеха. Известен случай, когда «Похождения бравого солдата Швейка» были выпущены на русском языке тиражом ровно миллион экземпляров, и все равно книга сразу же разошлась. Общий тираж книжных изданий Гашека в СССР еще в 1989 году превысил 16 миллионов экземпляров. Нет сомнений, что Гашек останется одним из любимых авторов и для читателей XXI века.
С. В. Никольский
Предисловие
Великой эпохе нужны великие люди. На свете существуют непризнанные скромные герои, не завоевавшие себе славы Наполеона. История ничего не говорит о них. Но при внимательном анализе их слава затмила бы даже славу Александра Македонского. В наше время вы можете встретить на пражских улицах бедно одетого человека, который и сам не подозревает, каково его значение в истории новой, великой эпохи. Он скромно идет своей дорогой, ни к кому не пристает, но и к нему не пристают журналисты с просьбой об интервью. Если бы вы спросили, как его фамилия, он ответил бы просто и скромно: «Швейк». И действительно, этот тихий, скромный человек в поношенной одежде – не кто иной, как старый бравый солдат Швейк, отважный герой, имя которого еще во времена Австро-Венгрии не сходило с уст всех граждан Чешского королевства и слава которого не померкнет и в республике.
Я искренне люблю бравого солдата Швейка и, представляя вниманию читателей его похождения во время мировой войны, уверен, что все они будут симпатизировать этому непризнанному герою. Он не поджег храма богини в Эфесе, как это сделал глупец Герострат для того, чтобы попасть в газеты и школьные хрестоматии.
И этого вполне достаточно.
Автор
Часть первая
В тылу
Глава I
Вторжение бравого солдата Швейка в мировую войну
– Убили, значит, Фердинанда-то нашего, – сказала Швейку его служанка.
Швейк несколько лет тому назад, после того как медицинская комиссия признала его идиотом, ушел с военной службы и теперь промышлял продажей собак – безобразных ублюдков, которым он сочинял фальшивые родословные.
Кроме того, он страдал ревматизмом и в настоящий момент растирал себе колени оподельдоком.
– Какого Фердинанда, пани Мюллер? – спросил Швейк, не переставая массировать колени. – Я знаю двух Фердинандов. Один служил у фармацевта Пруши и выпил у него как-то раз по ошибке бутылку жидкости для ращения волос, а еще есть Фердинанд Кокошка, тот, что собирает собачье дерьмо. Обоих ни чуточки не жалко.
– Нет, сударь, эрцгерцога Фердинанда. Того, что жил в Конопище, того толстого, набожного…
– Иисус Мария! – вскричал Швейк. – Вот-те на! А где это с паном эрцгерцогом случилось?
– Укокошили его в Сараеве. Из револьвера. Ехал он там со своей эрцгерцогиней в автомобиле.
– Скажите, пожалуйста, пани Мюллер, в автомобиле! Конечно, такой барин может себе это позволить. А наверно, и не подумал, что эти автомобильные поездки могут плохо кончиться. Да еще в Сараеве! Ведь это Сараево в Боснии, пани Мюллер… А подстроили это, видать, турки. Нечего нам было соваться отнимать у них Боснию и Герцеговину… Так вот какие дела, пани Мюллер. Эрцгерцог, значит, приказал долго жить. Долго мучился?
– Пан эрцгерцог сразу был готов, сударь. Известно – с револьвером шутки плохи. Недавно тут у нас в Нуслях забавлялся револьвером один господин и перестрелял всю семью да еще швейцара, который пошел посмотреть, кто там стреляет с четвертого этажа.
– Из иного револьвера, пани Мюллер, хоть лопни – не выстрелишь. Таких систем – пропасть. Но для пана эрцгерцога, наверно, купили что-нибудь особенное. К тому же я готов биться об заклад, что человек, который стрелял, по такому случаю как следует разоделся. Известное дело, стрелять в эрцгерцога – работа нелегкая. Это не то, что бродяге подстрелить лесника. Все дело в том, как до него добраться. К такому барину в лохмотьях не подойдешь. Нужно обязательно надеть цилиндр, а то того и гляди сцапает полицейский.
– Говорят, сударь, народу там много было.
– Это само собой, пани Мюллер, – подтвердил Швейк, заканчивая массаж колен. – Если бы вы, например, пожелали убить эрцгерцога или государя императора, вы обязательно с кем-нибудь посоветовались бы. Ум хорошо – два лучше. Один присоветует одно, другой – другое, «и путь открыт к успехам», как поется в нашем гимне. Главное дело – разнюхать, когда такой барин поедет мимо. Помните господина Люккени, который проткнул нашу покойную Елизавету напильником? Ведь он с ней прогуливался. Вот и верьте после этого кому-нибудь! С той поры ни одна императрица не ходит гулять. Это случится еще со многими. Вот увидите, пани Мюллер, что они доберутся и до русского царя с царицей, а может быть, не дай Бог, и до нашего государя императора, раз уж начали с его дяди. У него, у старика, много врагов, побольше еще, чем у Фердинанда. Недавно в трактире один господин рассказывал: «Придет время – эти императоры полетят один за другим, и им даже государственная прокуратура не поможет». Потом оказалось, что этому типу нечем расплатиться за пиво, и трактирщику пришлось позвать полицию, а он дал трактирщику оплеуху, а полицейскому – две. Потом его увезли в корзине очухаться… Да, пани Мюллер, дела нынче творятся! Значит, еще одна потеря для Австрии. Когда я был на военной службе, так там один пехотинец застрелил капитана. Зарядил ружье и пошел в канцелярию. Там сказали, что ему в канцелярии делать нечего, а он все свое: должен, мол, говорить с капитаном. Капитан вышел и лишил его отпуска из казармы, а он взял ружье и – бац ему прямо в сердце! Пуля пробила капитана насквозь да еще наделала в канцелярии бед: расколола бутылку с чернилами, и они залили служебные бумаги.
– А что стало с тем солдатом? – спросила минуту спустя пани Мюллер, когда Швейк уже одевался.
– Повесился на помочах, – ответил Швейк, чистя свой котелок. – А помочи-то были не его, он их одолжил у тюремного сторожа. У него, дескать, штаны спадают. Не ждать же ему было, пока его расстреляют? Да ведь понятно, пани Мюллер, в таком положении у кого голова кругом не пойдет! Тюремного сторожа разжаловали и вкатили ему шесть месяцев, но он их не отсидел, удрал в Швейцарию и теперь проповедует там в какой-то церкви. Нынче честных людей мало, пани Мюллер. Думается мне, что эрцгерцог Фердинанд в этом самом Сараеве ошибся в том человеке, который его застрелил. Увидел небось этого господина и подумал: «Должно быть, порядочный человек, раз меня приветствует». А тот возьми да и хлопни. Одну всадил или несколько?
– Газеты, сударь, пишут, что эрцгерцог был как решето. Тот выпустил в него все патроны.
– Это очень быстро делается, пани Мюллер. Страшно быстро. Я бы для такого дела купил себе браунинг: на вид игрушка, а из него можно в две минуты перестрелять двадцать эрцгерцогов, хоть тощих, хоть толстых. Впрочем, между нами говоря, пани Мюллер, в толстого эрцгерцога вернее попадешь, чем в тощего. Может, помните, как в Португалии подстрелили ихнего короля? А он был во какой толстый! Вы и сами ведь понимаете, тощим король не будет… Ну, я пошел в трактир «У чаши». Если придут брать терьера, за которого я взял задаток, то скажите, что я держу его на своей псарне за городом, что недавно подрезал ему уши и, пока уши не заживут, перевозить щенка нельзя, а то их можно застудить. Оставьте ключ у привратницы.
В трактире «У чаши» сидел только один посетитель. Это был агент тайной полиции Бретшнейдер. Трактирщик Паливец мыл посуду, и Бретшнейдер тщетно пытался завязать с ним серьезный разговор.
Паливец был известный грубиян. Каждое второе слово у него было «задница» или «дерьмо». Но при этом он был начитан и всем советовал прочесть, что написал Виктор Гюго о последнем предмете, рассказывая о том, как ответила англичанам Старая наполеоновская гвардия в битве при Ватерлоо.
– Хорошее лето стоит, – завязывал Бретшнейдер серьезный разговор.
– Всему этому цена дерьмо! – ответил Паливец, убирая посуду в шкаф.
– Ну и наделали нам в Сараеве делов! – со слабой надеждой промолвил Бретшнейдер.
– В каком «Сараеве»? – спросил Паливец. – В нусельском трактире, что ли? Там драки каждый день. Известное дело – Нусли!
– В Боснийском Сараеве, пан трактирщик. Застрелили там эрцгерцога Фердинанда. Что вы на это скажете?
– Я в такие дела не вмешиваюсь. Ну их всех в задницу с такими делами! – вежливо ответил пан Паливец, закуривая трубку. – Нынче вмешиваться в такие дела – того и гляди, сломаешь себе шею. Я трактирщик. Кто ко мне приходит, требует пива, я тому и наливаю. А какое-то Сараево, политика или там покойный эрцгерцог – нас это не касается. Не про нас это писано. Это Панкрацем пахнет.
Бретшнейдер умолк и разочарованно оглядел пустой трактир.
– Здесь прежде висел портрет государя императора, – минуту спустя опять заговорил он. – Как раз на том месте, где теперь зеркало.
– Да, правду изволите говорить, – ответил пан Паливец, – висел. Да только гадили на него мухи, так я его убрал на чердак. Знаете, еще позволит себе кто-нибудь на этот счет замечание, и может выйти неприятность. На кой черт мне это надо?
– В Сараеве, должно быть, очень скверно было, пан трактирщик?
На этот прямо поставленный коварный вопрос пан Паливец ответил чрезвычайно осторожно:
– Да, в это время в Боснии и Герцеговине страшно жарко. Когда я там служил, нашему обер-лейтенанту приходилось прикладывать лед к голове.
– В каком полку вы служили, господин трактирщик?
– Я таких мелочей не помню, я никогда не интересовался такой мерзостью, – ответил пан Паливец. – Я на этот счет не любопытен. Излишнее любопытство вредит.
Тайный агент Бретшнейдер окончательно умолк, и его нахмуренное лицо повеселело только с приходом Швейка, который, войдя в трактир, заказал себе черного пива, заметив при этом:
– В Вене сегодня тоже траур.
Глаза Бретшнейдера загорелись надеждой, и он быстро проговорил:
– В Конопище вывешено десять черных флагов.
– Нет, должно быть, двенадцать, – сказал Швейк, отпив из кружки.
– Почему вы думаете, что двенадцать? – спросил Бретшнейдер.
– Для ровного счета – дюжина. Так считать легче, да на дюжину и дешевле выходит, – ответил Швейк.
Воцарилась тишина, которую нарушил сам Швейк, вздохнув:
– Так, значит, приказал долго жить, царство ему небесное! Не дождался, пока будет императором. Когда я служил на военной службе, один генерал упал с лошади и расшибся. Хотели ему помочь, подсадить на коня, посмотрели, а он уже готов – мертвый. А ведь метил в фельдмаршалы. На смотру это с ним случилось. Эти смотры никогда до добра не доводят. В Сараеве небось тоже был какой-нибудь смотр. Помню я, как-то на смотру у меня на мундире не хватило двадцатой пуговицы, и за это меня посадили на четырнадцать дней в одиночку. И два дня я, как Лазарь, лежал связанный «козлом». Ничего не поделаешь – на военной службе должна быть дисциплина. Не будь ее, всем было бы на все наплевать. Наш обер-лейтенант Маковец всегда нам говорил: «Дисциплина, болваны, необходима. Не будь дисциплины, вы бы, как обезьяны, по деревьям лазили. Военная служба из вас, дураки безмозглые, людей сделает!» Ну, разве это не так? Вообразите себе сквер, скажем, на Карловой площади, и на каждом дереве сидит по одному солдату без всякой дисциплины. Это меня ужасно пугает.
– Все это сербы наделали, в Сараеве-то, – старался направить разговор Бретшнейдер.
– Ошибаетесь, – ответил Швейк, – это все турки натворили. Из-за Боснии и Герцеговины.
И Швейк изложил свой взгляд на внешнюю политику Австрии на Балканах: турки проиграли в 1912 году войну с Сербией, Болгарией и Грецией; они хотели, чтобы Австрия им помогала, а когда этот номер у них не прошел, – застрелили Фердинанда.
– Ты турок любишь? – обратился Швейк к трактирщику Паливцу. – Этих нехристей? Ведь нет?
– Посетитель как посетитель, – сказал Паливец, – хоть бы и турок. Нам, трактирщикам, до политики никакого дела нет. Заплати за пиво, сиди себе в трактире и болтай что в голову взбредет – вот мое правило. Кто бы ни прикончил нашего Фердинанда, серб или турок, католик или магометанин, анархист или младочех, – мне все равно.
– Хорошо, пан трактирщик, – промолвил Бретшнейдер, опять начиная терять надежду, что кто-нибудь из двух попадется. – Но сознайтесь, что это большая потеря для Австрии.
Вместо трактирщика ответил Швейк:
– Конечно, потеря, спору нет. Ужасная потеря. Фердинанда не заменишь каким-нибудь болваном. Только надо бы ему быть еще потолще.
– Что вы хотите этим сказать? – оживился Бретшнейдер.
– Что хочу сказать? – с охотой ответил Швейк. – Вот что. Если бы он был толще, то его уж давно бы хватила кондрашка, еще когда он в Конопище гонялся за старухами, которые у него в имении собирали хворост и грибы. Будь он толще, ему не пришлось бы умереть такой позорной смертью. Ведь только подумать – дядя государя императора, а его пристрелили! Это же позор, об этом трубят все газеты! У нас в Будейовицах несколько лет назад на базаре случилась небольшая ссора и проткнули одного торговца скотом, некоего Бржетислава Людвика. А у него был сын Богуслав, – так тот куда, бывало, ни придет продавать поросят, у него никто ничего не покупает. Каждый, бывало, говорил: «Это сын того, которого проткнули на базаре. Тоже небось порядочный жулик!» В конце концов ему ничего не оставалось, как прыгнуть в Крумлове с моста во Влтаву, а потом пришлось его оттуда вытаскивать, пришлось воскрешать, пришлось воду из него выкачивать… и все же ему пришлось скончаться на руках у доктора, после того как тот впрыснул ему что-то.
– Странное, однако, сравнение, – многозначительно произнес Бретшнейдер. – Сначала говорите о Фердинанде, а потом о торговце скотом.
– Вовсе нет, – стал оправдываться Швейк. – Боже сохрани, чтобы я вздумал кого-нибудь с кем-нибудь сравнивать! Пан трактирщик меня знает. Верно ведь, что я никогда никого ни с кем не сравнивал? Я только не хотел бы быть в шкуре вдовы эрцгерцога. Что она теперь будет делать? Дети осиротели, имение в Конопище без хозяина. Выходить за какого-нибудь другого эрцгерцога? Что толку? Поедет опять с ним в Сараево и второй раз овдовеет… Вот, например, в Зливе, близ Глубокого, несколько лет тому назад жил один лесник с этакой безобразной фамилией – Пиндюр. Застрелили его браконьеры, и осталась после него вдова с двумя детьми. Через год она вышла замуж опять за лесника, Пепика Шалловица из Мыловар, ну, и того тоже хлопнули. Вышла в третий раз опять за лесника и говорит: «Бог троицу любит. Если уж теперь не повезет, не знаю, что и делать». Понятно, и этого застрелили, а у нее уже было от этих лесников круглым счетом шестеро детей. Пошла она в канцелярию самого князя, в Глубокое, и плакалась там, какое с этими лесниками приняла мучение. Тогда ей порекомендовали выйти за Яреша, сторожа у пруда, с Ражицкой запруды. И – что бы вы думали? – утопили и его во время рыбной ловли! И от него она тоже прижила двух детей. Потом она вышла замуж за коновала из Воднян, и тот ее раз ночью стукнул топором и добровольно сам о себе заявил. Когда его потом при окружном суде в Писеке вешали, он укусил священнику нос и заявил, что вообще ни о чем не сожалеет, да сказал еще что-то очень скверное про государя императора.
– А не знаете, что он про него сказал? – голосом, полным надежды, спросил Бретшнейдер.
– Этого я вам сказать не могу, этого еще никто не осмелился повторить. Но его слова, говорят, были такие ужасные, что один судейский чиновник, который присутствовал там, спятил с ума, и его еще до сих пор держат в изоляции, чтобы ничего не вышло наружу. Это не было обычное оскорбление государя императора, какие делаются спьяну.
– А какие оскорбления государю императору делаются спьяну? – спросил Бретшнейдер.
– Прошу вас, господа, перемените разговор, – вмешался трактирщик Паливец. – Я, знаете, этого не люблю. Сбрехнут какую-нибудь ерунду, а потом человеку неприятности.
– Какие оскорбления наносятся государю императору спьяну? – переспросил Швейк. – Всякие. Напейтесь, велите сыграть вам австрийский гимн, и вы увидите, что наговорите. Насочините о государе императоре столько, что если бы лишь половина была правда, хватило бы ему позору на всю жизнь. А он, старик, по правде сказать, этого не заслужил. Примите во внимание: сына Рудольфа он потерял во цвете лет, полного сил, жену Елизавету у него проткнули напильником, потом не стало его брата Яна Орта, а брата – мексиканского императора застрелили в какой-то крепости у стенки. Теперь опять, на старости лет, подстрелили у него дядю. Нужно иметь железные нервы. И после всего этого вспомнит о нем какой-нибудь пьяница и начнет его ругать. Если теперь что-нибудь разразится, пойду добровольцем и буду служить государю императору до последней капли крови!
Швейк основательно хлебнул пива и продолжал:
– Вы думаете, что государь император все это так оставит? Плохо вы его знаете. Война с турками непременно должна быть. «Убили моего дядю, так вот вам по морде!» Война неизбежна. Сербия и Россия в этой войне нам помогут. Будет драка!
Швейк в момент своего пророчества был прекрасен. Его добродушное лицо вдохновенно сияло, как полная луна. Все для него было просто и ясно.
– Может статься, – продолжал он рисовать будущее Австрии, – что на нас в случае войны с Турцией нападут немцы. Ведь немцы с турками заодно. Это такие мерзавцы, равных которым в мире не сыщешь. Но мы можем заключить союз с Францией, которая с семьдесят первого года точит зубы на Германию, и все пойдет как по маслу. Война будет, больше я вам ничего не скажу.
Бретшнейдер встал и торжественно произнес:
– Больше вам говорить и не надо. Выйдемте-ка со мною на пару слов в коридор.
Швейк вышел за агентом тайной полиции в сени, где его ждал небольшой сюрприз: собутыльник показал ему «орла» и заявил, что Швейк арестован и он немедленно отведет его в полицию. Швейк пытался объяснить, что, по-видимому, пан ошибается, так как он совершенно невинен и не вымолвил ни одного слова, которое могло бы кого-нибудь оскорбить.
На это Бретшнейдер заявил, что Швейк совершил несколько преступлений, среди которых имела место и государственная измена.
Потом оба вернулись в трактир, и Швейк сказал Паливцу:
– Я выпил пять кружек пива и съел пару сосисок с рогаликом. Дайте мне еще рюмочку сливянки. Мне уже пора идти, так как я арестован.
Бретшнейдер показал Паливцу своего «орла», с минуту глядел на трактирщика и потом спросил:
– Вы женаты?
– Да.
– А может ваша жена вместо вас вести дело во время вашего отсутствия?
– Может.
– Тогда все в порядке, пан трактирщик, – весело сказал Бретшнейдер. – Позовите вашу супругу и передайте ей все дела. Вечером за вами приедем.
– Не тревожься, – утешал Паливца Швейк. – Я арестован всего только за государственную измену.
– Но я-то за что? – заныл Паливец. – Ведь я был так осторожен!
Бретшнейдер усмехнулся и сказал с победоносным видом:
– За то, что вы сказали, будто на государя императора гадили мухи. Вам этого государя императора вышибут из головы.
Швейк покинул трактир «У чаши» в сопровождении агента тайной полиции. Когда они вышли на улицу, Швейк, заглядывая ему в лицо, спросил со своей добродушной улыбкой:
– Мне сойти с тротуара?
– Зачем?
– Я полагаю, раз я арестован, то не имею права ходить по тротуару.
Когда они входили в ворота полицейского управления, Швейк заметил:
– Славно провели время! Часто бываете в трактире «У чаши»?
В то время как Швейка вели в канцелярию полиции, в трактире «У чаши» пан Паливец передавал дела своей плачущей жене, своеобразно утешая ее:
– Не плачь, не реви! Что они могут мне сделать из-за обгаженного портрета государя императора?
Так очаровательно и мило вступил в мировую войну бравый солдат Швейк. Историков заинтересует, как мог он так далеко заглянуть в будущее. Если позднее события развернулись не совсем так, как он излагал «У чаши», то мы должны иметь в виду, что Швейк не получил нужного дипломатического образования.
Глава II
Бравый солдат Швейк в полицейском управлении
Сараевское покушение наполнило полицейское управление многочисленными жертвами. Их приводили одну за другой, и в канцелярии для приема арестованных старик инспектор, встречая их, добродушно говорил:
– Этот Фердинанд вам дорого обойдется!
Когда Швейка заперли в одну из многочисленных камер в первом этаже, он нашел там общество из шести человек. Пятеро из них сидели вокруг стола, а в углу на койке, как бы сторонясь всех, сидел шестой – мужчина средних лет.
Швейк начал расспрашивать одного за другим, за что их посадили. От всех пяти, сидевших за столом, он получил почти один и тот же ответ:
– Из-за Сараева.
– Из-за Фердинанда.
– Из-за убийства эрцгерцога.
– За Фердинанда.
– За то, что в Сараеве прикончили эрцгерцога.
Шестой заявил, что он не желает иметь с этими пятью ничего общего, чтобы на него не пало подозрение: ведь он сидит тут лишь за попытку убийства голицкого мужика с целью грабежа.
Швейк подсел к обществу заговорщиков, которые уже в десятый раз рассказывали друг другу, как сюда попали.
Все, кроме одного, были схвачены либо в трактире, либо в винном погребке, либо в кафе. Исключение составлял необычайно толстый господин в очках с заплаканными глазами, который был арестован дома, у себя на квартире, потому что за два дня до сараевского покушения он заплатил по счету за двух сербских студентов-техников «У Брейшки» и, кроме того, его, пьяного, видел в обществе этих студентов в «Монмартре» на Ржетезовой улице агент Брикси, где, как преступник сам подтвердил в протоколе своей подписью, он тоже платил за них по счету.
На предварительном следствии в полицейском участке на все вопросы он вопил одну и ту же стереотипную фразу:
– У меня писчебумажный магазин!
На что получал такой же стереотипный ответ:
– Это для вас не оправдание.
Другой, небольшого роста господин, с которым та же неприятность произошла в винном погребке, был преподавателем истории и излагал хозяину этого погребка историю разных покушений. Его арестовали в тот момент, когда он заканчивал общий психологический анализ покушения словами:
– Идея покушения проста, как колумбово яйцо.
– Совершенно так же, как то, что вас ждет Панкрац, – дополнил его вывод полицейский комиссар при допросе.
Третий заговорщик был председателем благотворительного кружка в Годковичках «Добролюб». В день, когда было произведено покушение, «Добролюб» устроил в саду гулянье с музыкой. Пришел жандармский вахмистр и потребовал, чтобы участники разошлись, так как Австрия в трауре. На это председатель «Добролюба» добродушно сказал:
– Подождите минуточку, вот только доиграют «Гей, славяне».
Теперь он сидел повесив голову и причитал:
– В августе состоятся перевыборы президиума. Если меня не будет дома, может случиться, что меня не выберут. Меня уже десять раз подряд избирали председателем. Такого позора я не переживу.
Удивительную штуку сыграл покойник Фердинанд с четвертым арестованным, о котором следует сказать, что это был человек открытого характера и безупречной честности. Целых два дня он избегал всяких разговоров о Фердинанде и только вечером в кафе за «марьяжем», побивая трефового короля козырной бубновой семеркой, сказал:
– Семь пулек, как в Сараеве!
У пятого, который, как он сам признался, сидит «из-за этого самого убийства эрцгерцога в Сараеве», еще сегодня от ужаса волосы стояли дыбом и была взъерошена борода, так что его голова напоминала лохматого пинчера. Он был арестован в ресторане, где не промолвил ни единого слова, даже не читал газет об убийстве Фердинанда; он сидел у стола в полном одиночестве, как вдруг к нему подошел какой-то господин, сел напротив и быстро спросил:
– Читали об этом?
– Не читал.
– Знаете про это?
– Не знаю.
– А знаете, в чем дело?
– Не знаю и знать не желаю.
– Все-таки это должно было бы вас интересовать.
– Не знаю, что для меня там интересного. Я выкурю сигару, выпью несколько кружек пива и поужинаю. А газет не читаю. Газеты врут. Зачем себе нервы портить?
– Значит, вас не интересует даже это сараевское убийство?
– Меня вообще никакие убийства не интересуют. Будь то в Праге, в Вене, в Сараеве или в Лондоне. На то есть соответствующие учреждения, суды и полиция. Если кого где убьют, то так ему и надо. Не будь болваном и растяпой и не давай себя убивать.
Это были его последние слова. С этого момента он через каждые пять минут только громко повторял:
– Я не виновен, я не виновен!
Эти слова кричал он в воротах полицейского управления. И эти же слова он будет повторять, когда его повезут в пражский уголовный суд. С этими словами он войдет и в свою тюремную камеру.
Выслушав все эти страшные заговорщицкие истории, Швейк счел уместным разъяснить заключенным всю безнадежность их положения.
– Наше дело дрянь, – начал он слова утешения. – Это неправда, будто вам, всем нам, ничего за это не будет. На что же тогда полиция, как не для того, чтобы наказывать нас за наш длинный язык? Раз наступило такое тревожное время, что стреляют в эрцгерцогов, так нечего удивляться, что тебя ведут в полицию. Все это для шика, чтобы Фердинанду перед похоронами сделать рекламу. Чем больше нас здесь наберется, тем лучше для нас: веселее будет. Когда я служил на военной службе, посадили у нас как-то полроты. А сколько невинных людей осуждено не только на военной службе, но и гражданскими судами! Помню, как-то одну женщину осудили за то, что она удавила своих новорожденных близнецов. Хотя она клялась, что не могла задушить близнецов, потому что у нее родилась только одна девочка, которую ей совсем безболезненно удалось придушить, ее все-таки осудили за убийство двух человек. Или возьмем, к примеру, того невинного цыгана из Забеглиц, что вломился в мелочную лавочку в ночь под Рождество: он клялся, что зашел погреться, но это ему не помогло. Уж коли попал в руки правосудия, дело плохо. Плохо, да ничего не поделаешь. Все-таки надо признать – не все люди такие мерзавцы, как о них можно подумать. Но как нынче отличишь порядочного человека от прохвоста, особенно в такое серьезное время, когда вот даже ухлопали Фердинанда? У нас тоже, когда я был на военной службе в Будейовицах, застрелили раз собаку в лесу за плацем для упражнений. А собака была капитанова. Когда капитан об этом узнал, он вызвал нас всех, выстроил и говорит: «Пусть выйдет вперед каждый десятый». Само собой разумеется, я оказался десятым. Стали по стойке «смирно» и «не моргни». Капитан расхаживает перед нами и орет: «Бродяги! Мошенники! Сволочи! Гиены пятнистые! Всех бы вас за этого пса в карцер укатать! Лапшу из вас сделать! Перестрелять! Наделать из вас отбивных котлет! Я вам спуску не дам, всех на две недели без отпуска!..» Видите, тогда дело шло о собачонке, а теперь о самом эрцгерцоге. Тут надо нагнать страху, чтобы траур был как следует.
– Я не виновен, я не виновен! – повторял взъерошенный человек.
– Иисус Христос был тоже невинен, а его все же распяли. Нигде никогда никто не интересовался судьбой невинного человека. «Maul halten und welter dienen»,[11] как говаривали нам на военной службе. Это самое разлюбезное дело.
Швейк лег на койку и спокойно заснул.
Между тем привели двух новичков. Один из них был босниец. Он ходил по камере, скрежетал зубами и после каждого слова матерно ругался. Его мучила мысль, что в полицейском управлении у него пропадет лоток с товаром. Второй новичок был трактирщик Паливец, который, увидав своего знакомого Швейка, разбудил его и трагическим голосом воскликнул:
– И я уже здесь!
Швейк сердечно пожал ему руку и сказал:
– Очень приятно. Я знал, что тот господин сдержит слово, раз обещал, что за вами придут. Такая точность – вещь хорошая.
Но Паливец заявил, что такой точности цена – дерьмо, и тихо спросил Швейка, не воры ли остальные арестованные: ему как трактирщику это может повредить.
Швейк разъяснил, что все, кроме одного, который посажен за попытку убийства голицкого мужика с целью ограбления, принадлежат к их компании: сидят из-за эрцгерцога.
Паливец обиделся и заявил, что он здесь не из-за какого-то болвана эрцгерцога, а из-за самого государя императора. И так как все остальные заинтересовались этим, он рассказал им о том, как мухи загадили государя императора.
– Замарали мне его, бестии, – закончил он описание своих злоключений, – и под конец довели меня до тюрьмы. Я этого мухам так не спущу! – добавил он угрожающе.
Швейк опять завалился спать, но спал недолго, так как за ним пришли, чтобы отвести на допрос.
Итак, поднимаясь по лестнице в третье отделение на допрос, Швейк безропотно нес свой крест на Голгофу и не замечал своего мученичества. Прочитав надпись «Плевать на лестнице воспрещается», Швейк попросил у сторожа разрешения плюнуть в плевательницу и, сияя своей простотой, вступил в канцелярию со словами:
– Добрый вечер всей честной компании!
Вместо ответа кто-то дал ему под ребра и подтолкнул к столу, за которым сидел господин с холодным чиновничьим лицом, выражающим зверскую свирепость, словно он только что сошел со страницы книги Ломброзо «Типы преступников».
Он кровожадно посмотрел на Швейка и сказал:
– Не прикидывайтесь идиотом.
– Ничего не поделаешь, – серьезно ответил Швейк. – Меня освободили от военной службы за идиотизм. Особой комиссией я официально признан идиотом. Я – официальный идиот.
Господин с лицом преступника заскрежетал зубами.
– Предъявленные вам обвинения и совершенные вами преступления свидетельствуют о том, что вы в полном уме и здравой памяти.
И он тут же перечислил Швейку целый ряд разнообразных преступлений, начиная от государственной измены и кончая оскорблением его величества и членов царствующего дома. Среди этой кучи преступлений выделялось одобрение убийства эрцгерцога Фердинанда, отсюда отходила ветвь к новым преступлениям, между которыми ярко блистало подстрекательство к мятежу, поскольку все это происходило в общественном месте.
– Что вы на это скажете? – победоносно спросил господин со свирепыми чертами лица.
– Этого вполне достаточно, – невинно ответил Швейк. – Излишество вредит.
– Вот видите, сами признаете…
– Я все признаю. Строгость должна быть. Без строгости никто ничего не достиг бы. Вроде того, когда я служил на военной службе…
– Молчать! – крикнул полицейский комиссар на Швейка. – Говорите, только когда вас спрашивают! Понимаете?
– Как не понять, – сказал Швейк. – Осмелюсь доложить, понимаю и во всем, что вы изволите говорить, сумею разобраться.
– С кем состоите в сношениях?
– Со своей служанкой, ваша милость.
– А нет ли у вас каких-либо знакомств в здешних политических кругах?
– Как же, ваша милость. Покупаю вечерний выпуск «Национальной политики», «сучку».
– Вон! – заревел господин со зверским выражением лица.
Когда Швейка выводили из канцелярии, он сказал:
– Спокойной ночи, ваша милость.
Вернувшись в свою камеру, Швейк сообщил арестованным, что это не допрос, а смех один: немножко на вас покричат, а под конец выгонят.
– Раньше, – заметил Швейк, – бывало куда хуже. Читал я в какой-то книге, что обвиняемые, чтобы доказать свою невиновность, должны были ходить босиком по раскаленному железу и пить расплавленный свинец. А кто не хотел сознаться, тому на ноги надевали испанские сапоги и поднимали на дыбу или жгли ему пожарным факелом бока, вроде того, как это сделали со святым Яном Непомуцким. Тот, говорят, орал при этом так, словно его ножом резали, и не перестал реветь до тех пор, пока его в непромокаемом мешке не сбросили с Элишкина моста. Таких случаев пропасть, А потом человека четвертовали или же сажали на кол где-нибудь возле музея. Если же преступника просто бросали в подземелье, на голодную смерть, то такой человек чувствовал себя как бы заново родившимся. Теперь сидеть в тюрьме – одно удовольствие! – похваливал Швейк. – Никаких четвертований, никаких колодок. Койка у нас есть, стол есть, лавки есть, места много, похлебка нам полагается, хлеб дают, жбан воды приносят, отхожее место под самым носом. Во всем виден прогресс. Далековато, правда, ходить на допрос – по трем лестницам подниматься на следующий этаж, но зато на лестницах чисто и оживленно. Одного ведут сюда, другого – туда. Тут молодой, там старик, мужчины и женщины. Радуешься, что ты по крайней мере здесь не один. Каждый спокойно идет своей дорогой, и не приходится бояться, что ему в канцелярии скажут: «Мы посовещались, и завтра вы будете четвертованы или сожжены, по вашему собственному выбору». Это был тяжелый выбор! Я думаю, господа, что на многих из нас в такой момент нашел бы столбняк. Да, теперь условия улучшились в нашу пользу.
Швейк только что кончил защитительную речь в пользу современного тюремного заключения, как надзиратель открыл дверь и крикнул:
– Швейк, оденьтесь и идите на допрос!
– Я оденусь, – ответил Швейк. – Против этого я ничего не имею. Но боюсь, что тут какое-то недоразумение. Меня уже раз выгнали с допроса. И кроме того, я боюсь, как бы остальные господа, которые тут сидят, не рассердились на меня за то, что я иду на допрос уже во второй раз, а они еще ни разу за этот вечер не были. Они могут быть на меня в претензии.
– Вылезти и не трепаться! – последовал ответ на проявленное Швейком джентльменство.
Швейк опять очутился перед господином с лицом преступника, который безо всяких околичностей спросил его твердо и решительно:
– Во всем признаетесь?
Швейк уставил свои добрые голубые глаза на неумолимого человека и мягко сказал:
– Если вы желаете, ваша милость, чтобы я признался, так я признаюсь. Мне это не повредит. Но если вы скажете: «Швейк, ни в чем не сознавайтесь», – я буду выкручиваться до последнего издыхания.
Строгий господин написал что-то на акте и, подавая Швейку перо, сказал ему, чтобы тот подписался.
И Швейк подписал показания Бретшнейдера со следующим дополнением:
«Все вышеуказанные обвинения против меня признаю справедливыми.
Йозеф Швейк».
Подписав бумагу, Швейк обратился к строгому господину:
– Еще что-нибудь подписать? Или мне прийти утром?
– Утром вас отвезут в уголовный суд, – был ответ.
– А в котором часу, ваша милость, чтобы, Боже упаси, как-нибудь не проспать?
– Вон! – раздался во второй раз рев по ту сторону стола.
Возвращаясь к своему новому, огороженному железной решеткой очагу, Швейк сказал сопровождавшему его конвойному:
– Тут все идет как по-писаному.
Как только за Швейком заперли дверь, товарищи по заключению засыпали его разнообразными вопросами, на которые Швейк ясно и четко ответил:
– Я только что сознался, что, может быть, это я убил эрцгерцога Фердинанда.
Шесть человек в ужасе спрятались под вшивые одеяла.
Только босниец сказал:
– Приветствую!
Укладываясь на койку, Швейк заметил:
– Глупо, что у нас нет будильника.
Утром его все-таки разбудили и без будильника и ровно в шесть часов Швейка уже отвезли в тюремной карете в областной уголовный суд.
– Поздняя птичка глаза продирает, а ранняя носок прочищает, – сказал своим спутникам Швейк, когда «зеленый Антон» выезжал из ворот полицейского управления.
Глава III
Швейк перед судебными врачами
Чистые, уютные комнатки областного уголовного суда произвели на Швейка самое благоприятное впечатление: выбеленные стены, черные начищенные решетки и сам толстый пан Демертини – старший надзиратель подследственной тюрьмы с фиолетовыми петлицами и кантом на форменной шапочке. Фиолетовый цвет предписан не только здесь, но и при выполнении церковных обрядов в Великопостную среду и в Страстную пятницу.
Повторилась знаменитая история римского владычества над Иерусалимом. Арестованных выводили и ставили перед судом Пилатов 1914 года внизу, в подвале, а следователи, современные Пилаты, вместо того чтобы честно умывать руки, посылали к Тессигу за жарким под соусом из красного перца и за пльзенским пивом и отправляли новые и новые обвинительные материалы в государственную прокуратуру.
Здесь в большинстве случаев исчезала всякая логика и побеждал параграф, душил параграф, идиотствовал параграф, фыркал параграф, смеялся параграф, угрожал параграф, убивал и не прощал параграф. Это были жонглеры законами, жрецы мертвой буквы закона, пожиратели обвиняемых, тигры австрийских джунглей, рассчитывающие свой прыжок на обвиняемого согласно числу параграфов.
Исключение составляли несколько человек (точно так же, как и в полицейском управлении), которые не принимали закон всерьез. Ибо и между плевелами всегда найдется пшеница.
К одному из таких господ привели на допрос Швейка. Это был пожилой добродушный человек, который, допрашивая когда-то известного убийцу Валеша, постоянно предлагал ему: «Пожалуйста, присаживайтесь, пан Валеш, вот как раз свободный стул».
Когда привели Швейка, судья со свойственной ему любезностью попросил его сесть и сказал:
– Так вы, значит, тот самый пан Швейк?
– Я думаю, что им и должен быть, – ответил Швейк, – раз мой батюшка был Швейк и маменька пани Швейкова. Я не могу их позорить, отрекаясь от своей фамилии.
Любезная улыбка скользнула по лицу судебного следователя:
– Хороших вещей вы тут понаделали! На совести у вас много кое-чего.
– У меня всегда много кое-чего на совести, – сказал Швейк, улыбаясь любезнее, чем сам господин судебный следователь. – У меня на совести, может, еще больше, чем у вас, ваша милость.
– Это видно из протокола, который вы подписали, – не менее любезным тоном продолжал судебный следователь. – Не оказывали ли на вас давления в полиции?
– Да что вы, ваша милость. Я сам их спросил, должен ли это подписывать, и когда мне сказали подписать, я послушался. Не драться же мне с ними из-за моей собственной подписи. Пользы бы мне это безусловно не принесло. Во всем должен быть порядок.
– Чувствуете себя, пан Швейк, вполне здоровым?
– Совершенно здоровым – сказать нельзя, ваша милость, у меня ревматизм, натираюсь оподельдоком.
Старик опять любезно улыбнулся:
– А что бы вы сказали, если бы мы вас направили к судебным врачам?
– Я думаю, мне не так уж плохо, чтобы господа врачи тратили на меня время. Меня уже освидетельствовал один доктор в полицейском управлении, нет ли у меня триппера.
– Знаете что, пан Швейк, мы все-таки попытаемся обратиться к судебным врачам. Подберем хорошую комиссию, посадим вас в предварительное заключение, а вы тем временем как следует отдохнете. Еще один вопрос. Из протокола следует, что вы якобы распространяли слухи о том, будто скоро разразится война?
– Разразится, ваша милость господин советник, очень скоро разразится.
– Не страдаете ли вы падучей?
– Извиняюсь, нет. Правда, один раз я чуть было не упал на Карловой площади, когда меня задел автомобиль. Но это было уже много лет назад.
На этом допрос закончился. Швейк подал судебному следователю руку и, вернувшись в камеру, сказал своим соседям:
– Ну вот, стало быть, меня из-за убийства эрцгерцога Фердинанда осмотрят судебные доктора.
– Меня тоже осматривали судебные врачи, – сказал молодой человек, – когда я за кражу ковров предстал перед присяжными. Признали меня слабоумным. Теперь я пропил паровую молотилку, и мне за это ничего не будет. Вчера мой адвокат сказал, что если уж меня один раз признали слабоумным, то мне это пригодится на всю жизнь.
– Я этим судебным врачам нисколько не доверяю, – заметил господин интеллигентного вида. – Когда я подделывал векселя, то на всякий случай ходил на лекции профессора Гевероха. В конце концов меня поймали, и я симулировал паралитика в точности так, как их описывал нам профессор Геверох: укусил одного судебного врача из комиссии в ногу, выпил чернила из чернильницы и на глазах у всей комиссии, простите, господа, за нескромность, наделал в углу. Но как раз за то, что я укусил одного из членов этой комиссии, меня признали совершенно здоровым, и это меня погубило.
– Я этих осмотров совершенно не боюсь, – заявил Швейк. – Когда я служил на военной службе, так меня осматривал один ветеринар, и кончилось все очень хорошо.
– Судебные доктора – стервы! – отозвался скрюченный человечек. – Недавно как-то случайно выкопали на моем лугу скелет, и судебные врачи заявили, что этот человек скончался от удара каким-то тупым орудием по голове сорок лет тому назад. Мне тридцать восемь лет, а меня посадили, хотя у меня есть свидетельство о крещении, выписка из метрической книги и свидетельство о прописке.
– Я думаю, – сказал Швейк, – что на все надо смотреть беспристрастно. Каждый может ошибиться, а если будет о чем-нибудь очень долго размышлять, ошибется уж наверняка. Ведь и врачи – тоже люди, а людям свойственно ошибаться. Как-то в Нуслях, как раз у моста через Ботич, когда я ночью возвращался от Банзета, ко мне подошел один господин и хватил меня арапником по голове: я, понятно, свалился на землю, а он осветил меня и говорит: «Ошибка, это не он!» – да так эта ошибка его разозлила, что он взял и огрел меня еще раз по спине. Так уж человеку на роду написано – ошибаться до самой смерти. Вот был однажды случай: один человек нашел ночью полузамерзшего бешеного пса, взял его с собой домой и сунул к жене в постель. Пес отогрелся, пришел в себя и перекусал всю семью, а самого маленького в колыбели разорвал и сожрал. Или приведу еще пример, как ошибся один токарь из нашего дома. Отпер ключом подольский костел, думая, что это он домой пришел, разулся в ризнице, так как полагал, что он у себя в кухне, лег на престол, поскольку решил, что он дома в постели, накрылся покровами со священными надписями, а под голову положил Евангелие и еще другие священные книги, чтобы было повыше. Утром нашел его там церковный сторож, а наш токарь, когда опомнился, добродушно заявил ему, что с ним произошла ошибка. «Хороша ошибка! – говорит церковный сторож. – Из-за такой ошибки нам придется снова освящать костел». Потом предстал этот токарь перед судебными врачами, те ему доказали, что он был в полном сознании и трезвый, – дескать, если бы он был пьян, то не попал бы ключом в замочную скважину. Потом этот токарь умер в Панкраце… Приведу вам еще один пример, как в Кладно ошиблась полицейская собака-овчарка знаменитого ротмистра Роттера. Ротмистр Роттер дрессировал собак и тренировал их на бродягах до тех пор, пока все бродяги не стали обходить Кладненский район стороной. Тогда Роттер приказал, чтобы жандармы, хоть тресни, привели какого-нибудь подозрительного человека. Вот к нему привели однажды довольно прилично одетого человека, которого нашли в Ланских лесах. Он там сидел на пне. Роттер тотчас приказал отрезать кусок полы от его пиджака и дал этот кусок понюхать своим ищейкам. Потом того человека отвели на кирпичный завод за городом и пустили по его следам этих самых дрессированных собак, которые его нашли и привели назад. Затем этому человеку велели залезть по лестнице на чердак, прыгнуть через каменный забор, броситься в пруд, а собак спустили за ним. Под конец выяснилось, что этот человек был депутат-радикал, который поехал погулять в Ланские леса, когда ему опротивело сидеть в парламенте. Вот поэтому-то я и говорю, что людям свойственно ошибаться, будь то ученый или дурак необразованный. И министры ошибаются.
Судебная медицинская комиссия, которая должна была установить, должен ли Швейк, имея в виду его психическое состояние, нести ответственность за все те преступления, в которых он обвиняется, или нет, состояла из трех необычайно серьезных господ, причем взгляды одного совершенно расходились со взглядами двух других. Здесь были представлены три разные школы психиатров.
И если в случае со Швейком пришли к полному соглашению три противоположных научных лагеря, то это следует объяснить единственно тем огромным впечатлением, которое произвел Швейк на всю комиссию, когда, войдя в зал, где должно было происходить исследование его психического состояния, и заметив на стене портрет австрийского императора, он громко крикнул: «Господа, да здравствует государь император Франц Иосиф Первый!»
Дело было совершенно ясно. Благодаря сделанному Швейком по собственному почину заявлению целый ряд вопросов отпал и осталось только несколько важнейших. Ответы на них должны были подтвердить первоначальное мнение о Швейке, составленное на основе системы доктора психиатрии Каллерсона, доктора Гевероха и англичанина Вейкинга.
– Радий тяжелее олова?
– Я его, извиняюсь, не вешал, – со своей милой улыбкой ответил Швейк.
– Верите вы в конец света?
– Прежде я должен увидеть этот конец. Но, во всяком случае, завтра его еще не будет, – небрежно бросил Швейк.
– А вы могли бы вычислить диаметр земного шара?
– Извиняюсь, не смог бы, – сказал Швейк. – Однако мне тоже хочется, господа, задать вам одну загадку, – продолжал он. – Стоит четырехэтажный дом, в каждом этаже по восьми окон, на крыше два слуховых окна и две трубы, в каждом этаже по два квартиранта. А теперь скажите, господа, в каком году умерла у швейцара его бабушка?
Судебные врачи многозначительно переглянулись. Тем не менее один из них задал еще такой вопрос:
– Не знаете ли вы, какова наибольшая глубина в Тихом океане?
– Этого, извините, не знаю, – послышался ответ, – но думаю, что там наверняка будет глубже, чем под Вышеградской скалой на Влтаве.
– Достаточно? – лаконически спросил председатель комиссии.
Но один из членов попросил разрешения задать еще следующий вопрос:
– Сколько будет, если умножить двенадцать тысяч восемьсот девяносто семь на тринадцать тысяч восемьсот шестьдесят три?
– Семьсот двадцать девять, – не моргнув глазом, ответил Швейк.
– Я думаю, вполне достаточно, – сказал председатель комиссии. – Можете отвести обвиняемого на прежнее место.
– Благодарю вас, господа, – вежливо сказал Швейк, – с меня тоже вполне достаточно.
После ухода Швейка коллегия трех пришла к единому выводу: Швейк – круглый дурак и идиот согласно всем законам природы, открытым знаменитыми учеными-психиатрами. В заключении, переданном судебному следователю, между прочим, стояло:
«Нижеподписавшиеся судебные врачи сошлись в определении полной психической отупелости и врожденного кретинизма представшего перед вышеуказанной комиссией Швейка Йозефа, кретинизм которого явствует из заявления «Да здравствует император Франц Иосиф Первый», какового вполне достаточно, чтобы определить психическое состояние Йозефа Швейка как явного идиота. Исходя из этого нижеподписавшаяся комиссия предлагает:
1. Судебное следствие по делу Йозефа Швейка прекратить и
2. Направить Йозефа Швейка в психиатрическую клинику на исследование с целью выяснения, в какой мере его психическое состояние является опасным для окружающих».
В то время как состоялось это заключение, Швейк рассказывал своим товарищам по тюрьме:
– На Фердинанда наплевали, а болтали со мной о большой чепухе. Под конец мы сказали друг другу, что достаточно поговорили, и разошлись.
– Никому я не верю, – заметил скрюченный человечек, на лугу которого случайно выкопали скелет, – все это одно жульничество.
– Без жульничества тоже нельзя, – возразил Швейк, укладываясь на соломенный матрац. – Если бы все люди заботились только о благополучии других, то еще скорее передрались бы между собой.
Глава IV
Швейка выгоняют из сумасшедшего дома
Описывая впоследствии свое пребывание в сумасшедшем доме, Швейк отзывался об этом учреждении с необычайной похвалой:
– По правде сказать, не знаю, почему эти сумасшедшие сердятся, что их там держат. Там разрешается ползать нагишом по полу, выть шакалом, беситься и кусаться. Если бы кто-нибудь проделал то же самое на улице, так прохожие диву бы дались. Но там это – самая обычная вещь. Там такая свобода, которая и социалистам не снилась. Человек там может выдавать себя и за Бога, и за Божью Матерь, и за Папу Римского, и за английского короля, и за государя императора, и за святого Вацлава. (Впрочем, тот все время был связан и лежал нагишом в одиночке.) Еще был там такой, который все кричал, что он архиепископ. Этот ничего не делал, только жрал, да еще кое-что, извиняюсь, делал, что рифмуется со словом жрал. Впрочем, там никто этого не стыдится. А один даже выдавал себя за святых Кирилла и Мефодия, чтобы получать двойную порцию. Там даже сидел беременный господин, этот всех приглашал на крестины. Много было там шахматистов, политиков, рыболовов, скаутов, коллекционеров почтовых марок, фотографов-любителей. Один попал туда из-за каких-то старых горшков, которые он называл урнами. Другого все время держали связанным в смирительной рубашке, чтобы он не мог вычислить, когда наступит конец света. Сошелся я там с некоторыми профессорами. Один из них все время ходил за мной по пятам и разъяснял, что прародина цыган была в Крконошах, а другой доказывал, что внутри земного шара имеется другой шар, значительно больше наружного. В сумасшедшем доме каждый мог говорить все, что взбредет ему в голову, словно в парламенте. Как-то раз принялись там рассказывать сказки, да разодрались, когда с какой-то принцессой дело кончилось скверно. Самым буйным был господин, выдававший себя за шестнадцатый том Научного энциклопедического словаря издания Отто и просивший каждого, чтобы его раскрыли и нашли слово «переплетное шило», – иначе он погиб. Успокоился он только после того, как на него надели смирительную рубашку. Тогда он начал хвалиться, что попал в переплет, и просить, чтобы ему сделали модный обрез. Вообще жилось там, как в раю. Можете себе кричать, реветь, петь, плакать, блеять, визжать, прыгать, молиться, кувыркаться, ходить на четвереньках, скакать на одной ноге, бегать кругом, танцевать, мчаться галопом, по целым дням сидеть на корточках или лезть на стену, и никто к вам не подойдет и не скажет: «Послушайте, этого делать нельзя, это неприлично, стыдно, ведь вы культурный человек». Но, по правде сказать, там были только тихие помешанные. Например, сидел там один ученый-изобретатель, который все время ковырял в носу и лишь раз в день произносил: «Я только что открыл электричество». Повторяю, очень хорошо там было, и те несколько дней, что я провел в сумасшедшем доме, были лучшими днями моей жизни.
И правда, даже самый прием, который оказали Швейку в сумасшедшем доме, когда его привезли на испытание из областного уголовного суда, превзошел все его ожидания. Прежде всего Швейка раздели донага, потом дали ему халат и повели купаться, дружески подхватив под мышки, причем один из санитаров развлекал его еврейскими анекдотами, В купальной его погрузили в ванну с теплой водой, затем вытащили оттуда и поставили под холодный душ. Это повторили с ним три раза, потом осведомились, как ему это понравилось. Швейк ответил, что это даже лучше, чем в банях у Карлова моста, и что он страшно любит купаться. «Если вы еще для полного счастья острижете мне ногти и волосы, то о большем и мечтать не приходится», – прибавил он, мило улыбаясь.
Его желание было исполнено. Затем Швейка основательно растерли губкой, завернули в простыню и отнесли в первое отделение в постель. Там его уложили, прикрыли одеялом и попросили заснуть.
Швейк еще и теперь с любовью вспоминает то время:
– Представьте себе, меня несли, несли до самой постели. Я испытывал неземное блаженство.
На постели Швейк заснул блаженным сном. Потом его разбудили и предложили кружку молока и булочку. Булочка была уже разрезана на маленькие кусочки, и в то время как один санитар держал Швейка за обе руки, другой обмакивал кусочки булочки в молоко и кормил его, вроде того как кормят клецками гусей.
Потом Швейка взяли под мышки и отвели в отхожее место, где его попросили удовлетворить большую и малую физиологические потребности.
Об этой чудесной минуте Швейк рассказывает с упоением. Мы не смеем повторить его рассказ о том, что с ним потом делали. Приведем только одну фразу: «Один из них держал меня при этом на руках», – вспоминал Швейк.
Затем его привели назад, уложили в постель и опять попросили уснуть. Через некоторое время его разбудили и отвели в кабинет для освидетельствования, где Швейк, стоя совершенно голый перед двумя врачами, вспомнил славное время рекрутчины, и невольно с его уст сорвалось:
– Tauglich![12]
– Что вы говорите? – спросил один из докторов. – Сделайте пять шагов вперед и пять назад.
Швейк сделал десять.
– Ведь я же вам сказал, – заметил доктор, – чтобы вы сделали пять.
– Мне лишней пары шагов не жалко.
После этого доктора потребовали от Швейка, чтобы он сел на стул, и один из них несколько раз стукнул его по коленке, затем сказал другому, что рефлексы вполне нормальны, на что тот покачал головой и принялся сам стучать Швейку по коленке, в то время как первый открывал Швейку веки и рассматривал его зрачки. Потом они отошли к столу и перебросились несколькими латинскими фразами.
– Послушайте, вы умеете петь? – спросил один из докторов Швейка. – Не могли бы вы нам спеть какую-нибудь песню?
– Сделайте одолжение, – ответил Швейк. – Хотя у меня нет ни голоса, ни музыкального слуха, но для вас попробую спеть, коли вам вздумалось развлечься.
И Швейк хватил:
- Что, монашек молодой,
- Головушку клонишь,
- Две горячие слезы
- Ты на землю ронишь?[13]
– Дальше не знаю, – прервал Швейк. – Если желаете, спою вам:
- Ох, болит мое сердечко,
- Ох, тоска запала в грудь.
- Выйду, сяду на крылечко
- На дороженьку взглянуть.
- Где ж ты, милая зазноба…
– Дальше тоже не знаю, – вздохнул Швейк. – Знаю еще первую строфу из «Где родина моя» и потом «Виндишгрец и прочие паны генералы утром спозаранку войну начинали», да еще пару простонародных песенок вроде «Храни нам, Боже, государя», «Шли мы прямо в Яромерь» и «Достойно есть, яко воистину…».
Оба доктора переглянулись, и один из них спросил Швейка:
– Исследовали когда-нибудь раньше ваше психическое состояние?
– На военной службе, – торжественно и гордо ответил Швейк. – Господа военные врачи официально признали меня полным идиотом.
– Мне кажется, что вы симулянт! – крикнул на Швейка другой доктор.
– Совсем не симулянт, господа! – защищался Швейк. – Я самый настоящий идиот. Можете справиться в канцелярии Девяносто первого полка в Чешских Будейовицах или в Управлении запасных в Карлине.
Старший врач безнадежно махнул рукой и, указывая на Швейка, сказал санитарам:
– Верните этому человеку одежду и передайте его в третье отделение в первый коридор. Потом один из вас пусть вернется и отнесет все документы в канцелярию. Да скажите там, чтоб долго не канителились, чтобы он у нас долго на шее не сидел.
Врачи еще раз бросили сердитый взгляд на Швейка, который учтиво пятился к дверям. На замечание одного из санитаров, чего, мол, он тут дурака валяет, Швейк ответил:
– Я ведь не одет, совсем голый, вот я и не хочу показывать панам того, что заставило бы их подумать, будто я невежа или нахал.
С того момента, как санитары получили приказ вернуть Швейку его одежду, они больше нисколько о нем не заботились, велели ему одеться, и один из них отвел его в третье отделение. Там Швейка держали несколько дней, пока канцелярия оформляла его выписку из сумасшедшего дома, и он имел полную возможность и здесь производить свои наблюдения. Обманутые врачи дали о нем такое заключение: «Слабоумный симулянт».
Так как Швейка выписали из лечебницы перед самым обедом, дело не обошлось без небольшого скандала.
Швейк заявил, что если уж его выкидывают из сумасшедшего дома, то не имеют права не давать ему обеда.
Скандал прекратил вызванный привратником полицейский, который отвел Швейка в полицейский комиссариат на Сальмовой улице.
Глава V
Швейк в полицейском комиссариате на Сальмовой улице
Вслед за прекрасными лучезарными днями в сумасшедшем доме для Швейка наступили часы, полные невзгод и гонений. Полицейский инспектор Браун обставил сцену встречи со Швейком в духе римских наместников времен милейшего императора Нерона. И так же свирепо, как в свое время наместники произносили: «Бросьте этого негодяя христианина львам!» – инспектор Браун сказал:
– За решетку его!
Ни слова больше, ни слова меньше. Только в глазах полицейского инспектора при этом появилось выражение какого-то особого извращенного наслаждения. Швейк поклонился и с достоинством сказал:
– Я готов, господа. Как я понимаю, «за решетку» означает – в одиночку, а это не так уж плохо.
– Не очень-то здесь распространяйся, – сказал полицейский, на что Швейк ответил:
– Я человек скромный и буду благодарен за все, что вы для меня сделаете.
В камере на нарах сидел, задумавшись, какой-то человек. Его лицо выражало апатию. Видно, ему не верилось, что дверь отпирали для того, чтобы выпустить его на свободу.
– Мое почтение, сударь, – сказал Швейк, присаживаясь к нему на нары. – Не знаете ли, который теперь час?
– Мне не до часов, – ответил задумчивый господин.
– Здесь недурно, – попытался завязать разговор Швейк. – Нары из струганого дерева.
Серьезный господин не ответил, встал и быстро зашагал в узком пространстве между дверью и нарами, словно торопясь что-то спасти.
Швейк между тем с интересом рассматривал надписи, нацарапанные на стенах. В одной из надписей какой-то арестант объявлял полиции войну не на живот, а на смерть. Текст гласил: «Вам это даром не пройдет!» Другой арестованный написал: «Ну вас к черту, петухи!» Третий просто констатировал факт: «Сидел здесь 5 июня 1913 года, обходились со мной прилично. Лавочник Йозеф Маречек из Вршовиц». Была и надпись, потрясающая своей глубиной: «Помилуй мя, Господи!»
А под этим: «Поцелуйте меня в ж…»
Буква «ж» все же была перечеркнута, и сбоку написано большими буквами: «ФАЛДУ». Рядом какая-то поэтическая душа написала стихи:
- У ручья печальный я сижу,
- Солнышко за горы уж садится,
- На пригорок солнечный гляжу,
- Там моя любезная томится…
Господин, бегавший между дверью и нарами, словно состязаясь в марафонском беге, наконец, запыхавшись, остановился, сел на прежнее место, положил голову на руки и вдруг завопил:
– Выпустите меня!.. Нет, они меня не выпустят, – через минуту сказал он про себя, – не выпустят. Я здесь уже с шести часов утра.
С ним вдруг ни с того ни с сего начался припадок разговорчивости. Он поднялся со своего места и обратился к Швейку:
– Нет ли у вас случайно при себе ремня, чтобы покончить со всем этим?
– С большим удовольствием могу вам услужить, – ответил Швейк, снимая свой ремень. – Я еще ни разу не видел, как вешаются в одиночке на ремне… Одно только досадно, – заметил он, оглядев камеру, – тут нет ни одного крючка. Оконная ручка вас не выдержит. Разве только повеситесь на нарах, стоя на коленях, как это сделал монах из Эмаузского монастыря, повесившись на распятии из-за молодой еврейки. Мне самоубийцы очень нравятся. Так извольте…
Хмурый господин, которому Швейк сунул ремень в руку, взглянул на этот ремень, швырнул его в угол и заплакал, размазывая грязными руками по лицу слезы и выкрикивая:
– У меня детки, а я здесь за пьянство и за безнравственный образ жизни, Иисус Мария! Бедная моя жена! Что мне скажут на службе! У меня деточки, а я здесь за пьянство и за безнравственный образ жизни! – И так далее, до бесконечности.
Наконец он как будто немного успокоился, подошел к двери и начал колотить в нее руками и ногами. За дверью послышались шаги и голос:
– Чего надо?
– Выпустите меня! – проговорил он таким тоном, словно это были его предсмертные слова.
– Куда? – раздался вопрос с другой стороны двери.
– На службу, – ответил несчастный отец, супруг, чиновник, пьяница и развратник.
Раздался смех, жуткий смех в тиши коридора… и шаги опять стихли.
– Видно, этот господин вас здорово ненавидит, коли так насмехается над вами, – сказал Швейк, в то время как его сосед, потерявший всякую надежду, опять уселся возле него. – Тюремщик, когда разозлится, на многое способен, а когда еще больше разозлится, способен на все. Сидите себе спокойно, если раздумали вешаться, и ждите развития дальнейших событий. Если вы чиновник, женаты и у вас есть дети, то все это действительно ужасно. Вы, если не ошибаюсь, уверены, что вас выгонят со службы?
– Трудно сказать, – вздохнул тот. – Дело в том, что я сам не помню, что я такое натворил. Знаю только, что меня откуда-то выкинули, но я хотел вернуться туда, чтобы закурить сигару. А началось все так хорошо… Видите ли, начальник нашего отдела справлял свои именины и позвал нас в винный погребок, потом мы попали в другой, в третий, в четвертый, в пятый, в шестой, в седьмой, в восьмой, в девятый…
– Не желаете ли, чтобы я вам помог считать? – вызвался Швейк. – Я в этих делах разбираюсь. Я раз за одну ночь побывал в двадцати восьми местах, но, к чести моей будь сказано, нигде больше трех кружек пива не пил.
– Словом, – продолжал несчастный подчиненный того начальника, который так великолепно справлял свои именины, – когда мы обошли с дюжину различных кабачков, то обнаружили, что начальник-то у нас пропал, хотя мы его заранее привязали на веревочку и водили за собой, как собачонку. Тогда мы отправились повсюду его разыскивать и под конец растеряли друг друга. В конце концов я очутился в одном из ночных кафе на Виноградах, в очень приличном заведении, где пил ликер прямо из бутылки. Что я делал потом – не помню… Знаю только, что уже здесь, в комиссариате, когда меня сюда привезли, оба полицейских рапортовали, будто я напился, вел себя непристойно, отколотил одну даму, разрезал перочинным ножом чужую шляпу, которую снял с вешалки, разогнал дамскую капеллу, публично обвинил обер-кельнера в краже двенадцати крон, разбил мраморную доску у столика, за которым сидел, и умышленно плюнул незнакомому господину за соседним столиком в черный кофе. Больше я ничего не делал… по крайней мере не помню, чтобы я еще что-нибудь натворил… Поверьте мне, я порядочный, интеллигентный человек и ни о чем другом не думаю, как только о своей семье. Что вы на это скажете? Ведь я не скандалист какой-нибудь!
– А много вам пришлось потрудиться, пока вы разбили эту мраморную доску, или вы ее раскололи с одного маху? – вместо ответа поинтересовался Швейк.
– Сразу, – ответил интеллигентный господин.
– Тогда вы пропали, – задумчиво произнес Швейк. – Вам докажут, что вы подготовлялись к этому путем долгой тренировки. А кофе этого незнакомого господина, в который вы плюнули, был без рома или с ромом?
И, не ожидая ответа, пояснил:
– Если с ромом, то хуже, потому что дороже. На суде все подсчитывают и подводят итоги, чтобы как-нибудь подогнать под серьезное преступление.
– На суде?.. – малодушно пролепетал почтенный отец семейства и, повесив голову, впал в то неприятное состояние духа, когда человека пожирают упреки совести.[14]
– А дома знают, что вы арестованы, или они узнают только из газет? – спросил Швейк.
– Вы думаете, что это появится… в газетах? – наивно спросила жертва именин своего начальника.
– Вернее верного, – последовал искренний ответ, ибо Швейк никогда не имел привычки скрывать что-нибудь от собеседника. – Читателям газет это очень понравится. Я сам всегда с удовольствием читаю рубрику о пьяных и об их бесчинствах. Вот недавно в трактире «У чаши» один посетитель выкинул такой номер: разбил сам себе голову пивной кружкой. Подбросил ее кверху, а голову подставил. Его увезли, а утром мы уже об этом читали в газетах. Или, например, в «Бендловке» дал я раз одному факельщику из похоронного бюро по роже, а он мне сдачи. Для того чтобы нас помирить, пришлось обоих посадить в каталажку, и сейчас же это появилось в «Вечерке»… Или еще случай: в кафе «У мертвеца» один коллежский советник разбил два блюдечка. Так, думаете, его пощадили? На другой же день попал в газеты… Вам остается только одно: послать из тюрьмы в газету опровержение, что опубликованная заметка вас-де не касается и что с этим однофамильцем вы не находитесь ни в родственных, ни в каких-либо иных отношениях. А домой пошлите записку, попросите это опровержение вырезать и спрятать, чтобы вы могли его прочесть, когда отсидите свой срок… Не холодно ли вам? – участливо спросил Швейк, заметив, что интеллигентный господин трясется. – В этом году конец лета что-то холодноват.
– Погибший я человек! – зарыдал сосед Швейка. – Не видать мне повышения…
– Что и говорить, – с радостью подтвердил Швейк. – Если вас после отсидки обратно на службу не примут, не знаю, скоро ли вы найдете другое место, потому что повсюду, даже если бы вы захотели служить у живодера, от вас потребуют свидетельство о благонравном поведении. Да, это удовольствие вам дорого обойдется… А у вашей супруги с детками есть на что жить, пока вы будете сидеть? Или же ей придется побираться Христа ради, а деток научить разным мошенничествам?
Раздалось рыдание:
– Бедные мои детки! Бедная моя жена!
Кающийся грешник встал и заговорил о своих детях:
– У меня их пятеро, самому старшему двенадцать лет, он в скаутах, пьет только воду и мог бы служить примером своему отцу, с которым, право же, подобный казус случился в первый раз в жизни.
– Он скаут? – воскликнул Швейк. – Люблю слушать про скаутов! Однажды в Мыловарах под Зливой, в районе Глубокой, округ Чешских Будейовиц, как раз когда наш Девяносто первый полк был там на учении, окрестные крестьяне устроили облаву на скаутов, которых очень много развелось в крестьянском лесу. Поймали они трех. И представьте себе, самый маленький из них, когда его взяли, так жалобно визжал и плакал, что мы, бывалые солдаты, не могли без жалости на него смотреть, не выдержали… и отошли в сторону. Пока их связывали, эти три скаута искусали восемь крестьян. Потом у старосты под розгами они признались, что во всей округе нет ни одного луга, которого бы они не измяли, греясь на солнце. И кстати, признались еще и в том, что у Ражиц, перед самой жатвой, совершенно случайно сгорела полоса ржи на корню, когда они во ржи жарили на вертеле серну, к которой с ножом подкрались в крестьянском лесу. Потом в их логовище в лесу нашли больше пятидесяти кило обглоданных костей от всякой домашней птицы и лесных зверей, огромное количество вишневых косточек, пропасть огрызков незрелых яблок и много всякого другого добра.
Но несчастный отец скаута все-таки не мог успокоиться.
– Что я наделал! – причитал он. – Погубил свою репутацию!
– Это уж как пить дать, – подтвердил Швейк со свойственной ему откровенностью, – После того, что случилось, ваша репутация погублена на всю жизнь Ведь если об этой истории будет напечатано в газетах, то кое-что к ней прибавят и ваши знакомые. Это уже в порядке вещей, лучше не обращайте внимания. Людей с подмоченной репутацией на свете, пожалуй, раз в десять больше, чем с незапятнанной. Это сущая ерунда.
В коридоре раздались грузные шаги, послышалось щелканье ключа в замке, дверь отворилась, и полицейский вызвал Швейка.
– Простите, – рыцарски напомнил Швейк, – я здесь только с двенадцати часов дня, а этот господин еще с шести часов утра. Я особенно не тороплюсь.
Вместо ответа сильная рука выволокла его в коридор, и дежурный молча повел Швейка по лестницам на второй этаж.
В комнате за столом сидел толстый полицейский комиссар, человек с бодрым выражением лица. Он обратился к Швейку:
– Так вы, значит, и есть Швейк? Как вы сюда попали?
– Самым простым манером, – ответил Швейк. – Я пришел сюда в сопровождении полицейского, потому что не мог позволить, чтобы меня выкидывали из сумасшедшего дома без обеда. Я им не уличная девка.
– Знаете что, Швейк, – сказал ласково комиссар, – зачем нам здесь, на Сальмовой улице, с вами ссориться? Не лучше ли будет, если мы вас направим в полицейское управление?
– Вы, как говорится, являетесь господином положения, – с удовлетворением ответил Швейк. – А пройтись вечерком в полицейское управление – это будет небольшая, но очень приятная прогулка.
– Очень рад, что мы с вами сошлись во мнениях, – весело заключил полицейский комиссар. – Лучше всего договориться. Не правда ли, Швейк?
– Я тоже всегда очень охотно советуюсь с другими, – ответил Швейк. – Поверьте, господин комиссар, я никогда не забуду вашей доброты.
Учтиво поклонившись, Швейк спустился с полицейским вниз, в караульное помещение, и через четверть часа его уже можно было видеть на углу Ечной улицы и Карловой площади в сопровождении другого полицейского, у которого под мышкой была зажата объемистая книга с немецкой надписью: «Arestantenbuch».[15]
На углу Спаленой улицы Швейк и его конвоир натолкнулись на толпу людей, теснившихся перед наклеенным объявлением.
– Это манифест государя императора об объявлении войны, – сказал Швейку конвоир.
– Я это предсказывал, – сказал Швейк. – А в сумасшедшем доме об этом еще ничего не знают, хотя им-то, собственно, это должно быть известно из первоисточника.
– Что вы хотите этим сказать? – спросил полицейский.
– Ведь там сидит много господ офицеров, – объяснил Швейк.
Когда они подошли к другой кучке, тоже толпившейся перед манифестом, Швейк крикнул:
– Да здравствует император Франц Иосиф! Мы победим!
Кто-то из воодушевленной толпы одним ударом нахлобучил ему котелок на уши, и в таком виде на глазах у сбежавшегося народа бравый солдат Швейк вторично проследовал в ворота полицейского управления.
– Эту войну мы безусловно выиграем, еще раз повторяю, господа! – С этими словами Швейк расстался с провожавшей его толпой.
В далекие-далекие времена в Европу долетело правдивое изречение о том, что завтрашний день разрушит даже планы нынешнего дня.
Глава VI
Прорвав заколдованный круг, Швейк опять очутился дома
От стен полицейского управления веяло духом чуждой народу власти. Эта власть вела слежку за тем, насколько восторженно отнеслось население к объявлению войны. За исключением нескольких человек, не отрекшихся от своего народа, которому предстояло изойти кровью за интересы, абсолютно чуждые ему, за исключением этих нескольких человек полицейское управление представляло собой великолепную кунсткамеру хищников-бюрократов, которые считали, что только всемерное использование тюрьмы и виселицы способно отстоять существование замысловатых параграфов. При этом хищники-бюрократы обращались со своими жертвами с язвительной любезностью, предварительно взвешивая каждое слово.
– Мне очень, очень жаль, – сказал один из этих черно-желтых хищников, когда к нему привели Швейка, – что вы опять попали в наши руки. Мы думали, что вы исправитесь… но увы, мы обманулись.
Швейк молча кивал головой в знак согласия, делая при этом такое невинное лицо, что черно-желтый хищник вопросительно взглянул на него и резко заметил:
– Не корчите из себя дурака!
Однако он тотчас же опять перешел на ласковый тон:
– Нам, право же, очень неприятно держать вас под арестом. По моему мнению, могу вас уверить, ваша вина не так уж велика, ибо, принимая во внимание ваш невысокий умственный уровень, нужно полагать, что вас, без сомнения, подговорили. Скажите мне, пан Швейк, кто, собственно, подстрекал вас на такие глупости?
Швейк откашлялся.
– Я, извиняюсь, ни о каких таких глупостях не знаю.
– Ну, разве это не глупость, пан Швейк, – увещевал хищник искусственно-отеческим тоном, – когда вы, по свидетельству полицейского, который вас сюда привел, собрав толпу перед наклеенным на углу манифестом о войне, возбуждали ее выкриками: «Да здравствует император Франц Иосиф! Мы победим!»
– Я не мог оставаться в бездействии, – объяснил Швейк, уставив свои добрые глаза на инквизитора. – Я пришел в волнение, увидев, что все читают этот манифест о войне и не проявляют никаких признаков радости. Ни победных кликов, ни «ура»… вообще ничего, господин советник. Словно их это вовсе не касается. Тут уж я, старый солдат Девяносто первого полка, не выдержал и прокричал эти слова. Будь вы на моем месте, вы, наверно, поступили бы точно так же. Война так война, ничего не поделаешь – мы должны довести ее до победного конца и должны постоянно провозглашать славу государю императору. Никто меня в этом не разубедит.
Прижатый к стене черно-желтый хищник не вынес взгляда невинного агнца Швейка, опустил глаза в свои бумаги и сказал:
– Вполне понял бы ваше воодушевление, если б оно было проявлено при других обстоятельствах. Вы сами отлично знаете, что вас вел полицейский, так что ваш патриотизм мог и даже должен был скорее рассмешить публику, чем произвести на нее серьезное впечатление.
– Идти под конвоем полицейского – это тяжелый момент в жизни каждого человека. Но если человек даже в этот тяжкий момент не забывает, что ему надлежит делать при объявлении войны, то, думаю, такой человек не так уж плох.
Черно-желтый хищник заворчал и еще раз посмотрел Швейку прямо в глаза. Швейк ответил своим невинным, мягким, скромным, нежным и теплым взглядом.
С минуту они пристально смотрели друг на друга.
– Идите к черту! – пробормотало наконец чиновничье рыло. – Но если вы еще раз сюда попадете, то я вас вообще ни о чем не буду спрашивать, а отправлю прямо в военный суд в Градчаны. Поняли?
Прежде чем он успел что-либо прибавить, Швейк подскочил к нему, поцеловал руку и сказал:
– Да вознаградит вас за это Бог! Если вам когда-нибудь понадобится чистокровная собачка, соблаговолите обратиться ко мне. Я торгую собаками.
Так Швейк опять очутился на свободе.
По дороге домой он размышлял о том, не зайти ли ему сперва в пивную «У чаши», и в конце концов он отворил ту же самую дверь, через которую не так давно вышел в сопровождении агента Бретшнейдера.
В пивной царило гробовое молчание. Там было несколько посетителей, и среди них церковный сторож из церкви Святого Аполлинария. Физиономии у всех были хмурые. За стойкой сидела трактирщица, жена Паливца, и тупо глядела на пивные краны.
– Вот я и вернулся! – весело сказал Швейк. – Дайте-ка мне кружечку пива. А где же наш пан Паливец? Небось уже дома?
Вместо ответа хозяйка залилась слезами и, горестно всхлипывая при каждом слове, простонала;
– Дали ему… десять лет… неделю тому назад…
– Ну, вот видите! – сказал Швейк. – Значит, семь дней уже отсидел.
– Он такой был… осторожный! – рыдала хозяйка. – Он сам это всегда о себе говорил…
Посетители пивной упорно молчали, словно тут до сих пор блуждал дух Паливца и призывал к еще большей осторожности.
– Осторожность – мать мудрости, – сказал Швейк, усаживаясь за стол и пододвигая к себе кружку пива, где в пивной пене образовалось несколько дырочек там, где капнули слезы жены Паливца, когда она несла пиво на стол. – Нынче время такое, что приходится быть осторожным.
– Вчера у нас было двое похорон, – переводил разговор на другое церковный сторож от Святого Аполлинария.
– Видать, помер кто-нибудь! – заметил другой посетитель.
Третий спросил:
– Покойного-то на катафалке везли?
– Интересно бы знать, – сказал Швейк, – как будут происходить военные похороны во время войны?
Посетители поднялись, расплатились и тихо вышли. Швейк остался наедине с трактирщицей.
– Я не представляю себе, – произнес Швейк, – чтобы невинного осудили на десять лет. Правда, однажды невинного приговорили к пяти годам – такое я слышал, но на десять – это уж, пожалуй, многовато!
– Что делать, ведь мой-то признался, – плакала жена Паливца. – Как он здесь говорил об этих мухах и портрете, так и в управлении суда повторил. Вызвали меня свидетельницей, но что я могла им сказать, когда мне заявили, что я имею право отказаться от свидетельских показаний, потому что нахожусь в родственных отношениях со своим мужем… Я так испугалась этих родственных отношений, как бы из этого еще чего-нибудь не вышло, что отказалась давать показания. Старик, бедняга, так на меня посмотрел… до самой смерти не забуду. А потом, после приговора, когда его уводили, взял да и крикнул им там, на лестнице, словно совсем с ума сошел: «Да здравствует Свободная мысль!»
– А пан Бретшнейдер сюда больше не ходит? – спросил Швейк.
– Был здесь несколько раз, – ответила трактирщица. – Выпьет одну-две кружки, спросит меня, кто здесь бывает, и слушает, как посетители рассказывают про футбол. Они всегда, когда пана Бретшнейдера увидят, говорят только про футбол, а его от этого передергивает – того и гляди судороги с ним сделаются и он взбесится. За все это время поймал на удочку только одного, обойщика с Поперечной улицы.
– Это дело навыка, – заметил Швейк. – Обойщик-то был глуповат, что ли?
– Ну, как мой муж, – ответила с плачем хозяйка. – Тот его спросил, стал бы он стрелять в сербов или нет. А обойщик ответил, что не умеет стрелять, что только раз был в тире, прострелил там корону. Тут мы все услышали, что пан Бретшнейдер произнес, вынув свою записную книжку: «Ага! Еще одна хорошенькая государственная измена», – и вышел с этим обойщиком с Поперечной улицы, и тот уже больше не вернулся.
– Много их не возвращается, – сказал Швейк. – Дайте-ка мне рому.
Как раз в тот момент, когда Швейк заказывал себе вторую рюмку рому, в трактир вошел тайный агент Бретшнейдер. Окинув беглым взглядом пустой трактир и заказав себе пива, он подсел к Швейку и стал ждать, не скажет ли тот чего.
Швейк снял с вешалки одну из газет и, просматривая последнюю страницу с объявлениями, отозвался:
– Смотрите-ка, некий Чимпера, село Страшково, дом номер пять, почтовое отделение Рачиневес, продает усадьбу с семью десятинами пашни. Имеется школа, и проходит железная дорога.
Бретшнейдер нервно забарабанил пальцами по столу и обратился к Швейку:
– Удивляюсь, почему вас интересует эта усадьба, пан Швейк?
– Ах, это вы? – воскликнул Швейк, подавая ему руку. – А я вас сразу не узнал. У меня очень плохая память. В последний раз мы расстались, если не ошибаюсь, в приемной канцелярии полицейского управления. Что с тех пор поделываете? Часто заглядываете сюда?
– Сегодня я пришел, чтобы повидать вас, – сказал Бретшнейдер. – В полицейском управлении мне сообщили, что вы торгуете собаками. Мне нужен хороший пинчер, или, скажем, шпиц, или вообще что-нибудь в этом роде…
– Это все мы вам можем предоставить, – ответил Швейк. – Желаете чистокровного или так… с улицы?
– Я думаю остановиться на чистокровной собаке, – ответил Бретшнейдер.
– А почему бы вам не завести себе полицейскую собаку? – спросил Швейк. – Она бы вам сразу все выследила, навела бы вас на след преступления. У одного мясника в Вршовицах есть такой пес; он возит ему тележку. Этот пес, можно сказать, работает не по специальности.
– Мне бы хотелось шпица, – сдержанно повторил Бретшнейдер, – шпица, который бы не кусался.
– Желаете беззубого шпица? – осведомился Швейк. – Есть такой на примете: в Дейвицах, у одного трактирщика.
– Пожалуй, уж лучше пинчера… – нерешительно произнес Бретшнейдер, собаководческие познания которого находились в зачаточном состоянии. Если бы не приказ из полицейского управления, он никогда не приобрел бы о собаках никаких сведений.
Но приказ был точный, ясный и определенный: во что бы то ни стало сойтись со Швейком поближе на почве торговли собаками. С этой целью Бретшнейдер имел право подобрать себе помощников и располагать известными суммами на покупку собак.
– Пинчеры бывают покрупнее и помельче, – сказал Швейк. – Есть у меня на примете два маленьких и три побольше. Всех пятерых можно держать на коленях. Могу их вам горячо рекомендовать.
– Это бы мне подошло, – заявил Бретшнейдер. – А сколько стоит один?
– Смотря по величине, – ответил Швейк, – все зависит от величины. Пинчер не теленок, с пинчерами дело обстоит как раз наоборот: чем меньше, тем дороже.
– Я взял бы покрупнее, дом сторожить, – сказал Бретшнейдер, боясь истощить секретный фонд полиции.
– Отлично! – подхватил Швейк. – Крупных могу вам продать по пятидесяти крон, самых крупных – по сорока пяти. Но мы забыли одну вещь: вам щенят или постарше; и потом – кобельков или сучек?
– Мне все равно, – ответил Бретшнейдер, которому надоели эти неразрешимые проблемы. – Так достаньте их, а я завтра в семь часов вечера к вам зайду. Договорились?
– Договорились, приходите, – неохотно согласился Швейк. – В таком случае я бы попросил у вас задаток – тридцать крон.
– Какие могут быть разговоры! – сказал Бретшнейдер, отсчитывая деньги. – Ну а теперь мы с вами разопьем по четвертинке вина на мой счет…
Когда они выпили, Швейк тоже заказал за свой счет четвертинку вина. Бретшнейдер стал убеждать Швейка не бояться его, заявив, что сегодня он не на службе и потому Швейк может свободно говорить с ним о политике.
Швейк заметил, что в трактире он никогда о политике не говорит, да вообще вся политика – занятие для детей младшего возраста.
Бретшнейдер, напротив, держался самых революционных убеждений. Он провозгласил, что каждое слабое государство обречено на гибель, и спросил Швейка, каков его взгляд на эти вещи.
Швейк на это ответил, что у него с государством никаких дел не было, но однажды у него находился на воспитании хилый щенок сенбернар, которого он подкармливал солдатскими сухарями, и щенок при этом издох.
Когда выпили по пятой, Бретшнейдер объявил себя анархистом и стал добиваться у Швейка совета, в какую организацию ему записаться.
Швейк рассказал, что однажды какой-то анархист купил у него в рассрочку за сто крон леонберга, но до сих пор не отдал последнего взноса.
За шестой четвертинкой Бретшнейдер высказался за революцию и против мобилизации, на что Швейк, наклонясь к нему, шепнул на ухо:
– Только что вошел какой-то посетитель. Как бы он вас не услышал, у вас могут быть неприятности. Видите, трактирщица уже плачет.
Жена Паливца действительно плакала на стуле за стойкой.
– Чего плачете, хозяюшка? – спросил Бретшнейдер. – Через три месяца мы победим, будет амнистия, и ваш муж вернется. Вот тогда закатим у вас пирушку!.. Или вы не думаете, что мы победим? – обратился он к Швейку.
– Зачем пережевывать все время одно и то же? – сказал Швейк. – Должны победить – и баста! Ну, мне пора домой.
Швейк расплатился и вернулся к своей старой служанке, пани Мюллер, которая очень испугалась, увидев, что мужчина, отпирающий ключом входную дверь, не кто иной, как сам Швейк.
– А я, сударь, думала, что вы вернетесь только через несколько лет, – сказала она с присущей ей откровенностью, – и я тут… из жалости… на время… взяла в жильцы одного швейцара из ночного кафе, потому что… у нас тут три раза был обыск, и, после того как ничего не нашли, сказали, что наше дело плохо, по всему видать, что вы опытный преступник.
Швейк быстро убедился, что незнакомец устроился со всеми удобствами: спал на его постели и даже был настолько джентльменом, что удовольствовался лишь одной половиной, а другую предоставил некоему длинноволосому созданию, которое из благодарности спало, обняв его за шею. На полу вокруг постели валялись вперемешку принадлежности мужского и дамского туалета. По всему этому хаосу было ясно, что швейцар из ночного кафе вернулся вчера со своей дамой навеселе.
– Сударь, – сказал Швейк, тряся втершегося квартиранта, – сударь, как бы вам не опоздать к обеду. Мне будет очень неприятно, если вы начнете всем рассказывать, что я вас выставил в такое время, когда уже нигде не достанешь обеда.
Прошло немало времени, пока заспанный швейцар из ночного кафе раскусил наконец, что вернулся домой владелец постели и предъявляет на нее свои права.
По свойственной всем швейцарам ночных кафе привычке господин этот выразился в том духе, что пересчитает ребра каждому, кто осмелится его будить. После этого он вознамерился спать дальше.
Швейк между тем собрал части его туалета, принес их к постели и, энергично встряхнув швейцара, сказал:
– Если вы не оденетесь, то придется вас выкинуть на улицу так, как вы есть. Вам будет гораздо выгоднее вылететь отсюда одетым.
– Я хотел спать до восьми часов вечера, – проговорил озадаченный швейцар, натягивая штаны. – Я плачу хозяйке за постель по две кроны в день и могу водить сюда барышень из кафе… Марженка, вставай!
Надевая воротничок и завязывая галстук, он уже настолько пришел в себя, что стал уверять Швейка, будто ночное кафе «Мимоза» безусловно одно из самых приличных заведений, куда имеют доступ только те дамы, у которых желтый билет в полном порядке, и любезно приглашал Швейка заглянуть туда.
Однако его партнерша осталась весьма недовольна Швейком и пустила в ход несколько веских великосветских выражений, из которых самым приличным было: «Олух царя небесного!»
После ухода непрошеных жильцов Швейк пошел на кухню за пани Мюллер, чтобы вместе с ней навести порядок, но не нашел никаких ее следов, кроме клочка бумаги, на котором карандашом были выведены какие-то каракули. Это пани Мюллер необычайно просто выразила свои мысли, касающиеся несчастного случая со сдачей напрокат швейковской постели швейцару из ночного кафе. На клочке было написано:
«Простите, сударь, я вас больше не увижу, потому что бросаюсь из окна».
– Врет! – сказал Швейк и стал ждать.
Через полчаса в кухню вползла несчастная пани Мюллер, и по удрученному выражению ее лица было видно, что она ждет от Швейка слов утешения.
– Если хотите броситься из окна, – сказал Швейк, – так идите в комнату, окно я открыл. Прыгать из кухонного я бы вам не рекомендовал, потому что вы упадете в сад на розы, поломаете все кусты, и за это вам придется платить. А из того окна вы отлично слетите на тротуар и, если вам повезет, сломаете себе шею. Если же не повезет, то вы переломаете себе только ребра, руки и ноги, и вам придется платить за лечение в больнице.
Пани Мюллер заплакала, тихо пошла в комнату Швейка… закрыла окно и, вернувшись, сказала:
– Дует, а при вашем, сударь, ревматизме это нехорошо.
Затем, постелив постель и с необычайной старательностью приведя все в порядок, она вернулась, все еще заплаканная, в кухню и доложила Швейку:
– Те два щеночка, сударь, что были у вас на дворе, подохли, а сенбернар сбежал во время обыска.
– Черт возьми! – воскликнул Швейк. – Он может влипнуть в историю! Теперь, наверно, его будет выслеживать полиция.
– Он укусил одного из господ полицейских комиссаров, – продолжала пани Мюллер, – когда тот во время обыска вытаскивал его из-под кровати. Один из этих господ сказал, что под кроватью кто-то есть, и сенбернару именем закона приказано было вылезать, но тот и не подумал, и тогда его вытащили. Сенбернар хотел их всех сожрать, а потом вылетел в дверь и больше не вернулся. Мне тоже учинили допрос, спрашивали, кто к нам ходит, не получаем ли денег из-за границы, а потом стали намекать, что я дура, когда я им сказала, что деньги из-за границы поступают только изредка, последний раз от господина управляющего из Брно – помните, шестьдесят крон задатка за ангорскую кошку, вы о ней дали объявление в газету «Национальная политика», а вместо нее послали в Брно в ящике из-под фиников слепого щеночка фокстерьера. Потом заговорили со мной очень ласково и рекомендовали мне в жильцы, чтобы мне одной боязно не было, этого швейцара из ночного кафе, которого вы выбросили.
– Уж и натерпелся я от этой полиции, пани Мюллер! – вздохнул Швейк. – Вот скоро увидите, сколько их сюда придет за собаками.
Не знаю, расшифровали ли те, кто после переворота просматривал полицейский архив, статьи расхода секретного фонда государственной полиции, где значилось: СБ – 40 к.; ФТ – 50 к.; Л – 80 к. и так далее, но они безусловно ошибались, если думали, что СБ, ФТ и Л – это инициалы неких лиц, которые за 40, 50, 80 и т. д. крон продавали чешский народ черно-желтому орлу.
В действительности же СБ означает сенбернара, ФТ – фокстерьера, а Л – леонберга. Всех этих собак Бретшнейдер привел от Швейка в полицейское управление.
Это были гадкие страшилища, не имевшие абсолютно ничего общего ни с одной из чистокровных собак, за которых Швейк выдавал их Бретшнейдеру. Сенбернар был помесь нечистокровного пуделя с дворняжкой; фокстерьер, с ушами таксы, был величиной с волкодава, а ноги у него были выгнуты, словно он болел рахитом; леонберг своей мохнатой мордой напоминал овчарку, у него был обрубленный хвост, рост таксы и голый зад, как у павиана.
Заходил к Швейку купить собаку и сам сыщик Калоус… и вернулся с настоящим уродом, напоминающим пятнистую гиену, хотя у него и была грива шотландской овчарки. А в статье секретного фонда с тех пор прибавилась новая пометка: Д – 90 к.
Этот урод должен был изображать дога.
Но даже Калоусу не удалось ничего выведать у Швейка. Он добился того же, что и Бретшнейдер. Самые тонкие политические разговоры Швейк переводил на лечение собачьей чумы у щенят, а ловкое закидывание искуснейших незримых сетей кончалось тем, что Бретшнейдер увозил с собой от Швейка еще одно чудовище, самого невероятного ублюдка.
И вот наступил конец знаменитого сыщика Бретшнейдера. Когда у него в квартире появилось уже семь подобных страшилищ, он заперся с ними в задней комнате и не давал им ничего жрать до тех пор, пока псы не сожрали его самого. Он был так честен, что избавил казну от расходов по похоронам.
В полицейском управлении в его послужной список, в графу «Повышения по службе», были занесены следующие полные трагизма слова: «Сожран собственными псами».
Узнав позднее об этом трагическом происшествии, Швейк сказал:
– Не могу себе представить, как его соберут, когда ему придется предстать на Страшном Суде.
Глава VII
Швейк идет на войну
В то время, когда галицийские леса, простирающиеся вдоль реки Раб, видели бегущие через эту реку австрийские войска, в то время, когда на юге, в Сербии, австрийским дивизиям, одной за другой, всыпали по первое число (что они уже давно заслужили), – австрийское военное министерство вспомнило и о Швейке, надеясь, что он поможет монархии расхлебывать кашу.
Когда Швейку принесли повестку о том, что он должен через неделю явиться на Стршелецкий остров для медицинского освидетельствования, он как раз лежал в постели: у него опять начался приступ ревматизма. Пани Мюллер варила ему на кухне кофе.
– Пани Мюллер, – послышался из соседней комнаты тихий голос Швейка, – пани Мюллер, подойдите на минуточку.
Служанка подошла к постели, и Швейк тем же тихим голосом произнес:
– Присядьте, пани Мюллер.
Его голос звучал таинственно и торжественно. Когда пани Мюллер села, Швейк, приподнимаясь на постели, провозгласил:
– Я иду на войну.
– Матерь Божья! – воскликнула пани Мюллер. – Что вы там будете делать?
– Сражаться, – гробовым голосом ответил Швейк. – У Австрии дела очень плохи. Сверху лезут на Краков, а снизу – на Венгрию. Всыпали нам и в хвост и в гриву, куда ни погляди. Ввиду всего этого меня призывают на войну. Еще вчера я читал вам в газете, что «дорогую родину заволокли тучи».
– Но ведь вы не можете двигаться!
– Это не важно, пани Мюллер, поеду на войну в коляске. Знаете кондитера за углом? У него есть такая коляска. Он в ней несколько лет тому назад вывозил подышать свежим воздухом своего хромого хрыча-дедушку. Вы, пани Мюллер, отвезете меня в этой коляске на военную службу.
Пани Мюллер заплакала:
– Не сбегать ли мне, сударь, за доктором?
– Никуда не ходите, пани Мюллер. Я вполне пригоден для пушечного мяса, вот только ноги… Но когда с Австрией дело дрянь, каждый калека должен быть на своем посту. Продолжайте спокойно варить кофе.
И в то время как пани Мюллер, заплаканная и растроганная, процеживала кофе, бравый солдат Швейк пел, лежа в кровати:
- Виндишгрец и прочие паны генералы
- Утром спозаранку войну начинали.
- Гоп, гоп, гоп!
- Войну начинали, к Господу взывали:
- «Помоги, Христос, нам с Матерью Пречистой!»
- Гоп, гоп, гоп!
Испуганная пани Мюллер под впечатлением жуткой боевой песни забыла про кофе и, трясясь всем телом, прислушивалась, как бравый солдат Швейк продолжал петь на своей кровати:
- С Матерью Пречистой! Вон – четыре моста.
- Выставляй, Пьемонт, посильней форпосты.
- Гоп, гоп, гоп!
- Закипел тут славный бой у Сольферино,
- Кровь лилась потоком, как из бочки винной.
- Гоп, гоп, гоп!
Кровь из бочки винной, а мяса – фургоны!
- Нет, не зря носили ребята погоны
- Гоп, гоп, гоп!
- Не робей, ребята! По пятам за вами
- Едет целый воз, груженный деньгами.
- Гоп, гоп, гоп!
– Ради Бога, сударь, прошу вас! – раздался жалобный голос из кухни, но Швейк допел славную боевую песню до конца:
- Целый воз с деньгами, кухня с пшенной кашей.
- Ну, в каком полку веселей, чем в нашем?
- Гоп, гоп, гоп![16]
Пани Мюллер бросилась за доктором. Вернулась она через час, когда Швейк уже дремал. Швейк был разбужен толстым господином, который положил ему руку на лоб и сказал:
– Не бойтесь, я – доктор Павек из Виноград. Дайте вашу руку. Этот термометр суньте себе под мышку. Так. Покажите язык. Еще. Высуньте язык. Отчего умерли ваши родители?
Итак, в то время как Вена боролась за то, чтобы все народы Австро-Венгрии проявили максимум верности и преданности, доктор Павек прописал Швейку против его патриотического энтузиазма бром и рекомендовал мужественному и честному солдату не думать о войне.
– Лежите смирно и избегайте волнений. Завтра зайду еще раз.
На другой день доктор пришел опять и осведомился на кухне у пани Мюллер, как себя чувствует пациент.
– Хуже ему, пан доктор, – с искренней грустью ответила пани Мюллер. – Ночью, когда скрутил его ревматизм, он пел, с позволения сказать, австрийский гимн.
Доктор Павек счел необходимым реагировать на это новое проявление лояльности пациента повышенной дозой брома. На третий день пани Мюллер доложила доктору, что Швейку еще хуже.
– После обеда, пан доктор, он послал за картой военных действий, а ночью бредил, что Австрия победит.
– А порошки принимает точно по предписанию?
– За ними еще и не посылал, пан доктор.
Излив на Швейка целый поток упреков и заверив его, что никогда больше не придет лечить человека, который отвергает его лечение бромом, доктор Павек ушел.
Оставалось еще два дня до срока, когда Швейк должен был предстать перед призывной комиссией. За это время Швейк сделал надлежащие приготовления: послал пани Мюллер, во-первых, купить форменную фуражку, а во-вторых, одолжить у кондитера за углом коляску, в которой тот когда-то вывозил подышать свежим воздухом своего хромого хрыча-дедушку. Потом Швейк вспомнил, что ему необходимы костыли. К счастью, кондитер сохранял как семейную реликвию и костыли. Швейку недоставало еще только букетика цветов, какие носят все рекруты. Но и букет раздобыла ему пани Мюллер, которая сильно похудела за эти дни и, где только ни появлялась, всюду плакала.
Итак, в тот памятный день пражские улицы были свидетелями трогательного примера истинного патриотизма. Старуха толкала перед собой коляску, в которой сидел мужчина в форменной фуражке с блестящей кокардой, размахивая костылями. На его пиджаке красовался пестрый рекрутский букетик цветов.
Человек этот, продолжая размахивать костылями, кричал на всю улицу: «На Белград! На Белград!»
За ним шла толпа, которая образовалась из небольшой кучки людей, собравшихся перед домом, откуда Швейк выехал на войну. Швейк констатировал, что некоторые полицейские, стоящие на перекрестках, отдавали ему честь. На Вацлавской площади толпа вокруг коляски со Швейком выросла в несколько сот человек, а на углу Краковской улицы был избит какой-то бурш в корпорантской шапочке, закричавший Швейку:
– Heil! Nieder mit den Serben![17]
На углу Водичковой улицы подоспевшая конная полиция разогнала толпу. Когда Швейк доказал приставу, что должен сегодня явиться в призывную комиссию, тот был несколько разочарован и во избежание скандала приказал двум конным полицейским проводить коляску со Швейком на Стршелецкий остров.
Обо всем происшедшем в «Пражской официальной газете» была помещена следующая статья:
ПАТРИОТИЗМ КАЛЕКИВчера днем на главных улицах Праги прохожие стали очевидцами сцены, красноречиво свидетельствующей о том, что в этот великий и серьезный момент сыны нашего народа также способны дать блестящие примеры верности и преданности трону нашего престарелого монарха. Казалось, что вернулись славные времена греков и римлян, когда Муций Сцевола шел в бой, невзирая на свою сожженную руку. Калека на костылях, которого везла в коляске для больных его старая мать, вчера продемонстрировал святое чувство патриотизма. Этот сын чешского народа, несмотря на свой недуг, добровольно отправился на войну, чтобы все свои силы и даже жизнь отдать за своего императора. И то, что его призыв «На Белград!» встретил такой живой отклик на пражских улицах, свидетельствует, что жители Праги являют высокие образцы любви к Отечеству и к царствующему дому.
В том же духе писала и «Прагер тагеблатт», где статья заканчивалась такими словами: «Калеку-добровольца провожала толпа немцев, своим телом охранявших его от самосуда чешских агентов Антанты».
«Богемия», тоже напечатавшая это сообщение, потребовала, чтобы калека-патриот был награжден, и объявила, что в редакции принимаются подарки от немецких граждан в пользу неизвестного героя.
Итак, эти три газеты считали, что чешская страна не могла дать более благородного гражданина. Однако господа в призывной комиссии не разделяли их взгляда. Особенно старший военный врач Баутце. Это был неумолимый человек, видевший во всем жульнические попытки уклониться от военной службы – от фронта, от пуль и шрапнели. Известно его выражение: «Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande».[18] За десять недель своей деятельности он из 11 000 граждан 10 999 признал симулянтами и поймал бы на удочку одиннадцатитысячного, если бы этого счастливца не хватил удар в тот самый момент, когда доктор на него заорал: «Kehrt euch!»[19]
– Уберите этого симулянта, – сказал Баутце, когда удостоверился, что тот умер.
И вот перед Баутце в этот памятный день предстал Швейк, совершенно голый, как и все остальные, стыдливо прикрывая свою наготу костылями, на которые опирался.
– Das ist wirklich ein besonderes Feigenblatt,[20] – сказал Баутце, – таких фиговых листков в раю не было.
– Освобожден по идиотизму, – огласил фельдфебель, просматривая его документы.
– А еще какие у вас болезни? – спросил Баутце.
– Осмелюсь доложить, у меня ревматизм. Но служить буду государю императору до последней капли крови, – скромно сказал Швейк. – У меня отекли колени.
Баутце бросил на бравого солдата Швейка страшный взгляд и заорал:
– Sie sind ein Simulant![21]
И, обращаясь к фельдфебелю, с ледяным спокойствием сказал:
– Den Kerl sogleich einsperren.[22]
Два солдата с примкнутыми штыками повели Швейка в гарнизонную тюрьму. Швейк шел на костылях и с ужасом чувствовал, что его ревматизм проходит. Когда пани Мюллер, с коляской ожидавшая Швейка у моста, увидела его между двумя штыками, она заплакала и тихо отошла от коляски, чтобы никогда уже к ней не возвращаться…
А бравый солдат Швейк скромно шел в сопровождении вооруженных защитников государства. Штыки сверкали на солнце, и на Малой Стране, перед памятником Радецкому, Швейк крикнул провожавшей его толпе:
– На Белград!
А маршал Радецкий задумчиво смотрел со своего постамента вслед удалявшемуся бравому солдату Швейку, ковылявшему на старых костылях с рекрутским букетиком на пиджаке.
Какой-то солидный господин объяснил окружавшей его толпе, что ведут дезертира.
Глава VIII
Швейк – симулянт
В эту великую эпоху врачи из кожи вон лезли, чтобы изгнать из симулянтов беса саботажа и вернуть их в лоно армии. Была установлена целая лестница мучений для симулянтов и для людей, подозреваемых в том, что они симулируют, а именно – чахоточных, ревматиков, страдающих грыжей, воспалением почек, тифом, сахарной болезнью, воспалением легких и прочими болезнями.
Пытки, которым подвергались симулянты, были систематизированы, и градации этих пыток были следующими:
1. Строгая диета: утром и вечером по чашке чая в течение трех дней; кроме того, всем независимо от того, на что они жалуются, давали аспирин, чтобы симулянты пропотели.
2. Хинин в порошке в лошадиных дозах, чтобы не думали, будто военная служба – мед. Это называлось: «Лизнуть хины».
3. Промывание желудка литром теплой воды два раза в день.
4. Клистир из мыльной воды и глицерина.
5. Обертывание в мокрую холодную простыню.
Были герои, которые стойко перенесли все пять ступеней пыток и добились того, что их отвезли в простых гробах на военное кладбище. Но попадались и малодушные, которые, лишь только дело доходило до клистира, заявляли, что они уже выздоровели и ни о чем другом не мечтают, как с ближайшим маршевым батальоном отправиться в окопы.
Швейка поместили в больничный барак при гарнизонной тюрьме именно среди таких малодушных симулянтов.
– Больше не выдержу, – сказал его сосед по койке, которого только что привели из амбулатории, где ему уже во второй раз промывали желудок. Человек этот симулировал близорукость.
– Завтра же еду в полк, – заявил ему сосед слева, которому только что ставили клистир. Этот больной симулировал, что он глух, как тетерев.
На койке у двери умирал чахоточный, обернутый в мокрую холодную простыню.
– Этот уже третий на этой неделе, – заметил сосед справа.
– А ты чем болен? – спросили Швейка.
– У меня ревматизм, – ответил Швейк, и сразу же раздался взрыв откровенного смеха. Смеялся даже умирающий чахоточный, «симулирующий» туберкулез.
– С ревматизмом сюда лучше не лезть, – серьезно предупредил Швейка толстый господин. – С ревматизмом здесь считаются так же, как с мозолями. У меня малокровие, недостает половины желудка и пяти ребер, и никто этому не верит. А недавно был здесь один глухонемой. Четырнадцать дней его обертывали каждые полчаса в мокрую холодную простыню. Каждый день ему ставили клистир и выкачивали желудок.
Даже санитары думали, что дело его в шляпе и что его отпустят домой, а доктор возьми да пропиши ему рвотное. Эта штука вывернула бы его наизнанку – и тут он смалодушничал. «Не могу, говорит, больше притворяться глухонемым. Вернулись ко мне и речь и слух». Все больные его уговаривали, чтобы он не губил себя, а он стоял на своем: он, мол, все слышит и говорит, как всякий другой. Так и доложил об этом утром при обходе.
– Да, долго держался, – заметил один, симулирующий, будто у него одна нога короче другой на целых десять сантиметров. – Не чета тому, с параличом. Тому достаточно было только трех порошков хинина, одного клистира и денька без жратвы. Признался еще даже до выкачивания желудка. Весь паралич как рукой сняло.
– Дольше всех держался тут искусанный бешеной собакой. Кусался, выл, действительно все замечательно проделывал. Но никак он не мог добиться пены у рта. Помогали мы ему, как могли, сколько, бывало, щекотали его перед обходом, иногда по целому часу доводили его до судорог, до синевы – и все-таки пена у рта не выступала: нет, да и только. Это было ужасно! И когда он во время утреннего обхода сдался, уж как нам его было жалко! Стал возле койки во фронт, как свечка, отдал честь и говорит: «Осмелюсь доложить, господин старший врач, пес, который меня укусил, оказался не бешеным». Старший врач окинул его таким взглядом, что искусанный затрясся всем телом и тут же прибавил: «Осмелюсь доложить, господин старший врач, меня вообще никакая собака не кусала. Я сам себя укусил в руку». После этого признания его обвинили в членовредительстве: дескать, хотел прокусить себе руку, чтобы не попасть на фронт.
– Все болезни, при которых требуется пена у рта, очень трудно симулировать, – сказал толстый симулянт, – вот, к примеру, падучая. Был тут один эпилептик. Тот всегда нам говорил, что лишний припадок устроить ничего не стоит. Падал он этак раз десять в день, извивался в корчах, сжимал кулаки, выкатывал глаза под самый лоб, бился о землю, высовывал язык. Короче говоря, это была прекрасная эпилепсия, эпилепсия – первый сорт, самая что ни на есть настоящая. Но неожиданно вскочили у него два чирья на шее и два на спине, и тут пришел конец его корчам и битью об пол. Головы даже не мог повернуть. Ни сесть, ни лечь. Напала на него лихорадка, и во время обхода врача в бреду он сознался во всем. Да и нам всем от этих чирьев солоно пришлось. Из-за них он пролежал с нами еще три дня, и ему была назначена другая диета: утром кофе с булочкой, к обеду – суп, кнедлик с соусом, вечером – каша или суп, и нам, с голодными выкачанными желудками да на строгой диете, пришлось глядеть, как этот парень жрет, чавкает и, пережравши, отдувается и рыгает. Этим он подвел трех других с пороком сердца. Те тоже признались.
– Легче всего, – сказал один из симулянтов, – симулировать сумасшествие. Рядом в палате номер два есть двое учителей. Один без устали кричит днем и ночью: «Костер Джордано Бруно еще дымится! Возобновите процесс Галилея!» А другой лает: сначала три раза медленно «гав, гав, гав», потом пять раз быстро «гав-гав-гав-гав-гав», а потом опять медленно, – и так без передышки. Оба уже выдержали больше трех недель… Я сначала тоже хотел разыграть сумасшедшего, помешанного на религиозной почве, и проповедовать о непогрешимости Папы. Но в конце концов у одного парикмахера на Малой Стране приобрел себе за пятнадцать крон рак желудка.
– Я знаю одного трубочиста из Бржевнова, – заметил другой больной, – он вам за десять крон сделает такую горячку, что из окна выскочите.
– Это все пустяки, – сказал третий. – В Вршовицах есть одна повивальная бабка, которая за двадцать крон вывихнет вам ногу так ловко, что останетесь калекой на всю жизнь.
– Мне вывихнули ногу за пятерку, – раздался голос с постели у окна. – За пять крон наличными и за три кружки пива в придачу.
– Мне моя болезнь стоит уже больше двухсот крон, – заявил его сосед, высохший, как жердь. – Назовите мне такой яд, которого бы я не испробовал, – не найдете. Я живой склад всяких ядов. Я пил сулему, вдыхал ртутные пары, грыз мышьяк, курил опиум, пил настойку опия, посыпал хлеб морфием, глотал стрихнин, пил раствор фосфора в сероуглероде и пикриновую кислоту. Я испортил себе печень, легкие, почки, желчный пузырь, мозг, сердце и кишки. Никто не может понять, чем я болен.
– Лучше всего, – заметил кто-то около дверей, – впрыснуть себе под кожу в руку керосин. Моему двоюродному брату повезло: ему отрезали руку по локоть, и теперь ему никакая военная служба не страшна.
– Вот видите, – сказал Швейк, – все это каждый должен претерпеть ради государя императора. И выкачивание желудка, и клистир. Когда несколько лет тому назад я отбывал военную службу, в нашем полку случалось еще хуже. Больного связывали «козлом» и бросали в каталажку, чтобы он вылечился. Там не было коек с матрацем, как здесь, или плевательниц. Одни голые нары, и на них больные. Раз лежал там один с самым настоящим сыпным тифом, а другой рядом с ним в черной оспе. Оба были связаны «в козлы», а полковой врач пинал их ногой в брюхо за то, что, дескать, симулируют. Но когда оба солдата померли, дело дошло до парламента, и все это попало в газеты. Тут нам сразу запретили читать эти газеты и даже обыскали наши сундучки, нет ли у кого газет. А мне ведь никогда не везет. В целом полку ни у кого не нашли, только у меня. Ну, повели к командиру полка. А наш полковник был такой осел – царствие ему небесное! Заорал на меня, чтобы я стоял смирно и сказал, кто писал в газеты, не то он мне всю морду разворотит и сгноит меня в тюрьме. Потом пришел полковой врач, тыкал мне в нос кулаком и кричал: «Sie verfluchter Hund, Sie schäbiges Wesen, Sie unglückliches Mistvieh![23] Социалистическая тварь!» А я смотрю им прямо в глаза, глазом не моргну и молчу. Правую руку под козырек, а левую – по шву! Бегали они вокруг меня, как собаки, лаяли на меня, а я ни гугу, молчу и все тут, отдаю им честь, а левая рука по шву. Бегали они этак с полчасика. Потом полковник подбежал ко мне и как заревет: «Идиот ты или не идиот?» – «Точно так, господин полковник, – идиот». – «На двадцать один день под строгий арест за идиотизм! По два постных дня в неделю, месяц без отпуска, на сорок восемь часов «в козлы»! Запереть немедленно и не давать ему жрать! Связать его! Показать ему, что государству идиотов не нужно. Мы тебе, сукину сыну, выбьем из башки газеты!» На этом господин полковник закончил свои разглагольствования. А пока я сидел под арестом, в казарме творились прямо-таки чудеса. Наш полковник вообще запретил солдатам читать, будь то хоть «Пражская официальная газета». В солдатской лавке запрещено было даже завертывать в газеты сосиски и сыр. И вот с этого-то времени солдаты принялись читать. Наш полк сразу стал самым начитанным. Мы читали все газеты, и в каждой роте сочинялись стишки и песенки про полковника. А когда что-нибудь случалось в полку, всегда находился какой-нибудь благожелатель, который пускал в газету статейку под заголовком «Истязание солдат». Мало того: писали депутатам в Вену, чтобы они заступились за нас, и те начали подавать в парламент запрос за запросом, известно ли, мол, правительству, что наш полковник – зверь, и тому подобное. Министр послал к нам комиссию, чтобы расследовать это, и в результате некий Франта Генчль из Глубокой был посажен на два года, это как раз он обратился в Вену к депутатам парламента, жалуясь, что во время занятий на учебном плацу получил оплеуху от полковника. Когда комиссия уехала, полковник всех нас выстроил, весь полк, и заявил, что солдат есть солдат, должен держать язык за зубами и служить, а если кому-нибудь не нравится, то это нарушение дисциплины. «А вы, мерзавцы, думали, что вам эта комиссия поможет? – сказал полковник. – Ни хрена она вам не помогла! Ну а теперь пусть каждая рота промарширует передо мною и пусть громогласно повторит то, что я сказал». И мы, рота за ротой, шагали, равнение направо, на полковника, рука на ремне ружья, и орали что есть силы: «Мы, мерзавцы, думали, что нам эта комиссия поможет. Ни хрена она нам не помогла!» Господин полковник хохотал до упаду, прямо живот надорвал. Но вот начала дефилировать одиннадцатая рота. Марширует, отбивая шаг, но подходит к полковнику и ни гугу! Молчит, ни звука. Полковник покраснел как вареный рак и вернул ее назад, чтобы повторила все сначала. Одиннадцатая опять шагает и… молчит. Проходит строй за строем, и все дерзко глядят в глаза полковнику. «Ruht!»[24] – командует полковник, а сам мечется по двору, хлещет себя хлыстом по сапогу, плюется, а потом вдруг остановился да как заорет: «Abtreten!»[25] Сел на свою клячу и вон из ворот. Ждали мы, ждали, что с одиннадцатой ротой будет, а ничего не было. Ждем мы день, другой, неделю – ничего. Полковник в казармах вовсе не появлялся, а солдаты и рады были, да не только солдаты: и унтеры, и даже офицеры. Наконец прислали нам нового полковника. О старом рассказывали, будто он попал в какой-то санаторий, потому что собственноручно написал государю императору, что одиннадцатая рота взбунтовалась.
Приближался час послеобеденного обхода. Военный врач Грюнштейн ходил от койки к койке, а за ним – фельдшер с книгой.
– Мацуна!
– Здесь.
– Клистир и аспирин.
– Покорный!
– Здесь.
– Промывание желудка и хинин.
– Коваржик!
– Здесь.
– Клистир и аспирин.
– Котятко!
– Здесь.
– Промывание желудка и хинин.
И так всех подряд – механически, грубо и безжалостно.
– Швейк!
– Здесь.
Доктор Грюнштейн взглянул на вновь прибывшего.
– Чем больны?
– Осмелюсь доложить, у меня ревматизм.
Доктор Грюнштейн за время своей практики усвоил привычку разговаривать с больными с тонкой иронией. Это действовало гораздо сильнее крика.
– Ах вот что, ревматизм… – сказал он Швейку. – Это действительно тяжелая болезнь. Ведь и случится же этакая штука – заболеть ревматизмом как раз во время мировой войны, как раз когда человек должен идти на фронт! Я полагаю, что это вас страшно огорчает.
– Осмелюсь доложить, господин старший врач, страшно огорчает.
– А-а, вот как, его это огорчает? Очень мило с вашей стороны, что вам пришло в голову обратиться к нам с этим ревматизмом именно теперь. В мирное время прыгает, бедняга, как козленок, а разразится война – сразу у него появляется ревматизм и колени отказываются служить. Не болят ли у вас колени?
– Осмелюсь доложить, болят.
– И всю ночь напролет не можете заснуть? Не правда ли? Ревматизм очень опасная, мучительная и тяжелая болезнь. У нас в этом отношении большой опыт: строгая диета и другие наши способы лечения дают очень хорошие результаты. Выздоровеете у нас скорее, чем в Пештянах, и так замаршируете на фронт, что только пыль столбом поднимется.
И, обращаясь к фельдшеру, старший врач сказал:
– Пишите: «Швейк, строгая диета, два раза в день промывание желудка и раз в день клистир». А там – увидим. Пока что отведите его в амбулаторию, промойте желудок и поставьте, когда очухается, клистир, но знаете, настоящий клистир, чтобы всех святых вспомнил и чтобы его ревматизм сразу испугался и улетучился.
Потом, повернувшись к больным, доктор Грюнштейн произнес речь, полную прекрасных и мудрых сентенций:
– Не думайте, что перед вами осел, которого можно провести за нос. Меня вы своими штучками не тронете. Я-то прекрасно знаю, что все вы симулянты и хотите дезертировать с военной службы, поэтому я и обращаюсь с вами как полагается. Я в своей жизни видел сотни таких вояк, как вы. На этих койках валялась уйма таких, которые ничем другим не болели, только отсутствием боевого духа. В то время как их товарищи сражались на фронте, они воображали, что будут полеживать в постели, получать больничное питание и ждать, пока кончится война. Но они ошиблись, прохвосты! И вы все, сукины дети, ошибетесь! Даже через двадцать лет вы будете кричать, когда вам приснится, как вы у меня тут симулировали.
– Осмелюсь доложить, господин старший врач, – послышался тихий голос с койки у окна, – я уже выздоровел. Я уже ночью заметил, что у меня одышка прошла.
– Ваша фамилия?
– Коваржик. Осмелюсь доложить, мне был прописан клистир.
– Хорошо, клистир вам еще поставят на дорогу, – распорядился доктор Грюнштейн, – чтобы вы потом не жаловались, будто мы вас здесь не лечили. Ну-с, а теперь все больные, которых я перечислил, идите за фельдшером и получите, что кому полагается.
Каждый получил предписанную ему солидную порцию. Некоторые пытались воздействовать на исполнителя докторского приказания просьбами или угрозами; дескать, они сами запишутся в санитары, и, может быть, когда-нибудь нынешние санитары попадут к ним в руки. Что касается Швейка, то он держался геройски.
– Не щади меня, – подбадривал он палача, ставившего ему клистир. – Помни о присяге. Даже если бы здесь лежал твой отец или родной брат, поставь ему клистир – и никаких. Помни, что на этих клистирах держится Австрия. Мы победим!
На другой день во время обхода доктор Грюнштейн осведомился у Швейка, как ему нравится в госпитале. Швейк ответил, что это учреждение благоустроенное и весьма почтенное. В награду за это он получил то же, что и вчера, и в придачу еще аспирин и три порошка хинина, все это ему высыпали в воду, а потом приказали немедленно выпить.
Сам Сократ не пил свою чашу с ядом с таким спокойствием, как пил хинин Швейк, на котором доктор Грюнштейн испробовал все виды пыток. Когда Швейка в присутствии врача завертывали в холодную мокрую простыню, он на вопрос доктора Грюнштейна, как ему это нравится, отвечал:
– Осмелюсь доложить, господин старший врач, чувствую себя словно в купальне или на морском курорте.
– Ревматизм еще не прошел?
– Осмелюсь доложить, господин старший врач, никак не проходит.
Швейк был подвергнут новым пыткам.
В это время вдова генерала-от-инфантерии, баронесса фон Боценгейм проявляла неимоверные усилия, чтобы разыскать того солдата, о котором недавно газета «Богемия» писала, что он, калека, велел себя везти в военную комиссию в коляске для больных и кричал: «На Белград!» Это проявление патриотизма дало повод редакции «Богемии» призвать своих читателей организовать сбор в пользу лояльного героя-калеки.
Наконец после справок, наведенных баронессой в полицейском управлении, было выяснено, что фамилия этого солдата Швейк. Дальше разыскивать было уже легко. Баронесса фон Боценгейм взяла с собой свою компаньонку и камердинера с корзиной и отправилась в госпиталь в Градчаны.
Бедняжка баронесса и не представляла себе, что значит лежать в госпитале при гарнизонной тюрьме. Ее визитная карточка открыла ей двери тюрьмы. В канцелярии все держались с ней исключительно любезно. Через пять минут она уже знала, что «der brave Soldat[26] Швейк, о котором она осведомлялась, лежит в третьем бараке, койка № 17. Ее сопровождал сам доктор Грюнштейн, который совсем обалдел от этого внезапного визита. Швейк только что вернулся на свою койку после обычного ежедневного тура, предписанного доктором Грюнштейном, и сидел, окруженный толпой исхудавших и изголодавшихся симулянтов, которые до сих пор не сдавались и упорно продолжали состязаться со строгой диетой доктора Грюнштейна.
Кто послушал бы разговор этой компании, решил бы, что очутился среди кулинаров высшей поварской школы или на курсах продавцов гастрономических магазинов.
– Даже самые простые свиные шкварки можно есть, покуда они теплые, – заявил тот, которого лечили здесь от «застарелого катара желудка». – Когда сало начнет трещать и брызгать, отожми их, посоли, поперчи, и тогда, скажу я вам, никакие гусиные шкварки с ними не сравнятся.
– Полегче насчет гусиных шкварок, – сказал больной раком желудка, – нет ничего лучше гусиных шкварок! Ну куда вы лезете против них со шкварками из свиного сала! Гусиные шкварки, понятное дело, должны жариться до тех пор, пока они не станут золотыми. Так евреи делают, берут жирного гуся, снимают с кожи сало и поджаривают.
– По-моему, вы ошибаетесь по части свиных шкварок, – заметил сосед Швейка. – Я, конечно, говорю о шкварках из домашнего свиного сала. Так они и называются – домашние шкварки. Они не должны быть ни коричневыми, ни желтыми, а должны иметь цвет, средний между этими двумя оттенками. Домашние шкварки не должны быть ни слишком мягкими, ни слишком твердыми. Они не должны хрустеть. Это уже, значит, пережаренные. Они должны таять на языке… но при этом вам не должно казаться, что сало течет по вашему подбородку.
– А кто из вас ел шкварки из конского сала? – раздался чей-то голос, но никто не ответил, так как вбежал фельдшер.
– По койкам! Сюда идет великая княгиня. Не высовывайте грязных ног из-под одеяла!
Сама великая княгиня не могла бы войти так торжественно, как вошла баронесса фон Боценгейм. За ней следовала целая процессия. Тут был и бухгалтер госпиталя, видевший в этом визите тайные происки ревизии, которая может бросить его от сытого корыта в тылу на съедение шрапнели, к проволочным заграждениям передовых позиций. Он был бледен. Еще бледнее был сам доктор Грюнштейн. Перед глазами у него прыгала маленькая визитная карточка старой баронессы с титулом «вдова генерала» и все, что связывалось с этим титулом: знакомства, протекции, жалобы, перевод на фронт и другие ужасные вещи.
– Вот Швейк, – произнес доктор с деланным спокойствием, подводя баронессу фон Боценгейм к койке Швейка. – Переносит все очень терпеливо.
Баронесса фон Боценгейм села на приставленный к постели Швейка стул и сказала:
– Ческий зольдат, кароший зольдат, калека зольдат, храбрий зольдат. Я очень любиль ческий австриец. – При этом она гладила Швейка по его небритому лицу. – Я читаль все в газете, я вам принесля кушать – «ам-ам»; курить, сосать… Ческий зольдат, бравый зольдат!.. Johann, kommen Sie her![27]
Камердинер, напоминающий своими взъерошенными бакенбардами Бабинского, притащил к постели громадную корзину. Компаньонка баронессы – высокая дама с заплаканным лицом – уселась к Швейку на постель и стала поправлять ему за спиной подушку, набитую соломой, с твердой уверенностью, что так полагается делать у постели раненых героев.
Баронесса между тем вынимала из корзины подарки. Целую дюжину жареных цыплят, завернутых в розовую папиросную бумагу и перевязанных черно-желтой шелковой ленточкой, две бутылки какого-то ликера военного производства с этикеткой: «Gott, strafe England»;[28] на этикетке с другой стороны бутылки были изображены Франц Иосиф и Вильгельм, державшие друг друга за руки, словно в детской игре «Агу – не могу, засмейся – не хочу»; потом баронесса вынула три бутылки вина для выздоравливающих и две коробки сигарет. Все это она с изяществом разложила на свободной постели возле Швейка. Потом рядом появилась книга в прекрасном переплете «Картинки из жизни нашего монарха», которую написал заслуженный главный редактор нашей нынешней официальной газеты «Чехословацкая Республика» – редактор тонко разбирался в жизни старого Франца Иосифа.
Очутились на постели и плитки шоколада с той же надписью «Gott, strafe England» и опять с изображением австрийского и германского императоров. Но на шоколаде императоры уже не держались за руки, а стояли отдельно, повернувшись спиной друг к другу. Рядом баронесса положила красивую двойную зубную щетку с надписью «Viribus unitis»,[29] сделанной для того, чтобы каждый, кто будет чистить ею зубы, не забывал об Австрии. Элегантным подарком, совершенно необходимым для фронта и окопов, оказался полный маникюрный набор. На футляре была картинка, на которой разрывалась шрапнель, и герой в стальной каске с винтовкой наперевес бросался в атаку. Под картинкой стояло: «Für Gott, Kaiser und Vaterland!»[30]
Пачка сухарей была без картинки, но зато на ней написали стихотворение:
- Österreich, du edles Haus
- steck deine Fahne aus,
- laß sie im Winde wehen,
- Österreich muss ewig stehen!
На другой стороне был помещен чешский перевод:
О Австро-Венгрия! Могучая держава! Пусть развевается твой благородный флаг! Пусть развевается он величаво, Непоколебима Австрия в веках!
Последним подарком был горшок с белым гиацинтом. Когда баронесса фон Боценгейм увидела все это на постели Швейка, она не могла сдержать слез умиления. У нескольких изголодавшихся симулянтов также потекли… слюнки. Компаньонка, продолжая поддерживать сидящего на койке Швейка, тоже прослезилась. Было тихо, словно в церкви. Тишину внезапно нарушил Швейк, он сложил руки, как на молитве, и заговорил:
– Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое… Пардон, мадам, наврал! Я хотел сказать: «Господи Боже, Отец небесный, благослови эти дары, иже щедрости ради Твоей вкусим. Аминь».
После этих слов он взял с постели курицу и набросился на нее, провожаемый испуганным взглядом доктора Грюнштейна.
– Ах, как ему вкусно, зольдатику! – восторженно зашептала доктору Грюнштейну старая баронесса. – Он уже здоров и может поехать на фронт. Отшень, отшень рада, что все это ей на пользу.
Она обошла все постели, раздавая всем сигареты и шоколадные конфеты, затем опять подошла к Швейку, погладила его по голове со словами «Behüt euch Gott»[31] и покинула палату, сопровождаемая всей свитой.
Пока доктор Грюнштейн провожал баронессу, Швейк роздал цыплят, которые были проглочены с такой быстротой, что, возвратясь, доктор нашел вместо них только кучу костей, обглоданных так здорово, будто цыплята живыми попали в гнездо коршунов и их кости несколько месяцев палило солнце.
Исчезли и военный ликер, и три бутылки вина. Исчезли в желудках пациентов плитки шоколада и пачка сухарей. Кто-то выпил даже флакон лака для ногтей из маникюрного набора, другой надкусил приложенную к зубной щетке зубную пасту.
Доктор Грюнштейн опять принял боевую позу и произнес длинную речь. У него отлегло от сердца, когда визит кончился. Куча обглоданных костей утвердила его в мысли, что все пациенты – неисправимые симулянты.
– Солдаты, – сказал он, – если бы у вас была голова на плечах, то вы бы до всего этого и не дотронулись, а подумали бы: «Если мы это слопаем, старший врач не поверит, будто мы тяжело больны». А теперь вы как нельзя лучше доказали, что не ставите ни во что мою доброту. Я вам выкачиваю желудки, ставлю клистиры, стараюсь держать вас на полной диете, а вы так перегружаете желудок! Хотите нажить себе катар желудка, что ли? Нет, ребята, ошибаетесь! Прежде чем ваши желудки успеют это переварить, я вычищу их так основательно, что вы будете помнить об этом до самой смерти и детям своим расскажете, как однажды вы нажрались цыплят и других вкусных вещей и как это не удержалось у вас в желудке и четверти часа, потому что вам все своевременно выкачали. Ну-ка, марш за мной! Не думайте, что я такой же осел, как вы. Я немножко поумней, чем вы все, вместе взятые. Кроме того, объявляю во всеуслышание, что завтра пошлю к вам комиссию. Слишком долго вы здесь валяетесь, и никто из вас не болен, раз вы можете в пять минут так засорить желудок, как это вам только что удалось сделать… Шагом марш!
Когда дошла очередь до Швейка, доктор Грюнштейн посмотрел на него и, вспомнив сегодняшний загадочный визит, спросил:
– Вы знакомы с баронессой?
– Я ее незаконнорожденный сын, – спокойно ответил Швейк. – Младенцем она меня подкинула, а теперь опять нашла.
Доктор Грюнштейн сказал лаконично:
– Поставьте Швейку добавочный клистир.
Мрачно было вечером на койках. Только несколько часов тому назад у всех в желудках были разные хорошие, вкусные вещи, а теперь там переливался жиденький чай с коркой хлеба.
Номер 21 у окна робко произнес:
– Хотите – верьте, ребята, хотите – нет, а жареных цыплят я люблю больше, чем печеных.
Кто-то проворчал:
– Сделайте ему темную! – Но все так ослабели после неудачного угощения, что никто не тронулся с места.
Доктор Грюнштейн сдержал слово. Днем явились несколько военных врачей из пресловутой врачебной комиссии. С важным видом обходили они ряды коек, и слышно было только два слова: «Покажи язык!» Швейк высунул язык как только мог далеко; при этом его лицо с натуги сморщилось в глупую гримасу, и он зажмурил глаза.
– Осмелюсь доложить, господин штабной врач, дальше язык не высовывается.
Тут между Швейком и комиссией разгорелись интересные дебаты. Швейк утверждал, что сделал это замечание, боясь, как бы врачи не подумали, будто он прячет от них язык.
Члены комиссии резко разошлись во мнениях о Швейке. Половина из них утверждала, что Швейк – «ein blöder Kerl»,[32] в то время как другая половина настаивала на том, что он прохвост и издевается над военной службой.
– Черт побери! – закричал на Швейка председатель комиссии. – Мы вас выведем на чистую воду!
Швейк глядел на всю комиссию с божественным спокойствием невинного ребенка.
Старший штабной врач вплотную подступил к нему.
– Хотел бы я знать, о чем вы, морская свинья, сейчас думаете?
– Осмелюсь доложить, – совсем ни о чем не думаю.
– Himmeldonnerwetter![33] – закричал один из членов комиссии, бряцая саблей. – Так-таки он совсем ни о чем не думает! Почему же вы, сиамский слон, не думаете?
– Осмелюсь доложить, потому, что этого на военной службе солдатам не полагается. Когда я несколько лет тому назад служил в Девяносто первом полку, наш капитан всегда нам говорил: «Солдат не должен думать, за него думает его начальство. Как только солдат начинает думать, это уже не солдат, а так, вшивая дрянь, шляпа. Размышления никогда не доводят…»
– Молчать! – злобно прервал Швейка председатель комиссии.
– У нас уже имеются о вас сведения. Der Kerl meint, man wird glauben, er sei ein wirklicher Idiot…[34] Вы вовсе не идиот, Швейк, вы хитрая бестия и пройдоха, вы жулик, хулиган, сволочь! Понимаете?
– Так точно, понимаю.
– Сказано вам молчать! Слышали?
– Так точно, слышал, «молчать».
– Himmelherrgott! Ну, так и молчите, если вам приказано! Ведь вы отлично знаете, что не смеете болтать.
– Так точно, знаю, что не смею болтать.
Господа военные переглянулись. Был вызван фельдфебель.
– Отведите этого субъекта вниз в канцелярию, – указывая на Швейка, приказал старший штабной врач, – и ждите нашего распоряжения. В гарнизонной тюрьме ему эту болтливость выбьют из головы. Парень здоров как бык, симулирует да еще к тому же болтает и издевается над своим начальством. Он думает, что мы здесь только для потехи, что военная служба – шутка, комедия… Вам, Швейк, в гарнизонной тюрьме покажут, что военная служба – не балаган.
Швейк пошел с фельдфебелем в канцелярию и по дороге мурлыкал себе под нос:
- Я-то вздумал в самом деле
- Баловать с войной, —
- Дескать, через две недели
- Попаду домой.
В то время как в канцелярии дежурный офицер орал на Швейка, что таких молодчиков надо-де расстреливать, наверху в больничных палатах комиссия истребляла симулянтов. Из семидесяти пациентов уцелело только двое. Один – у которого нога была оторвана гранатой, а другой – с настоящей костоедой. Только эти двое не услышали слова «tauglich».[35] Все остальные, в том числе и трое умирающих чахоточных, были признаны годными для фронта.
Старший штабной врач по этому случаю не преминул произнести приличествующую моменту речь. Она была сдобрена самыми разнообразными ругательствами и достаточно кратка. Все скоты, дерьмо, и только в том случае если они будут храбро сражаться за государя императора, то смогут снова стать равноправными членами общества, и тогда после войны им даже простят то, что они пытались уклониться от военной службы и симулировали. Однако он лично в это не верит и убежден, что всех их рано или поздно ждет петля.
Молодой военный врач, чистая и пока еще не испорченная душа, попросил у старшего штабного врача слова. Его речь отличалась от речи начальника оптимизмом и наивностью. Говорил он по-немецки.
Он долго рассусоливал о том, что, дескать, каждый из тех, кто покинет лазарет и вернется в свой полк, должен быть победителем и рыцарем. Он убежден, что они сумеют владеть оружием на поле брани и быть честными людьми всюду: и на войне и в частной жизни; что они будут непобедимыми воинами и никогда не забудут о славе Радецкого и принца Евгения Савойского, что кровью своей они оплодотворят необозримые поля славы австрийской монархии и достойно выполнят миссию, возложенную на них историей. В отважном порыве, не щадя своей жизни, они ринутся вперед, под простреленными знаменами своих полков, к новой славе, к новым победам…
В коридоре старший штабной врач сказал этому наивному молодому человеку:
– Послушайте, коллега, могу вас уверить, что старались вы напрасно. Ни Радецкий, ни этот ваш принц Евгений Савойский не смогли бы сделать из этих негодяев солдат. Как с ними ни говори, их ничем не проймешь. Это одна шайка!
Глава IX
Швейк в гарнизонной тюрьме
Последним убежищем для нежелавших идти на войну была гарнизонная тюрьма. Я сам знал одного сверхштатного преподавателя, который, как математик, должен был служить в артиллерии, но, не желая стрелять из орудий, «стрельнул» часы у одного подпоручика, чтобы только попасть в гарнизонную тюрьму. Сделал он это вполне сознательно. Война ему не импонировала и не очаровала его. Стрелять в неприятеля и убивать шрапнелью и гранатами находящихся по ту сторону фронта таких же несчастных, как и он сам, сверхштатных преподавателей математики он считал глупым.
«Не хочу, чтобы меня ненавидели за насилие», – сказал он себе и спокойно украл часы. Сначала исследовали его психическое состояние, и только после того, как он заявил, что украл часы с целью обогащения, его отправили в гарнизонную тюрьму.
В гарнизонной тюрьме многие сидели за кражу или мошенничество. Идеалисты и неидеалисты. Люди, считавшие военную службу источником личных доходов: различные бухгалтеры интендантств, тыловые и фронтовые, совершившие всевозможные мошенничества с провиантом и солдатским жалованьем, и затем мелкие воры, которые были в тысячу раз честнее тех молодчиков, которые их сюда послали. Кроме того, в гарнизонной тюрьме сидели и солдаты за преступления чисто воинского характера, как-то: нарушение дисциплины, попытки поднять мятеж, дезертирство. Особую группу составляли политические, из которых восемьдесят процентов были совершенно невинны; девяносто девять процентов из этих невинных были осуждены.
Военно-юридический аппарат был великолепен. Такой судебный аппарат есть у каждого государства, стоящего перед общим политическим, экономическим и моральным крахом. Ореол былого могущества и славы оберегался судами, полицией, жандармерией и продажной сворой доносчиков.
В каждой воинской части Австрия имела шпионов, доносивших на своих товарищей, с которыми они спали на одних нарах и в походе делили кусок хлеба.
Для гарнизонной тюрьмы поставляла свежий материал также гражданская полиция: господа Клима, Славичек и компания. Военная цензура отправляла сюда авторов корреспонденции между фронтом и теми, кто остался в отчаянном положении дома: жандармы приводили сюда старых, неработоспособных крестьян, посылавших письма на фронт, а военный суд припаивал им по двенадцати лет тюрьмы за слова утешения или за описание нищеты, которая царила у них дома.
Из Градчанской гарнизонной тюрьмы путь вел через Бржевнов на Мотольский плац. Впереди в сопровождении солдат шел человек в ручных кандалах, а за ним ехала телега с гробом. На Мотольском плацу раздавалась отрывистая команда «An! Feuer!».[36] По всем полкам и батальонам читался полковой приказ об очередном расстреле одного призывного за «бунт», поднятый им из-за того, что капитан ударил шашкой его жену, которая никак не могла расстаться с мужем.
А в гарнизонной тюрьме троица – штабной тюремный смотритель Славик, капитан Лингардт и фельдфебель Ржепа, по прозванию Палач – оправдывала свое назначение. Сколько людей до смерти избили они в одиночках! Возможно, капитан Лингардт и в республике продолжает оставаться капитаном. В таком случае я бы желал, чтобы годы службы в гарнизонной тюрьме были ему зачтены. Славичку и Климе государственная полиция уже зачла их стаж. Ржепа стал штатским и вернулся к своему ремеслу мастера-каменщика. Вероятно, он состоит членом патриотических кружков в республике.
Штабной тюремный смотритель Славик в республике стал вором и теперь сидит в тюрьме. Бедняге не удалось приспособиться к республике, как это сделали многие другие господа военные.
Само собой разумеется, что, принимая Швейка, тюремный смотритель Славик бросил на него взгляд, полный немого укора:
– Раз ты сюда попал, значит, за тобой водятся грешки, брат. Мы тебе, паренек, жизнь здесь подсластим, как и всем, кто попал в наши руки. А наши руки – это, брат, тебе не дамские ручки.
И чтобы прибавить вес своим словам, он ткнул свой жилистый кулак Швейку под нос и произнес:
– Понюхай-ка, подлец, чем пахнет!
Швейк понюхал.
– Таким кулаком не хотел бы я получить по носу. Пахнет могилой, – заметил он.
Спокойная, рассудительная речь Швейка понравилась штабному тюремному смотрителю.
– А ну-ка, ты! – крикнул он, ткнув Швейка кулаком в живот. – Стоять смирно! Что у тебя в карманах? Если есть сигареты, можешь оставить, а деньги давай сюда, чтобы не украли. Больше нет? Взаправду нет? Только не врать! Вранье наказывается.
– Куда его денем? – спросил фельдфебель Ржепа.
– Сунем в шестнадцатую, – решил смотритель, – к голоштанникам. Не видите, что ли, что написал на препроводительной капитан Лингардт: «Streng behüten, beobachten».[37]
– Да, брат, – обратился он торжественно к Швейку, – со скотом и обращение скотское. А кто взбунтуется, того швырнем в одиночку, а там переломаем ему все ребра, пусть валяется, пока не сдохнет. Имеем на то полное право. Здорово тогда мы расправились с тем мясником! Помните, Ржепа?
– Ну и задал он нам работы, господин смотритель! – произнес фельдфебель Ржепа, с наслаждением вспоминая былое. – Вот был здоровяк! Топтал я его больше пяти минут, пока у него ребра не затрещали и изо рта не пошла кровь. А он еще дней десять потом жил. Живучий был, сукин сын!
– Видишь, подлец, как у нас расправляются с тем, кому придет в голову взбунтоваться или удрать, – закончил свое педагогическое наставление штабной тюремный смотритель Славик. – Это все равно, что самоубийство, которое у нас карается точно так же. Или, не дай Бог, если тебе, сволочь, вздумается на что-нибудь жаловаться, когда придет инспекция! К примеру, придет инспекция и спросит: «Есть жалобы?» – так ты, сукин сын, должен стать во фронт, взять под козырек и отрапортовать: «Никак нет, всем доволен». Ну, как ты это скажешь? Повтори-ка, мерзавец!
– Никак нет, всем доволен, – повторил Швейк с таким милым выражением, что штабной смотритель впал в ошибку, приняв это за искреннее усердие и порядочность.
– Так снимай штаны и отправляйся в шестнадцатую, – сказал он мягко, не добавив, против обыкновения, ни «сволочи», ни «сукина сына», ни «мерзавца».
В шестнадцатой Швейк застал двадцать мужчин в подштанниках. Тут сидели такие, у которых в бумагах была пометка «Streng behüten, beobachten». За ними очень заботливо присматривали, чтобы они, чего доброго, не удрали.
Если бы подштанники были чистые, а на окнах не было бы решеток, то на первый взгляд могло показаться, что вы попали в предбанник.
Швейка принял от фельдфебеля староста, давно не бритый детина в расстегнутой рубахе. Он записал его фамилию на клочке бумаги, висевшем на стене, и сказал:
– Завтра у нас представление. Поведут в часовню на проповедь. Мы все там будем стоять у подножия кафедры в одних подштанниках. Вот будет потеха!
Как и во всех острогах и тюрьмах, в гарнизонной тюрьме была своя часовня, излюбленное место развлечения арестантов. Не оттого вовсе, что принудительное посещение тюремной часовни приближало посетителей к Богу или приобщало их к добродетели. О такой глупости не может быть и речи. Просто богослужение и проповедь были спасением от тюремной скуки. Дело было не в том, стал ты ближе к Богу или нет, а в том, что возникала надежда найти по дороге – на лестнице или во дворе – брошенный окурок сигареты или сигары. Бога совсем оттеснил к сторонке маленький окурок, валяющийся в плевательнице или где-нибудь в пыли, на земле. Этот маленький пахучий предмет одержал победу и над Богом, и над спасением души.
Да, кроме того, сама проповедь забавляла всех. Фельдкурат Отто Кац в общем был милейший человек. Его проповеди были необыкновенно увлекательны, остроумны и вносили оживление в гарнизонную скуку. Он так занятно трепал языком о бесконечном милосердии Божьем, чтобы поддержать «падших духом» и нечестивых арестантов, так смачно ругался с кафедры, так самозабвенно распевал у алтаря свое «Ite, missa est».[38] Богослужение он вел на очень оригинальный манер. Он изменял весь порядок святой мессы, а когда был здорово пьян, изобретал совершенно новые молитвы, новую обедню, свой собственный ритуал – словом, такое, чего до сих пор никто не видывал.
Вот смеху бывало, когда он, к примеру, поскользнется и брякнется вместе с чашей и со святыми дарами или требником, громко обвиняя министранта из заключенных, что тот умышленно подставил ему ножку, а потом тут же, перед самой дарохранительницей, вкатит этому министранту одиночку и «шпангли». Наказанный очень доволен: ведь все это входит в программу и делает еще забавнее комедию в тюремной часовне. Ему поручена в этой комедии большая роль, и он хорошо ее играет.
Фельдкурат Отто Кац, типичный военный священник, был еврей. Впрочем, в этом нет ничего удивительного: архиепископ Кон тоже был еврей, да к тому же близкий приятель Махара.
У фельдкурата Отто Каца прошлое было еще пестрее, чем у знаменитого архиепископа Кона. Отто Кац учился в коммерческом институте и на военную службу был призван в свое время как вольноопределяющийся. Он так прекрасно разбирался в вексельном праве и в векселях, что за один год привел фирму «Кац и K°» к банкротству, крах был такой, что старому Кацу пришлось уехать в Северную Америку, предварительно проделав кое-какие денежные комбинации со своими доверителями, правда, без их ведома, как и без ведома своего компаньона, которому пришлось уехать в Аргентину.
Когда молодой Отто Кац таким образом бескорыстно поделил фирму «Кац и K°» между Северной и Южной Америками, он очутился в положении человека, который ниоткуда не ждет наследства, не знает, где приклонить голову, и которому остается только устроиться на действительную военную службу.
Однако вольноопределяющийся Отто Кац придумал еще одну блестящую штуку. Он крестился. Обратился к Христу, доверчиво обратился, чтобы Христос помог ему сделать карьеру. Отто Кац рассматривал этот шаг, как коммерческую сделку между собой и сыном Божьим.
Его торжественно крестили в Эмаузском монастыре. Сам патер Альбан совершал обряд крещения. Это было великолепное зрелище. Присутствовали набожный майор из того же полка, где служил Отто Кац, старая дева из института благородных девиц на Градчанах и мордастый представитель консистории, который был у него за крестного.
Экзамен на офицера сошел благополучно, и новообращенный христианин Отто Кац остался на военной службе. Сначала ему казалось, что дело пойдет хорошо, и он метил уже в военную академию, но в один прекрасный день напился, пошел в монастырь и променял саблю на монашескую рясу. Он был на аудиенции у архиепископа в Градчанах и в результате попал в семинарию. Перед своим посвящением он напился вдребезги в одном весьма порядочном «доме с женской прислугой» на Вейводовой улице и прямо с кутежа отправился на рукоположение. После посвящения он пошел в свой полк искать протекции и, когда его назначили фельдкуратом, купил себе лошадь, гарцевал на ней по улицам Праги и принимал живейшее участие во всех попойках офицеров своего полка.
На лестнице дома, где помещалась его квартира, очень часто раздавались проклятия неудовлетворенных кредиторов. Отто Кац водил к себе девок с улицы или посылал за ними своего денщика. Он увлекался игрой в «железку», и ходили не лишенные основания слухи, что играет он нечисто, но никому не удавалось уличить фельдкурата в том, что в широком рукаве его военной сутаны был припрятан туз. В офицерских кругах его звали «святым отцом». К проповеди он никогда не готовился, чем отличался от своего предшественника, раньше навещавшего гарнизонную тюрьму. У того в голове твердо засело представление, что солдат, посаженных в гарнизонную тюрьму, можно исправить проповедями. Этот достойный пастырь набожно закатывал глаза и говорил арестантам о необходимости реформы законов о проститутках, а также реформы касательно незамужних матерей и распространялся о воспитании внебрачных детей. Его проповеди носили чисто абстрактный характер и никак не были связаны с текущим моментом, то есть, попросту сказать, были нудными.
Проповеди фельдкурата Отто Каца, напротив, веселили всех.
Шестнадцатую камеру привели в часовню в одних подштанниках, никак нельзя было позволить им надеть брюки, это было связано с риском, что кто-нибудь удерет. Настал торжественный момент. Двадцать ангелочков в белых подштанниках поставили у самого подножия кафедры проповедника. Те из них, которым улыбнулась фортуна, жевали подобранные по дороге окурки, так как, за неимением карманов, им некуда было их спрятать. Вокруг стояли остальные арестанты гарнизонной тюрьмы и любовались видом двадцати пар подштанников.
На кафедру, звеня шпорами, взобрался фельдкурат.
– Habacht![39] – скомандовал он. – На молитву! Повторять все за мной! Эй ты, там, сзади, не сморкайся, подлец, в кулак, ты находишься в храме Божьем, а не то велю посадить тебя в карцер! Небось уже забыли, обормоты, «Отче наш»? Ну-ка, попробуем… Так и знал, что дело не пойдет. Где уж там «Отче наш»! Вам бы только слопать две порции мяса с бобовой кашей, нажраться, лечь на брюхо, ковырять в носу и не думать о Господе Боге. Что, не правду я говорю?
Он посмотрел с кафедры вниз на двадцать белых ангелов в подштанниках, которые, как и остальные, вовсю развлекались. В задних рядах играли в «мясо».
– Ничего, интересно, – шепнул Швейк своему соседу, над которым тяготело подозрение, что он за три кроны отрубил своему товарищу топором все пальцы на руке, чтобы тот освободился от военной службы.
– То ли еще будет! – ответил тот. – Он сегодня опять здорово налакался, значит, опять станет рассказывать о тернистом пути греха.
Действительно, фельдкурат сегодня был в ударе. Сам не зная зачем, он все время перегибался через перила кафедры и чуть было не потерял равновесие и не свалился вниз.
– Ну-ка, ребята, спойте что-нибудь! – закричал он сверху. – Или хотите, я научу вас новой песенке? Подтягивайте за мной:
- Есть ли в мире кто милей
- Моей милки дорогой?
- Не один хожу я к ней —
- Прут к ней тысячи гурьбой!
- К моей милке на поклон
- Люди прут со всех сторон.
- Прут и справа, прут и слева,
- Звать ее Мария-дева.
Вы, лодыри, никогда ничему не научитесь, – продолжал фельдкурат. – Я за то, чтобы всех вас расстрелять. Всем понятно? Утверждаю с этого святого места, негодяи, ибо Бог есть бытие… которое стесняться не будет, а задаст вам такого перцу, что вы очумеете! Ибо вы хотите обратиться ко Христу и предпочитаете идти тернистым путем греха…
– Во-во, начинается. Здорово надрался! – радостно зашептал Швейку сосед.
– …Тернистый путь греха – это, болваны вы этакие, путь борьбы с пороками. Вы, блудные сыны, предпочитающие валяться в одиночках, вместо того чтобы вернуться к Отцу нашему, обратите взоры ваши к небесам и победите. Мир снизойдет в ваши души, хулиганы… Я просил бы там, сзади, не фыркать! Вы – не жеребцы и не в стойлах находитесь, а в храме Божьем. Обращаю на это ваше внимание, голубчики… Так где бишь я остановился? Ja, über den Seelenfrieden, sehr gut![40] Помните, скоты, что вы – люди и должны сквозь темный мрак действительности устремить взоры в беспредельный простор вечности и постичь, что все здесь тленно и недолговечно и что только один Бог вечен. Sehr gut, nicht wahr, meine Herren?[41] А если вы воображаете, что я буду денно и нощно за вас молиться, чтобы милосердный Бог, болваны, вдохнул свою душу в ваши застывшие сердца и святой Своею милостью уничтожил беззакония ваши, принял бы вас в лоно Свое навеки и во веки веков не оставлял милостью Своею вас, подлецов, то вы жестоко ошибаетесь! Я вас в обитель рая вводить не намерен…
Фельдкурат икнул.
– Не намерен… – упрямо повторил он. – Ничего не стану для вас делать. Даже не подумаю, потому что вы неисправимые негодяи. Бесконечное милосердие Всевышнего не поведет вас по жизненному пути и не коснется вас дыханием Божественной любви, ибо господу Богу и в голову не придет возиться с такими мерзавцами… Слышите, что я говорю? Эй, вы там, в подштанниках!
Двадцать подштанников посмотрели вверх и в один голос сказали:
– Точно так, слышим.
– Мало еще только слышать, – продолжал свою проповедь фельдкурат. – В окружающем вас мраке, болваны, не снизойдет к вам сострадание Всевышнего, ибо и милосердие Божье имеет свои пределы. А ты, осел, там сзади, не смей ржать, а не то сгною тебя в карцере; и вы, внизу, не думайте, что вы в кабаке! Милосердие Божье бесконечно, но только для порядочных людей, а не для всякого отребья, не соблюдающего ни его законов, ни воинского устава. Вот что я хотел вам сказать. Молиться вы не умеете и думаете, что ходить в церковь – одна потеха, словно здесь театр или кинематограф какой. Я вам это из башки выбью, чтобы вы не воображали, будто я пришел сюда забавлять вас и увеселять. Рассажу вас, сукиных детей, по одиночкам, – вот что я сделаю. Только время с вами теряю, совершенно зря теряю. Если бы вместо меня был здесь сам фельдмаршал или сам архиепископ, все равно вы бы не исправились и не обратили души ваши к Господу. И все-таки когда-нибудь вы меня вспомните и скажете: «Добра он нам желал…»
Из рядов подштанников послышалось всхлипывание. Это рыдал Швейк.
Фельдкурат посмотрел вниз. Швейк тер глаза кулаком. Вокруг царило всеобщее ликование.
– Пусть каждый из вас берет пример с этого человека, – продолжал фельдкурат, указывая на Швейка. – Что он делает? Плачет. Не плачь, говорю тебе! Не плачь! Ты хочешь исправиться? Это тебе, голубчик, не так-то легко удастся. Сейчас плачешь, а вернешься в свою камеру и опять станешь таким же негодяем, как и раньше. Тебе еще много придется пораздумать о бесконечном милосердии Божьем, долго придется совершенствоваться, пока твоя грешная душа не выйдет наконец на тот путь истинный, по коему ей надлежит идти… Днесь на наших глазах заплакал один из вас, захотевший обратиться на путь истины, а что делаете вы, остальные? Ни черта. Вот, смотрите, один что-то жует, словно родители у него были жвачные животные, а другой в храме Божьем ищет вшей в своей рубашке. Не можете дома чесаться, что ли? Обязательно вам во время богослужения надо. Смотритель, вы совсем не следите за порядком! Ведь вы же все солдаты, а не какие-нибудь балбесы штатские, и вести себя должны, как полагается солдатам, хотя бы и в церкви. Займитесь, черт побери, исканием Бога, а вшей будете искать дома! На этом, хулиганье, я кончил и требую, чтобы во время обедни вы вели себя прилично, а не как прошлый раз, когда в задних рядах обменивали казенное белье на хлеб и лопали этот хлеб при возношении святых даров.
Фельдкурат сошел с кафедры и проследовал в ризницу, куда направился за ним и смотритель. Через минуту смотритель вышел, подошел прямо к Швейку, вытащил его из кучи двадцати подштанников и отвел в ризницу.
Фельдкурат сидел, развалясь, на столе и свертывал себе сигарету. Когда Швейк вошел, фельдкурат сказал:
– Ну, вот и вы. Я тут поразмыслил и считаю, что раскусил вас как следует. Понимаешь? Это первый случай, чтобы у меня в церкви кто-нибудь разревелся.
Он соскочил со стола и, тряхнув Швейка за плечо, крикнул, стоя под большим мрачным образом Франциска Салеского:
– Признайся, подлец, что ревел ты только так, для смеха!
Франциск Салеский вопросительно глядел с иконы на Швейка. А с другой стороны на Швейка с изумлением взирал какой-то мученик. В зад ему кто-то вонзил зубья пилы, и какие-то неизвестные римские солдаты усердно пилили его. На лице мученика не видно было ни страдания, ни удовольствия, ни сияния мученичества. Его лицо выражало только удивление, как будто он хотел сказать: «Как это я, собственно, дошел до жизни такой и что вы, господа, со мной делаете?»
– Так точно, господин фельдкурат, – сказал Швейк серьезно, все ставя на карту, – исповедуюсь всемогущему Богу и вам, достойный отец, что я ревел, правда, только для смеху. Я видел, что в вашей проповеди не хватает кающегося грешника, к которому вы тщетно взывали, вот и решил доставить вам это удовольствие, чтобы вы не думали, будто нет уже порядочных людей. Да и сам я хотел поразвлечься, чтобы повеселело на душе.
Фельдкурат пытливо посмотрел на простодушную физиономию Швейка. Солнечный луч заиграл на мрачной иконе Франциска Салеского и согрел удивленного мученика на противоположной стене.
– Вы мне начинаете нравиться, – сказал фельдкурат, снова садясь на стол. – Какого полка? – спросил он, икая.
– Осмелюсь доложить, господин фельдкурат, что принадлежу и не принадлежу к Девяносто первому полку и вообще не знаю, что со мною происходит.
– А за что вы здесь-то сидите? – спросил фельдкурат, не переставая икать.
Из часовни доносились звуки фисгармонии, заменявшей орган. Музыкант-учитель, которого посадили за дезертирство, изливал свою душу в самых тоскливых церковных мелодиях. Звуки эти сливались с икотой фельдкурата в какой-то неведомой доселе дорической гамме.
– Осмелюсь доложить, господин фельдкурат, я, по правде сказать, не знаю, за что тут сижу. Но я не жалуюсь. Мне просто не везет. Я все стараюсь как получше, а у меня все выходит колом, все равно как у того мученика на иконе.
Фельдкурат посмотрел на икону, улыбнулся и сказал:
– Вы мне, ей-богу, нравитесь! Придется порасспросить о вас у следователя. Ну а больше болтать с вами я не буду. Скорее бы отделаться от этой святой мессы. Kehrt euch! Abtreten![42]
Вернувшись в родную семью голоштанников, стоявших у амвона, Швейк на вопросы, чего, мол, фельдкурат от него хотел, ответил очень сухо и коротко:
– Вдрызг пьян.
За следующим номером программы – святой мессой – публика следила с напряженным вниманием и нескрываемой симпатией. Один из арестантов даже побился об заклад, что фельдкурат уронит чашу с дарами. Он поставил весь свой паек хлеба против двух оплеух – и выиграл.
Нельзя сказать, чтобы чувство, которое наполняло в часовне души тех, кто созерцал исполняемые фельдкуратом обряды, было мистицизмом верующих или набожностью верных католиков. Скорее оно напоминало то чувство, какое появляется в театре, когда мы не знаем содержание пьесы, а действие все запутывается, и мы с нетерпением ждем развязки. Все были захвачены представлением, которое давал фельдкурат у алтаря. Арестанты не спускали глаз с ризы, которую фельдкурат надел наизнанку, все были воодушевлены и захвачены разыгрываемым у алтаря зрелищем, испытывая при этом эстетическое наслаждение. Рыжий министрант, дезертир из духовных, специалист по мелким кражам в Двадцать восьмом полку, честно старался восстановить по памяти весь ход действия, технику и текст святой мессы. Он был для фельдкурата одновременно и министрантом, и суфлером, что не мешало фельдкурату с необыкновенной легкостью переставлять целые фразы. Вместо обычной мессы фельдкурат раскрыл в требнике Рождественскую мессу и начал ее служить, к вящему удовольствию публики. Он не обладал ни голосом, ни слухом, и под сводами церкви раздавались визг и рев, словно в свином хлеву.
– Ну и нализался, нечего сказать, – с полным удовлетворением заговорили перед алтарем. – Здорово его развезло! Наверно, опять где-нибудь у девок напился.
Пожалуй, уже в третий раз у алтаря раздавалось пение фельдкурата «Ite missa est!», напоминавшее воинственный клич индейцев, от которого дребезжали стекла. Затем фельдкурат еще раз заглянул в чашу – проверить, не осталось ли там хоть капли вина, поморщился и обратился к слушателям:
– Ну, теперь, подлецы, можете идти домой. Конец. Я заметил, что вы не проявляете той истинной набожности, которую подобало бы проявить в церкви перед святым алтарем. Хулиганы! Перед лицом Всевышнего вы не стыдитесь громко смеяться и кашлять, харкать и шаркать ногами… даже при мне, хотя я здесь представитель Девы Марии, Иисуса Христа и Бога-Отца, болваны! Если это повторится впредь, то я с вами расправлюсь как следует. Вы будете знать, что существует не только тот ад, о котором я вам позапрошлый раз говорил в проповеди, но и ад на земле! Может быть, от первого вы и спасетесь, но от второго вам у меня не спастись. Abtreten!
Фельдкурат, так хорошо и оригинально проводивший в жизнь старый, избитый обычай посещения узников, прошел в ризницу, переоделся, велел себе налить церковного вина из громадной оплетенной бутыли, выпил и с помощью рыжего министранта сел на свою верховую лошадь, которая была привязана во дворе. Но тут он вспомнил о Швейке, слез с лошади и пошел в канцелярию к следователю Бернису.
Военный следователь Бернис был прежде всего светский человек, обольстительный танцор и распутник, который невероятно скучал на службе и писал немецкие стихи в свою записную книжку, чтобы всегда иметь наготове запасец. Он представлял собой важнейшее звено аппарата военного суда, так как в его руках было сосредоточено такое количество протоколов и совершенно запутанных актов, что он внушал уважение всему военно-полевому суду на Градчанах. Он постоянно забывал обвинительный материал, и это вынуждало его придумывать новый, он путал имена, терял нити обвинения и сучил новые, какие только приходили ему в голову; он судил дезертиров за воровство, а воров – за дезертирство; устраивал политические процессы, высасывая материал из пальца; он прибегал к разнообразнейшим фокусам, чтобы уличить обвиняемых в преступлениях, которые тем никогда и не снились, выдумывал оскорбления величества и эти им самим сочиненные выражения инкриминировал тем обвиняемым, материалы против которых терялись у него в постоянном хаосе служебных актов и других официальных бумаг.
– Servus![43] – сказал фельдкурат, подавая ему руку. – Как дела?
– Неважно, – ответил военный следователь Бернис. – Перепутали мне материалы, теперь в них сам черт ничего не разберет. Вчера я послал начальству уже обработанный материал об одном молодчике, которого обвиняют в мятеже, а мне все вернули назад, дескать, потому, что дело идет не о мятеже, а о краже консервов. Кроме того, я поставил не тот номер. Как они и до этого добрались, ума не приложу!
Военный следователь плюнул.
– Ходишь еще играть в карты? – спросил фельдкурат.
– Продулся я в карты. Последний раз играли мы с полковником, с тем плешивым, в макао, так я все ему просадил. Зато у меня есть на примете одна девочка… А ты что поделываешь, святой отец?
– Мне нужен денщик, – сказал фельдкурат. – Последний мой денщик был старик бухгалтер, без высшего образования, но скотина первоклассная. Вечно молился и хныкал, чтобы Бог сохранил его от беды и напасти, ну, я его и послал с маршевым батальоном на фронт. Говорят, этот батальон расколошматили в пух и прах. Потом мне прислали одного молодчика, который ничего не делал, только сидел в трактире и пил на мой счет. Этого бы еще можно было вытерпеть, да уж очень у него ноги потели. Пришлось и его послать с маршевым батальоном. А сегодня нашел я одного типа, который во время проповеди, смеху ради, разревелся. Вот такого-то мне и нужно. Фамилия его Швейк, а сидит в шестнадцатой. Интересно бы знать, за что его посадили и нельзя ли мне его как-нибудь оттуда вытащить?
Следователь стал рыться в ящиках стола, отыскивая дело Швейка, но, как всегда, не мог ничего найти.
– Наверно, у капитана Лингардта, – сказал он после долгих поисков. – Черт их знает, куда у меня пропадают все дела! Видно, я их послал Лингардту. Позвоню-ка ему… Алло! У телефона следователь поручик Бернис. Господин капитан, будьте добры, нет ли там у вас бумаг относительно некоего Швейка? Должны быть у меня?.. Странно… Сам от вас принимал? Действительно странно… Сидит в шестнадцатой… Да, я знаю, господин капитан, что шестнадцатая у меня. Но я думал, что бумаги о Швейке где-нибудь там у вас валяются… Вы просите с вами так не говорить? У вас ничего не валяется? Алло! Алло!
Военный следователь Бернис, огорченный, присел к столу и принялся осуждать беспорядок в ведении следствия. Между ним и капитаном Лингардтом давно уже существовала неприязнь, причем ни тот ни другой не хотел уступить. Если бумага, относившаяся к делам Лингардта, попадала в руки к Бернису, то Бернис засовывал ее так далеко, что потом уже никто не мог ее найти. Лингардт то же самое делал с бумагами, относящимися к делам Берниса. Точно так же пропадали и приложения к делам.[44]
(Дело Швейка было найдено в архиве военно-полевого суда только после переворота со следующей пометкой: «Намеревался сбросить маску лицемерия и открыто выступить против особы нашего государя и нашего государства». Дело Швейка было засунуто среди бумаг какого-то Йозефа Куделя. На обложке дела был поставлен крестик, а под ним: «Приведено в исполнение» и дата.)
– Итак, пропал у меня Швейк, – сказал Бернис. – Велю вызвать его сюда и, если он ни в чем не признается, отпущу. Я прикажу отвести его к тебе, а остальное ты уж сам в полку устрой.
После ухода фельдкурата следователь Бернис велел привести к себе Швейка. Но он заставил его ждать у дверей, так как в этот момент получил телефонограмму из полицейского управления о том, что затребованный материал к обвинительному акту № 7267, касающийся рядового пехоты Мейкснера, был принят канцелярией № 1 за подписью капитана Лингардта.
Швейк между тем разглядывал канцелярию военного следователя.
Нельзя сказать, чтобы обстановка здесь производила очень приятное впечатление, особенно фотографии различных экзекуций, произведенных армией в Галиции и в Сербии. Это были художественные фотографии спаленных хат и сожженных деревьев, ветви которых пригнулись под тяжестью повешенных. Особенно хороша была фотография из Сербии, изображавшая повешенную семью: маленький мальчик, отец и мать. Двое вооруженных солдат охраняют дерево, на котором висят несколько человек, а на переднем плане с видом победителя стоит офицер, курящий сигарету. Вдали видна действующая полевая кухня.
– Ну, так как же с вами быть, Швейк? – спросил следователь Бернис, приобщая телефонограмму к делу. – Что вы там натворили? Признаетесь или же будете ждать, пока составим на вас обвинительный акт? Этак не годится! Не воображайте, что вы находитесь перед каким-нибудь судом, где ведут следствие штатские балбесы. У нас суд военный. К. u. k. Militärgericht.[45] Единственным вашим спасением от строгой и справедливой кары может быть только полное признание.
У следователя Берниса был «свой собственный метод» на случай утери материала против обвиняемого. Но, как видите, в этом методе не было ничего особенного, поэтому не приходится удивляться, что результаты такого рода расследования и допроса всегда равнялись нулю.
Следователь Бернис считал себя настолько проницательным, что, не имея материала против обвиняемого, не зная, в чем его обвиняют и за что он вообще сидит в гарнизонной тюрьме, из одних только наблюдений за поведением и выражением лица допрашиваемого выводил заключение, за что этого человека держат в тюрьме. Его проницательность и знание людей были так глубоки, что одного цыгана, который попал в гарнизонную тюрьму из своего полка за кражу нескольких дюжин белья (он был подручным у каптенармуса), Бернис обвинил в политическом преступлении: дескать, тот в каком-то трактире вел агитацию среди солдат за создание самостоятельного чехословацкого государства во главе с королем-славянином.
– У нас на руках документы, – сказал он несчастному цыгану, – вам остается только признаться, в каком трактире вы это говорили, какого полка были те солдаты, что вас слушали, и когда это произошло.
Несчастный цыган выдумал и дату, и трактир, и полк, к которому принадлежали его мнимые слушатели, а когда возвращался с допроса, просто сбежал из гарнизонной тюрьмы.
– Вы не желаете ни в чем признаться? – спросил Бернис, видя, что Швейк хранит гробовое молчание. – Вы не хотите сказать, как вы сюда попали, за что вас посадили? Мне-то по крайней мере вы могли бы это сказать, пока я сам вам не напомнил. Предупреждаю еще раз, признайтесь. Вам же лучше будет, ибо это облегчит расследование и уменьшит наказание. В этом отношении у нас то же, что и в гражданских судах.
– Осмелюсь доложить, – прозвучал наконец добродушный голос Швейка, – я здесь, в гарнизонной тюрьме, вроде как найденыш.
– Что вы хотите этим сказать?
– Осмелюсь доложить, могу объяснить это очень просто… На нашей улице живет угольщик, у него был совершенно невинный двухлетний мальчик. Забрел раз этот мальчик пешком с Виноград в самую Либню, уселся на тротуаре – тут его и нашел полицейский. Отвел он его в участок, а там его заперли, двухлетнего-то ребенка! Видите, мальчик был совершенно невинный, а его все-таки посадили. Если бы его спросили, за что он сидит, то – умей он говорить – все равно не знал бы, что ответить. Вот и со мной приблизительно то же самое. Я тоже найденыш.
Быстрый взгляд следователя скользнул по фигуре и лицу Швейка и разбился о них. От всего существа Швейка веяло таким равнодушием и такой невинностью, что Бернис в раздражении зашагал по канцелярии, и если бы не обещание фельдкурату послать ему Швейка, то черт знает, чем бы кончилось это дело.
Наконец следователь остановился у своего стола.
– Послушайте-ка, – сказал он Швейку, с равнодушным видом глазевшему по сторонам, – если вы еще хоть раз попадетесь мне на глаза, то долго будете это помнить… Уведите его!
Пока Швейка вели назад в шестнадцатую, Бернис вызвал к себе смотрителя Славика.
– Впредь до дальнейших указаний Швейк передается в распоряжение господина фельдкурата Каца, – коротко приказал он. – Заготовить пропуск. Отвести Швейка с двумя конвойными к господину фельдкурату.
– Прикажете отвести его, господин поручик, в кандалах?
Следователь ударил кулаком по столу.
– Осел! Я же ясно сказал: заготовить пропуск!
И все, что накопилось за день в душе следователя: капитан Лингардт, Швейк, – все это бурным потоком устремилось на смотрителя и кончилось словами:
– Поняли наконец, что вы коронованный осел?!
Так полагалось бы величать только королей и императоров. Но даже простой смотритель, особа отнюдь не коронованная, все же не остался доволен таким обращением и, выходя от военного следователя, пнул ногой арестанта, мывшего коридор. Что же касается Швейка, то смотритель решил его оставить хотя бы еще на одну ночь в гарнизонной тюрьме, чтобы дать ему возможность вкусить всех ее прелестей.
Ночь, проведенная в гарнизонной тюрьме, навсегда остается приятным воспоминанием для каждого, побывавшего там.
Возле шестнадцатой находилась одиночка, жуткая дыра, откуда и в описываемую нами ночь доносился вой арестованного солдата, которому за какой-то проступок по приказанию смотрителя Славика фельдфебель Ржепа сокрушал ребра.
Когда вой затих, в шестнадцатой слышно было только щелканье вшей, попавших под ногти арестантов.
Над дверью в углублении, сделанном в стене, керосиновая лампа, снабженная предохранительной решеткой, бросала на стены тусклый свет и коптила. Запах керосина смешивался с испарением немытых человеческих тел и с вонью параши, которая после каждого употребления разверзала свои пучины и пускала новую волну смрада в шестнадцатую.
Плохая пища затрудняла процесс пищеварения, и большинство арестантов страдало скоплением газов; газы выпускались в ночную тишину, их встречали ответные сигналы, сопровождаемые остротами.
Из коридора доносились размеренные шаги часовых, время от времени открывался глазок в двери и «архангел» заглядывал внутрь.
На средней койке кто-то тихим голосом рассказывал:
– Меня перевели сюда после того, как я попробовал удрать. Раньше-то я сидел в двенадцатой. Там вроде сидят по более легким делам. Привели к нам раз одного деревенского мужика. Его посадили на две недели за то, что пускал к себе ночевать солдат. Сперва думали – политический заговор, а потом выяснилось, что он это делал за деньги. Он должен был сидеть с самыми мелкими преступниками, а там было полно, вот он и попал к нам. Чего он только с собой не принес из дому и чего ему только не присылали! Каким-то образом ему разрешили пользоваться своими харчами сверх тюремного пайка. И курить разрешили. Принес он с собой два окорока, этакий здоровенный каравай хлеба, яйца, масло, сигареты, табак… Ну, словом, все, о чем человек может только мечтать. Все это у него хранилось в двух мешках. Да, и забрал он себе в голову, что все это должен сожрать один. Стали мы у него просить по-хорошему, раз он сам не догадывается поделиться с нами, как делали все другие, когда что-нибудь получали. А он, скупердяй этакий, нет и нет: дескать, ему тут две недели сидеть и он может испортить себе желудок капустой да гнилой картошкой, которую нам дают на обед. Он, мол, отдает нам свой казенный обед и хлебный паек, ничего, дескать, против этого не имеет, можем разделить все поровну или же есть по очереди… Тонкого, скажу вам, понятия был человек: на парашу и садиться не желал, откладывал на другой день, чтобы во время прогулки проделать это в отхожем месте на дворе. Такой уж избалованный, что даже клозетную бумагу с собой принес. Мы ему сказали, что нам начхать на его порцию, и терпели день, другой, третий… Парень жрал ветчину, мазал хлеб маслом, лупил яйца, словом – жил как надо. Курил сигареты и даже затянуться никому не хотел дать: дескать, нам курить не разрешается и если «архангел» увидит, что он дает нам курить, то его посадят в одиночку. Словом, говорю, три дня мы терпели. На четвертый, ночью, настал час расплаты. Парень утром проснулся… Да, забыл вам сказать, что он каждый день утром, в обед и вечером, перед жратвой, всегда молился, подолгу молился. Помолился он, значит, и полез за своими мешками под нары. Да, мешки-то там лежали, но тощие, сморщенные, как сушеная слива. Он кричать, что его обокрали, что оставили ему только клозетную бумагу, но потом замолчал, минут пять подумал, решил, что мы пошутили и просто все куда-нибудь припрятали. Вот и говорит, да так весело: «Эх вы, мошенники, все равно вы мне все вернете. Ну и здорово это у вас получилось!» Был у нас там один из Либени, тот ему говорит: «Знаете что, накройтесь с головой одеялом и считайте до десяти, а потом посмотрите в свои мешки». Наш парень, как послушный мальчик, накрылся с головой и считает: «Раз, два, три…» А либенский говорит: «Не так быстро, считайте медленно!» А тот под одеялом снова давай считать, медленно, с расстановкой: «Раз… два… три…» Когда сосчитал до десяти, слез со своей койки, посмотрел в мешки. «Иисус Мария! Люди добрые! – начал кричать. – Мешки пустые, как и раньше!» Посмотрели бы вы на его глупую рожу! Мы чуть не лопнули со смеху. А либенский-то этот говорит: «Попробуйте-ка еще раз!» Так, верите ли, парень до того обалдел, что попробовал еще раз, а когда увидал, что в мешках опять ничего, кроме клозетной бумаги, нет, начал колотить в дверь и кричать: «Меня обокрали! Меня обокрали! Караул! Отоприте! Ради Бога, отоприте!» Моментально прибежали надзиратели, позвали смотрителя и фельдфебеля Ржепу. Мы все, как один, заявляем, что он помешался: дескать, вчера до самой поздней ночи жрал и все съел один. А он только плачет и все твердит: «Ведь хоть крошки-то должны остаться». Стали искать крошки и, конечно, не нашли. Не на дураков напали! Что сами не могли слопать, послали почтой по веревке во второй этаж. Ничего у нас не могли обнаружить, хотя этот дурак и ныл свое: «Но ведь крошечки-то должны где-нибудь остаться!» Целый день ничего не жрал, только смотрел, не ест ли кто-нибудь чего, не курит ли. На второй день он к обеду и не притронулся, однако вечером и гнилая картошка с капустой пришлись ему по вкусу. Только уж больше не молился, как прежде, когда напускался на ветчину и яйца. Потом один из нас каким-то образом разжился махоркой, и тут-то он с нами впервые заговорил, чтобы, дескать, дали ему затянуться. Черта с два мы ему дали!
– А я боялся, что вы ему дадите затянуться, – заметил Швейк. – Этим бы вы испортили весь рассказ. Такое благородство встречается только в романах, а в гарнизонной тюрьме это было бы просто глупостью.
– А сделали вы ему темную? – спросил кто-то.
– Нет, об этом забыли.
В шестнадцатой вполголоса открылась дискуссия, следовало после всего этого сделать ему темную или нет. Большинство высказалось «за».
Разговор понемногу затих. Арестанты засыпали, скребя под мышками, на груди и на животе, где вшей в белье водится особенно много. Засыпали, натягивая завшивевшие одеяла на голову, чтобы не мешал свет керосиновой лампы.
В восемь часов Швейка вызвали и приказали идти в канцелярию.
– По левой стороне у двери канцелярии стоит плевательница. Там бывают окурки, – поучал Швейка один из арестантов. – А на втором этаже еще одна стоит. Лестницу метут в девять, так что там сейчас что-нибудь найдется.
Но Швейк не оправдал их надежд. Больше в шестнадцатую он не вернулся. Девятнадцать подштанников судили и рядили об этом на все лады.
Веснушчатый ополченец, обладавший самой необузданной фантазией, объявил, что Швейк стрелял в своего ротного командира и его нынче отвели на Мотольский плац на расстрел.
Глава Х
Швейк в денщиках у фельдкурата
I
Далее швейковская одиссея развертывается под почетным эскортом двух солдат, вооруженных винтовками с примкнутыми штыками. Они должны были доставить его к фельдкурату.
Эти двое солдат взаимно дополняли друг друга: один был худой и долговязый, другой, наоборот, маленький и толстый; верзила хромал на правую ногу, маленький – на левую. Оба служили в тылу, так как до войны были совершенно освобождены от военной службы. Оба с серьезным видом топали по мостовой и изредка поглядывали на Швейка, который шагал между ними и по временам отдавал честь. Его штатское платье исчезло в цейхгаузе гарнизонной тюрьмы вместе с военной фуражкой, в которой он явился на призыв, и ему выдали старый мундир, ранее принадлежавший, очевидно, какому-то пузатому здоровяку, ростом на голову выше Швейка. В штаны, которые были на нем, влезло бы еще три Швейка. Бесконечные складки, от ног и чуть ли не до шеи – а штаны доходили до самой шеи, – поневоле привлекали внимание зевак. Громадная грязная и засаленная гимнастерка с заплатами на локтях болталась на Швейке, как кафтан на огородном пугале. Штаны висели, как у клоуна в цирке. Форменная фуражка, которую ему тоже подменили в гарнизонной тюрьме, сползала на уши.
На усмешки зевак Швейк отвечал мягкой улыбкой и ласковым, теплым взглядом своих добрых глаз.
Так продвигались они к Карлину, где жил фельдкурат. Первым заговорил со Швейком маленький толстяк. В этот момент они проходили по Малой Стране под галереей.
– Откуда будешь?
– Из Праги.
– Не удерешь от нас?
В разговор вмешался верзила. Поразительное явление: если маленькие толстяки бывают по большей части добродушными оптимистами, то люди худые и долговязые, наоборот, в большинстве случаев скептики. Следуя этому закону, верзила сказал маленькому:
– Кабы мог, удрал бы!
– А на кой ему удирать? – отозвался маленький толстяк. – Он и так на воле, не в гарнизонной тюрьме. Вот несу тут в пакете.
– А что там, в этом пакете для фельдкурата? – спросил верзила.
– Не знаю.
– Видишь, не знаешь, а говоришь…
Карлов мост они прошли в полном молчании. Но на Карловой улице маленький толстяк опять заговорил со Швейком:
– Не знаешь, зачем мы тебя ведем к фельдкурату?
– На исповедь, – небрежно ответил Швейк – Завтра меня будут вешать. Так всегда делается. Это, как говорится, для успокоения души.
– А за что тебя будут… того? – осторожно спросил верзила, между тем как толстяк с соболезнованием посмотрел на Швейка.
Оба конвоира были ремесленники из деревни, отцы семейств.
– Не знаю, – ответил Швейк, добродушно улыбаясь. – Я ничего не знаю. Видно, судьба.
– Стало быть, родился ты под несчастной звездой, – тоном знатока с сочувствием заметил маленький. – У нас в селе Ясени, около Йозефова, еще во время Прусской войны тоже вот так повесили одного. Пришли за ним, ничего не сказали и в Йозефове повесили.
– Я думаю, – скептически заметил долговязый, – что так, ни за что ни про что, человека не вешают. Должна быть какая-нибудь причина. Такие вещи просто так не делаются.
– В мирное время, – заметил Швейк, – может, оно и так, а во время войны один человек во внимание не принимается. Он должен пасть на поле брани или быть повешен дома! Что в лоб, что по лбу.
– Послушай, не политический ли ты какой? – спросил верзила. По тону его было заметно, что он начинает сочувствовать Швейку.
– Политический, даже очень, – улыбнулся Швейк.
– Может, ты национальный социалист?
Но тут уж маленький, в свою очередь, стал осторожным и вмешался в разговор.
– Нам-то что до этого, – сказал он. – И потом смотри-ка, всюду пропасть народу, и все на нас глазеют. Если бы мы хоть могли где-нибудь в воротах снять штыки, чтобы это как-нибудь… не так выглядело. Ты не удерешь? А то, знаешь, нам влетит. Верно, Тоник? – обратился он к верзиле.
Тот тихо сказал:
– Штыки-то мы могли бы снять. Все-таки это наш человек. – Он перестал быть скептиком, и душа его наполнилась состраданием к Швейку.
Тут они высмотрели подходящее место за воротами, сняли там штыки, и толстяк разрешил Швейку идти рядом с ним.
– Небось курить хочется? Да? – спросил он. – Кто знает…
Он хотел сказать: «Кто знает, дадут ли тебе закурить, перед тем как повесят», – но не докончил фразы, поняв, что это было бы бестактно.
Все закурили, и конвоиры Швейка стали рассказывать ему о своих семьях, живущих в районе Краловеградца, о женах, о детях, о клочке землицы, о единственной корове…
– Пить хочется, – заявил Швейк.
Долговязый и маленький переглянулись.
– По одной кружке и мы бы выпили, – сказал маленький, почувствовав согласие верзилы, – но зайти туда, где на нас бы не очень глазели.
– Идемте в «Куклик», – предложил Швейк, – там на кухне можно оставить ружья. Хозяином там – Серабона, сокол, его нечего бояться. Там играют на скрипке и на гармонике, бывают девки и другие приличные люди, которых не пускают в «репрезентяк».
Верзила и толстяк снова переглянулись, и верзила решил:
– Ну что ж, зайдем, до Карлина еще далеко.
По дороге Швейк рассказывал разные анекдоты, и они в чудесном настроении пришли в «Куклик» и поступили так, как советовал Швейк. Ружья спрятали на кухне и пошли в общий зал, где скрипка с гармошкой наполняли все помещение звуками излюбленной песни «На Панкраце, на холме, есть чудесная аллея».
Какая-то барышня сидела на коленях у юноши потасканного вида, с безукоризненным пробором, и пела сиплым голосом:
- Обзавелся я девчонкой,
- А гуляет с ней другой.
За одним столом спал пьяный сардинщик. Временами он просыпался, ударял кулаком по столу, бормотал: «Не выйдет!» – и снова засыпал. За бильярдом под зеркалом сидели три девицы и кричали железнодорожному кондуктору:
– Молодой человек, угостите нас вермутом!
Двое около музыкантов спорили о какой-то Марженке, которую вчера во время облавы «сцапал» патруль. Один утверждал, что видел это собственными глазами, другой же уверял, будто она вчера пошла спать с одним солдатом в гостиницу «Валыпум».
У самых дверей, в компании штатских, сидел солдат и рассказывал им о том, как его ранили в Сербии. У него была перевязана рука, а карманы набиты сигаретами, полученными от собеседников. Он все время повторял, что уже больше не может пить, а один из компании, плешивый старикашка, всякий раз его перебивал:
– Да выпей уж, солдатик! Кто знает, свидимся ли когда-нибудь? Велеть, чтоб сыграли вам что-нибудь? Любите «Сиротку»?
Это была любимая песня лысого старика. И через минуту скрипка с гармошкой завыли «Сиротку». У старика при этом на глазах выступили слезы, и он затянул дребезжащим голосом:
- Чуть понятливее стала,
- Все о маме вопрошала,
- Все о маме вопрошала…
- Из-за другого стола послышалось:
– Хватит! Ну их к черту! Катитесь вы с вашей «Сироткой»!
И в качестве последнего средства вражеский стол грянул:
- Разлука, ах, разлука —
- Для сердца злая мука.
– Франта, – позвали они раненого солдата, когда, заглушив «Сиротку», допели «Разлуку» до конца, – Франта, брось их, иди садись к нам! Плюнь на них и гони сюда сигареты. Брось забавлять этих чудаков!
Швейк и его конвоиры с интересом наблюдали за всем происходящим. Швейк, который часто сиживал тут еще до войны, пустился в воспоминания о том, как, бывало, здесь внезапно появлялся с облавой полицейский комиссар Драшнер и как его боялись проститутки, которые сложили про него песенку.
Раз они ее даже запели хором:
- Как от Драшнера, от пана,
- Паника поднялась.
- Лишь одна Марженка спьяна
- Его не боялась…
В этот момент вошел Драшнер со своей свитой, грозный и неумолимый. Последовавшая сцена напоминала охоту на куропаток: полицейские согнали всех в кучу. Швейк тоже очутился в этой куче, потому что на свою беду, когда комиссар Драшнер потребовал у него удостоверение личности, сказал ему: «А есть ли у вас на это разрешение полицейского управления?» Потом Швейк вспомнил еще об одном поэте, который сиживал вон там под зеркалом и среди шума и гама, под звуки гармошки, сочинял стихи и тут же читал их проституткам.
У конвоиров Швейка никаких воспоминаний подобного рода не было. Для них все было внове. Им тут начинало нравиться. Первым почувствовал себя здесь как рыба в воде маленький толстяк. Ведь толстяки, кроме своего оптимизма, отличаются еще большой склонностью к эпикурейству. Верзила с минуту боролся с самим собой, но, потеряв свой скептицизм, мало-помалу стал терять и сдержанность и последние остатки рассудительности.
– Пойду-ка потанцую, – сказал он после пятой кружки пива, увидав, как пары танцуют «шляпака».
Маленький полностью отдался радостям жизни. Возле него сидела какая-то барышня и несла похабщину. Глаза у него так и блестели.
Швейк пил.
Верзила, кончив танцевать, вернулся к столу с партнершей. Потом конвойные пели, снова танцевали, не переставая пили и похлопывали своих компаньонок. И в этой атмосфере продажной любви, никотина и алкоголя незримо витал старый девиз: «После нас – хоть потоп».
После обеда к ним подсел какой-то солдат и предложил сделать им за пять крон флегмону и заражение крови.
Шприц для подкожного впрыскивания у него при себе, и он может впрыснуть им в ногу или руку керосин.[46] После этого человек пролежит не менее двух месяцев, а если будет смачивать рану слюнями, то и все полгода, и его вынуждены будут совсем освободить от военной службы.
Верзила, потерявший всякое душевное равновесие, пошел с солдатом в уборную впрыскивать себе под кожу в ногу керосин.
Когда время подошло к вечеру, Швейк внес предложение отправиться в путь к фельдкурату. Но маленький толстяк, у которого язык начал уже заплетаться, соблазнил Швейка остаться еще. Верзила был тоже того мнения, что фельдкурат может подождать. Однако Швейку в «Куклике» уже надоело, и он пригрозил, что пойдет один.
Тронулись в путь, однако Швейку пришлось пообещать, что они сделают еще один привал. Остановились они за «Флоренцией» в маленьком кафе, где толстяк продал свои серебряные часы, чтобы они могли еще поразвлечься.
Оттуда конвоиров под руки вел уже Швейк. Это стоило ему большого труда. Ноги у них все время подкашивались, и их беспрестанно тянуло еще куда-нибудь зайти. Маленький толстяк чуть было не потерял пакет, предназначенный фельдкурату, и Швейку пришлось нести пакет самому. Всякий раз, когда навстречу им шел офицер или какой-нибудь унтер, Швейк должен был их предупреждать. Сверхчеловеческими усилиями ему удалось наконец дотащить своих конвоиров до Кралевской улицы, где жил фельдкурат. Швейк собственноручно примкнул к винтовкам штыки и, подталкивая конвоиров под ребра, добился, чтобы они его вели, а не он их.
Во втором этаже, где на дверях была визитная карточка «Отто Кац – фельдкурат», им вышел отворять какой-то солдат. Из соседней комнаты доносились голоса, звон бутылок и бокалов.
– Wir… melden… gehörsam… Herr… Feldkurat, – с трудом выговорил верзила, отдавая честь солдату, – ein… Paket… und ein Mann gebracht.[47]
– Влезайте, – сказал солдат. – Где это вы так нализались? Господин фельдкурат тоже… – И солдат сплюнул.
Солдат ушел с пакетом. Пришедшие долго ждали его в передней, пока наконец не открылась дверь и в переднюю не вошел, а как бомба влетел фельдкурат. Он был в одной жилетке и в руке держал сигару.
– Так вы уже здесь, – сказал он, обращаясь к Швейку. – А, это вас привели. Э… нет ли у вас спичек?
– Никак нет, господин фельдкурат, – ответил Швейк.
– А… а почему у вас нет спичек? Каждый солдат должен иметь спички, чтобы закурить. Солдат, не имеющий спичек, является… является… Ну?
– Осмелюсь доложить, является без спичек, – подсказал Швейк.
– Совершенно верно, является без спичек и не может дать никому закурить. Это во-первых. А теперь во-вторых. Ноги у вас воняют?
– Никак нет, не воняют.
– Так. Это во-вторых. А теперь в-третьих. Водку пьете?
– Никак нет, водки не пью, только ром.
– Отлично! Вот посмотрите на этого солдата. Я одолжил его на денек у поручика Фельдгубера, это его денщик. Он ни черта не пьет, такой рр… тр… трезвенник, а потому отправится с маршевой ротой. По… потому что такого человека мне не нужно. Это не денщик, а корова. Та тоже пьет одну воду и мычит, как бык.
– Ты т… т… резвенник! – обратился он к солдату. – Не… не стыдно тебе! Дурррак! Достукаешься – получишь в морду!
Тут фельдкурат обратил свое внимание на солдат, которые привели Швейка и, несмотря на то что изо всех сил старались стоять ровно, качались, тщетно пытаясь опереться на свои ружья.
– Вы п… пьяны!.. – сказал фельдкурат. – Вы напились при исполнении служебных обязанностей!.. За это я поса… садить велю вас! Швейк, отберите у них ружья, отведите на кухню и будете их сторожить, пока не придет патруль, чтобы их отвести. Я сейчас п… позвоню в казармы.
Итак, слова Наполеона «На войне ситуация меняется с каждым мгновением» нашли здесь полное свое подтверждение: утром конвоиры вели под штыками Швейка и боялись, как бы он у них не сбежал, а оказалось, что не они Швейка, а Швейк их привел к месту назначения и в конце концов Швейку же пришлось их караулить. Они не сразу сообразили, как обернулось дело, но когда, сидя на кухне, увидели в дверях Швейка с ружьем и примкнутым штыком, поняли все.
– Я бы чего-нибудь выпил, – вздохнул маленький оптимист.
Но на верзилу опять нашел припадок скептицизма. Он заявил, что все это – низкое предательство, и принялся громко обвинять Швейка за то, что по его вине они попали в такое положение. Он укорял его, вспоминая, как Швейк им обещал, что завтра его повесят, а теперь выходит, что исповедь, как и виселица, одно надувательство.
Швейк молча расхаживал около двери.
– Ослами мы были! – вопил верзила.
Выслушав все обвинения, Швейк сказал:
– Теперь вы по крайней мере видите, что военная служба вам не фунт изюма. Я только исполняю свой долг. Я влип в это дело случайно, как и вы, но, как говорится, мне «улыбнулась фортуна».
– Я бы чего-нибудь выпил! – в отчаянии повторял оптимист.
Верзила встал и, пошатываясь, подошел к двери.
– Пусти нас домой, – сказал он Швейку, – брось дурачиться, приятель!
– Отойди! – ответил Швейк. – Я вас должен караулить. Теперь мы незнакомы.
В дверях появился фельдкурат.
– Я… я никак не могу дозвониться в эти самые казармы. А потому ступайте домой да по… помните у меня, что на службе пьянствовать не… нельзя! Марш отсюда!
К чести господина фельдкурата будь сказано, что в казармы он не звонил, так как телефона у него не было, а просто говорил в настольную электрическую лампу.
II
Уже третий день Швейк служил в денщиках у фельдкурата Отто Каца и за это время видел его только один раз. На третий день пришел денщик поручика Гельмиха и сказал Швейку, чтобы тот шел к ним за фельдкуратом.
По дороге денщик рассказал Швейку, что фельдкурат поссорился с поручиком Гельмихом и разбил пианино. Фельдкурат в доску пьян и не хочет идти домой, а поручик Гельмих, тоже пьяный, все-таки выкинул его на лестницу, и тот сидит у двери на полу и дремлет.
Прибыв на место, Швейк как следует встряхнул фельдкурата. Тот замычал и открыл глаза. Швейк взял под козырек и отрапортовал:
– Честь имею явиться, господин фельдкурат!
– А что… вам… здесь надо?
– Осмелюсь доложить, я пришел за вами, господин фельдкурат. Я должен был прийти.
– Должны были прийти за мной? А куда мы пойдем?
– Домой, господин фельдкурат.
– А зачем мне идти домой? Разве я не дома?
– Никак нет, господин фельдкурат, вы – на лестнице в чужом доме.
– А как… как я… сюда попал?
– Осмелюсь доложить, вы были в гостях.
– В… гостях… в го… гостях я не… не был. Это вы… о… ошибаетесь…
Швейк приподнял фельдкурата и прислонил его к стене. Фельдкурат шатался из стороны в сторону, наваливался на Швейка и все время повторял, глупо улыбаясь:
– Я у вас сейчас упаду…
В конце концов Швейку удалось прислонить его к стене, но в этом новом положении фельдкурат опять заснул.
Швейк разбудил его.
– Что вам угодно? – спросил фельдкурат, делая тщетную попытку съехать по стене и сесть на пол. – Кто вы такой?
– Осмелюсь доложить, господин фельдкурат, – ответил Швейк, снова прислоняя фельдкурата к стене, – я ваш денщик.
– Нет у меня никаких денщиков, – с трудом выговаривал фельдкурат, пытаясь упасть на Швейка, – и я не фельдкурат. Я свинья!.. – прибавил он с пьяной откровенностью. – Пустите меня, сударь, я с вами незнаком!
Короткая борьба окончилась решительной победой Швейка, который воспользовался этим для того, чтобы стащить фельдкурата с лестницы в парадное, где тот, однако, оказал серьезное сопротивление, не желая, чтобы его вытащили на улицу.
– Я с вами, сударь, незнаком, – уверял он, борясь со Швейком. – Знаете Отто Каца? Это – я…
– Я у архиепископа был! – орал он немного погодя за дверью. – Сам Ватикан проявляет интерес к моей персоне. Понимаете?!
Швейк отбросил «осмелюсь доложить» и заговорил с фельдкуратом в интимном тоне.
– Отпусти руку, говорю, – сказал он, – а не то дам раза! Идем домой – и баста! Не разговаривать!
Фельдкурат отпустил дверь и навалился на Швейка.
– Тогда пойдем куда-нибудь. Только к «Шугам» я не пойду, я там остался должен.
Швейк вытолкал фельдкурата из парадного и поволок его по тротуару к дому.
– Это что за фигура? – полюбопытствовал один из прохожих.
– Это мой брат, – пояснил Швейк – Получил отпуск и приехал меня навестить да на радостях выпил; не думал, что застанет меня в живых.
Услыхав последнюю фразу, фельдкурат промычал мотив из какой-то оперетки, перевирая его до невозможности. Потом выпрямился и обратился к прохожим:
– Кто из вас умер, пусть явится в течение трех дней в штаб корпуса, чтобы труп его был окроплен святой водой… – и замолк, норовя упасть носом на тротуар.
Швейк, подхватив фельдкурата под мышки, поволок его дальше. Вытянув вперед голову и волоча ноги, как кошка с перешибленным хребтом, фельдкурат бормотал себе под нос:
– Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Dominus vobiscum.[48]
У стоянки извозчиков Швейк посадил фельдкурата на тротуар, прислонив его к стене, а сам пошел договариваться с извозчиками. Один из них заявил, что знает этого пана очень хорошо, он уже один раз его возил и больше не повезет.
– Заблевал мне все, – пояснил извозчик, – да еще не заплатил за проезд. Возил я его больше двух часов, пока нашел, где он живет. Три раза я к нему ходил, а он только через неделю дал мне за все пять крон.
Наконец после долгих переговоров какой-то извозчик взялся отвезти. Швейк вернулся за фельдкуратом. Тот спал. Кто-то снял у него с головы черный котелок (он обыкновенно ходил в штатском) и унес. Швейк разбудил фельдкурата и с помощью извозчика погрузил его в закрытый экипаж. Там фельдкурат впал в полное отупение. Он принял Швейка за полковника Семьдесят пятого пехотного полка Юста и несколько раз повторил:
– Не сердись, дружище, что я тебе тыкаю. Я свинья!
С минуту казалось, что от тряски пролетки по мостовой к нему возвращается сознание. Он сел прямо и запел какой-то отрывок из неизвестной песенки. Вероятно, это была его собственная импровизация.
- Помню золотое время,
- Как все улыбались мне,
- Проживали мы в то время
- У Домажлиц в Мерклине.
Однако через минуту он потерял всякую способность соображать и, обращаясь к Швейку, спросил, прищурив один глаз:
– Как поживаете, мадам? Едете куда-нибудь на дачу?
В глазах у него двоилось, он сделал паузу и осведомился:
– Изволите иметь уже взрослого сына? – И указал пальцем на Швейка.
– Будешь ты сидеть или нет?! – прикрикнул на него Швейк, когда фельдкурат хотел встать на сиденье. – Я тебя приучу к порядку!
Фельдкурат затих и только смотрел своими маленькими поросячьими глазками с пролетки, совершенно не понимая, что, собственно, с ним происходит.
Потом, опять забыв все на свете, он повернулся к Швейку и сказал тоскливым тоном:
– Пани, дайте мне первый класс, – и сделал попытку спустить брюки.
– Застегнись сейчас же, свинья! – заорал на него Швейк. – Тебя, учти, и так все извозчики знают. Один раз уже облевал все, а теперь еще и это хочешь. Не воображай, что опять не заплатишь, как в прошлый раз.
Фельдкурат меланхолически подпер голову рукой и стал напевать:
- Меня уже никто не любит…
Но внезапно прервал свое пение и заметил:
– Entschuldigen Sie, lieber Kamerad, Sie sind ein Trottel! Ich kann singen, was ich will![49]
Тут он, как видно, хотел засвистать какую-то мелодию, но вместо свиста из глотки у него вырвалось такое мощное «тпрру», что экипаж остановился.
Когда спустя некоторое время они, по распоряжению Швейка, снова тронулись в путь, фельдкурат стал раскуривать пустой мундштук.
– Не закуривается, – сказал он, понапрасну исчиркав всю коробку спичек. – Вы мне дуете на спичку.
Но внезапно он потерял нить мыслей и засмеялся.
– Вот смешно! Мы одни в трамвае. Не правда ли, коллега?
И он стал шарить по карманам.
– Я потерял билет! – закричал он. – Остановите вагон, билет должен найтись!
Потом покорно махнул рукой и крикнул:
– Трогай дальше!
И вдруг забормотал:
– В большинстве случаев… Да, все в порядке… Во всех случаях… Вы находитесь в заблуждении. На третьем этаже?.. Это – отговорка… Разговор идет не обо мне, а о вас, милостивая государыня… Счет!.. Одна чашка черного кофе…
Засыпая, он спорил с каким-то воображаемым неприятелем, который лишал его права сидеть в ресторане у окна. Потом принял пролетку за поезд и, высовываясь наружу, орал на всю улицу по-чешски и по-немецки:
– Нимбурк, пересадка!
Швейк с силой притянул его к себе, и фельдкурат забыл про поезд и принялся подражать крику разных животных и птиц. Дольше всего он подражал петуху, и его «кукареку» победно неслось с дрожек.
На некоторое время он стал вообще необычайно деятельным и неусидчивым. Он сделал попытку выскочить из пролетки, ругая всех прохожих хулиганами. Затем он выбросил из пролетки носовой платок и закричал, чтобы остановились, так как он потерял багаж. Потом стал рассказывать:
– Жил в Будейовицах один барабанщик. Вот женился он и через год умер. – Он вдруг расхохотался: – Что, нехорош разве анекдот?
Все это время Швейк обращался с фельдкуратом с беспощадной строгостью. При всех попытках фельдкурата выкинуть какую-нибудь штуку, как, например, выскочить из пролетки или отломать сиденье, Швейк давал ему под ребра, на что тот реагировал необычайно тупо. Один только раз он сделал попытку взбунтоваться и выскочить из пролетки, заявляя, что дальше он не поедет, так как, вместо того чтобы ехать в Будейовицы, они едут в Подмоклы. Но Швейк за одну минуту ликвидировал мятеж и заставил фельдкурата вернуться к своему первоначальному положению на сиденье, следя за тем, чтобы он не уснул. Самым деликатным из того, что Швейк при этом произнес, было:
– Не дрыхни, дохлятина!
На фельдкурата внезапно нашел припадок меланхолии, и он начал проливать слезы, выпытывая у Швейка, была ли у того мать.
– Одинок я, братцы, на этом свете, – голосил он, – заступитесь, приласкайте меня!
– Не срами меня, – вразумлял его Швейк, – перестань, а то каждый скажет, что ты нализался.
– Я ничего не пил, друг, – ответил фельдкурат. – Я совершенно трезв!
Он вдруг приподнялся и отдал честь:
– Ich melde gehörsam, Herr Oberst, ich bin besoffen.[50] Я свинья! – повторил он раз десять с откровенностью, полной отчаяния.
И, обращаясь к Швейку, стал клянчить:
– Вышвырните меня из автомобиля. Зачем вы меня с собой везете?
Потом уселся и забормотал:
– «В сиянье месяца златого…» Вы верите в бессмертие души, господин капитан? Может ли лошадь попасть на небо?
Фельдкурат громко засмеялся, но через минуту загрустил и, апатично глядя на Швейка, произнес:
– Позвольте, сударь, я вас уже где-то видел. Не были ли вы в Вене? Я помню вас по семинарии.
С минуту он развлекался декламацией латинских стихов:
– Aurea prima sata est aetas, quae vindice nullo.[51] Дальше у меня не получается, – сказал он. – Выкиньте меня вон. Почему вы не хотите меня выкинуть? Со мной ничего не случится. Я хочу упасть носом, – заявил он решительно. – Сударь! Дорогой друг, – продолжал он умоляющим тоном, – дайте мне подзатыльник!
– Один или несколько? – осведомился Швейк.
– Два.
– На!
Фельдкурат вслух считал подзатыльники, блаженно улыбаясь.
– Это очень хорошо помогает пищеварению, – сказал он. – Дайте мне теперь по морде… Покорно благодарю! – воскликнул он, когда Швейк немедленно исполнил его желание. – Я вполне доволен. Теперь разорвите, пожалуйста, мою жилетку.
Он выражал самые разнообразные желания. Хотел, чтобы Швейк вывихнул ему ногу, чтобы немного придушил, чтобы остриг ему ногти, вырвал передние зубы. Проявил страстное стремление к мученичеству, требуя, чтобы ему оторвали голову и в мешке бросили во Влтаву.
– Мне бы очень пошли звездочки вокруг головы. Хорошо бы штук десять, – восторженно произнес он.
Потом он завел разговор о скачках, но скоро перешел на балет, однако и тут недолго задержался.
– Чардаш танцуете? – спросил он Швейка. – Знаете «Танец медведя»? Этак вот…
Он хотел подпрыгнуть и упал на Швейка. Тот надавал ему тумаков и уложил на сиденье.
– Мне чего-то хочется, – кричал фельдкурат, – но я сам не знаю чего. Не знаете ли, чего мне хочется?
И он повесил голову, словно бы полностью покоряясь судьбе.
– Что мне до того, чего мне хочется! – сказал он вдруг серьезно. – И вам, сударь, до этого нет никакого дела! Я с вами незнаком. Как вы осмеливаетесь на меня так пристально смотреть?.. Умеете фехтовать?
Он перешел в наступление и сделал попытку спихнуть Швейка с сиденья. Потом, когда Швейк успокоил его, без стеснения дав почувствовать свое физическое превосходство, фельдкурат осведомился:
– Сегодня у нас понедельник или пятница?
Он полюбопытствовал также, что теперь – декабрь или июнь, и вообще проявил недюжинное дарование в задавании самых разнообразных вопросов.
– Вы женаты? Любите горгонцолу? Водятся ли у вас в доме клопы? Как поживаете? Была ли у вашей собаки чумка?
Потом пустился в откровенность: рассказал, что он должен за верховые сапоги, за хлыст и седло, что несколько лет тому назад у него был триппер и он лечил его марганцовкой.
– Ни о чем другом не мог думать, да и некогда было, – сказал он икая. – Может быть, вам это кажется слишком тяжелым, но скажите – ик! Что делать! – ик! Уж вы простите меня!
– …Термосом, – продолжал он, забыв, о чем говорил минуту назад, – называется сосуд, который сохраняет первоначальную температуру еды или напитка… Как ваше мнение, коллега, какая из игр честнее: «железка» или «двадцать одно»?.. Ей-богу, я тебя уже где-то видел! – воскликнул он, покушаясь обнять Швейка и облобызать его своими слюнявыми губами. – Мы ведь вместе ходили в школу… Ты славный парень! – говорил он, нежно гладя свою собственную ногу. – Как ты, однако, вырос за то время, что я тебя не видел! Увидев тебя, я забываю о всех пережитых страданиях.
Тут им овладело поэтическое настроение, и он заговорил о возвращении к солнечному свету счастливых созданий и пламенных сердец. Затем он упал на колени и начал молиться: «Богородице, Дево, радуйся», причем хохотал во все горло.
Когда они остановились, его никак не удавалось вытащить из экипажа.
– Мы еще не приехали! – кричал он. – Помогите! Меня похищают! Желаю ехать дальше!
Его пришлось в буквальном смысле слова выковырнуть из дрожек, как вареную улитку из раковины. Одно мгновение казалось, что он будет разорван пополам, потому что он уцепился ногами за сиденье.
При этом фельдкурат громко хохотал, очень довольный, что надул Швейка и извозчика.
– Вы меня разорвете, господа!
Кое-как его втащили по лестнице в квартиру и, как мешок, свалили на диван. Фельдкурат заявил, что за автомобиль, которого он не заказывал, он платить не намерен, и понадобилось более четверти часа, чтобы втолковать ему, что он ехал в крытом экипаже. Но и тогда он не согласился платить, возражая, что ездит только в карете.
– Вы меня хотите надуть, – заявил фельдкурат, многозначительно подмигивая Швейку и извозчику, – мы шли пешком.
И вдруг под наплывом щедрости он кинул извозчику кошелек:
– Возьми все! Я в состоянии заплатить! Для меня лишний крейцер ничего не значит!
Правильнее было бы сказать, что для него ничего не значат тридцать шесть крейцеров, так как в кошельке больше и не было. К счастью, извозчик подверг фельдкурата тщательному обыску, ведя при этом разговор об оплеухах.
– Ну, ударь! – посоветовал фельдкурат. – Думаешь, не выдержу? Пяток оплеух выдержу.
В жилете у фельдкурата извозчик нашел пятерку и ушел, проклиная свою судьбу и фельдкурата, из-за которого он даром потратил столько времени и к тому же лишился заработка.
Фельдкурат медленно засыпал, не переставая строить различные планы. Он хотел пуститься на всякие штуки: сыграть на рояле, пойти на урок танцев и наконец поджарить себе рыбки.
Потом он обещал выдать за Швейка свою сестру, которой у него не было. Наконец, выразил пожелание, чтобы его отнесли на кровать, и уснул, заявив, что ему хотелось бы, чтобы в нем признали человека – существо, равноценное свинье.
III
Войдя утром в комнату фельдкурата, Швейк застал его лежащим на диване и напряженно размышляющим о том, как могло случиться, что его кто-то облил, да так, что он приклеился брюками к кожаному дивану.
– Осмелюсь доложить, господин фельдкурат, – сказал Швейк, – вы ночью…
В немногих словах он разъяснил фельдкурату, как жестоко тот ошибается, думая, что его облили.
Проснувшись с чрезвычайно тяжелой головой, фельдкурат был в угнетенном состоянии духа.
– Не могу вспомнить, – сказал он, – каким образом я попал с кровати на диван?
– А вы и не были на кровати. Как только приехали, мы уложили вас на диван – до постели дотащить не могли.
– А что я натворил? Не натворил ли я чего? Не был ли я пьян?
– До положения риз, – отвечал Швейк, – вдребезги, господин фельдкурат, до зеленого змия. Я думаю, вам будет легче, если вы переоденетесь и умоетесь…
– У меня такое ощущение, будто меня избили, – жаловался фельдкурат, – и потом жажда… Не дрался ли я вчера?
– До этого не доходило, господин фельдкурат. А жажда – это из-за жажды вчерашней. От нее человеку не так-то легко удается отделаться. Я знал одного столяра, так тот в первый раз напился под Новый, тысяча девятьсот десятый год, а первого января у него с утра была такая жажда и чувствовал он себя так скверно, что пришлось купить селедку и напиться снова, и с тех пор он делает так каждый день вот уже четыре года подряд. И никто ему не может помочь, потому что по субботам он покупает себе селедок на целую неделю. Такая уж это карусель, как говаривал наш старый фельдфебель в Девяносто первом полку.
Фельдкурат с похмелья был в подавленном состоянии, на него напала хандра. Тот, кто в этот момент услышал бы его рассуждения, нисколько не сомневался бы, что попал на лекцию доктора Александра Батека на тему «Объявим войну не на живот, а на смерть демону алкоголя, который убивает наших лучших людей» или что читает его книгу «Сто искр этики», – правда, с некоторыми изменениями.
– Я понимаю, – распространялся фельдкурат, – если человек пьет благородные напитки, допустим, арак, мараскин или коньяк, а то ведь вчера я пил можжевеловку. Удивляюсь, как я мог ее пить! Вкус отвратительный! Хоть бы это вишневка была. Выдумывают люди всякую мерзость и пьют как воду. У этой можжевеловки ни вкуса, ни цвета, только горло дерет. Была бы хоть настоящая можжевеловая настойка, какую я однажды пил в Моравии. А ведь вчерашняя была на каком-то древесном спирту или деревянном масле… Посмотрите, какая у меня отрыжка! Водка – яд, – решительно заявил он. – Водка должна быть натуральной, настоящей, а ни в коем случае не состряпанной евреями холодным способом на фабрике. В этом отношении с водкой дело обстоит как с ромом, а хороший ром – редкость… Была бы под рукой настоящая ореховая настойка, – вздохнул он, – она бы мне наладила желудок. Такая ореховая настойка, как у капитана Шнабеля в Бруске.
Он принялся рыться в кошельке.
– У меня всего-навсего тридцать шесть крейцеров. Что, если продать диван… – рассуждал он. – Как вы думаете, Швейк? Купит кто-нибудь? Домохозяину я скажу, что я его одолжил кому-нибудь или что его украли. Нет, диван я оставлю. Лучше пошлю я вас к капитану Шнабелю, пусть он мне одолжит сто крон. Он позавчера выиграл в карты. Если вам не повезет, ступайте в Вршовицы в казармы к поручику Малеру. Если и там не выйдет, то отправляйтесь в Градчаны к капитану Фишеру. Скажите ему, что мне необходимо оплатить за фураж для лошади, так как те деньги я пропил. А если и там у вас не выгорит, заложим рояль. Будь что будет! Я вам напишу пару строк для каждого. Постарайтесь убедить. Говорите всем, что очень нужно, что я сижу без гроша. Вообще выдумывайте что угодно, но с пустыми руками не возвращайтесь, не то пошлю на фронт. Да спросите у капитана Шнабеля, где он покупает эту ореховую настойку, и купите две бутылки.
Швейк выполнил это задание блестяще. Его простодушие и честная физиономия вызывали полное доверие ко всему, что он говорил. Швейк счел более удобным не рассказывать капитану Шнабелю, капитану Фишеру и поручику Малеру, что фельдкурат должен платить за фураж для лошади, а подкрепить его просьбу заявлением, что фельдкурату, дескать, необходимо платить алименты.
Деньги он получил всюду.
Когда он с честью вернулся из экспедиции и показал фельдкурату, который уже умылся и переоделся, триста крон, тот был поражен.
– Я взял все сразу, – сказал Швейк, – чтобы нам не пришлось завтра или послезавтра снова заботиться о деньгах. Все шло довольно гладко, но перед капитаном Шнабелем мне пришлось-таки стать на колени. Такая каналья! Однако когда я ему сказал, что нам необходимо платить алименты…
– Алименты?! – в ужасе переспросил фельдкурат.
– Ну да, алименты, господин фельдкурат, отступные девочкам. Вы же мне сказали, чтобы я что-нибудь выдумал, а ничего другого мне не пришло в голову. У нас один портной платил алименты пяти девочкам сразу. Он был просто в отчаянии и тоже одалживал на это деньги. И представьте, каждый входил в его тяжелое положение. Спрашивали меня, что за девочка, а я сказал, что очень хорошенькая, ей нет еще пятнадцати. Спрашивали адрес.
– Недурно вы провели это дело, нечего сказать! – вздохнул фельдкурат и зашагал по комнате. – Какой позор! – сказал он, хватаясь за голову. – А тут еще голова трещит!
– Я им дал адрес одной глухой старушки на нашей улице, – разъяснял Швейк. – Я хотел провести дело основательно: приказ есть приказ. Я не мог уйти ни с чем, и пришлось кое-что выдумать. И вот еще что: там в передней пришли за роялем. Я их привел, чтобы они отвезли рояль в ломбард, господин фельдкурат. Будет неплохо, если рояль заберут. И место очистится, и денег у нас с вами прибавится – по крайней мере на некоторое время будем обеспечены. А если хозяин начнет спрашивать, что мы собираемся делать с роялем, я скажу, что в нем лопнули струны и мы его отправляем на фабрику в ремонт. Привратнице я так и сказал, чтобы она не удивлялась, когда рояль будут выносить и грузить на подводу… У меня уже и на диван покупатель есть. Это мой знакомый торговец старой мебелью. Зайдет после обеда. Нынче кожаные диваны в цене.
– А больше вы ничего не обстряпали, Швейк? – в отчаянии спросил фельдкурат, все время держась обеими руками за голову.
– Осмелюсь доложить, господин фельдкурат, я принес вместо двух бутылок ореховой настойки, той самой, которую покупает капитан Шнабель, пять, чтобы у нас был кое-какой запас и всегда нашлось что выпить… За роялем могут зайти. А то еще ломбард закроют…
Фельдкурат махнул безнадежно рукой, и спустя несколько минут рояль уже грузили на подводу.
Когда Швейк вернулся из ломбарда, фельдкурат сидел перед раскупоренной бутылкой ореховой настойки, ругаясь, что на обед ему дали непрожаренный шницель. Фельдкурат был опять подшофе. Он объявил Швейку, что с завтрашнего дня начинает новую жизнь, так как пить алкоголь – низменный материализм, а жить следует жизнью духовной.
Он философствовал приблизительно с полчаса. Когда была откупорена третья бутылка, пришел торговец старой мебелью, и фельдкурат за бесценок продал ему диван и при этом уговаривал покупателя побеседовать с ним и остался весьма недоволен, когда тот отговорился тем, что идет покупать ночной столик.
– Жаль, что у меня нет такого! – сокрушенно сказал фельдкурат. – Человеку трудно обо всем позаботиться заранее.
После ухода торговца старой мебелью фельдкурат завел приятельскую беседу со Швейком, с которым и распил следующую бутылку. Часть разговора была посвящена отношению фельдкурата к женщинам и к картам. Сидели долго. Вечер застал Швейка за приятельской беседой с фельдкуратом.
К ночи отношения, однако, изменились. Фельдкурат вернулся к своему вчерашнему состоянию, перепутал Швейка с кем-то другим и говорил ему:
– Только не уходите. Помните того рыжего юнкера из интендантства?
Эта идиллия продолжалась до тех пор, пока Швейк не сказал фельдкурату:
– Хватит! Теперь в постель и дрыхни! Понял?
– Лезу, милый, лезу… Как не лезть? – бормотал фельдкурат. – Помнишь, как мы вместе учились в пятом классе и я за тебя писал работы по-греческому?.. У вас ведь вилла в Збраславе. Туда можно проехать пароходом по Влтаве. Знаете, что такое Влтава?
Швейк заставил его снять ботинки и раздеться. Фельдкурат подчинился, обратившись со словом протеста к невидимым слушателям.
– Видите, господа, – жаловался он шкафу и фикусу, – как со мной обращаются мои родственники!.. Не признаю никаких родственников! – вдруг решительно заявил он, ложась в постель. – Восстань против меня земля и небо, я и тогда отрекусь от них!
И в комнате раздался храп фельдкурата.
IV
К этому же периоду относится и визит Швейка на свою квартиру к своей старой служанке пани Мюллер. Швейк застал дома двоюродную сестру пани Мюллер, которая с плачем сообщила ему, что пани Мюллер была арестована в тот же вечер, когда отвезла Швейка на призыв. Старушку судил военный суд, и ввиду того, что ничего не было доказано, ее отвезли в концентрационный лагерь в Штейнгоф. От нее уже получено письмо. Швейк взял эту семейную реликвию и прочел:
«Милая Аннушка!
Нам здесь очень хорошо, и все мы здоровы. У соседки по койке сыпной, есть и черная. В остальном все в порядке. Еды у нас достаточно, и мы собираем на суп картофельную. Слышала я, что пан Швейк уже, так ты как-нибудь разузнай, где он лежит, чтобы после войны мы могли украсить его могилу. Забыла тебе сказать, что на чердаке в темном углу в ящике остался щеночек фокстерьер. Вот уже несколько недель, как он ничего не ел, – с той поры, как пришли меня. Я думаю, что уже поздно и песик уже отдал душу».
Весь лист пересекал розовый штемпель:
«Просмотрено цензурой. Императорский королевский концентрационный лагерь Штейнгоф».
– И действительно, песик был уже мертв! – всхлипывала двоюродная сестра пани Мюллер. – А комнату свою вы бы и не узнали. Там теперь живут портнихи. Они устроили у вас дамский салон. На стенах повсюду моды, и цветы на окнах.
Двоюродная сестра пани Мюллер никак не могла успокоиться. Всхлипывая и причитая, она наконец высказала опасение, что Швейк удрал с военной службы, а теперь хочет и на нее навлечь беду и погубить ее. И она заговорила с ним, как с прожженным авантюристом.
– Забавно! – сказал Швейк. – Это мне ужасно нравится! Вот что, пани Кейржова, вы совершенно правы, я удрал. Но для этого мне пришлось убить пятнадцать вахмистров и фельдфебелей. Только вы никому об этом не говорите.
И Швейк покинул свой очаг, оказавшийся таким негостеприимным, предварительно отдав распоряжения:
– Пани Кейржова, у меня в прачечной воротнички и манишки, так вы их заберите, чтобы, когда я вернусь с военной службы, у меня было что надеть из штатского. И еще последите, чтобы в платяном шкафу в моих костюмах не завелась моль. А тем барышням, что спят на моей постели, прошу кланяться.
Швейк заглянул также и в трактир «У чаши». Увидев его, жена Паливца заявила, что не нальет ему пива, так как он, наверное, дезертир.
– Мой муж, – начала она мусолить старую историю, – был такой осторожный и сидит теперь, бедняга, ни за что ни про что, а такие вот разгуливают на свободе, удирают с военной службы. Вас на прошлой неделе опять уже искали… Мы поосторожнее, чем вы, – закончила она свою речь, – а нажили все-таки беду. Не всем такое счастье, как вам.
Свидетелем этого разговора был пожилой человек, слесарь со Смихова. Он подошел к Швейку и сказал:
– Будьте добры, сударь, подождите меня на улице, мне нужно с вами поговорить.
На улице он разговорился со Швейком, так как, согласно рекомендации трактирщицы, принял его за дезертира. Он сообщил Швейку, что у него есть сын, который тоже убежал с военной службы и теперь находится у бабушки, в Ясени, около Йозефова. Не обращая внимания на уверения Швейка, что он вовсе не дезертир, слесарь втиснул ему в руку десять крон.
– Это вам пригодится на первое время, – сказал он, увлекая Швейка за собой в винный погребок на углу, – я вам вполне сочувствую, и меня вам нечего бояться.
Швейк вернулся домой поздно ночью. Фельдкурата еще не было дома. Он пришел только под утро, разбудил Швейка и сказал:
– Завтра едем служить полевую обедню. Сварите черный кофе с ромом… Или нет, лучше сварите грог.
Глава XI
Швейк с фельдкуратом едут служить полевую обедню
I
Приготовления к отправке людей на тот свет производились всегда именем Бога или другого высшего существа, созданного человеческой фантазией.
Древние финикияне, прежде чем перерезать пленнику горло, совершали торжественное богослужение, точь-в-точь как это проделывали несколько тысячелетий спустя новые поколения, отправляясь на войну, чтобы огнем и мечом уничтожать противника.
Людоеды на Гвинейских островах и в Полинезии перед торжественным съедением пленных или же людей никчемных, как-то: миссионеров, путешественников, коммивояжеров различных фирм и просто любопытных, приносят жертвы своим богам, выполняя при этом самые разнообразные религиозные обряды. Но поскольку к ним еще не проникла культура церковных облачений, они в таких торжественных случаях украшают свои зады вениками из ярких перьев лесных птиц.
Святая инквизиция, прежде чем сжечь свою несчастную жертву, служила торжественную мессу с песнопениями.
В казни преступника всегда участвует священник, своим присутствием обременяя осужденного.
В Пруссии пастор подводил несчастного обвиненного под топор, в Австрии католический священник – к виселице, а во Франции – под гильотину, в Америке священник подводил к электрическому стулу, в Испании – к креслу с замысловатым приспособлением для удушения, а в России революционеров сопровождал на казнь бородатый поп и т. д. При этом священнослужители тыкали под нос осужденному распятие, как бы говоря: «Тебе всего-навсего отрубят голову, или только повесят, удавят, или пропустят через тебя пятнадцать тысяч вольт, – но это сущая чепуха в сравнении с тем, что пришлось испытать Ему!» Великая бойня – мировая война – также не обошлась без благословения священников. Полковые священники всех армий молились и служили обедни за победу тех, у кого состояли на содержании. Священник появлялся во время казни взбунтовавшихся солдат в австрийской армии; священника можно было видеть и на казнях чешских легионеров.
Ничего не изменилось с той поры, когда разбойник Войтех, прозванный «святым», истреблял прибалтийских славян с мечом в одной руке и с крестом – в другой.
Во всей Европе люди, как скот, шли на бойню, куда их рядом с мясниками-императорами, королями, президентами и другими владыками и полководцами гнали священнослужители всех вероисповеданий, благословляя их и принуждая к ложной присяге: «…на суше, в воздухе, на море» и т. д.
Полевую обедню служили дважды: когда часть отправлялась на фронт, и потом на передовой, накануне кровавой бойни, перед смертью.
Помню, однажды во время полевой обедни на позициях неприятельский аэроплан сбросил бомбу. Бомба угодила прямехонько в походный алтарь, и от нашего фельдкурата остались одни окровавленные тряпки. Газеты писали о нем, как о мученике, а тем временем наши аэропланы старались таким же способом прославить неприятельских священников.
Мы зло над этим шутили. На временном кресте, под которым было погребено то, что осталось от фельдкурата, на следующее утро появилась такая эпитафия:
- Что нас постичь могло, с тобой, увы, случилось:
- Судил ты небо нам, но было суждено,
- Чтоб благодать небес тебе на плешь свалилась,
- Оставив от тебя лишь мокрое пятно.
II
Швейк сварил замечательный грог, гораздо лучше грогов старых моряков. Такой грог с удовольствием отведали бы даже пираты восемнадцатого столетия.
Фельдкурат Отто Кац был в восторге.
– Где это вы научились варить такую чудесную штуку? – спросил он.
– Еще в те годы, когда я бродил по свету, – ответил Швейк. – Меня научил этому в Бремене один спившийся матрос, который говаривал, что грог должен быть таким крепким, что если кто, напившись, свалится в море, то переплывет Ла-Манш. А после слабого грога утонет, как щенок.
– После такого грога, Швейк, будет хорошо служить полевую обедню, – рассуждал фельдкурат. – Я думаю перед обедней произнести на прощание несколько напутственных слов. Полевая обедня – это не шутка. Это вам не то, что отслужить обедню в гарнизонной тюрьме или прочесть проповедь этим негодяям. Тут нужно иметь голову на плечах! Складной, карманный, так сказать, алтарь у нас есть… Иисус Мария! – схватился он за голову. – Ах, мы ослы! Знаете, куда я спрятал этот складной алтарь? В диван, который мы продали!
– Беда, господин фельдкурат! – сказал Швейк. – Правда, я с этим торговцем старой мебелью знаком, но позавчера я встретил его супругу, – его посадили за краденую шифоньерку, а диван наш находится у одного учителя в Вршовицах. Да, с алтарем получается скандал. Лучше всего давайте допьем грог и пойдем искать этот алтарь, потому что без него, думается, служить обедню нельзя.
– Только походного алтаря недостает, – озабоченно сказал фельдкурат. – Все остальное на учебном плацу уже приготовлено. Плотники уже сколотили помост. Дароносицу нам одолжат в Бржевнове. Чаша у меня должна быть своя, но где она может быть?
Он задумался:
– Допустим, что я ее потерял… В таком случае одолжим призовой кубок у поручика Семьдесят пятого полка Витингера. Несколько лет тому назад он участвовал от клуба «Спорт-Фаворит» в состязаниях в беге и выиграл этот кубок. Отличный был бегун! Расстояние в сорок километров Вена – Медлинг покрыл за один час сорок восемь минут. Он всегда этим хвастается. Я с ним на всякий случай еще вчера об этом договорился… Вечно я, скотина, откладываю все на последнюю минуту! И как это я, балда, не посмотрел в диван!
И под влиянием выпитого грога, изготовленного по рецепту спившегося матроса, фельдкурат принялся ругать самого себя последними словами, давая понять в самых отборных выражениях, что, собственно, он собой представляет.
– Да идемте же искать этот походный алтарь! – взывал Швейк. – Уже утро. Надо только надеть форму и выпить на дорогу еще по стаканчику грога.
Наконец они вышли. По дороге к жене торговца старой мебелью фельдкурат рассказал Швейку, что он вчера выиграл в «божье благословение» много денег и если ему и дальше так повезет, то он выкупит из ломбарда рояль. Это походило на обещание язычников принести жертву.
От заспанной жены торговца старой мебелью фельдкурат и Швейк узнали адрес учителя из Вршовиц – нового владельца дивана. Фельдкурат проявил необыкновенную галантность; ущипнул ее за щеку и пощекотал под подбородком.
До самых Вршовиц фельдкурат и Швейк шли пешком, так как фельдкурат заявил, что ему надо подышать свежим воздухом, чтобы рассеяться.
В Вршовицах в квартире учителя, набожного старика, их ожидал неприятный сюрприз. Найдя в диване походный алтарь, старик вообразил, что это Божье провидение, и подарил алтарь вршовицкому костелу, выговорив себе право сделать на оборотной стороне алтаря надпись:
«Даровано во хвалу и славу Божью учителем в отставке Коларжиком в лето от Рождества Христова 1914».
Учитель, застигнутый в одном нижнем белье, очень растерялся. Из разговора с ним выяснилось, что он считал свою находку чудом и видел в ней перст Божий. Когда он купил диван, какой-то внутренний голос рек ему: «Посмотри, нет ли чего в ящике дивана?» А во сне к нему якобы явился ангел и повелел: «Открой ящик в диване!» Учитель повиновался. И когда он увидел там миниатюрный складной алтарь с нишей для дарохранительницы, он пал на колени перед диваном и долго горячо молился, воздавая хвалу Богу. Учитель видел в этом указание свыше украсить сим алтарем вршовицкий костел.
– Это нас мало интересует, – заявил фельдкурат. – Эта вещь вам не принадлежала, и вы обязаны были отдать ее в полицию, а не в какую-то проклятую ризницу!
– Как бы у вас с этим чудом не вышло неприятности, – добавил Швейк. – Вы купили диван, а не алтарь. Алтарь – военное имущество. Этот перст Божий может вам дорого обойтись! Нечего вам было обращать внимание на ангелов. Один человек из Згоржа тоже вот пахал и нашел в земле чашу для причастия, которую кто-то украл и закопал до поры до времени в землю, пока дело не забудется. Выкопавший чашу тоже увидел в этом перст Божий и, вместо того чтобы чашу переплавить, понес ее священнику, – хочет, дескать, пожертвовать ее в костел. А священник подумал, что святотатца привели к нему угрызения совести, и послал за старостой, а староста – за жандармами, и крестьянина невинно осудили за святотатство, потому что он на суде все время болтал что-то насчет чуда. Он-то хотел оправдаться и рассказывал про какого-то ангела, да еще приплел Божью матерь, а в результате получил десять лет. Самое лучшее, если пойдете с нами к здешнему священнику и поможете нам получить от него обратно казенное имущество. Полевой алтарь – это вам не кошка или носок, который кому хочешь, тому и даришь.
Старик, одеваясь, трясся всем телом. У него зуб на зуб не попадал.
– Даю вам слово, у меня и в мыслях не было ничего плохого! Я думал, что этим Божьим даром помогу украшению нашего бедного храма Господня в Вршовицах.
– Разумеется, за счет воинской казны? – оборвал его Швейк сурово и дерзко. – Покорно благодарю за такой Божий дар! Некий Пивонька из Хотеборжи однажды тоже счел за Божий дар, когда ему в руки попала веревка вместе с чужой коровой.
Несчастный старик от таких разговоров совсем растерялся и перестал защищаться, торопясь одеться и поскорее покончить с этим делом.
Вршовицкий фарар еще спал и, когда его разбудили, начал браниться, решив спросонок, что его зовут с требой.
– Покоя не дадут с этим соборованием! – ворчал он, неохотно одеваясь. – И придет же в голову умирать как раз в тот момент, когда человек только разоспался! А потом торгуйся с ними о плате.
Итак, в прихожей встретились представитель Господа Бога у вршовицких штатских мирян-католиков, с одной стороны, и представитель Бога на земле при военном ведомстве – с другой. Собственно говоря, это был спор между штатским и военным. Если приходский священник утверждал, что походному алтарю не место в диване, то военный священник указывал, что тем не менее его не следовало из дивана переносить в ризницу костела, который посещается только штатскими.
Швейк вставлял в разговор разные замечания, вроде того, что это легко, мол, обогащать бедный костел за счет казенного военного имущества, причем слово «бедный» он произносил как бы в кавычках.
Наконец они пришли в ризницу, и фарар выдал фельдкурату походный алтарь под расписку следующего содержания:
«Получил походный алтарь, который случайно попал в храм, что в Вршовицах. Фельдкурат Отто Кац».
Пресловутый походный алтарь был изделием венской еврейской фирмы «Мориц Малер», изготовлявшей всевозможные предметы, необходимые для богослужения и религиозного обихода, как-то: четки, образки святых. Алтарь состоял из трех растворов и был покрыт фальшивой позолотой, как и вся слава Святой Церкви. Не было никакой возможности, не обладая фантазией, установить, что, собственно, нарисовано на этих трех растворах. Ясно было только то, что алтарь этот могли с таким же успехом использовать язычники из Замбези или бурятские и монгольские шаманы.
Намалеванный кричащими красками, этот алтарь издали казался цветной таблицей для проверки зрения железнодорожников.
Выделялась только одна фигура какого-то голого человека с сиянием вокруг головы и с позеленевшим телом, словно огузок протухшего и разлагающегося гуся. Хотя этому святому никто ничего плохого не делал, а, наоборот, по обеим сторонам от него находились два крылатых существа, которые должны были изображать ангелов, на зрителя картина производила такое впечатление, будто голый святой орет от ужаса при виде окружающей компании: дело в том, что ангелы выглядели сказочными чудовищами, чем-то средним между крылатой дикой кошкой и апокалипсическим чудовищем.
На противоположной створке алтаря находился образ, который должен был изображать Троицу. Голубя художнику, в общем, не особенно удалось испортить. Художник нарисовал какую-то птицу, которая так же походила на голубя, как и на белую курицу породы виандот.
Зато Бог-Отец был похож на разбойника с Дикого Запада, каких преподносят публике захватывающие кровавые американские фильмы.
Бог-Сын, наоборот, был изображен в виде веселого молодого человека с порядочным брюшком, прикрытым чем-то вроде купальных трусиков. В общем, Бог-Сын походил на спортсмена: крест он держал в руке так элегантно, точно это была теннисная ракетка. Издали вся Троица расплывалась, и создавалось впечатление, будто в крытый вокзал въезжает поезд.
Что представляла собой третья икона, совсем нельзя было понять.
Солдаты во время обедни всегда спорили, разгадывая этот ребус. Кто-то даже признал на образе пейзаж Присазавского края. Тем не менее под этой иконой стояло: «Святая Мария, Матерь Божья, помилуй нас!»
Швейк благополучно погрузил походный алтарь на дрожки, а сам сел к извозчику на козлы. Фельдкурат расположился поудобнее и положил ноги на Пресвятую Троицу.
Швейк болтал с извозчиком о войне. Извозчик оказался бунтарем: делал разные замечания по части непобедимости австрийского оружия, вроде: «Так в Сербии, значит, наложили вам по первое число?» – и так далее.
Когда они проезжали продовольственную заставу, Швейк на вопрос сторожа, что везут, ответил:
– Пресвятую Троицу и Деву Марию с фельдкуратом.
Тем временем на учебном плацу их с нетерпением ждали маршевые роты. Ждать пришлось долго. Швейк и фельдкурат поехали сначала за призовым кубком к поручику Витингеру, а потом – в Бржевновский монастырь за дароносицей и другими необходимыми для мессы предметами, в том числе и за бутылкой церковного вина.
Понятное дело – не так-то просто служить полевую обедню.
– Шатаемся по всему городу! – сказал Швейк извозчику, и это была правда.
Когда они приехали на учебный плац и подошли к помосту с деревянным барьером и столом, на котором должен был стоять походный алтарь, выяснилось, что фельдкурат забыл про министранта.
Во время обедни фельдкурату всегда прислуживал один пехотинец, который теперь как раз предпочел сделаться телефонистом и уехал на фронт.
– Не беда, господин фельдкурат, – заявил Швейк. – Я могу его заменить.
– А вы умеете министровать?
– Никогда этим не занимался, – ответил Швейк, – но попробовать можно. Теперь ведь война, а в войну люди берутся за такие дела, которые раньше им и не снились. Уж как-нибудь приклею это дурацкое «et cum spiritu tuo»[52] к вашему «dominus vobiscum».[53] В конце концов не так уж, думаю, трудно ходить около вас, как кот вокруг горячей каши, умывать вам руки и наливать из кувшинчика вина…
– Ладно! – сказал фельдкурат. – Только воды мне в чашу не наливайте. Вот что: вы лучше сейчас же и в другой кувшинчик налейте вина. А впрочем, я сам буду вам подсказывать, когда идти направо, когда налево. Свистну я один раз – значит «направо», два раза – «налево». Требник особенно часто ко мне не таскайте. В общем, это все пустяки. Не боитесь?
– Я ничего не боюсь, господин фельдкурат, даже не боюсь быть министрантом.
Фельдкурат был прав, что, в общем, все это – пустяки. Все шло как по маслу.
Речь фельдкурата была весьма лаконична:
– Солдаты! Мы собрались здесь для того, чтобы перед отъездом на поле брани обратить свои сердца к Богу; да дарует он нам победу и сохранит нас невредимыми. Не буду вас долго задерживать, желаю всего наилучшего.
– Ruht![54] – скомандовал старый полковник на левом фланге.
Полевая обедня зовется полевой потому, что подчиняется тем же законам, каким подчиняется и военная тактика на поле сражения. В Тридцатилетнюю войну при длительных маневрах войск полевые обедни тоже продолжались необычайно долго.
При современной тактике, когда передвижения войск стали быстрыми, и полевую обедню следует служить быстро.
Обедня продолжалась ровно десять минут. Тем, кто стоял близко, казалось очень странным, почему во время обедни фельдкурат посвистывает.
Швейк на лету ловил сигналы, появлялся то по правую, то по левую сторону престола и произносил только: «Et cum spiritu tuo». Это напоминало индийский танец вокруг жертвенника. Но в общем вся история произвела очень хорошее впечатление и рассеяла скуку пыльного, угрюмого учебного плаца с аллеей сливовых деревьев и отхожими местами на заднем плане. Аромат отхожих мест заменял мистическое благовоние ладана в готических храмах. У всех было прекрасное настроение. Офицеры, окружавшие полковника, рассказывали друг другу анекдоты. Так что все было в порядке. То там, то здесь среди солдат слышалось: «Дай разок затянуться». И, как жертвенный дым, поднимались к небу синеватые облачка табачного дыма Закурили даже все унтер-офицеры, когда увидели, что сам полковник закурил.
Наконец раздалось: «Zum Gebet!»,[55] поднялась пыль, и серый квадрат военных мундиров преклонил колена перед спортивным кубком поручика Витингера, который он выиграл в состязании в беге на дистанции Вена – Медлинг.
Чаша была полна, и каждая манипуляция фельдкурата сопровождалась сочувственными возгласами солдат.
– Вот так глоток! – прокатывалось по рядам.
Обряд был повторен дважды. Затем снова раздалась команда: «На молитву!», хор грянул «Храни нам, Боже, государя!». Потом последовало «Стройся!» и «Шагом марш!».
– Собирайте манатки, – сказал Швейку фельдкурат, кивнув на походный алтарь. – Нам нужно все развезти, откуда что брали.
Они поехали на том же извозчике и честно вернули все, кроме бутылки церковного вина.
Когда они вернулись домой и в наказание за медленную езду отправили несчастного извозчика рассчитываться в комендантское управление, Швейк обратился к фельдкурату:
– Осмелюсь спросить, господин фельдкурат, должен ли министрант быть того же вероисповедания, что и священник, которому он прислуживает?
– Конечно, – ответил фельдкурат. – Иначе обедня будет недействительна.
– Господин фельдкурат! Произошла крупная ошибка, – заявил Швейк. – Ведь я – вне вероисповедания. Не везет мне, да и только!
Фельдкурат взглянул на Швейка, с минуту молчал, потом похлопал его по плечу и сказал:
– Выпейте церковного вина, которое там от меня осталось в бутылке, и считайте себя вновь вступившим в лоно Церкви.
Глава XII
Религиозный диспут
Случалось, Швейк по целым дням не видел пастыря солдатских душ. Свои духовные обязанности фельдкурат перемежал с кутежами и довольно редко заходил домой, да и то весь выпачканный и грязный, словно кот после прогулок по крышам.
Возвращаясь домой, если он еще вообще в состоянии был говорить, фельдкурат перед сном беседовал со Швейком о высоких материях, о духовном экстазе и о радости мышления, а иногда даже пытался цитировать Гейне.
Швейк отслужил с фельдкуратом еще одну полевую обедню, у саперов, куда по ошибке был приглашен и другой фельдкурат, бывший школьный законоучитель, чрезвычайно набожный человек. Он очень удивленно взглянул на своего коллегу Каца, когда тот предложил ему глоток коньяку из швейковской фляжки – Швейк всегда носил ее с собой во время исполнения религиозных церемоний.
– Недурной коньяк, – сказал Отто Кац. – Выпейте и поезжайте домой. Я сам все сделаю. Сегодня мне нужно побыть на свежем воздухе, а то что-то голова побаливает.
Набожный фельдкурат покачал головой и уехал, а Кац, как всегда, блестяще исполнил свою роль. На этот раз он претворил в кровь Господню вино с содовой водой, и проповедь затянулась намного дольше обыкновенного, причем каждое третье слово у него было «и так далее» и «несомненно».
– Солдаты! Сегодня вы уезжаете на фронт и так далее. Обратите же сердца ваши к Богу и так далее. Несомненно. Никто из вас не знает, что с вами будет. Несомненно. И так далее.
У алтаря продолжало греметь «и так далее» и «несомненно» вперемежку с Богом и со всеми святыми.
В экстазе и ораторском пылу фельдкурат произвел принца Евгения Савойского в святого, который будет охранять саперов при постройке понтонных мостов.
Тем не менее полевая обедня окончилась без всяких неприятностей – мило и весело. Саперы позабавились на славу.
На обратном пути Швейка с фельдкуратом не хотели пустить со складным алтарем в трамвай. Но Швейк пригрозил кондуктору:
– Смотри, тресну тебя этим святым алтарем по башке!
Добравшись наконец домой, они обнаружили, что по дороге потеряли дароносицу.
– Не важно, – сказал Швейк. – Первые христиане служили обедни и без дароносицы. Если мы дадим в газету объявление об утере дароносицы, то нашедший потребует от нас вознаграждения. Будь это деньги, вряд ли кто их вернул бы… Впрочем, встречаются и такие. У нас в полку в Будейовицах служил один солдат, чудак и хороший парень, но дурак. Нашел как-то раз на улице шестьсот крон и сдал их в полицию. Даже в газетах о нем писали: вот, дескать, какой честный человек. Ну и нажил он себе сраму! Никто с ним даже и разговаривать не хотел. Все, как один, повторяли: «Ты дурак, что за глупость ты выкинул? За это тебе всю жизнь краснеть придется, если в тебе хоть капля совести осталась». Была у него раньше девочка, так и та с ним разговаривать перестала. А когда он приехал в отпуск домой, то его приятели из-за этой истории выкинули его во время танцульки из трактира. Парень стал сохнуть, задумываться и наконец бросился под поезд… А вот еще случай. Портной с нашей улицы нашел золотое кольцо. Его предупреждали – не отдавай в полицию, а он все твердит свое. В полиции приняли его очень ласково, дескать, заявление об утере золотого кольца с бриллиантом к ним уже поступило. Но потом посмотрели на камень и говорят: «Послушайте-ка, милый человек, да ведь это стекло, а не бриллиант. Сколько получили за бриллиант? Знаем мы таких "честных находчиков”!» В конце концов выяснилось, что еще один человек потерял кольцо с поддельным бриллиантом (какая-то там семейная реликвия). Но портному пришлось все-таки отсидеть три дня, потому что он в расстройстве чувств нанес оскорбление полиции. Законное вознаграждение он все-таки получил, десять процентов, то есть одну крону двадцать геллеров, – цена-то этому хламу была двенадцать крон. Но портной взял да и запустил этим законным вознаграждением в лицо владельцу кольца, тот подал на него в суд за оскорбление личности, и с портного взяли десять крон штрафу. После этого портной всюду говорил, что с каждого честного заявителя о находке надо брать двадцать пять крон штрафу; таких, мол, нужно избивать до полусмерти и всенародно сечь для примера, чтобы все знали, как поступать в таких случаях… По-моему, нашу дарохранительницу никто назад не принесет, хотя на ней и есть сзади полковая печать. С воинскими вещами никто связываться не захочет. Уж лучше бросить их в воду, чтобы не было канители… Вчера в трактире «У золотого венка» разговорился я с одним человеком из провинции, ему уже за пятьдесят шесть лет. Он приехал в Новую Паку узнать в управлении округа, почему у него реквизировали бричку. На обратном пути, когда его уже выкинули из управления округа, он остановился посмотреть на военный обоз, который только что приехал и стоял на площади. Какой-то парень – он вез консервы для армии – попросил его минутку постеречь лошадей, да больше и не вернулся. Когда обоз тронулся, моему знакомому пришлось вместе со всеми ехать до самой Венгрии, а в Венгрии он сам попросил одного постеречь воз и только этим и спасся, а то бы его и в Сербию затащили. Приехал словно безумный и теперь с военными делами не желает больше связываться.
Вечером их навестил набожный фельдкурат, тот самый, который утром тоже собирался служить полевую обедню у саперов. Это был фанатик, стремившийся каждого человека приблизить к Богу. Еще будучи учителем закона Божьего, он развивал в детях религиозные чувства с помощью подзатыльников, и газеты иногда помещали о нем заметки под разными заголовками, вроде «Жестокий законоучитель» или «Законоучитель, раздающий подзатыльники». Но законоучитель был убежден, что ребенок усвоит катехизис лучше всего по системе розог. Набожный фельдкурат прихрамывал на одну ногу – результат встречи в темном переулке с отцом одного из учеников. Законоучитель надавал подзатыльников его сыну за то, что тот усомнился в существовании Святой Троицы; мальчик получил три тумака: один – за Бога-Отца, другой – за Бога-Сына и третий – за Святого Духа. Сегодня бывший законоучитель пришел наставить своего коллегу Каца на путь истинный и заронить в его душу искру Божью. Он начал с того, что сказал ему:
– Удивляюсь, что у вас не висит распятие. Где вы молитесь и где ваш молитвенник? Ни один святой образ не украшает стен вашей комнаты. Что это у вас над постелью?
Кац улыбнулся:
– Это «Купающаяся Сусанна», а голая женщина под ней – одна моя старая любовница. Направо – японская акварель, изображающая сексуальный акт между старым японским самураем и гейшей. Не правда ли, очень оригинально? А молитвенник у меня на кухне. Швейк! Принесите его сюда и откройте на третьей странице.
Швейк ушел на кухню, и оттуда послышалось троекратное хлопанье раскупориваемых бутылок.
Набожный фельдкурат был потрясен, когда на столе появились три бутылки.
– Это легкое церковное вино, коллега, – сказал Кац. – Очень хороший рислинг. По вкусу напоминает мозельское.
– Я пить не буду, – упрямо заявил набожный фельдкурат. – Я пришел заронить в вашу душу искру Божью.
– Но у вас, коллега, в горле пересохнет, – сказал Кац. – Выпейте, а я послушаю. Я человек весьма терпимый, могу выслушать и чужие мнения.
Набожный фельдкурат немного отпил и вытаращил глаза.
– Чертовски доброе винцо, коллега! Не правда ли? – спросил Кац.
Фанатик твердо сказал:
– Я замечаю, что вы сквернословите.
– Привычка, – сказал Кац. – Иногда даже ловлю себя на богохульстве. Швейк, налейте господину фельдкурату. Могу вас уверить, что ругаюсь также Богом, крестом, небом и причастием. Послужите-ка на военной службе с мое – и вы до этого дойдете. Это совсем нетрудно, и духовным все это очень близко: небо, Бог, крест, причастие. Не правда ли, звучит красиво и все связано с вашей профессией? Пейте, коллега!
Бывший законоучитель машинально выпил. Видно было, что он хочет сказать, но не может. Он собирался с мыслями.
– Уважаемый коллега, – продолжал Кац, – держитесь бодрее, не сидите с таким мрачным видом, словно через пять минут вас должны повесить. Слыхал я, что вы однажды в пятницу, думая, что это четверг, по ошибке съели в одном ресторане свиную котлету и после этого побежали в уборную и сунули себе два пальца в рот, чтобы вас вырвало, боясь, что Бог вас строго покарает. Лично я не боюсь есть в пост мясо и не боюсь никакого ада. Пардон! Выпейте! Лучше стало?.. Или, может быть, у вас более прогрессивный взгляд на пекло, может быть, вы идете в ногу с духом времени и с реформистами? Иначе говоря, вы признаете, что в аду вместо простых котлов с серой для несчастных грешников используются автоклавы, то есть котлы высокого давления, а также считаете, что грешников поджаривают на маргарине, а вертела вращаются при помощи электрических двигателей? В течение миллионов лет мнут их, несчастных, паровыми трамбовками для шоссейных дорог, скрежет зубовный вызывают дантисты при помощи особых машин, вопли грешников записываются на граммофонных пластинках, а затем эти пластинки отсылаются наверх, в рай, для увеселения праведников? А в раю действуют распылители одеколона и симфонические оркестры играют Брамса так долго, что скорее предпочтешь ад и чистилище? У ангелочков в задницах по пропеллеру, чтобы не натрудили себе крылышки?.. Пейте, коллега! Швейк, налейте господину фельдкурату коньяку – ему, кажется, дурно.
Придя в себя, набожный фельдкурат произнес шепотом:
– Религия есть умственное воззрение… Кто не верит в существование Святой Троицы…
– Швейк, – перебил его Кац, – налейте господину фельдкурату еще рюмку коньяку, пусть он придет в себя. Расскажите ему что-нибудь, Швейк.
– Во Влашиме, осмелюсь доложить, господин фельдкурат, – начал Швейк, – был один настоятель. Когда его прежняя экономка от него сбежала вместе с ребенком и деньгами, он нанял себе новую служанку. Этот настоятель на старости лет принялся изучать святого Августина, которого причисляют к лику святых отцов церкви. Вычитал он там, что каждый, кто верит в антиподов, подлежит проклятию. Позвал он свою служанку и говорит: «Послушайте, вы мне как-то говорили, что у вас есть сын, слесарь-механик, и что он уехал в Австралию. Если это так, то он, значит, стал антиподом, а святой Августин повелевает проклясть каждого, кто верит в существование антиподов». «Батюшка, – говорит ему баба, – сын-то мой ведь посылает мне и письма и деньги». «Это дьявольское наваждение, – говорит ей настоятель. – Согласно учению святого Августина, никакой Австралии не существует. Это вас антихрист соблазняет». В воскресенье он ее всенародно проклял в костеле и кричал, что никакой Австралии не существует. Ну, прямо из костела отвезли его в сумасшедший дом. Да и многим бы туда не мешало. В монастыре урсулинок есть бутылочка с молоком Девы Марии, а в сиротском доме под Бенешовом, когда туда привезли святую лурдскую воду, этих сироток от нее схватил такой понос, какого свет не видел.
У набожного фельдкурата зарябило в глазах. Он отошел только после новой рюмки коньяку, который ударил ему в голову. Прищурив глаза, он спросил Каца:
– Вы не верите в непорочное зачатие Девы Марии, не верите, что палец святого Иоанна Крестителя, хранящийся у пиаристов, подлинный? Да вы вообще-то верите в Бога? А если не верите, то почему вы фельдкурат?
– Дорогой коллега, – ответил Кац, снисходительно похлопав его по спине, – пока государство признает, что солдаты, идущие умирать, нуждаются в благословении Божьем, должность фельдкурата является прилично оплачиваемым и не слишком утомительным занятием. Мне это больше пришлось по душе, чем бегать по плацу и ходить на маневры. Раньше я получал приказы от начальства, а теперь делаю что хочу. Я являюсь представителем того, кто не существует, и сам играю роль Бога. Не захочу кому-нибудь отпустить грехи и не отпущу, хотя бы меня на коленях просили. Впрочем, таких нашлось бы чертовски мало.
– Люблю Господа Бога, – промолвил набожный фельдкурат, начиная икать, – очень люблю!.. Дайте мне немного вина. Я Господа Бога уважаю, – продолжал он. – Очень, очень уважаю и чту. Никого так не уважаю, как его!
Он стукнул кулаком по столу так, что бутылки подскочили.
– Бог – возвышенное, неземное существо, совершенное во всех своих деяниях, существо, подобное солнцу, и никто меня в этом не разубедит! И святого Иосифа почитаю, и всех святых почитаю, и даже святого Серапиона… У него такое отвратительное имя!
– Да, ему бы не мешало похлопотать о перемене имени, – заметил Швейк.
– Святую Людмилу люблю и святого Бернарда, – продолжал бывший законоучитель. – Он спас много путников на Сен-Готарде. На шее у него бутылка с коньяком, и он разыскивает занесенных снегом…
Беседа приняла другое направление. Набожный фельдкурат понес околесицу.
– Младенцев я почитаю, их день двадцать восьмого декабря. Ирода ненавижу… Когда курица спит, нельзя достать свежих яиц.
Он засмеялся и запел:
- Святый Боже, святый крепкий…
Но вдруг прервал пение и, обращаясь к Кацу, резко спросил:
– Вы не верите, что пятнадцатого августа праздник Успения Богородицы?
Веселье было в полном разгаре. Появились еще бутылки, и время от времени слышались слова Каца:
– Скажи, что не веришь в Бога, а то не налью.
Казалось, что возвращаются времена преследований первых христиан. Бывший законоучитель пел какую-то песнь мучеников римской арены и вопил:
– Верую в Господа Бога своего и не отрекусь от него! Не надо мне твоего вина. Могу и сам за ним послать!
Наконец его уложили в постель. Но, прежде чем заснуть, он провозгласил, подняв руку, как на присяге:
– Верую в Бога-Отца, Сына и Святого Духа! Дайте мне молитвенник.
Швейк сунул ему первую попавшуюся под руку книжку с ночного столика Отто Каца, и набожный фельдкурат наконец заснул с «Декамероном» Боккаччо в руках.
Глава XIII
Швейк едет соборовать
Фельдкурат Отто Кац задумчиво сидел над циркуляром, только что принесенным из казарм. Это было предписание военного министерства:
«Настоящим военное министерство отменяет на время военных действий все действовавшие до сих пор предписания, касающиеся соборования воинов. К исполнению и сведению военного духовенства устанавливаются следующие правила:
§ 1. Соборование на фронте отменяется.
§ 2. Тяжелобольным и раненым не разрешается с целью соборования перемещаться в тыл. Чинам военного духовенства вменяется в обязанность виновных в нарушении сего немедленно передавать в соответствующие военные учреждения на предмет дальнейшего наказания.
§ 3. В тыловых военных госпиталях соборование может быть совершаемо в групповом порядке на основании заключения военных врачей, поскольку указанный обряд не нарушает работы упомянутых учреждений.
§ 4. В исключительных случаях Управление тыловых военных госпиталей может разрешить отдельным лицам в тылу принять соборование.
§ 5. Чины военного духовенства обязаны по вызову Управления военных госпиталей совершать соборование тем, которым Управление предлагает принять соборование».
Фельдкурат еще раз перечитал отношение военного госпиталя, в котором ему предлагалось явиться завтра в госпиталь на Карловой площади соборовать тяжелораненых.
– Послушайте, Швейк, – позвал фельдкурат, – ну, не свинство ли это? Как будто на всю Прагу один только фельдкурат, и это я! Почему туда не пошлют хотя бы того набожного, который ночевал у нас недавно? Придется нам ехать на Карлову площадь соборовать. Я даже забыл, как это делается.
– Что ж, купим катехизис, господин фельдкурат. Там об этом есть, – сказал Швейк. – Катехизис для духовных пастырей – все равно что путеводитель для иностранцев… Вот, к примеру, в Эмаузском монастыре работал один человек помощником садовника. Решил он заделаться послушником, чтобы получить рясу и не трепать своей одежды. Для этого ему пришлось купить катехизис и выучить, как полагается осенять себя крестным знамением, кто единственный уберегся от первородного греха, что значит иметь чистую совесть и другие подобные мелочи. А потом он продал тайком половину всего урожая огурцов с монастырского огорода и с позором вылетел из монастыря. Когда мы с ним повстречались, он мне и говорит: «Огурцы-то я мог продать и без катехизиса».
Когда Швейк купил катехизис и принес его фельдкурату, тот, перелистывая его, сказал:
– Ну вот, соборование может совершать только священник и только елеем, освященным епископом. Значит, Швейк, вам нельзя самому совершать соборование. Прочтите-ка мне, как совершается соборование.
Швейк прочел:
– «…совершается так: священник помазует органы чувств больного, произнося одновременно молитву: “Чрез это святое помазание и по своему всеблагому милосердию да простит тебе Господь согрешения слуха, видения, обоняния, вкуса, речи, осязания и ходьбы своей"».
– Хотел бы я знать, – сказал фельдкурат, – как может человек согрешить осязанием. Не можете ли вы мне это объяснить?
– По-всякому, господин фельдкурат, – сказал Швейк. – Пошарит, например, в чужом кармане или на танцульках… Сами понимаете, какие там выкидывают номера.
– А ходьбой, Швейк?
– Если, скажем, начнешь подхрамывать, чтобы тебя люди пожалели.
– А обонянием?
– Если кто нос от смрада воротит.
– Ну а вкусом?
– Когда на девочек облизывается.
– А речью?
– Ну, это уж вместе со слухом, господин фельдкурат: когда один болтает, а другой его слушает…
После этих философских размышлений фельдкурат умолк. Потом он опять обратился к Швейку:
– Значит, нам нужен освященный епископом елей. Вот вам десять крон, купите бутылочку. В интендантстве такого елея, наверно, нет.
Швейк отправился в путь за елеем, освященным епископом. Отыскать его было труднее, чем живую воду в сказках Вожены Немцовой. Швейк побывал в нескольких аптекарских магазинах, но, как только произносил: «Будьте любезны, бутылочку елея, освященного епископом», всюду или фыркали ему в лицо, или в ужасе прятались под прилавок. Швейк сохранял серьезный вид.
Он решил попытать счастья в аптеках. Из первой лаборанту велели его вывести. В другой хотели вызвать по телефону карету «скорой помощи», а в третьей провизор ему сказал, что у фирмы «Полак» на Длоугой улице – торговля маслами и лаками – наверняка найдется на складе нужный елей.
Фирма «Полак» на Длоугой улице торговала бойко. Ни один покупатель не уходил оттуда неудовлетворенным. Если покупатель просил копайский бальзам, ему наливали скипидару, и это сходило.
Когда Швейк попросил освященного епископом елея на десять крон, хозяин сказал приказчику:
– Пан Таухен, налейте ему сто граммов конопляного масла номер три.
А приказчик, завертывая бутылочку в бумагу, сказал Швейку, как и полагается приказчику:
– Товарец высшего качества-с. В случае, если потребуются кисти, лак, олифа – благоволите обратиться к нам-с. Будете довольны. Фирма солидная.
Дома тем временем фельдкурат повторял по катехизису то, чего не запомнил в семинарии.
Ему очень понравились некоторые чрезвычайно остроумные выражения, над которыми он от всей души хохотал.
«Соборование называется иначе последним помазанием. Наименование «последнее помазание» происходит оттого, что обыкновенно является последним из всех помазаний, совершаемых церковью над человеком».
«Соборование может принять каждый опасно заболевший христианин-католик, достигший сознательного возраста».
«Болящий принимает соборование, по возможности будучи еще в полном сознании и твердой памяти».
Пришел вестовой и принес фельдкурату пакет с извещением о том, что завтра при соборовании в госпитале будет присутствовать «Союз дворянок для религиозного воспитания нижних чинов». Этот Союз состоял из истеричек, раздававших солдатам по госпиталям образки святых и «Сказание о католическом воине, умирающем за государя императора». На брошюрке была картинка в красках, изображающая поле сражения. Всюду валялись трупы людей и лошадей, опрокинутые повозки с амуницией и торчали орудия лафетами вверх. На горизонте горела деревня и разрывалась шрапнель. На переднем плане лежал умирающий солдат с оторванной ногой, над ним склонился ангел, несущий ему венок с надписью на ленте: «Ныне же будешь со мною в раю». При этом умирающий блаженно улыбался, словно ему подносили мороженое.
Прочитав содержание пакета, Отто Кац плюнул и подумал: «Ну и денек будет завтра!»
Он знал этот «сброд», как он называл Союз, еще по храму Святого Игнатия, где несколько лет тому назад читал проповеди солдатам. В те времена он еще делал крупную ставку на проповедь, а этот Союз обычно сидел позади полковника. Две длинные тощие женщины в черных платьях и с четками пристали к нему как-то раз после проповеди и битых два часа болтали о религиозном воспитании солдат, пока вконец его не допекли и он сказал: «Извините, mesdames, меня ждет капитан на партию в “железку"».
– Ну, елей у нас есть, – сказал торжественно Швейк, возвратясь из магазина Полак, – конопляное масло номер три, первый сорт. Хватит на целый батальон. Фирма солидная. Продает также олифу, лаки и кисти. Еще нам нужен колокольчик.
– А колокольчик на что?
– Звонить по дороге, чтобы народ снимал шапки, когда мы поедем с Господом Богом и с конопляным маслом номер три. Так уж полагается. Было много случаев, когда арестовывали таких, которые на это не обращали никакого внимания и не снимали шапок. В Жижкове как-то фарар избил слепого, который тоже не снял шапки. Этого слепого, кроме того, еще посадили, потому что на суде было доказано, что он не глухонемой, а только слепой и что, значит, звон колокольчика слышал и вводил других в соблазн, хотя дело происходило ночью. Это все полагается соблюдать, как и в праздник Тела Господня. В другой раз люди бы на нас и внимания не обратили, а теперь будут перед нами шапки ломать. Если вы, господин фельдкурат, ничего против не имеете, я мигом достану колокольчик.
Получив разрешение, Швейк через полчаса принес колокольчик.
– Это от ворот постоялого двора «У Кржижков», – сказал он. – Обошелся мне он в пять минут страху, да еще пришлось долго ждать, – все время народ мимо ходил.
– Я пойду в кафе, Швейк. Если кто-нибудь придет, пусть подождет.
Приблизительно через час после ухода фельдкурата пришел пожилой человек, седой, со строгим взглядом, державшийся совершенно прямо. Весь его вид выражал решимость и злобу. На всех он смотрел так, словно был послан судьбой уничтожить нашу бедную планету и стереть ее следы во вселенной. Говорил он резко, сухо и строго:
– Дома? Пошел в кафе? Просил подождать? Хорошо, буду ждать хоть до утра. На кафе у него есть, а платить долги – так нет? А еще священник! Тьфу!
И он плюнул в кухне на пол.
– Сударь, не плюйте здесь, – сказал Швейк, с интересом разглядывая незнакомца.
– И опять плюну, видите, вот! – упрямо сказал строгий господин, еще раз плюнув на пол. – Как ему не стыдно! А еще военный священник! Срам!
– Если вы воспитанный человек, – заметил ему Швейк, – то должны бросить привычку плевать в чужой квартире. Или вы думаете, что если разразилась мировая война, то вы все себе можете позволить? Вы должны вести себя прилично, а не как босяк. Вы должны вести себя деликатно, выражаться вежливо и не распускаться, как хулиган, вы, штатский болван!
Строгий господин вскочил с кресла и, трясясь от злости, закричал:
– Да как вы смеете! Я невоспитанный человек?! Что же я, по-вашему? Ну?
– Нужник! Вот кто вы, – ответил Швейк, глядя ему прямо в глаза. – Плюет на пол, будто он в трамвае, в поезде или в каком-нибудь общественном месте. Я всегда удивлялся, почему там везде висят надписи: «Плевать воспрещается», но теперь вижу, что это из-за вас. Вас, видно, уже повсюду хорошо знают.
Кровь бросилась в лицо строгому господину, и он разразился потоком ругательств в адрес Швейка и фельдкурата.
– Окончили вы свою речь? – спокойно спросил Швейк, когда посетитель сделал заключение: «Оба вы негодяи, каков поп, таков и приход». – Или, может быть, хотите что-нибудь дополнить, перед тем как полетите с лестницы?
Так как строгий господин настолько исчерпал свой запас, что ему больше не пришло на ум ни одного стоящего ругательства, и замолчал, то Швейк решил, что ждать дальнейших дополнений не имеет смысла. Он отворил дверь, поставил строгого господина в дверях лицом к лестнице… и такого удара не постыдился бы наилучший игрок международной футбольной команды мастеров спорта.
Вдогонку строгому господину прозвучал голос Швейка:
– В следующий раз, когда пойдете с визитом к порядочным людям, будете вести себя прилично.
Строгий господин долго ходил под окнами и поджидал фельдкурата. Швейк открыл окно и наблюдал за ним.
Наконец гость дождался. Фельдкурат провел его к себе в комнату и посадил на стул против себя.
Швейк молча принес плевательницу и поставил ее перед гостем.
– Что вы делаете, Швейк?
– Осмелюсь доложить, господин фельдкурат, с этим господином уже вышла здесь небольшая неприятность из-за плевания на пол.
– Оставьте нас одних, Швейк. У нас есть кое-какие дела.
Швейк по-военному вытянулся.
– Так точно, господин фельдкурат, оставлю вас одних.
И ушел на кухню. В комнате между тем происходил очень интересный разговор.
– Вы пришли получить деньги по векселю, если не ошибаюсь? – спросил фельдкурат своего гостя.
– Да, и надеюсь…
Фельдкурат вздохнул.
– Человек часто попадает в такое положение, когда ему остается только надеяться. О, как красиво звучит слово «надейся», из того трилистника, который возносит человека над хаосом жизни: вера, надежда, любовь…
– Я надеюсь, господин фельдкурат, что сумма…
– Безусловно, многоуважаемый, – перебил его фельдкурат. – Могу еще раз повторить, что слово «надеяться» дает человеку силу в его житейской борьбе. Не теряйте и вы надежды. Как прекрасно иметь свой идеал, быть невинным, чистым созданием, которое дает деньги под векселя, и как чудесно надеяться своевременно получить их обратно. Надеяться, постоянно надеяться, что я заплачу вам тысячу двести крон, когда у меня в кармане нет даже сотни.
– В таком случае вы… – заикаясь пролепетал гость.
– Да, в таком случае я, – ответил фельдкурат.
Лицо гостя опять приняло упрямое и злобное выражение.
– Сударь, это мошенничество, – сказал он, вставая.
– Успокойтесь, уважаемый!
– Это мошенничество! – закричал упрямый гость. – Вы злоупотребили моим доверием!
– Сударь, – сказал фельдкурат, – вам безусловно будет полезна перемена воздуха. Здесь слишком душно… Швейк! – крикнул он. – Этому господину необходимо подышать свежим воздухом…
– Осмелюсь доложить, господин фельдкурат, – донеслось из кухни, – я его уже раз выставил.
– Повторить! – скомандовал фельдкурат, и команда была исполнена быстро, стремительно и круто.
Вернувшись с лестницы, Швейк сказал:
– Хорошо, что мы отделались от него, прежде чем он успел набуянить… В Малешицах жил один шинкарь, большой начетчик. У него на все были изречения из Священного Писания. Когда ему приходилось драть кого-нибудь плетью, он всегда приговаривал: «Кто жалеет розги, тот ненавидит сына своего, а кто его любит, тот вовремя его наказует. Я тебе покажу, как драться у меня в шинке!»
– Вот видите, Швейк, что постигает тех, кто не чтит священника, – улыбнулся фельдкурат. – Святой Иоанн Златоуст сказал: «Кто чтит пастыря своего, тот чтит Христа во пастыре своем. Кто обижает пастыря, тот обижает Господа, Его же представителем пастырь есть…» К завтрашнему дню нам нужно хорошенько подготовиться. Сделайте яичницу с ветчиной, сварите пунш-бордо, а потом мы посвятим себя размышлениям, ибо, как сказано в вечерней молитве, «милостью Божьей предотвращены все козни врагов против дома сего».
На свете существуют стойкие люди. К ним принадлежал и муж, дваждый выброшенный из квартиры фельдкурата. Только приготовили ужин, как кто-то позвонил. Швейк пошел открыть, вскоре вернулся и доложил:
– Опять он тут, господин фельдкурат. Я его пока что запер в ванной комнате, чтобы мы могли спокойно поужинать.
– Нехорошо вы поступаете, Швейк, – сказал фельдкурат. – Гость в дом – Бог в дом. В старые времена на пирах заставляли шутов-уродов увеселять пирующих. Приведите-ка его сюда, пусть он нас позабавит.
Через минуту Швейк вернулся с настойчивым господином. Господин глядел мрачно.
– Присаживайтесь, – ласково предложил фельдкурат. – Мы как раз кончаем ужинать. Только что ели омара и лососину, а теперь перешли к яичнице с ветчиной. Почему нам не кутнуть, когда на свете есть люди, одалживающие нам деньги?
– Надеюсь, я здесь не для шуток, – сказал мрачный господин. – Я здесь сегодня уже в третий раз. Надеюсь, что теперь все выяснится.
– Осмелюсь доложить, господин фельдкурат, – заметил Швейк, – вот ведь гидра! Совсем как Боушек из Либни. Восемнадцать раз за один вечер его выкидывали из пивной «Экснер», и каждый раз он возвращался – дескать, «забыл трубку». Он лез в окна, в двери, через кухню, через забор в трактир, через погреб к стойке, где отпускают пиво, и, наверно, спустился бы по дымовой трубе, если б его не сняли с крыши пожарные. Такой был настойчивый, что мог бы стать министром или депутатом! Дали ему как следует!
Настойчивый господин, словно не внимая тому, о чем говорят, упрямо повторил:
– Я хочу окончательно выяснить наши дела и прошу меня выслушать.
– Это вам разрешается, – сказал фельдкурат. – Говорите, уважаемый. Говорите, сколько вам будет угодно, а мы пока продолжим наше пиршество. Надеюсь, это не помешает вам рассказывать? Швейк, подавайте на стол!
– Как вам известно, – сказал настойчивый господин, – в настоящее время свирепствует война. Я одолжил вам эту сумму до войны, и если бы не война, то не стал бы так настаивать на уплате. Но я приобрел печальный опыт.
Он вынул из кармана записную книжку и продолжал:
– У меня все записано. Поручик Яната был мне должен семьсот крон и, несмотря на это, осмелился погибнуть в битве на Дрине. Подпоручик Прашек попал в плен на русском фронте, а он мне должен две тысячи крон. Капитан Вихтерле, будучи должен мне такую же сумму, позволил себе быть убитым собственными солдатами под Равой Русской. Поручик Махек попал в Сербии в плен, а он остался мне должен полторы тысячи крон. И таких у меня в книжке много. Один погибает на Карпатах с моим неоплаченным векселем, другой попадает в плен, третий, как назло, тонет в Сербии, а четвертый умирает в госпитале в Венгрии. Теперь вы понимаете мои опасения. Эта война меня погубит, если я не буду энергичным и неумолимым. Вы можете возразить, что никакая опасность вам не грозит. Так посмотрите!
Он сунул фельдкурату под нос свою записную книжку.
– Видите: фельдкурат Матиаш умер неделю тому назад в заразном госпитале в Брно. Хоть волосы на себе рви! Не заплатил мне тысячу восемьсот крон и идет в холерный барак соборовать умирающего, до которого ему нет никакого дела!
– Это его долг, милый человек, – сказал фельдкурат. – Я тоже пойду завтра соборовать.
– И тоже в холерный барак, – заметил Швейк. – Вы можете пойти с нами, чтобы воочию убедиться, что значит жертвовать собой.
– Господин фельдкурат, – продолжал настойчивый господин, – поверьте, что я в отчаянном положении! Разве война существует для того, чтобы спровадить на тот свет всех моих должников?
– Когда вас призовут на военную службу и вы попадете на фронт, – заметил Швейк, – мы с господином фельдкуратом отслужим мессу, чтобы по Божьему соизволению вас разорвало первым же снарядом.
– Сударь, у меня к вам серьезное дело, – настаивала гидра, обращаясь к фельдкурату. – Я требую, чтобы ваш слуга не вмешивался в наши дела и дал нам возможность теперь же их закончить.
– Простите, господин фельдкурат, – отозвался Швейк, – извольте мне сами приказать, чтобы я не вмешивался в ваши дела, иначе я и впредь буду защищать ваши интересы, как полагается каждому честному солдату. Этот господин совершенно прав ему хочется уйти отсюда самому, без посторонней помощи. Да и я не любитель скандалов, я человек приличный.
– Мне уже начинает это надоедать, Швейк, – сказал фельдкурат, как бы не замечая присутствия гостя. – Я думал, что этот человек нас позабавит, расскажет какие-нибудь анекдоты, а он требует, чтобы я приказал вам не вмешиваться в эти вещи, несмотря на то что вы два раза уже имели с ним дело. В такой вечер, накануне столь важного религиозного акта, когда все помыслы мои я должен обратить к Богу, он пристает ко мне с какой-то глупой историей о несчастных тысяче двухстах кронах, отвлекает меня от испытания своей совести, от Бога и добивается, чтобы я ему еще раз сказал, что теперь ничего ему не дам. Я не хочу с ним больше разговаривать, чтобы не осквернять этот священный вечер! Скажите ему сами, Швейк: «Господин фельдкурат вам ничего не даст».
Швейк исполнил приказ, рявкнув это в самое ухо гостю.
Настойчивый гость остался, однако, сидеть.
– Швейк, – сказал фельдкурат, – спросите его, долго ли он еще намеревается здесь торчать.
– Я не тронусь с места, пока вы мне не уплатите, – упрямо заявила гидра.
Фельдкурат встал, подошел к окну и сказал:
– В таком случае передаю его вам, Швейк. Делайте с ним что хотите.
– Пойдемте, сударь, – сказал Швейк, схватив незваного гостя за плечо. – Бог троицу любит.
И повторил свое упражнение быстро и элегантно под похоронный марш, который барабанил пальцами на оконном стекле фельдкурат.
Вечер, посвященный благочестивым размышлениям, прошел несколько фаз. Фельдкурат так пламенно стремился к Богу, что еще в двенадцать часов ночи из его квартиры доносилось пение:
- Когда в поход мы собирались,
- Слезами девки заливались.
С ним вместе пел и бравый солдат Швейк.
В военном госпитале жаждали соборования двое: старый майор и офицер запаса, бывший банковский чиновник. Оба они в Карпатах получили по пуле в живот и лежали рядом. Офицер запаса считал своим долгом собороваться, так как его начальник, майор, жаждал собороваться, а он, подчиненный, считал, что нарушил бы чинопочитание, если б не дал и себя соборовать. Благочестивый майор делал это с расчетом, полагая, что молитва исцелит его от болезней. Однако в ночь перед соборованием они оба умерли, и когда утром в госпиталь явился фельдкурат со Швейком, оба воина лежали под простынями с почерневшими лицами, какие бывают у всех умирающих от удушья.
– Так торжественно мы с вами ехали, господин фельдкурат, а теперь нам все дело испортили! – досадовал Швейк, когда в канцелярии им сообщили, что те двое уже ни в чем не нуждаются.
И верно, прибыли они сюда торжественно. Ехали на дрожках, Швейк звонил, а фельдкурат держал в руке завернутую в салфетку бутылочку с маслом и с серьезным видом благословлял ею прохожих, снимавших шапки. Правда, их было немного, хотя Швейк и старался наделать своим колокольчиком как можно больше шуму. За дрожками бежали мальчишки, один прицепился сзади, а все остальные кричали в один голос:
– Сзади-то, сзади!
Швейк звонил, извозчик бил кнутом сидевшего сзади мальчишку. На Водичковой улице дрожки догнала привратница, член конгрегации Святой Марии, и на полном ходу приняла благословение от фельдкурата, перекрестилась, потом плюнула:
– Скачут с этим Господом Богом как черти! Так и чахотку недолго получить! – и, запыхавшись, вернулась на свое старое место.
Больше всего звон колокольчика беспокоил извозчичью кобылу, у которой с этим звуком, очевидно, были связаны какие-то воспоминания прошлого. Она беспрестанно оглядывалась назад и временами делала попытки затанцевать посреди мостовой.
В этом и заключалась та торжественность, о которой говорил Швейк.
Фельдкурат прошел в канцелярию уладить финансовую сторону соборования и предъявил счетоводу госпиталя счет, по которому военное ведомство должно было заплатить ему, фельдкурату, около ста пятидесяти крон за освященный елей и дорогу. Между начальником госпиталя и фельдкуратом начался спор на эту тему. Последний, ударив кулаком по столу, заявил:
– Не думайте, капитан, что соборование совершается бесплатно. Когда драгунского офицера командируют на конский завод за лошадьми, ведь ему платят командировочные! Искренне жалею, что те двое раненых не дождались соборования, это обошлось бы вам еще на пятьдесят крон дороже.
Швейк ждал фельдкурата внизу в караульном помещении с бутылочкой освященного елея, возбуждавшей в солдатах неподдельный интерес. Один из них высказал мнение, что это масло вполне годится для чистки винтовок и штыков. Молодой солдатик с Чехоморавской возвышенности, который еще верил в Бога, просил не говорить таких вещей и не спорить о святых таинствах: дескать, мы, как христиане, не должны терять надежды.
Старик запасной посмотрел на желторотого птенца и сказал:
– Хороша надежда, что шрапнель оторвет тебе голову! Дурачили нас только! До войны приезжал к нам один депутат-клерикал и говорил о царстве Божьем на земле. Мол, Господь Бог не желает войны и хочет, чтобы все жили, как братья. А как только вспыхнула война, во всех костелах стали молиться за успех нашего оружия, а о Боге начали говорить, будто о начальнике генерального штаба, который руководит военными действиями. Насмотрелся я похорон в этом госпитале! Отрезанные руки и ноги прямо возами вывозят!
– Солдат хоронят нагишом, – сказал другой, – а форму с мертвого надевают на живого. Так и идет по очереди.
– Пока мы не выиграем войну, – заметил Швейк.
– Такой денщик-холуй выиграет! – отозвался из угла отделенный. – На фронт бы таких, в окопы погнать вас, на штыки, к чертовой матери, на проволочные заграждения, в волчьи ямы, против минометов. Прохлаждаться в тылу умеет каждый, а вот помирать на фронте никому неохота.
– А я думаю, как это здорово, когда тебя проткнут штыком! – сказал Швейк. – Неплохо еще получить пулю в брюхо, а еще лучше, когда человека разрывает снаряд и он видит, что его ноги вместе с животом оказываются от него на некотором расстоянии. И так ему странно, что он от удивления помирает раньше, чем это ему успевают разъяснить.
Молоденький солдат искренне вздохнул. Ему жалко стало своей молодой жизни. Зачем он только родился в этот дурацкий век? Чтобы его зарезали, как корову на бойне? И к чему все это?
Один из солдат, по профессии учитель, как бы прочитав его мысли, заметил:
– Некоторые ученые объясняют войну появлением пятен на солнце. Как только появится этакое пятно, всегда на земле происходит что-нибудь страшное. Взятие Карфагена…
– Оставьте свою ученость при себе, – перебил его отделенный командир. – Подметите-ка лучше пол, сегодня ваша очередь. Какое нам дело до этого дурацкого пятна на солнце! Хоть бы их там двадцать было, из них себе шубы не сошьешь!
– Пятна на солнце действительно имеют большое значение, – вмешался Швейк. – Однажды появилось на солнце пятно, и в тот же самый день меня избили в трактире «У Банзетов», в Нуслях. С той поры, перед тем как куда-нибудь пойти, я смотрю в газету – не появилось ли опять какое-нибудь пятно. Но стоит появиться пятну – «прощаюсь, ангел мой, с тобою», никуда я не хожу и пережидаю. Когда вулкан Монпеле уничтожил остров Мартинику, один профессор написал в «Национальной политике», что давно уже предупреждал читателей о большом пятне на солнце. А «Национальная политика» вовремя не была доставлена на этот остров. Вот они и загремели там!
Между тем фельдкурат встретил наверху в канцелярии одну даму из «Союза дворянок по религиозному воспитанию нижних чинов», старую противную фурию, которая с самого утра ходила по госпиталю и раздавала направо и налево образки святых. Раненые и больные солдаты бросали их в плевательницы.
Она раздражала всех своей глупой болтовней о том, что нужно-де искренне сокрушаться о своих грехах и исправиться, дабы после смерти милосердный Бог даровал вечное спасение.
Она была бледна, когда разговаривала с фельдкуратом.
– Эта война, вместо того чтобы облагораживать солдат, делает из них зверей.
Внизу больные показали ей язык и сказали, что она «харя» и «валаамова ослица».
– Das ist wirklich schrecklich, Herr Feldkurat. Das Volk ist verdorben.[56]
И она стала распространяться о том, как представляет себе религиозное воспитание солдата. Только тогда солдат доблестно сражается за своего государя императора, когда он верит в Бога и полон религиозных чувств. Только тогда он не боится смерти, когда знает, что его ждет рай.
Болтунья наговорила еще много подобных же благоглупостей, и было видно, что она не намерена отпускать фельдкурата. Однако фельдкурат отнюдь не галантно распрощался с ней.
– Едем домой, Швейк! – крикнул он в караульное помещение.
Обратно они ехали без всякой торжественности.
– В следующий раз пусть едет соборовать кто хочет, – сказал фельдкурат. – Человеку приходится торговаться из-за каждой души, которую он желает спасти. Только и занимаются бухгалтерией! Сволочи!
Увидев в руках Швейка бутылочку с «освященным елеем», он нахмурился:
– Лучше всего, Швейк, если вы этим маслом мне и себе смажете сапоги.
– Я еще попробую смазать этим дверной замок, – прибавил Швейк, – а то он ужасно скрипит, когда вы ночью приходите домой.
Так, не начавшись, закончилось соборование.
Глава XIV
Швейк в денщиках у поручика Лукаша
I
Недолго длилось счастье Швейка. Жестокая судьба прервала его приятельские отношения с фельдкуратом. Если до сих пор фельдкурат был личностью симпатичной, то сегодняшний его поступок сорвал с него эту маску.
Фельдкурат продал Швейка поручику Лукашу, или, точнее говоря, проиграл его в карты: так некогда продавали в России крепостных.
Произошло все это совершенно случайно. У поручика Лукаша собралась однажды милая компания. Играли в «двадцать одно». Фельдкурат все проиграл и заявил:
– Сколько дадите мне в долг под моего денщика? Страшный болван, но фигура презанятная, нечто non plus ultra.[57] Ручаюсь, что такого денщика ни у кого из вас еще не было.
– Даю сто крон, – предложил поручик Лукаш. – Если до послезавтра их не вернешь, то пошлешь мне этот редкостный экземпляр. Мой денщик отвратительный субъект – вечно вздыхает, пишет домой письма и при этом ворует все, что попало. Бил я его – не действует. Каждый раз при встрече получает от меня подзатыльники, но и это не помогает. Вышиб ему два передних зуба – и это его не исправило.
– Идет, – легкомысленно согласился фельдкурат. – Послезавтра получишь или сто крон, или Швейка.
Он проиграл и эти сто крон и, опечаленный, побрел домой. Отто Кац прекрасно знал и нисколько не сомневался, что до послезавтра ему нигде денег не раздобыть и что, собственно говоря, он гнусно и вместе с тем дешево продал Швейка.
«Нужно было за него взять двести крон», – упрекал он себя. Садясь же в трамвай, который через несколько минут должен был довезти его до дому, он ощутил угрызения совести и почувствовал приступ сентиментальности.
«Это некрасиво с моей стороны, – думал он, звоня к себе в квартиру. – Как я теперь посмотрю в его глупые добрые глаза…»
– Милый Швейк, – сказал он, входя в комнату, – со мной нынче произошел необыкновенный случай. Мне чертовски не везло в игре. Понимаете, пошел ва-банк, на руках у меня туз, прикупаю десятку. У банкомета на руках был всего валет, и все-таки он тоже набрал до двадцати одного. Потом я несколько раз ставил на туза или на десятку, и каждый раз у банкомета было столько же. Просадил все деньги…
Он замялся.
– …и наконец проиграл вас. Взял под вас сто крон в долг, и если до послезавтра их не верну, то вы будете принадлежать уже не мне, а поручику Лукашу. Мне, право, очень жаль…
– Сто крон у меня найдется, – сказал Швейк. – Могу вам одолжить.
– Давайте их сюда, – ожил фельдкурат. – Я их сейчас же отнесу Лукашу. Мне, право, не хотелось бы с вами расстаться.
Лукаш был немало удивлен, когда опять увидел у себя фельдкурата.
– Пришел заплатить тебе долг, – заявил фельдкурат с победоносным видом. – Дайте-ка и мне карту.
– А ну-ка… – сказал он, когда пришла его очередь. – Всего очко перебрал, – добавил он. – Ну, значит, играю, – сказал он, когда подошел следующий круг. – Покупаю! Стоп!
– Двадцать, – объявил банкомет.
– А у меня девятнадцать, – произнес фельдкурат тихо, внося в банк последние сорок крон из сотни, которую одолжил ему Швейк, чтобы откупиться от нового рабства.
Возвращаясь домой, фельдкурат пришел к убеждению, что всему конец, что Швейка ничто не может спасти и что ему предопределено служить у поручика Лукаша.
И когда Швейк отворил ему дверь, фельдкурат сказал:
– Все напрасно, Швейк. От судьбы не уйдешь! Я проиграл и вас, и ваши сто крон. Я сделал все, что только было в моих силах, но судьба сильнее меня. Она бросила вас в когти поручика Лукаша… Пришла пора нам расстаться.
– А что, сорвали банк у вас или же вы на понте продули? – спокойно спросил Швейк. – Плохо дело, когда карта не идет, но еще хуже, когда уж чересчур повезет… Жил в Здеразе жестянщик, по фамилии Вейвода, частенько игрывал в «марьяж» в трактире позади «Столетнего кафе». Однажды черт его дернул предложить: «Не перекинуться ли нам в «двадцать одно» по пяти крейцеров?» Ну, сели играть. Метал банк он. Все проиграли, банк вырос до десятки. Старик Вейвода хотел и другим дать разок выиграть и все время приговаривал: «Ну-ка, маленькая, плохонькая, сюда». Вы не можете себе представить, как ему не везло: маленькая-то, плохонькая не шла – да и только! Банк рос, собралась там уже сотня. Из игроков ни у кого столько не было, чтобы идти ва-банк, а Вейвода даже весь вспотел. Только и было слышно: «Маленькая, плохонькая, сюда». Игроки ставили по пятерке и все время проигрывали. Один трубочист так разошелся, что сбегал домой за деньгами, и, когда в банке было больше чем полторы сотни, пошел ва-банк. Вейвода хотел избавиться от банка и, как позже рассказывал, решил прикупать хоть до тридцати, чтобы только не выиграть, а вместо этого сразу купил два туза. Он сделал вид, будто у него ничего нет, и нарочно говорит: «Шестнадцать». А у трубочиста было всего-навсего пятнадцать. Ну разве это не невезение! Несчастный старик Вейвода побледнел, вид у него был жалкий, а вокруг уже стали поругиваться и перешептываться, что, дескать, он передергивает и что его как-то раз уже били за нечистую игру, хотя на самом деле это был самый честный игрок. В банк сыпались крона за кроной. Там уже было пятьсот крон. Тут и трактирщик не выдержал. У него как раз были приготовлены деньги для уплаты пивоваренному заводу. Он их вынул, подсел к столу, сперва проиграл два раза по сто крон, а потом зажмурил глаза, перевернул стул на счастье и заявил, что идет ва-банк. «Играем в открытую!» – сказал он. Старик Вейвода, кажется, все на свете отдал бы за то, чтобы проиграть. Все удивились, когда ему пришла семерка и он оставил ее себе. Трактирщик ухмыльнулся в бороду – у него было двадцать одно. Старику Вейводе пришла вторая семерка, и опять он ее себе оставил. «Теперь придет туз или десятка, – заметил со злорадством трактирщик. – Готов голову прозакладывать, пан Вейвода, что вам пришел капут». Все затаили дыхание. Вейвода тянет, и появляется… третья семерка. Трактирщик побледнел как полотно (это были его последние деньги) и ушел на кухню. Через минуту прибегает мальчонка, который был у него в ученье, кричит, чтобы мы скорее сняли трактирщика: он висит на оконной ручке. Вынули мы его из петли, воскресили и сели играть дальше. Денег ни у кого уже не было – все деньги были в банке у Вейводы. А Вейвода знай свое: «Маленькая, плохонькая, сюда», и счастлив бы все спустить, но должен был открывать карты и выкладывать их на стол, не мог он смошенничать и перебрать нарочно. Все просто обалдели от того, как ему везло. Уговорились: если не хватит наличных, играть под расписки. Игра продолжалась несколько часов, и перед старым Вейводой росли тысячи за тысячами. Трубочист был должен в банк уже больше полутора миллионов, угольщик из Здераза – около миллиона, швейцар из «Столетнего кафе» – восемьсот тысяч крон, а фельдшер – больше двух миллионов. В одной только тарелке, куда откладывали часть выигрыша для трактирщика, на клочках бумаги было более трехсот тысяч. Старик Вейвода пускался на всякие штуки: то и дело бегал в уборную и каждый раз давал за себя метать кому-нибудь другому, а когда возвращался, ему сообщали, что выиграл он и что ему пришло двадцать одно. Послали за новой колодой, но и это не помогло. Когда Вейвода останавливался на пятнадцати, у партнера было четырнадцать. Все злобно глядели на старого Вейводу, а больше всех ругался мостовщик, который всего-то-навсего выложил наличными восемь крон. Этот откровенно заявил, что человеку вроде Вейводы не место на белом свете и что такому нужно наподдать коленкой, выкинуть и утопить, как щенка. Вы не можете себе представить отчаяние старика Вейводы. Наконец ему в голову пришла идея. «Мне нужно в отхожее место, – сказал он трубочисту. – Сыграйте-ка за меня». И так, без шапки, выбежал прямо на Мысликовую улицу за полицией, нашел патруль и сообщил, что в таком-то и таком-то трактире играют в азартные игры. Полицейские велели ему вернуться в трактир и сказали, что придут за ним следом. Когда Вейвода вернулся, ему объявили, что за это время фельдшер проиграл свыше двух миллионов, а швейцар – свыше трех. А в тарелку для трактирщика положили расписку на пятьсот тысяч. Скоро ворвались полицейские. Мостовщик крикнул: «Спасайся кто может!» – но было уже поздно. На банк наложили арест и всех повели в полицию. Здеразский угольщик оказал сопротивление, и его увезли в «корзинке». В банке было больше чем на полмиллиарда долговых расписок и полторы тысячи крон наличными. «Ничего подобного я до сих пор не видывал, – сказал полицейский инспектор, увидя такие головокружительные суммы. – Это почище, чем в Монте-Карло». Все, кроме старика Вейводы, остались в полицейском комиссариате до утра. Вейводу, как доносчика, отпустили и обещали ему, что он получит в качестве вознаграждения законную треть конфискованного банка, свыше ста шестидесяти миллионов крон. Старик от всего этого ночью рехнулся и утром ходил по Праге и заказывал себе дюжинами несгораемые шкафы… Вот это называется – повезло в карты!
Тут Швейк пошел варить грог. К ночи фельдкурат, которого Швейк с трудом отправил в постель, прослезился и завопил.
– Продал я тебя, дружище, – всхлипывал он, – позорно продал. Прокляни меня, ударь – стою того! Отдал я тебя на растерзание. В глаза тебе не смею взглянуть. Бей меня, кусай, уничтожь! Лучшего я не заслужил. Знаешь, кто я?
И, уткнув заплаканную физиономию в подушку, он тихим, нежным голосом протянул:
– Я последний подлец… – и уснул, словно ко дну пошел.
На другой день фельдкурат, не смея поднять глаз на Швейка, рано ушел из дому и вернулся только к ночи вместе с толстым пехотинцем.
– Швейк, – сказал он, по-прежнему не глядя на Швейка, – покажите ему, где что лежит, чтоб он был в курсе дела, и научите его варить грог. Утром вы явитесь к поручику Лукашу.
Швейк со своим преемником приятно провел ночь за приготовлением грога. К утру толстый пехотинец еле держался на ногах и бурчал себе под нос невероятную смесь из разных народных песен: «Около Ходова течет водичка, наливает нам моя милая красное пиво. Гора, гора высокая, шли девушки по дорожке, на Белой горе мужичок пашет…»
– За тебя я не боюсь, – сказал Швейк. – С такими способностями ты у фельдкурата удержишься.
Итак, первое, что увидел в это утро поручик Лукаш, была честная, открытая физиономия бравого солдата Швейка, который отрапортовал:
– Честь имею доложить, господин обер-лейтенант, я – тот самый Швейк, которого господин фельдкурат проиграл в карты.
II
Институт денщиков очень древнего происхождения. Говорят, еще у Александра Македонского был денщик. Во всяком случае, не подлежит сомнению, что в эпоху феодализма в этой роли выступали оруженосцы рыцарей. Кем, скажем, был Санчо Панса у Дон Кихота? Удивительно, что история денщиков до сих пор никем не написана. А то мы прочли бы там, как альмавирский герцог во время осады Толедо с голода съел без соли своего денщика; об этом герцог сам пишет в своих воспоминаниях и сообщает, что мясо его слуги было нежным, мягким и сочным и по вкусу напоминало нечто среднее между курятиной и ослятиной.
В одной старой швабской книге о военном искусстве мы находим, между прочим, наставление денщикам. В старину денщик должен был быть благочестивым, добродетельным, правдивым, скромным, доблестным, отважным, честным, трудолюбивым – словом, идеалом человека. Наша эпоха многое изменила в характере этого типа. Современный денщик обыкновенно не благочестив, не добродетелен, не правдив. Он врет, обманывает своего господина и очень часто обращает жизнь своего начальника в настоящий ад. Это – льстивый раб, придумывающий самые коварные трюки, чтобы отравить жизнь своему хозяину.
Среди нового поколения денщиков уже не найдется самоотверженных существ вроде благородного Фернандо, денщика альмавирского герцога, которые позволили бы своим господам съесть себя без соли. С другой стороны, мы видим, что начальники, борясь не на живот, а на смерть с денщиками нового времени за свой авторитет, прибегают к самым решительным мерам. Иногда дело доходит до настоящего террора. Так, в 1912 году в Граце происходил процесс, на котором выдающуюся роль играл некий капитан, избивший своего денщика до смерти. Капитан был тогда оправдан, потому что проделал эту штуку всего лишь два раза. По мнению таких господ, жизнь денщика не имеет никакой цены. Денщик – вещь, часто только чучело для оплеух, раб, прислуга с неограниченным числом обязанностей. Неудивительно, если такое положение принуждает раба быть изворотливым и льстивым. Его муки на нашей планете можно сравнить только со страданием слуг – мальчишек в ресторанах в старое время; у них чувство порядочности развивали подзатыльниками и избиениями.
Бывают, впрочем, и такие случаи, когда денщик возвышается до положения любимчика у своего офицера и становится грозой роты и даже батальона. Все унтеры стараются его подкупить. От него зависит отпуск. Он может походатайствовать, чтобы при рапорте все сошло хорошо.
Во время войны эти фавориты часто награждались большими и малыми серебряными медалями за доблесть и отвагу.
В Девяносто первом полку я знал несколько таких. Один денщик получил большую серебряную за то, что умел восхитительно жарить украденных им гусей. Другой был награжден малой серебряной за то, что получал из дому чудесные продовольственные посылки и его начальник во время самого отчаянного голода обжирался так, что не мог ходить.
Подавая рапорт о представлении своего денщика к награждению медалями, этот начальник выразился так:
«В награду за то, что в боях проявлял необычайную доблесть и отвагу, пренебрегал своей жизнью и не отходил ни на шаг от своего командира под сильным огнем наступающего противника».
А тот в это время обчищал курятники в тылу. Война изменила отношения между офицером и денщиком, и денщик стал самым ненавистным существом среди солдат. У денщика была целая банка консервов, в то время как в команде одна банка выдавалась на пять человек. Его фляжка всегда была полна рому или коньяку. Целый день эта тварь жевала шоколад, жрала сладкие офицерские сухари, курила сигареты своего начальника, стряпала и жарила целыми часами и носила гимнастерку, сшитую лично ей по мерке.
Денщик был в самых интимных отношениях с ординарцем, уделял ему обильные объедки со своего стола и делился с ним своими привилегиями. К триумвирату присоединялся обыкновенно и старший писарь. Эта тройка, живя в непосредственной близости с командиром, знала о всех операциях и стратегических планах.
Отделение, начальник которого дружил с денщиком командира роты, было лучше других обо всем информировано. Если денщик говорил: «В два часа тридцать пять минут будем удирать», то действительно ровно в два часа тридцать пять минут австрийские солдаты начинали отходить от неприятеля.
Денщик находился в самых интимных отношениях и с полевой кухней и с удовольствием околачивался у котла, причем заказывал себе разные блюда, словно он сидел в ресторане и держал в руках меню.
– Я люблю грудинку, – говорил он повару, – а вчера ты дал мне хвост. Да положи-ка мне в суп кусок печенки, знаешь ведь, что я селезенку не жру.
Денщик был большим мастером создавать панику. Во время бомбардировки окопов душа у него уходила в пятки. В таких случаях он оказывался вместе со своим и офицерским багажом в самом безопасном блиндаже и прятал голову под одеяло, чтобы его не нашла артиллерийская граната. В эти минуты он желал только одного: чтобы его командир был ранен и он вместе с ним попал бы в тыл, как можно подальше.
Своими «секретами» он увеличивал панику. «Кажется, уже собирают телефон», – сообщал он конфиденциально по отделениям и был счастлив, если мог потом сказать: «Уже собрали».
Никто не отступал с таким удовольствием, как он. В эти минуты он забывал, что над его головой свистят снаряды и шрапнель; не чувствуя усталости, он пробирался с багажом к штабу, где стоял обоз. Большую симпатию он испытывал к австрийскому обозу и с огромным удовольствием с ним ездил. На худой конец он удовлетворялся и санитарными двуколками. Если же ему приходилось идти пешком, он производил впечатление человека, совершенно изничтоженного. В таких случаях он бросал багаж своего офицера в окопах и волок только свое собственное имущество.
Если случалось, что офицер спасался бегством, чтобы не попасть в плен, а денщик попадал в плен, то последний никогда не забывал захватить с собой и офицерские вещи, которые отныне становились его собственностью и которые он берег как зеницу ока.
Я знал одного пленного денщика, который вместе с другими прошел пешком от Дубно до самой Дарницы под Киевом. Кроме своего походного мешка и мешка его офицера, избежавшего плена, у него было еще пять различных ручных чемоданов да два одеяла и подушка, не считая узла, который он тащил на голове. Он жаловался мне, что два чемодана у него отняли казаки.
Мне не забыть этого человека, который так маялся со своим багажом по всей Украине. Это была живая экспедиторская подвода. Я до сих пор никак не могу понять, как смог он все это унести, тащить несколько сот километров на себе, потом доехать с этим до самого Ташкента, зорко охранять каждую вещь… и умереть на своих чемоданах от сыпного тифа в лагере для военнопленных.
В настоящее время денщики рассеяны по всей нашей республике и рассказывают о своих геройских подвигах. Они-де штурмовали Сокаль, Дубно, Ниш, Пиаву. Каждый из них – Наполеон. «Вот я и говорю нашему полковнику: пусть, мол, позвонит в штаб, что можно начинать».
В большинстве случаев денщики были реакционерами, и солдаты их ненавидели. Некоторые из денщиков были доносчиками и с особым удовольствием смотрели, когда солдата вязали.
Они развились в особую касту. Их эгоизм не знал границ.
III
Поручик Лукаш был типичным кадровым офицером сильно обветшавшей австрийской монархии. Кадетский корпус выработал из него хамелеона: в обществе он говорил по-немецки, писал по-немецки, но читал чешские книги, а когда преподавал в школе для вольноопределяющихся, состоящей сплошь из чехов, то говорил им конфиденциально: «Останемся чехами, но никто не должен об этом знать. Я – тоже чех…»
Он считал чешский народ своего рода тайной организацией, от которой лучше всего держаться подальше.
Но в остальном был человек славный: не боялся начальства и на маневрах, как это и полагается, заботился о своей роте, поудобнее расквартировывая ее по сараям, и, часто платя из своего скромного жалованья, выставлял солдатам бочку пива.
Лукаш любил, когда солдаты на марше пели песни. Они должны были петь, идя на учение и с учения. Шагая рядом со своей ротой, он подтягивал:
- А как ноченька пришла,
- Овес вылез из мешка,
- Тумтария бум!
Он пользовался расположением солдат, так как был на редкость справедлив и не имел обыкновения придираться.
Унтера дрожали перед ним. Из самого свирепого фельдфебеля он в течение месяца делал агнца.
Накричать он мог, но никогда не ругался. Выбирал слова и выражения.
– Видите ли, голубчик, право же, мне не хотелось бы вас наказывать, но ничего не могу поделать, потому что от дисциплины зависит боеспособность армии. Армия без дисциплины – «трость, ветром колеблемая». Если ваш мундир не в порядке, а пуговицы плохо пришиты или их не хватает, то это значит, что вы забываете свои обязанности по отношению к армии. Может быть, вам кажется непонятным, почему вас сажают из-за того, что вчера при осмотре у вас не хватало пуговицы на гимнастерке, из-за такой мелочи, из-за такого пустяка, на который, не будь вы на военной службе, никто бы и внимания не обратил? Но на военной службе подобная небрежность по отношению к своей внешности влечет за собой взыскание. А почему? Дело не в том, что у вас не хватает пуговицы, а в том, чтобы приучить вас к порядку. Сегодня вы не пришьете пуговицу и, значит, начнете лодырничать. Завтра вам уже покажется трудным разобрать и вычистить винтовку, послезавтра вы забудете в каком-нибудь трактире свой штык и наконец заснете на посту – и все из-за того, что с той несчастной пуговицы вы начали вести жизнь лодыря. Так-то, голубчик! Я наказываю вас для того, чтобы уберечь от наказания более тяжелого за те провинности, которые вы могли бы совершить в будущем, медленно, но верно забывая свои обязанности. Я вас сажаю на пять дней и искренне желаю, чтобы на хлебе и воде вы пораздумали над тем, что взыскание не есть месть, а только средство воспитания, преследующее определенную цель – исправление наказуемого солдата.
Лукашу уже давно следовало бы быть капитаном, но ему не помогла даже осторожность в национальном вопросе, так как он отличался слишком большой прямотой по отношению к своему начальству и ни к кому не подлизывался.
Он родился в деревне среди темных лесов и озер Южной Чехии и сохранил черты характера крестьян этой местности.
Но если к солдатам Лукаш был справедлив и никогда к ним не придирался, то по отношению к денщикам он был совсем иным: он ненавидел своих денщиков, потому что денщики ему попадались всегда самые негодные и подлые.
Он не считал их за солдат, бил их по морде, давал подзатыльники, пытался воспитывать их и словом, и делом. Он безрезультатно боролся с ними много лет, постоянно менял и всегда приходил к заключению: «Опять попалась мне подлая скотина!» Своих денщиков он считал существами низшего порядка.
Животных Лукаш любил чрезвычайно. У него была гарцкая канарейка, ангорская кошка и пинчер. Денщики, которых он часто менял, обращались с этими животными не лучше, чем поручик с ними самими, когда они учиняли ему какую-нибудь пакость.
Они морили голодом канарейку, один из денщиков выбил ангорской кошке глаз, пинчера стегали, как только он попадался под руку, и, наконец, один из предшественников Швейка отвел бедного пса к живодеру на Панкрац, чтобы его там уничтожили, не пожалев на это дело десять крон из своего кармана. А поручику он доложил, что пес сбежал у него на прогулке. На следующий день этот денщик уже маршировал с ротой на плацу.
Когда Швейк явился к Лукашу и заявил, что с этой минуты приступает к своим обязанностям, поручик провел его к себе в комнату и сказал:
– Вас рекомендовал мне господин фельдкурат Кац. Надеюсь, что вы не осрамите его рекомендацию. У меня была уже дюжина денщиков, и ни один из них долго не удержался. Предупреждаю, что я строг и беспощадно наказываю за каждую подлость и ложь. Я требую, чтобы вы всегда говорили только правду и беспрекословно исполняли все мои приказания. Если я скажу: «Прыгайте в огонь», то вы должны прыгнуть в огонь, даже если бы вам этого и не хотелось. Куда вы смотрите?
Швейк с интересом смотрел в сторону, на стену, где висела клетка с канарейкой. Услышав вопрос поручика, он устремил свои добрые глаза на него и ответил милым, добродушным тоном:
– Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, – это гарцкая канарейка.
Прервав таким образом речь поручика, Швейк вытянулся во фронт и, не моргнув, уставился на поручика.
Поручик хотел было сказать резкость, но, видя невинное выражение лица Швейка, произнес только:
– Господин фельдкурат аттестовал вас как редкого болвана. Думаю, он не ошибся.
– Осмелюсь доложить, господин фельдкурат взаправду не ошибся. Когда я был на действительной, меня освободили от военной службы из-за идиотизма, общепризнанного идиотизма. По этой причине отпустили из полка двоих: меня и еще одного, капитана фон Кауница. Тот, господин поручик, идя по улице, одновременно, извините за выражение, ковырял пальцем левой руки в левой ноздре, а пальцем правой руки – в правой. На учении он каждый раз строил нас, как для церемониального марша, и говорил: «Солдаты… э-э… имейте в виду… э-э… что сегодня… среда, потому что… завтра будет четверг… э-э…»
Поручик Лукаш пожал плечами, не находя слов, и зашагал от двери к окну мимо Швейка и обратно. При этом Швейк делал «равнение направо» и «равнение налево» – смотря по тому, где находился поручик – с таким невинным видом, что поручик потупил глаза и, глядя на ковер, сказал без всякой связи со швейковскими замечаниями о глупом капитане:
– Да-с! У меня чтобы все было в порядке и чистоте, и не сметь лгать. Я люблю честность. Ненавижу ложь и буду за нее карать немилосердно. Вы меня поняли?
– Так точно, господин обер-лейтенант, понял. Нет ничего хуже, когда человек лжет. Если уж начал кто завираться – знай, что он погиб. В деревне около Пелгржимова был учитель по фамилии Марек. Этот учитель бегал за дочерью лесника Шперы. Лесник велел ему передать, что если он будет встречаться в лесу с его дочкой, то он, лесник, как, значит, застанет их, всадит ему из ружья в задницу заряд нарезанной щетины с солью. А учитель велел передать леснику, что это все враки. Но вот однажды, когда он поджидал свою барышню, лесник его застал и уже хотел было проделать с ним эту самую штуку, да учитель отговорился: он, дескать, только цветочки собирает. В другой раз учитель сказал леснику, что ловит жуков для коллекции. Так он врал чем дальше, тем больше. Наконец со страху он присягнул, что хотел только силки для зайцев расставить. Тут наш лесник его сгреб и доставил жандармам, а оттуда дело пошло в суд, и учитель чуть было не попал в тюрьму. А скажи он голую правду, так всего-навсего получил бы порцию щетины с солью. Я держусь того мнения, что лучше признаться откровенно, а если уж что натворил – прийти и сказать: дескать, осмелюсь доложить, натворил то-то и то-то. А если говорить насчет честности, то это, конечно, вещь прекрасная, с нею человек далеко пойдет. Ну, все равно как при состязании в ходьбе: как только начнешь мошенничать и бежать, так моментально сходишь с дистанции. Вот, к примеру, мой двоюродный брат. Честный человек, всюду его уважают, сам собой доволен и чувствует себя как новорожденный, когда, ложась спать, может сказать: «Сегодня я опять был честным».
В течение всей продолжительной речи поручик сидел в кресле и, глядя на сапоги Швейка, думал: «Боже мой, ведь я сам часто несу такую же дичь. Разница только в форме, в какой я это подаю».
Тем не менее, не желая ронять своего авторитета, он сказал, когда Швейк закончил:
– У меня вы должны ходить в чищеных сапогах, держать мундир в порядке и чтобы все пуговицы были пришиты. Вы должны производить впечатление солдата, а не штатского босяка. Это поразительно, до чего никто из вас не умеет держаться по-военному. Из всех моих денщиков только у одного был бравый вид, да и тот в конце концов украл у меня парадный мундир и продал его в еврейском квартале.
Поручик умолк. Но затем заговорил снова и перечислил Швейку все его обязанности, причем особенно напирал на то, что Швейк должен быть верным слугой и нигде не болтать о том, что делается дома.
– У меня бывают дамы, – подчеркнул он. – Иногда дама остается ночевать, если мне не нужно на другой день идти на службу. В таких случаях вы будете приносить нам кофе в постель, но только когда я позвоню, поняли?
– Так точно, понял, господин обер-лейтенант. Если бы я влез неожиданно в комнату, то, возможно, иной даме это показалось бы неприятным. Я сам однажды привел к себе домой барышню, и мы с ней очень мило развлекались, когда моя служанка принесла нам кофе в постель. Служанка с перепугу обварила мне кофеем всю спину да еще сказала: «С добрым утром!» Уж я-то знаю, как быть, когда ночует дама.
– Отлично, Швейк! С дамами мы должны вести себя исключительно тактично, – сказал поручик, приходя в хорошее настроение, так как разговор коснулся предмета, заполнявшего все его свободное от казарм, плаца и карт время.
Женщины были душой квартиры поручика. Они создавали ему домашний очаг. Их было несколько дюжин, и многие старались за время своего пребывания приукрасить квартиру всевозможными безделушками.
Жена владельца кафе прожила у поручика целых две недели, пока за ней не приехал муж, и вышила поручику за это время премиленькую дорожку на стол, на всем его белье монограммы и, наверно, докончила бы коврик на стене, если бы ее муж не прекратил эту идиллию.
Другая, за которой через три недели приехали родители, хотела сделать из спальни поручика дамский будуар и расставила повсюду разные безделушки и вазочки, а над постелью повесила картину, изображающую ангела-хранителя.
Женская рука, которая чувствовалась во всех уголках спальни и столовой, проникла и на кухню, где можно было видеть самые разнообразные кухонные принадлежности – великолепный подарок одной влюбленной фабрикантши, которая, кроме своей страсти, привезла с собой в дом машинку для рубки овощей и капусты, прибор для нарезывания булочек, терку для печенки, кастрюли, противни, сковороды, шумовки и бог весть что еще.
Однако через неделю она ушла, так как не могла примириться с мыслью, что, кроме нее, у Лукаша есть еще около двадцати других любовниц, и это, несомненно, отразилось на исполнительности этого породистого кобеля в мундире.
Поручик Лукаш вел обширную корреспонденцию, завел альбом фотографий своих возлюбленных и коллекцию разных реликвий, так как за последние два года стал проявлять наклонность к фетишизму. У него было несколько разных дамских подвязок, четыре пары изящных панталончиков с вышивкой, три прозрачные, тончайшие дамские рубашечки, батистовые платья и наконец один корсет и несколько чулок.
– Сегодня у меня дежурство, – сказал поручик Швейку, – я приду домой только ночью. Приведите в порядок квартиру. Последний мой денщик за свою лень отправился сегодня с маршевой ротой на фронт.
Отдав приказания, касающиеся канарейки и ангорской кошки, он ушел, не преминув еще раз в дверях проронить несколько слов о честности и порядке.
После его ухода Швейк привел всю квартиру в самый строгий порядок, так что, когда поручик Лукаш пришел ночью домой, Швейк с полным правом мог отрапортовать:
– Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, все в порядке. Только вот кошка набезобразничала: сожрала вашу канарейку.
– Как?! – загремел поручик.
– Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, вот как. Я давно знал, что кошки не любят канареек и обижают их. Вот я и решил познакомить их поближе и в случае, если бы эта бестия попыталась выкинуть какую-нибудь штуку, оттрепать ее так, чтобы до самой смерти помнила, как нужно вести себя с канарейками. Уж очень я люблю животных! У нас в доме шляпный мастер раз-таки выучил свою кошку. Сначала она сожрала у него трех канареек, а теперь ни одной уже не жрет, и канарейка может на нее хоть садиться. Я тоже хотел попробовать, вытащил канарейку из клетки и дал ее кошке понюхать, а эта уродина, не успел я опомниться, откусила канарейке голову. Я, ей-богу, не ожидал от нее такого хамства! Если бы это был, господин поручик, скажем, воробей, так я бы еще ничего не сказал, а то ведь это такая замечательная канареечка, гарцкая! Да с какой еще жадностью жрала, вместе с перьями, и ворчала при этом от удовольствия. Они, кошки, как говорится, не получили никакого музыкального образования и не переваривают, когда поет канарейка, потому что в этом они, бестии, ничего не смыслят… Я кошку как следует выругал, но, Боже меня упаси, пальцем ее не тронул, а ждал вас, как вы это дело решите, что с ней, с этой паршивой уродиной, делать.
Рассказывая это, Швейк так простодушно глядел поручику в глаза, что тот, подступив было к нему с определенным суровым намерением, отошел, сел в кресло и спросил:
– Послушайте, Швейк, вы на самом деле такой олух царя небесного?
– Так точно, господин обер-лейтенант, – торжественно ответил Швейк. – С малых лет мне не везет. Я всегда хочу поправить дело, чтобы все было по-хорошему, и никогда ничего из этого не выходит, кроме неприятностей и для меня и для других. Я только хотел их обеих познакомить, чтобы привыкли друг к другу. Чем я виноват, что она сожрала канарейку, и всякое знакомство на этом и окончилось! Несколько лет тому назад в гостинице «У Штупартов» кошка сожрала даже попугая за то, что тот ее передразнивал и мяукал по-кошачьи… И живучи же эти кошки! Если прикажете, господин обер-лейтенант, чтобы я ее прикончил, так придется прихлопнуть ее дверью, иначе ничего не получится.
И Швейк с самым невинным видом и милой, добродушной улыбкой стал излагать поручику, каким способом казнят кошек. Его рассказ, наверно, довел бы все общество покровительства животных до сумасшедшего дома.
Швейк проявил такие познания, что поручик Лукаш, забыв гнев, спросил его:
– Вы умеете обращаться с животными? Любите их?
– Больше всего я люблю собак, – сказал Швейк, – потому что это очень доходное дело для того, кто умеет ими торговать. Но у меня дело не пошло, так как я всегда был слишком честен, хотя все равно покупатели являлись ко мне с претензиями, дескать, почему я им продал дохлятину вместо здоровой породистой собаки. Как будто бы все собаки должны быть породистыми и здоровыми! Так нет же, каждому подавай родословную, вот и приходилось печатать эти родословные и из какой-нибудь коширжской дворняжки, родившейся на кирпичном заводе, делать самого чистокровного дворянина из баварской псарни Армина фон Баргейма. Но покупатели оставались очень довольны, думая, что приобрели чистокровную собаку. Им можно было всучить вршовицкого шпица вместо таксы, а они только удивлялись, почему у такого редкого пса, из самой Германии, шерсть мохнатая, а ноги не кривые. Так делается на всех крупных псарнях. Вам бы, господин обер-лейтенант, только поглядеть на все мошенничества, которые там проделываются с собачьими родословными. Псов, которые могли бы о себе сказать: «Я, дескать, чистокровная тварь», – говоря по правде, мало. Либо мамаша его спуталась с каким-нибудь уродом, либо бабушка, или наконец папаш у него было несколько, и от каждого он что-нибудь унаследовал: от одного – уши, от другого – хвост, еще от одного – шерсть на морде, от третьего – морду, от четвертого – кривые ноги, а в пятого пошел ростом. Если же у него таких папаш было штук двенадцать, то можете себе представить, господин обер-лейтенант, как такой пес выглядит. Вот купил я однажды этакого кобеля, звали его Балабан, так он из-за своих папаш получился таким безобразным, что все собаки его сторонились. Купил я его из жалости; всеми-то он был покинутый и сидел у меня дома все время в углу, все грустил, я его продал за пинчера. Больше всего пришлось поработать, когда я его перекрашивал под цвет перца с солью. Потом он попал со своим хозяином в Моравию, и с тех пор я его не видел.
Поручика начал занимать этот доклад по собаковедению, и Швейк мог без помехи продолжать:
– Собаки не могут краситься сами, как дамы, об этом приходится заботиться тому, кто хочет их продать. Если, к примеру, пес старый и седой, а вы хотите продать его за годовалого щенка или выдаете такого дедушку за девятимесячного, то лучше всего купите ляпису, разведите и выкрасьте пса в черный цвет – будет выглядеть как новый. Чтобы прибавилось в нем силы, кормите его мышьяком в лошадиных дозах, а зубы вычистите наждачной бумагой, какой чистят ржавые ножи. А перед тем как вести его продавать, влейте ему в глотку сливянку, чтобы пес был немного навеселе. Он у вас моментально станет бодрый, живой, будет весело лаять и ко всем лезть, как подвыпивший член городской управы. А главное вот что: с людьми, господин обер-лейтенант, нужно говорить, и говорить до тех пор, пока покупатель совершенно не обалдеет. Если кто-нибудь хочет купить болонку, а у вас дома ничего, кроме охотничьей собаки нет, то вы должны суметь заговорить покупателя так, чтобы тот увел с собой вместо болонки охотничью собаку. Если же случайно у вас на руках только фокстерьер, а придут покупать злого немецкого дога, чтобы сторожил дом, то вы должны говорить до тех пор, пока покупатель не очумеет и вместо того, чтобы увести дога, унесет в кармане вашего карликового фокстерьера… Когда я в свое время торговал животными, пришла ко мне одна дама. У нее, мол, попугай улетел в сад, а там, около виллы, в это время мальчики играли в индейцев. Они, мол, поймали попугая, вырвали у него из хвоста все перья и разукрасились ими, словно полицейские. Попугай со стыда, что остался бесхвостый, расхворался, а ветеринар его доконал порошками. Так вот, эта дама говорит, что хочет купить нового попугая, но воспитанного, а не грубияна, который только и умеет, что ругаться. Что мне было делать, раз никакого попугая у меня дома не было, да и на примете не было ни одного. А был у меня только злющий бульдог, совершенно слепой. Так мне пришлось, господин обер-лейтенант, уговаривать эту даму с четырех часов дня до семи вечера, пока она не купила вместо попугая вот этого слепого бульдога. Это было почище любого дипломатического осложнения. Когда она уходила, я сказал ей: «Пусть теперь мальчишки только попробуют и ему вырвать хвост», – и больше мне с этой дамой не довелось разговаривать: из-за этого бульдога ей пришлось покинуть Прагу, так как он перекусал весь дом… Поверьте, господин обер-лейтенант, что достать хорошее животное очень, очень трудно…
– Я сам люблю собак, – сказал поручик. – Кое-кто из моих товарищей взял на фронт собаку. Потом товарищи писали мне, что в обществе такого верного и преданного друга фронтовая служба протекает незаметно. Вы, я вижу, хорошо знаете все породы собак, и надеюсь, что если б у меня была собака, вы бы сумели за ней ухаживать. Какая порода, по-вашему, лучше всех; то есть я имею в виду собаку-друга? Был у меня когда-то пинчер, но я не знаю…
– По-моему, господин обер-лейтенант, пинчер – очень милый пес. Не каждому, правда, пинчер нравится, потому что щетинист, и волосы на морде такие жесткие, что собака выглядит, словно отпущенный каторжник. Пинчеры безобразные – любо посмотреть, а умные. Куда до них болванам сенбернарам! Пинчеры умнее фокстерьеров. Знал я одного…
Поручик Лукаш посмотрел на часы и прервал Швейка:
– Уже поздно, мне нужно выспаться. Завтра у меня опять дежурство, а вы можете посвятить весь день тому, чтобы подыскать какого-нибудь пинчера.
Он пошел спать, а Швейк лег в кухне на диван и почитал еще газету, которую поручик принес из казарм.
– Скажите, пожалуйста, – заметил про себя Швейк, с интересом следя за событиями дня. – Султан наградил императора Вильгельма военной медалью, а у меня до сих пор даже малой серебряной медали нет.
Швейк задумался и вдруг вскочил:
– Чуть было не забыл! – И пошел в комнату к поручику.
Поручик крепко спал. Швейк разбудил его:
– Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, – я не получил приказания насчет кошки.
Поручик во сне перевернулся на другой бок, пробормотал: «Три дня ареста!» – и заснул опять.
Швейк тихо вышел из комнаты, вытащил несчастную кошку из-под дивана и сказал ей:
– Три дня ареста!
И ангорская кошка полезла обратно под диван.
IV
Швейк только было собрался отправиться на поиски какого-нибудь пинчера, как у двери позвонила молодая дама. Она заявила, что хочет поговорить с поручиком Лукашем. Около дамы стояли два больших чемодана, и Швейк успел заметить фуражку спускающегося по лестнице посыльного.
– Нету дома, – твердо сказал Швейк, но молодая дама была уже в передней и категорическим тоном приказала Швейку: – Отнесите чемоданы в комнату.
– Без разрешения господина поручика нельзя, – сказал Швейк. – Господин поручик приказал мне без него ничего не делать.
– Вы с ума сошли! – вскричала молодая дама. – Я приехала к господину поручику в гости.
– Об этом мне ничего не известно, – ответил Швейк. – Господин поручик на службе и вернется только ночью, а я получил приказание найти пинчера. Ни о каких чемоданах и ни о каких дамах ничего не знаю. Я запру квартиру и покорнейше попросил бы вас уйти. Мне не давали никаких распоряжений на этот счет, и я не могу чужую, неизвестную мне особу оставлять одну в квартире. У нас на улице, у кондитера Бильчицкого, оставили так вот постороннего человека в доме, а он вскрыл гардероб и удрал… Конечно, я этим не хочу о вас сказать ничего дурного, – продолжал Швейк, увидев, что дама делает отчаянное лицо и плачет, – но оставаться вам здесь решительно нельзя. Согласитесь сами: раз мне доверена квартира, то я отвечаю за каждую мелочь. Поэтому еще раз покорнейше прошу понапрасну себя не затруднять. Пока я не получил приказания от господина поручика, для меня родного брата не существует. Мне, право, очень жаль, что приходится с вами так разговаривать, но на военной службе прежде всего должен быть порядок.
Молодая дама между тем немного пришла в себя, вынула из сумочки визитную карточку, написала карандашом несколько строк, вложила это в прелестный маленький конвертик и удрученно сказала:
– Отнесите это господину поручику, а я подожду здесь ответа. Вот вам пять крон на дорогу.
– Ничего не выйдет, – ответил Швейк, задетый навязчивостью нежданной гостьи. – Оставьте себе эти пять крон, вот они здесь, на стуле, а если хотите, пойдемте вместе к казармам, подождите меня там, я передам ваше письмецо и принесу ответ. Но ожидать вам здесь – ни в коем случае нельзя! – После этих слов он втащил чемоданы в переднюю и, гремя ключами, как дворцовый ключник, стоя в дверях, многозначительно сказал: – Запираем…
Молодая дама с беспомощным видом вышла на лестницу. Швейк запер дверь и пошел вперед. Посетительница семенила за ним, как собачонка, и догнала его, только когда он зашел в лавочку за сигаретами. Теперь она шла с ним рядом и пыталась завязать разговор:
– А вы наверное передадите?
– Передам, раз сказал.
– А найдете господина поручика?
– Не знаю.
Они молча шли рядом, пока наконец спутница Швейка не заговорила опять:
– Так вы думаете, что господина поручика не найдете?
– Нет, не думаю.
– А где, думаете, он может быть?
– Не знаю.
На этом разговор на долгое время прервался, пока молодая дама опять не возобновила его вопросом:
– Вы не потеряли письмо?
– Пока что нет.
– Так вы наверное передадите его господину поручику?
– Да.
– А найдете вы поручика?
– Я уже сказал, что не знаю, – ответил Швейк. – Удивляюсь, как люди могут быть такими любопытными и все время спрашивать об одном и том же! Это все равно, как если бы я останавливал на улице каждого встречного и спрашивал, какое сегодня число.
Этим были закончены всякие попытки договориться со Швейком, и дальнейший путь к казармам совершался в полном молчании. Только когда они остановились около казарм, Швейк предложил даме подождать, а сам пустился в разговор о войне с солдатами, стоявшими в воротах. Разговор этот должен был доставлять даме чрезвычайное удовольствие, судя по тому, что она с несчастным видом ходила по тротуару и нервничала, видя, как Швейк продолжает излагать положение дел на фронте с таким глупым выражением лица, какое можно было видеть разве еще только на одной фотографии, опубликованной в то время в «Хронике мировой войны», под которой было написано: «Наследник австрийского престола беседует с двумя летчиками, сбившими русский аэроплан».
Швейк уселся на лавочке в воротах и рассказывал, что на Карпатском фронте наступление наших войск провалилось, но, с другой стороны, комендант Перемышля, генерал Кусманек, прибыл в Киев, а также что у нас осталось в Сербии одиннадцать опорных пунктов и сербы не смогут долго преследовать наших.
Затем Швейк пустился в критику некоторых известных сражений и открыл Америку, сказав, что подразделение, окруженное со всех сторон, непременно должно сдаться.
Наговорившись вдоволь, он нашел нужным подойти к отчаивающейся даме и сказать ей, что сию минуту придет назад – пусть она никуда не уходит, а сам пошел наверх в канцелярию, где отыскал поручика Лукаша. Поручик Лукаш в это время растолковывал некоему подпоручику одну из схем окопов и ставил ему на вид, что тот не знает, как чертить, и не имеет о геометрии ни малейшего понятия.
– Видите, вот как это нужно сделать. Если к данной прямой нам надо провести перпендикуляр, то мы должны начертить такую прямую, которая образует с первой прямой угол. Понимаете? Тогда вы проложите окопы правильно, не заедете с ними к противнику, а останетесь на расстоянии шестисот метров от него. Но если следовать тому, как вы начертили, то нашими позициями мы заехали бы за линию противника и стали бы своими окопами перпендикулярно к неприятелю. А вам ведь нужен тупой угол. Это же очень просто, не правда ли?
