Простаки за границей, или Путь новых паломников
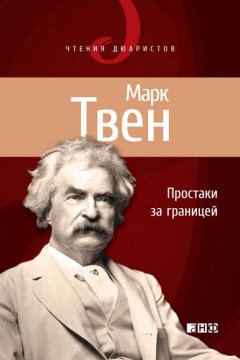
Серия «Чтения Дюаристов»
«Чтения Дюаристов» – новая серия книг. Это произведения современных авторов, адресованные всем, кто ценит неординарность мышления, юмор, иронию, и особенно тем, кому близки философия и взгляд на мир выдающегося шотландца Томми Дюара. Остроумие и афористичность его высказываний – дюаризмов – стали камертоном, позволяющим объединить различных авторов в одной серии.
Томми Дюар – открывший миру виски Dewar’s – отменно разбирался не только в бизнесе. Потомкам этот человек запомнился как интеллектуал, ценивший умного собеседника… и книгу – воплощение идеального собеседника. В своем лондонском особняке сэр Томас Дюар устраивал дружеские вечера, главными героями которых становились наиболее интересные новинки литературы. На рубеже XIX–XX веков джентльмены собирались для того, чтобы насладиться остроумной беседой, мудрой книгой и изысканным виски. Эта почтенная традиция нашла продолжение и в России наших дней в виде проекта «Dewar’s Чтения» и книжной серии «Чтения Дюаристов». Самостоятельность мысли, свобода от навязанных шаблонов и догм – отличительные черты дюаристов, сторонников и последователей философии Томми Дюара, где бы они ни жили и на каком бы языке ни разговаривали. Серия «Чтения Дюаристов» может стать еще одной платформой, объединяющей единомышленников.
Предисловие
В этой книге рассказывается об увеселительном путешествии. Если бы она была рассказом о настоящей научной экспедиции, она обладала бы той серьезностью, тем глубокомыслием и той внушительной неудобочитаемостью, которые приличествуют такого рода трудам и делают их столь увлекательными. Но, хотя это всего только рассказ об увеселительной поездке, у него тоже есть своя цель: показать читателю, какими он увидел бы Европу и Восток, если бы глядел на них своими собственными глазами, а не глазами тех, кто побывал там до него. Я не пытаюсь указывать, как следует смотреть на заморские достопримечательности – об этом написаны другие книги, и даже обладай я необходимыми знаниями, мне незачем было бы повторять то, что уже сделано.
Я не намерен оправдываться, если меня обвинят в отступлении от стиля, принятого для описаний путешествий, так как полагаю, что глядел на все беспристрастными глазами, и убежден, что, во всяком случае, писал честно, а мудро или нет – это другой вопрос.
В этой книге я использовал отрывки из моих корреспонденций для «Дейли Альта Калифорния» (Сан-Франциско), владельцы которой любезно дали мне на то соответствующее разрешение. Я использовал также отрывки из нескольких корреспонденций, написанных для нью-йоркской «Трибюн» и нью-йоркского «Геральда».
Автор,Сан-Франциско
Книга первая
Глава I
Всеобщие разговоры о поездке. – Программа путешествия. – Становлюсь полноправным членом экспедиции. – Дезертирующие знаменитости.
В течение многих месяцев пресловутая «Увеселительная поездка по Европе и Святой Земле» не сходила со страниц газет по всей Америке и обсуждалась у бесчисленных домашних очагов. Эта увеселительная поездка была новинкой – ничего подобного прежде не изобреталось, – и она вызывала тот горячий интерес, который всегда внушают заманчивые новинки. Она была задумана как пикник гигантских масштабов. Ее участникам – вместо того чтобы нагрузить грязный пароходишко юностью, красотой, пирогами и пышками, проплыть по какой-нибудь безвестной речке, высадиться на зеленом лужке и мучиться, трудолюбиво резвясь весь долгий летний день в уверенности, что это весело, – предстояло под гром пушечного салюта отплыть на громадном океанском судне с развевающимися вымпелами и превосходно провести время по ту сторону широкой Атлантики, под незнакомыми небесами, в странах, прославленных историей! Многие месяцы они будут плыть по овеянному ветрами океану и залитому солнцем Средиземному морю; днем они будут бродить по палубам, оглашая корабль веселыми криками и смехом, или читать романы и стихи в тени пароходной трубы, или, перегнувшись через борт, разглядывать медуз и наутилусов, акул, китов и прочих чудищ подводных глубин, а вечером танцевать на верхней палубе в центре бального зала, протянувшегося от горизонта до горизонта под синим куполом небес, зала, освещенного такими люстрами, как звезды и великолепная луна, – танцевать, и прогуливаться, и курить, и петь, и влюбляться, и искать на небе созвездия, не похожие на Большую Медведицу, которая им так надоела; они увидят суда двадцати флагов, обычаи и одеяния двадцати незнакомых народов, славнейшие города половины мира; они будут якшаться со знатью и вести дружеские беседы с королями и принцами, с Великими Моголами и державными владыками могучих империй!
Это была смелая мысль, рожденная изобретательным умом. Ее широко рекламировали, но она не нуждалась в рекламе; смелая оригинальность, необычность, соблазнительность и грандиозность этого предприятия породили множество разговоров, и об «Увеселительной поездке» узнали по всей стране. Прочитав проспект путешествия, невозможно было не проникнуться желанием принять в нем участие. Я приведу здесь этот проспект. Он ничем не хуже карты. Что может послужить лучшим вступлением к моей книге, чем:
ПУТЕШЕСТВИЕ В СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ, ЕГИПЕТ, КРЫМ, ГРЕЦИЮ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПУНКТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ИНТЕРЕС
Бруклин, 1 февраля 1867 г.
Нижеподписавшийся намеревается летом текущего года совершить вышеуказанное путешествие и просит разрешения ознакомить вас со следующей программой.
Тщательно выбранный первоклассный пароход (под командой нижеподписавшегося), рассчитанный по меньшей мере на сто пятьдесят пассажиров первого класса, примет на борт избранное общество, числом не превышающее трех четвертей его вместимости. Вполне вероятно, что все билеты окажутся распроданными на месте, и таким образом общество на корабле будет состоять из ваших друзей и знакомых.
Пароход будет обеспечен всеми удобствами, включая библиотеку и музыкальные инструменты.
На борту будет опытный врач.
Отплытие из Нью-Йорка около 1 июня; после примерно десятидневного перехода наиболее удобным из трансатлантических путей мы, достигнув Азорских островов, остановимся на Сан-Мигеле, где пассажиры проведут один-два дня, наслаждаясь фруктами и дикой природой; затем новый трех-четырехдневный переход – и остановка в Гибралтаре.
Один-два дня будут посвящены осмотру интереснейших подземных укреплений, – получить разрешение посетить эти подземные галереи не составит труда.
Из Гибралтара – трехдневный переход в Марсель вдоль берегов Испании и Франции. У пассажиров будет достаточно времени не только для осмотра города, основанного за шестьсот лет до Рождества Христова, и его искусственной гавани – лучшей искусственной гавани в Средиземноморье, но и для посещения Парижа во время Выставки, а также – по дороге туда – прекрасного города Лиона, с высот которого в погожий день ясно видны Монблан и Альпы. Желающие могут задержаться в Париже и, проехав через Швейцарию, присоединиться к остальным в Генуе.
От Марселя до Генуи – одна ночь пути. Путешественники будут иметь возможность осмотреть этот «великолепный город дворцов» и посетить место рождения Колумба (двенадцать миль по чудесной дороге, построенной Наполеоном I). Из Генуи можно совершить экскурсии по маршрутам Милан – озеро Комо и Лаго Маджоре, или Милан – Верона (знаменита своими замечательными укреплениями) – Падуя – Венеция. Если кто-либо из пассажиров пожелает посетить Парму (знаменитую фресками Корреджо) и Болонью, он сможет проехать дальше по железной дороге во Флоренцию и вернуться на пароход в Ливорно, проведя, таким образом, около трех недель в итальянских городах, где хранятся наиболее прославленные сокровища искусства.
Путь вдоль берега от Генуи до Ливорно будет проделан за одну ночь, и продолжительная остановка в последнем пункте позволит посетить Флоренцию, ее дворцы и картинные галереи; Пизу, ее собор и «Падающую башню»; Лукку, ее бани и римский амфитеатр; самый отдаленный из этих городов – Флоренция – находится только в шестидесяти милях от Ливорно по железной дороге.
Расстояние от Ливорно до Неаполя (с заходом в Чивита-Веккию, чтобы высадить тех, кто пожелает отправиться оттуда в Рим) будет пройдено примерно за тридцать шесть часов; корабль будет следовать вдоль итальянского берега, мимо Капреры, Эльбы и Корсики. В Ливорно предполагается взять лоцмана на Капреру и – если удастся – зайти туда, чтобы посетить дом Гарибальди.
Пассажиры смогут посетить Рим (отправившись туда поездом), Геркуланум, Помпею, Везувий, могилу Вергилия и, возможно, развалины Пестума, а также красивейшие окрестности Неаполя и его прелестный залив.
Следующей интересной остановкой будет Палермо, самый красивый город Сицилии, находящийся на расстоянии одной ночи пути от Неаполя. Стоянка продлится день, и вечером пароход возьмет курс на Афины.
Мы обогнем северный берег Сицилии, пройдем через группу Эолийских островов в виду Стромболи и Вулькано – двух действующих вулканов, – через Мессинский пролив, имея справа «Сциллу», а слева «Харибду», затем пойдем вдоль восточного берега Сицилии в виду Этны, вдоль южных берегов Италии, западного и южного побережья Греции, в виду древнего Крита, по Афинскому заливу в Пирей, и прибудем в Афины через два с половиной – три дня. После короткой остановки мы пересечем Саламинскую бухту и посвятим один день осмотру Коринфа, откуда через Архипелаг, Дарданеллы, Мраморное море и Золотой Рог продолжим путь на Константинополь, где будем через сорок восемь часов после отплытия из Афин.
По выходе из Константинополя курс будет взят через несравненный Босфор и Черное море на Севастополь и Балаклаву, – переход займет около суток. Здесь предполагается задержаться на два дня и осмотреть порты, укрепления и поля сражений в Крыму, затем пароход пойдет через Босфор с заходом в Константинополь за теми, кто предпочтет остаться там, и далее через Мраморное море и Дарданеллы вдоль берегов Азии, мимо древней Трои и Лидии в Смирну, лежащую на расстоянии двух – двух с половиной дней пути от Константинополя. Длительная стоянка в Смирне даст возможность посетить Эфес (пятьдесят миль по железной дороге).
От Смирны – к Святой Земле через Архипелаг, мимо острова Патмос, вдоль берегов Азии, древней Памфилии и острова Кипр. Через три дня пароход прибудет в Бейрут, где простоит достаточно времени, чтобы желающие могли посетить Дамаск, после чего отплывет в Яффу.
Стоянка в Яффе даст возможность посетить Иерусалим, Иордан, Тивериадское озеро, Назарет, Вифанию, Вифлеем и другие достопримечательные места Святой Земли, и там же на пароход вернутся те, кто решит совершить сухопутное путешествие из Бейрута через Дамаск, Галилею, Капернаум, Самарию, по Иордану и Тивериадскому озеру.
Следующей стоянкой, представляющей интерес, будет Александрия, находящаяся на расстоянии суток пути от Яффы. Развалины дворца Цезаря, Колонна Помпея, Игла Клеопатры, катакомбы и развалины древней Александрии достойны того, чтобы их осмотреть. Оттуда по железной дороге можно за несколько часов проехать сто тридцать миль до Каира и осмотреть в его окрестностях житницы Иосифа, пирамиды и местоположение древнего Мемфиса.
Из Александрии будет взят курс домой с заходом на Мальту, в Кальяри (Сардиния) и Пальму (Мальорка) – великолепные порты, очаровательно расположенные и изобилующие фруктами.
В каждом из них будет сделана остановка на один-два дня, и, выйдя из Пальмы вечером, пароход к утру достигнет Валенсии в Испании. Стоянка в этом прекраснейшем из испанских городов продлится несколько дней.
Из Валенсии пароход проследует дальше обратным курсом, огибая берега Испании. Мы пройдем на расстоянии одной-двух миль мимо Аликанте, Картахены, Палоса и Малаги и через сутки прибудем в Гибралтар.
Стоянка там продлится один день, и затем мы возьмем курс на Мадейру, которая будет достигнута через три дня. Капитан Марриэт пишет: «Я не знаю другого места на земном шаре, которое так изумляло и восхищало бы новоприбывшего, как Мадейра». Стоянка на Мадейре продлится один-два дня или дольше, если позволит время; затем, пройдя между островами этой группы и, возможно, в виду пика Тенериф, пароход пойдет южным трансатлантическим путем, пересекая океан в области северо-восточных пассатов, где всегда можно рассчитывать на тихую, мягкую погоду и спокойное море.
Зайдя на Бермудские острова, которые расположены непосредственно на этом пути на расстоянии десяти дней плавания от Мадейры, и проведя некоторое время с нашими друзьями бермудцами, мы возьмем курс прямо домой и будем в Нью-Йорке через три дня.
Уже поступают просьбы от лиц, находящихся в Европе и желающих присоединиться к экскурсии в пути.
Пароход будет уютным домом, где путешественники в случае болезни всегда найдут заботливый уход и добрых друзей.
Если в одном из перечисленных в проспекте портов окажется эпидемия, пароход в него заходить не будет и вместо этого посетит какое-нибудь другое, не менее интересное место.
Стоимость билета устанавливается в 1250 долларов банкнотами за каждого взрослого пассажира. Выбор каюты и места за столом предоставляется в порядке записи на билет. Запись считается состоявшейся с момента внесения казначею аванса в размере десяти процентов общей стоимости билета.
По прибытии в порт пассажиры могут оставаться на судне без дополнительной оплаты; перевозка на берег входит в общую стоимость билета.
Оплата билета должна производиться не позже его получения: это позволит наилучшим образом закончить приготовления к отплытию в назначенный срок.
Отбор кандидатов производится комитетом по выдаче билетов, с заказами на которые можно обращаться к нижеподписавшемуся.
Редкости и сувениры, приобретенные пассажирами во время путешествия, перевозятся на родину без дополнительной оплаты.
Пять долларов золотом в день несомненно покроют все расходы как во время коротких сухопутных экскурсий, так и в тех случаях, когда пассажиры пожелают покинуть корабль на более долгий срок.
Время путешествия может быть продлено, а маршрут изменен единогласным решением всех пассажиров.
Чарльз Ч. Дункан 117,
Уолл-стрит, Нью-Йорк
Р. Р. Г…, казначей.
Комитет по отбору кандидатов
Дж. Т. X…, эскв., Р. Р. Г…, эскв., Ч. Ч. Дункан.
Комитет по выбору судна
Кап. У. У. С…, инспектор страхового общества,
К. У. К…, инженер-консультант США и Канады,
Дж. Т. X…, эскв.,
Ч. Ч. Дункан.
Примечание. Для этого плавания зафрахтован «Квакер-Сити», очень красивый прочный пароход с бортовыми колесами, отходящий из нью-йоркского порта 8 июня. От правительства получены рекомендательные письма к заграничным властям.
Человеческий разум не мог бы найти в этом проспекте ни одного пробела. Он был совершенен и неотразим. Париж, Англия, Шотландия, Швейцария, Италия – Гарибальди! Архипелаг! Везувий! Константинополь! Смирна! Святая Земля! Египет и «наши друзья бермудцы»! Путешественники в Европе, желающие присоединиться к экскурсии, гарантия от эпидемий, перевозка на берег в счет стоимости билета, врач на борту, кругосветное путешествие, если пассажиры единодушно этого пожелают, общество, отобранное безжалостным «Комитетом по отбору кандидатов», пароход, выбранный не менее безжалостным «Комитетом по выбору судна». Кто устоял бы против таких неслыханных соблазнов? Я кинулся в контору казначея и внес положенные десять процентов. Я возликовал, узнав, что несколько отдельных кают еще свободны. Безжалостный комитет не проявил большого интереса к моей личности, но на всякий случай я сослался на всех видных людей моего города, каких только мог припомнить, выбирая по возможности тех, кто ничего обо мне не знал.
Вскоре появилось приложение к «Проспекту», гласившее, что пассажиры будут пользоваться «Плимутским сборником гимнов». Тут я внес остальные деньги.
Я получил квитанцию и был по всем правилам официально зачислен в участники путешествия. Я был счастлив, но даже это счастье меркло перед новым ощущением: я принадлежу к «избранным»!
Кроме того, приложение рекомендовало путешественникам запастись портативными музыкальными инструментами для развлечения во время плавания, седлами для поездки по Сирии, зелеными очками и зонтиками; вуалями для Египта; прочной одеждой, способной выдержать тяготы паломничества по Святой Земле. Далее указывалось, что, хотя судовая библиотека содержит много книг, каждому пассажиру следует запастись несколькими путеводителями, Библией и каким-нибудь руководством для туристов. В рекомендательном списке большинство книг оказались посвященными Святой Земле, поскольку Святая Земля входила в программу путешествия и, судя по всему, была ее гвоздем.
Преподобный Генри Уорд Бичер намеревался сопровождать экспедицию, но неотложные дела заставили его отказаться от этой мысли. Нам было бы гораздо легче и приятнее обойтись без общества некоторых других пассажиров. Предполагалось, что генерал-лейтенант Шерман также присоединится к нам, но война с индейцами вынудила его отправиться в прерии. Известная актриса внесла свое имя в списки пассажиров, но что-то ей помешало, и она тоже не поехала. «Барабанщик с Потомака» дезертировал из наших рядов, и мы – увы! – остались без единой знаменитости!
Однако морское министерство собиралось предоставить нам «батарею пушек» (как и обещал проспект) для ответов на салюты королей, и в нашем распоряжении оставалось письмо, подписанное морским министром, которое должно было сделать «генерала Шермана и его друзей» желанными гостями при дворах и штаб-квартирах Старого Света, но мне кажется, что и письмо и батарея несколько утеряли свой первоначальный блеск. Однако разве мы лишились соблазнительной программы, обещавшей Париж, Константинополь, Смирну, Иерусалим, Иерихон и «наших друзей бермудцев»? Остальное нас мало трогало.
Глава II
Великие приготовления. – Высокий сановник. – Исход в Европу. – Мнение мистера Блюхера. – Каюта № 10. – Сбор всех частей. – Наконец-то в море.
В течение последующего месяца я время от времени отправлялся на Уолл-стрит, в дом № 117, чтобы осведомиться, как идет ремонт и отделка корабля, как пополняется список пассажиров, сколько человек комитет ежедневно объявляет недостаточно «избранными», обрекая их на изгнание и черное отчаяние. Я с удовлетворением узнал, что у нас на борту будет небольшой печатный станок и мы сможем выпускать собственную ежедневную газету. Я с радостью выяснил, что наше фортепьяно, наша фисгармония и наш мелодикон будут лучшими из имеющихся в продаже. Я с гордостью обнаружил среди наших пассажиров трех проповедников слова Божьего, восемь врачей, семнадцать дам, нескольких высокопоставленных армейских и морских офицеров с громкими званиями, обильный улов всевозможных «профессоров», а также господина, за чьей фамилией единым духом грохотало устрашающее: «полномочный представитель Соединенных Штатов Америки в Европе, Азии и Африке»! Я заранее старательно приучил себя к мысли, что на этом корабле буду отодвинут на задний план, так как только избранным из избранных удастся пройти сквозь верблюжье ушко пресловутого комитета по проверке верительных грамот; я собрал все свое мужество, готовясь встретить внушительный набор героев армии и флота и, быть может, отодвинуться еще дальше назад, но признаюсь откровенно – такой удар застал меня врасплох.
Это лавиноподобное звание раздавило и обескуражило меня. Я сказал, что раз уж эта владетельная особа едет на нашем пароходе, то ничего не поделаешь – пусть едет, но если уж Соединенные Штаты сочли необходимым отправить за океан сановника такого тоннажа, по моему мнению, было бы пристойнее, да и безопаснее, разобрать его на составные части и переслать партиями на нескольких судах.
Ах, если бы только я знал тогда, что он всего лишь обыкновенный смертный и что его полномочия исчерпываются сбором семян, редких сортов ямса, необыкновенной капусты и необычных экземпляров лягушек-быков для этой жалкой, бесполезной, пустоголовой, заплесневелой окаменелости – Смитсоновского института, какое бы облегчение я почувствовал!
Весь этот незабываемый месяц я купался в блаженстве, впервые в жизни ощущая себя на гребне великого общественного движения. Все ехали в Европу – я тоже ехал в Европу. Все ехали на знаменитую Парижскую выставку – я тоже ехал на знаменитую Парижскую выставку. В те дни пароходные линии вывозили из различных портов Соединенных Штатов в общей сложности около пяти тысяч американцев в неделю. Если за этот месяц мне и довелось встретить десяток знакомых, не уезжающих на днях в Европу, то у меня об этом не сохранилось ясных воспоминаний. Я довольно часто гулял по городу с юным мистером Блюхером, одним из участников нашей экспедиции. Он был человеком доверчивым, бесхитростным и общительным, но не из тех, кто хватает звезды с неба. У него сложилось самое невероятное представление об этом всеобщем исходе в Европу, и в конце концов он решил, что все население Америки укладывает чемоданы, собираясь эмигрировать во Францию. Как-то, проходя по Бродвею, мы с ним зашли в магазин; он купил носовой платок, и когда у хозяина не нашлось сдачи, мистер Блюхер сказал:
– Ничего, я расплачусь с вами в Париже.
– Но я не еду в Париж.
– Вы не… как вы сказали?
– Я сказал, что я не еду в Париж.
– Не едете в Париж? Не еде… так куда же, в таком случае, вы едете?
– Никуда.
– Совсем, совсем никуда? Никуда не едете, остаетесь здесь?
– Никуда не еду, остаюсь здесь – на все лето.
Мой спутник, не сказав больше ни слова, взял свою покупку и с обиженным видом вышел из магазина. Пройдя полквартала, он нарушил молчание категорическим заявлением:
– Хотите знать мое мнение? Он врет!
В назначенный срок пароход был готов к приему пассажиров. Меня познакомили с молодым джентльменом – моим будущим соседом по каюте; он оказался удивительно милым человеком, умным, веселым, внимательным, терпеливым, уступчивым и великодушным. Никто из пассажиров «Квакер-Сити» не откажется поставить свою подпись под вышесказанным. Мы выбрали носовую каюту по правому борту на нижней палубе. В ней были две койки, тусклый, наглухо задраенный иллюминатор, умывальник с тазиком и пышно убранный подушками большой ящик, который должен был служить нам одновременно и диваном и вместилищем для наших вещей. Несмотря на всю эту мебель, там можно было свободно повернуться, хотя для того, чтобы вертеть за хвост кошку, не повредив ее, места уже не хватило бы. Однако для каюты это помещение было достаточно велико и вполне нас удовлетворило.
Отплытие было назначено на одну из суббот в начале июня.
Вскоре после полудня в эту историческую субботу я прибыл в гавань и поднялся на борт. Кругом царили шум и суета. (Мне где-то уже приходилось встречать эту фразу.) Пристань была забита людьми и экипажами; прибывающие пассажиры торопливо поднимались по сходням; палубы парохода были завалены сундуками и чемоданами; путешественники в невзрачных дорожных костюмах бродили под мелким дождем, своим облезлым и печальным видом напоминая мокрых кур. Наш гордый флаг был поднят, но, поддавшись общему настроению, грустно свисал с мачты. В общем, невыразимо унылое зрелище! Это была увеселительная поездка – никаких сомнений возникнуть не могло, поскольку так говорилось в проспекте и так значилось в квитанции; но кругом не было видно ничего веселого.
Наконец, перекрывая грохот, лязг, шипение пара и крики, прогремела команда: «Отдать концы!» Внезапная толчея на сходнях, беспорядочное бегство провожающих, оборот колес – и мы отплываем: пикник начался! Вымокшая толпа на пристани негромко прокричала два раза «ура», мы вполголоса ответили со скользких палуб; флаг попробовал развеваться, но у него ничего не получилось; «батарея пушек» промолчала – не было пороха.
Мы приблизились к выходу из гавани и стали на якорь. По-прежнему моросил дождь. Кроме того, бушевал ветер. В открытом море, как мы сами могли видеть, ходили гигантские волны. Нам предстояло пережидать в тихой гавани, пока буря не уляжется. Пассажиры нашего парохода съехались из пятнадцати штатов, и только немногим из них приходилось плавать по морю раньше, – нельзя же было подвергать их ударам настоящей бури, пока они еще не обрели «морских ног». К вечеру два буксира, на которых веселая компания нью-йоркской молодежи пила шампанское, провожая кого-то из наших спутников согласно всем древним канонам, вернулись в порт, и мы остались одни над пучиной морской. Над пучиной глубиной в тридцать футов, на дно которой был опущен наш якорь. И к тому же под хмурым дождем. Это была поистине увеселительная поездка.
Гонг, созывавший на молитву, был встречен вздохом облегчения. Первый субботний вечер всякой другой увеселительной прогулки можно было бы посвятить висту и танцам, но, я думаю, всякий непредубежденный человек согласится, что нам, принимая во внимание все перенесенное и то состояние духа, в котором мы находились, не приличествовали такие легкомысленные забавы. Мы украсили бы любые похороны, но для более веселых торжеств не годились.
Однако море всегда действует на людей благотворно; и ночью, устроившись на койке, укачиваемый мерным движением волн, убаюкиваемый ропотом отдаленного прибоя, я скоро погрузился в безмятежное забытье, в котором исчезли и воспоминания о перенесенных в этот день невзгодах и зловещие предчувствия.
Глава III
«Оценка» пассажиров. – «По синему, синему морю». – Бедствующие патриархи. – Поиски развлечений и препятствия на пути к ним. – Пять капитанов корабля.
Все воскресенье простояли на якоре. Ветер за ночь утих, но океан не успокоился. Мы ясно видели в бинокль, как он продолжал вздымать свои пенистые горы. Начинать увеселительную прогулку в воскресенье не подобало; не подобало возлагать наши неопытные желудки на алтарь столь грозного волнения. Приходилось ждать понедельника. И мы стали ждать. Но мы прослушали положенное число воскресных молитв и, таким образом, ничего не потеряли оттого, что были здесь, а не где-нибудь еще.
В это воскресное утро я встал пораньше и сразу же отправился завтракать. Само собой разумеется, мне хотелось внимательно и беспристрастно рассмотреть своих спутников в те минуты, когда их поведение наиболее естественно, – а если люди когда-нибудь и ведут себя естественно, то только за завтраком.
Меня страшно удивило большое число пожилых людей, можно даже сказать – почтенных старцев. При беглом взгляде на длинный ряд склоненных голов они все казались седовласыми. Но это было не так. На самом деле за столом оказалось немало молодежи и изрядное количество джентльменов и дам неопределенного возраста – не очень старых, но и не слишком молодых.
На следующий день мы подняли якорь и вышли в море. После долгой, нудной задержки это было большим счастьем. Мне казалось, что никогда еще воздух не был так упоителен, солнце так ярко, море так красиво. В эту минуту я был доволен пикником и всем, что ему сопутствовало. Все дурные инстинкты во мне умерли, и вместо них, пока Америка таяла на горизонте, в моей душе росло благоволение, столь же безграничное – по крайней мере в ту минуту, – как широкий океан, кативший вокруг нас свои волны. Я жаждал излить свои чувства, я жаждал разжать уста и запеть, – но не вспомнил ничего подходящего, и мне пришлось отказаться от этой мысли. Возможно, потеря для обитателей корабля была не так уж велика.
Дул легкий, приятный ветерок, но море было еще очень неспокойно. Гуляя по палубе, вы рисковали сломать шею; бугшприт то брал на мушку стоящее в зените солнце, то пытался загарпунить акулу на дне океана. Какое жуткое ощущение охватывает вас, когда корма парохода стремительно уходит из-под ног, а нос карабкается в облака! Безопаснее всего в подобный день вцепиться в перила и не выпускать их; расхаживать по кораблю – слишком рискованное занятие.
По какой-то счастливой случайности я не поддался морской болезни. Этим можно было гордиться. Прежде она частенько одолевала меня. Человек, желудок которого ведет себя хорошо в первый день плавания, когда большинство пассажиров страдает морской болезнью, непременно проникается глубоким и невыносимым самодовольством. Вскоре в дверях кормовой каюты показалась почтенная окаменелость, закутанная до подбородка в плед и вся перебинтованная, словно мумия; очередной толчок корабля бросил ее в мои объятия. Я сказал:
– Доброе утро, сэр. Чудесная погода.
Он прижал руку к животу, простонал «ох!», шатаясь побрел куда-то и растянулся на решетчатой крышке люка.
Вскоре из той же двери с большой силой выбросило второго старца. Я сказал:
– Спокойнее, сэр, торопиться некуда. Чудесная погода, сэр.
Он тоже прижал руку к животу, простонал «ох!» и куда-то заковылял.
Через минуту та же дверь извергла нового патриарха, который тщетно пытался уцепиться за воздух. Я сказал:
– Доброе утро, сэр. Чудесная погода для прогулки. Вы, кажется, хотели сказать…
– Ох!
Ничего другого я от него и не ждал. Я остался у двери, и на меня в течение часа так и сыпались почтенные старцы; но ничего, кроме «ох!», я от них добиться не сумел.
Затем я удалился в глубокой задумчивости. Я сказал себе, что эта увеселительная поездка очень удачна и мне нравится. Пассажиры не болтливы, но в то же время общительны. Мне нравятся эти старички, хотя, видимо, «ох!» их сильно мучает.
Я знал, что с ними. Они страдали морской болезнью. И я радовался этому. Мы все любим смотреть на тех, кто страдает морской болезнью, если сами чувствуем себя хорошо. Приятно играть в вист под яркими лампами каюты, когда снаружи бушует шторм; приятно гулять по юту в лунную ночь; приятно курить на овеваемом ветрами формарсе, если не побоишься туда забраться; но все это кажется жалким и пошлым в сравнении с блаженством, которое испытываешь при виде людей, терзаемых морской болезнью.
В течение дня я приобрел уйму сведений. Началось с того, что я карабкался по юту, когда корма парохода уходила в облака; я курил сигару и чувствовал себя вполне сносно. Вдруг кто-то крикнул:
– Послушайте, так не годится! Прочтите-ка вон ту надпись: «НА КОРМЕ НЕ КУРИТЬ!»
Это был капитан Дункан, глава экспедиции. Я, разумеется, отправился на нос. В одной из кают верхней палубы, позади лоцманской рубки, я заметил на столе длинную подзорную трубу и потянулся за ней – на горизонте виднелся корабль.
– Эй, эй, прочь руки! Вылезайте оттуда!
Я вылез оттуда и, понизив голос, спросил матроса, подметавшего палубу:
– Кто этот здоровенный пират с бакенбардами и скрипучим голосом?
– Это капитан Берсли – штурман.
Некоторое время я бесцельно слонялся по палубе, а потом, за неимением лучшего, начал резать перила перочинным ножом. Кто-то сказал ласково и назидательно:
– Ну послушайте, мой друг, и не стыдно вам вот так кромсать корабль? Уж вам-то это стыдно.
Я снова подошел к матросу.
– Что это за бритая образина в шикарном костюме?
– Капитан Л***, владелец нашего парохода, один из главных начальников.
Через некоторое время я очутился у правого борта и на скамье за лоцманской рубкой обнаружил секстант. Этой штукой ловят солнце, сказал я себе; наверное, через нее можно рассмотреть тот корабль. Не успел я поднести секстант к глазам, как какой-то человек тронул меня за плечо и с упреком сказал:
– Я вынужден просить вас вернуть мне прибор, сэр. Если вы захотите узнать, как ловят солнце, я с удовольствием объясню, но я не могу доверять секстант посторонним. Если вы хотите определить место… Иду, сэр!
Его позвали с левого борта, и он ушел туда. Я направился к матросу:
– Кто эта горилла с паучьими ножками и физиономией святоши?
– Капитан Джонс, сэр, – первый помощник.
– Так. Час от часу не легче. Скажите, – я обращаюсь к вам, как к человеку и брату, – скажите, могу ли я бросить здесь камень в любом заданном направлении и не попасть ни в одного из капитанов этого судна?
– Ну, сэр, трудно сказать. Пожалуй, угодите в вахтенного капитана, потому что вон он стоит – как раз на дороге.
Я покинул палубу с тяжелым сердцем, погрузившись в размышления. Если у семерых нянек дитя без глазу, думал я, то во что же могут превратить увеселительную поездку пять капитанов?
Глава IV
Жизнь паломников в море. – «Дневник» Джека. – Клуб. – «Пышный бал на палубе». – Шуточный процесс. – Благочестие паломников. – Штурман высказывает свое мнение.
В течение недели мы трудолюбиво разрезали волны, и за это время между капитанами не было никаких ведомственных трений, о которых стоило бы упомянуть. Пассажиры скоро приспособились к новой обстановке, и жизнь на корабле потекла размеренно и монотонно, словно в казарме. Я не хочу сказать, что она была скучна, отнюдь нет, но в ней было много однообразия. Пассажиры, как обычно бывает в плавании, вскоре нахватались морских терминов – верный признак того, что они уже начинают осваиваться. Половину седьмого утра эти паломники из Новой Англии, с Юга и с берегов Миссисипи стали называть «семь склянок»; восемь часов, двенадцать и четыре превратились в «восемь склянок»; капитан теперь определял долготу не в девять часов, а «когда било две склянки». Они бойко сыпали такими словами, как «кормовая рубка», «носовая рубка», «штирборт», «бак-борт» и «бак».
Когда било семь склянок, раздавался первый гонг; когда било восемь, пассажиры садились завтракать – те, кому позволяла морская болезнь. Затем все здоровые прогуливались рука об руку по верхней палубе, наслаждаясь ясным летним утром, а жертвы морской болезни тоже выползали наверх и, прячась от ветра за кожухом колеса, уныло пили чай с сухариками. Вид у них был самый несчастный. С одиннадцати часов до второго завтрака, а также между вторым завтраком и обедом (в шесть часов вечера) пассажиры предавались самым различным занятиям и развлечениям. Кое-кто читал, другие занимались шитьем и курением – разумеется, не одни и те же лица; можно было выискивать среди волн чудищ морских глубин и дивиться на них, рассматривать в бинокль встречные корабли и высказывать по их поводу мудрые суждения; более того, каждый считал своей священной обязанностью приглядеть за тем, чтобы флаг был поднят и трижды вежливо приспущен в ответ на приветствие незнакомца; в курительной несколько джентльменов непременно играли в карты, шашки и домино – чаще всего в домино, эту восхитительно безобидную игру; а внизу, на главной палубе в носовой части, по соседству с курятником и загоном для скота, мы устроили так называемый «лошадиный бильярд». Это прекрасная игра, требующая большой подвижности, веселая и азартная. Она похожа на «классы», а также на бильярд, и в нее играют клюшкой. На палубе мелом чертят большие «классы» и каждый квадрат нумеруют. Вы становитесь в трех-четырех шагах, кладете перед собой несколько плоских деревянных дисков и сильно бьете по ним длинной клюшкой. Если какой-нибудь диск остановится на черте, очки не засчитываются. Если же он остановится в седьмом квадрате, игроку засчитывается семь очков, в пятом – пять, и так далее. Надо набрать сто очков; играть можно вчетвером. На неподвижном полу играть было бы очень просто, но на корабле это становилось целой наукой. Нам приходилось учитывать бортовую качку. Очень часто игрок рассчитывал на крен вправо, а корабль вдруг не кренился. В результате диск пролетал ярдах в двух от «классов», и тогда бивший чувствовал себя дураком, а остальные смеялись.
Когда шел дождь, пассажирам, разумеется, приходилось сидеть дома – точнее говоря, в каютах – и развлекаться играми, чтением, созерцанием давно знакомых волн за окном и пересудами.
К семи часам вечера заканчивался обед, затем следовала часовая прогулка по верхней палубе, после чего раздавался гонг, и большая часть общества отправлялась на богослужение в кормовую каюту (верхнюю) – прекрасный салон длиной футов в шестьдесят. Не озаренные светом духовным прозвали этот салон «синагогой». Служба, состоявшая из двух гимнов Плимутского сборника и короткой молитвы, обычно занимала не больше пятнадцати минут. Гимны исполнялись под аккомпанемент фисгармонии в тех случаях, когда море было достаточно спокойно и аккомпаниатора не приходилось предварительно привязывать к стулу.
По окончании молитвы синагога превращалась в нечто напоминающее класс, где школьники занимаются чистописанием. Ни один корабль не видывал доселе ничего подобного. Около тридцати дам и джентльменов усаживались за обеденные столы, тянувшиеся вдоль стен салона, и при свете качающихся ламп два-три часа прилежно писали свои дневники. Увы! Как грандиозно были задуманы эти дневники, и какой жалкий и бесславный конец ожидал большинство из них! Я сомневаюсь, найдется ли среди наших паломников хоть один, который не смог бы предъявить ста полных страниц дневника, посвященных первым двадцати дням плавания на «Квакер-Сити», и я абсолютно уверен, что не найдется и десяти таких, которые могли бы предъявить хотя бы двадцать страниц, повествующих об остальных двадцати тысячах миль путешествия! В жизни человека бывают периоды, когда он испытывает непреодолимую потребность вести точную запись своих деяний и он отдается этому труду с пылом, который порождает в нем уверенность, что ведение дневника – самое правильное и самое приятное времяпрепровождение из всех возможных. Но если только он проживет еще двадцать один день, он убедится, что лишь редкие натуры, сотканные из смелости, выдержки, преданности долгу во имя долга и непоколебимой решимости, способны, быть может, не потерпеть поражения, взяв на себя столь грандиозный труд, как ведение дневника.
Один из наших всеобщих любимцев, Джек, замечательный юноша, обладатель головы, преисполненной здравого смысла, и пары ног, смотреть на которые просто удовольствие – такие они длинные, прямые и худощавые, – каждое утро, пылая восторгом и воодушевлением, сообщал нам о своих успехах и неизменно заканчивал так:
– Я недурственно продвинулся! (В хорошем настроении он иногда пользовался жаргоном.) За вчерашний день я написал десять страниц дневника, позавчера я написал девять, а позапозавчера – двенадцать. До чего же интересное занятие!
– Но что вы ухитряетесь туда записывать, Джек?
– Да все. Широту и долготу на каждый полдень; и сколько миль мы прошли за последние сутки; и все мои выигрыши в домино и в лошадиный бильярд, и китов, и акул, и дельфинов; и текст воскресной проповеди (потому что это произведет хорошее впечатление на домашних); и корабли, с которыми мы обменялись приветствиями, и их национальность; и направление ветра; и было ли волнение, и какие паруса мы несли, хотя мы чаще всего идем без всяких парусов – ветер все время встречный (интересно бы знать – почему?); и сколько раз соврал Моулт. Одним словом, все! Я все записываю. Этот дневник мне велел вести отец. Он и за тысячу долларов с ним не расстанется, когда я его закончу.
– Да, Джек, этот дневник будет стоить больше тысячи долларов, когда вы его закончите.
– Правда? Да нет, вы правда так думаете?
– Да. Он будет стоить не меньше тысячи долларов – когда вы его закончите. А может быть, и больше.
– Мне и самому так кажется. Это вам не какой-нибудь хлипкий дневничок!
Но увы! Вскоре этот дневник стал плачевно «хлипким дневничком». Как-то вечером в Париже, после тяжких дневных трудов, утомленный осмотром достопримечательностей, я сказал:
– Я, пожалуй, пойду пройтись, Джек, и дам вам возможность заняться дневником.
Его физиономия омрачилась. Он сказал:
– Ах, не беспокойтесь, пожалуйста. Я решил больше не возиться с этим дневником. Скучища. Вы знаете – я отстал уже на четыре тысячи страниц. У меня совсем нет Франции. Сперва я было решил пропустить Францию и начать заново. Но это не годится – правда ведь? Папаша скажет: «Как же так – ничего не видел во Франции?» Нет, это не пойдет. Сперва я было решил переписать Францию из путеводителя, как Бэджер в носовой каюте, который пишет книгу, но она там занимает триста страниц. Да что толку в этих дневниках! Как по-вашему? Только лишние хлопоты, правда?
– Да, от незаконченного дневника толку мало, но путевой дневник, если он ведется как следует, стоит тысячу долларов, когда вы его закончите.
– Тысячу! Еще бы – я бы его и за миллион кончать не стал!
То, что произошло с ним, произошло и с большинством других прилежных посетителей этой вечерней школы в салоне. Если вам понадобится подвергнуть молодого человека тяжелому и мучительному наказанию, возьмите с него слово, что он в течение года будет вести дневник.
Чтобы развлекать путешественников и поддерживать в них бодрость духа, пускались в ход всевозможные уловки. Был учрежден объединивший всех пассажиров клуб, который после богослужения собирался в школе чистописания; там читали вслух книги о тех странах, куда мы направлялись, и обсуждали полученные сведения.
Несколько раз фотограф экспедиции приносил свой волшебный фонарь и устраивал интереснейшие демонстрации. Большая часть его диапозитивов изображала заграничные достопримечательности, но среди них попадались и виды родных мест. Он объявил, что «начнет представление в кормовом салоне, когда пробьют две склянки (в девять вечера), и покажет пассажирам, куда им предстоит прибыть». Это, разумеется, было очень мило, но по странной случайности первым на полотне вспыхнул вид Гринвудского кладбища!
Два или три раза в звездные вечера мы устраивали танцы на верхней палубе под тентом, не без успеха заменяя яркие люстры бального зала судовыми фонарями, развешанными по столбам. Мы танцевали под основательно переболтанные звуки астматического мелодикона, у которого перехватывало дыхание как раз тогда, когда требовался сильный выдох; под кларнет, ненадежный на высоких нотах и подвывавший на низких; под забулдыгу-аккордеон, который прохудился и поэтому дышал громче, чем верещал, – более изящное выражение мне сейчас не приходит в голову. Но во всяком случае танцы были еще хуже музыки. Когда корабль кренился вправо, танцоры всем взводом бросались в атаку на правый борт и разом повисали на перилах, когда же он кренился влево, они с тем же завидным единодушием обрушивались на левый борт. Вальсирующие успевали покружиться секунд пятнадцать, а затем опрометью неслись к перилам, словно собираясь топиться. Повороты в виргинской кадрили, когда ее танцевали на борту «Квакер-Сити», требовали такой поворотливости, какой мне доселе видеть не приходилось, и зрители с захватывающим интересом наблюдали, как танцоры, ежеминутно рискуя жизнью, чудом избегали гибели. В конце концов мы отказались от танцев.
Мы отметили день рождения одной из дам тостами, спичами, стихами и всем, чем полагается. Мы также устроили шуточный судебный процесс. Море еще не видывало корабля, на котором не устраивался бы такой процесс. Эконом был обвинен в краже пальто из каюты № 10. Назначили судью, а также секретарей, судебного пристава, констеблей, шерифов, прокурора и адвоката; разослали повестки свидетелям; после многочисленных отводов составили наконец список присяжных. Свидетели, как всегда, были бестолковы, ненадежны и путались в своих показаниях. Адвокат и прокурор, как и все их настоящие коллеги, были красноречивы, убедительны и саркастически язвили друг друга. Наконец разбирательство закончилось, и судья достойно завершил всю процедуру нелепым решением и смешным приговором.
Несколько раз молодежь пробовала ставить по вечерам в салонах шарады, и это развлечение пришлось пассажирам особенно по вкусу.
Была сделана попытка учредить клуб дебатов, но она не увенчалась успехом – талантливых ораторов на корабле не нашлось.
Никто из нас не скучал, – я думаю, что могу сказать это с уверенностью, – хотя мы предпочитали тихие развлечения. Мы очень, очень редко играли на фортепьяно; мы устраивали дуэты флейты и кларнета, и получалось очень недурно, когда что-нибудь вообще получалось, но исполнялась всегда одна и та же мелодия, очень красивая; как хорошо я ее помню, – и когда только я от нее избавлюсь! Фисгармонией и мелодиконом пользовались только во время богослужения… но я забегаю вперед. Юный Альберт знал одну песенку – что-то о «Что-то иль это, как сладко узнать, что он, как его там» (я точно не помню ее названия, но она была очень жалобная и чувствительная). Альберт непрерывно ее наигрывал, пока мы не условились, что впредь он будет воздерживаться. Но никто ни разу не запел в лунную ночь на верхней палубе, а хоровое пение во время службы не поражало ни стройностью, ни благозвучием. Я терпел, сколько мог, а потом присоединился к хору, чтобы поправить дело, но юный Джордж решил последовать моему примеру и погубил все: голос юного Джорджа как раз ломался, и его заунывный бас то и дело срывался с цепи, пугая слушателей визгливыми «петухами» на верхних нотах. Кроме того, Джордж не различал мелодий, что также несколько вредило его исполнению. Я сказал:
– Послушайте, Джордж, бросьте импровизировать. Не будьте эгоистом. Это вызовет недовольство. Пойте «Возложение венца» вместе с остальными. Такую красивую мелодию вам все равно на ходу не улучшить.
– Да я и не собираюсь ее улучшать, я пою вместе с остальными – по нотам.
И он верил тому, что говорил; так что когда по временам голос застревал у него в горле и душил его, он сам был в этом виноват.
Некоторые из не озаренных светом духовным утверждали, что непрекращающийся лобовой ветер – результат душераздирающих завываний нашего хора. Другие прямо заявляли, что эта жуткая музыка, даже когда она звучит относительно сносно, уже может привести к опасным последствиям, но что усугублять подобное преступление, позволяя Джорджу раскрыть рот, – это значит бросать открытый вызов провидению. Они утверждали, что, если хор будет и дальше так безбожно фальшивить, это кончится тем, что он навлечет на наш пароход бурю, которая всех нас потопит.
Кое-кто злился и на молитвы. Штурман говорил, что паломники бессердечны:
– Каждый Божий день, как пробьет восемь склянок, они молятся о попутном ветре, хоть знают не хуже меня, что в это время года ни один корабль, кроме нас, не плывет на восток, а на запад плывут тысячи – и наш попутный ветер будет для них противным. Всемогущий посылает попутный ветер тысяче кораблей, а эта шайка требует, чтобы он повернул его на сто восемьдесят градусов ради одного-единственного судна, да к тому же еще парохода! Ни чувства, ни рассудка, ни христианского милосердия, ни простой человечности. И слушать не хочу!
Глава V
Эксцентричная луна. – Тайна «корабельного времени». – Обитатели глубин. – Первая высадка на заграничном берегу. – Азорские острова. – Катастрофический банкет Блюхера.
«По ветру ли, без ветра ли», как говорят моряки, но в общем шестидневный переход от Нью-Йорка до Азорских островов был очень приятным, – довольно медленным, поскольку между ними только две тысячи четыреста миль, но в целом все же приятным. Правда, мы все время шли против ветра и несколько раз попадали в штормы; морская болезнь укладывала половину пассажиров в постель, и пароход становился унылым и пустынным; этих штормов никогда не забудут те, кто выдерживал их на уходящей из-под ног палубе, обдаваемой мощными фонтанами брызг, то и дело взлетающих из-под форштевня и грозными ливнями обрушивающихся на корабль, – но по большей части стояла чудесная летняя погода, и ночи были еще лучше, чем дни. Каждую ночь в одно и то же время над нами в одной и той же точке небес стояла полная луна. Причина такого странного поведения луны сначала была нам неясна, но потом мы сообразили, в чем дело: двигаясь на восток с такой скоростью, мы выигрывали примерно двадцать минут в день, и этих двадцати минут было как раз достаточно, чтобы не отставать от луны. Для наших друзей, оставшихся дома, она давно уже шла на ущерб, но для нас, Иисусов Навинов, она все еще стояла на прежнем месте и была все такая же круглая.
Юный мистер Блюхер, житель Дальнего Запада, совершавший свое первое путешествие, страшно мучился из-за постоянных изменений «корабельного времени». Сперва он очень гордился своими новыми часами и немедленно вытаскивал их, когда в полдень било восемь склянок, но спустя некоторое время он, казалось, начал проникаться к ним недоверием. Через неделю после отплытия из Нью-Йорка он вышел на палубу и категорически заявил:
– Надувательство, и больше ничего!
– Что – надувательство?
– Да эти часы. Я их купил в Иллинойсе, заплатил сто пятьдесят долларов – и думал, что могу на них положиться. И верно – с места не сойти, – на берегу они вполне надежны; а вот на корабле почему-то сдают – морская болезнь у них, что ли? Скачут. До половины двенадцатого идут нормально, а потом ни с того ни с сего вдруг спотыкаются. Я передвигал чертов регулятор, пока он не описал полный круг, а проку никакого; они оставляют за флагом все здешние часы, до самого полудня тарахтят так, что любо-дорого, но восемь склянок всегда приходят к финишу на десять минут раньше, как ни верти. Что с этими часами делать – просто ума не приложу. Они выжимают из себя все, что могут, идут самым бешеным аллюром – и ничего не получается. Из всех здешних часов они показывают лучшее время, – а что толку? Вот пробьет восемь склянок, и опять они десяти минут до финиша не дотянут, верное дело.
Каждые три дня корабль нагонял полный час, а он подхлестывал свои часы, пытаясь за ним угнаться. Но, как он сам сказал, он передвинул регулятор уже до предела, и часы шли «самым бешеным аллюром», так что ему оставалось только махнуть рукой и смотреть, как корабль выигрывает состязание. Мы послали его к капитану, и тот, объяснив ему тайны «корабельного времени», успокоил его смятенный дух. Перед отплытием этот юноша задавал великое множество вопросов о морской болезни – каковы ее симптомы и как узнать, когда она у него начнется. Он скоро это узнал.
Конечно, мы наблюдали неизбежных акул, китов, дельфинов и так далее, и со временем к обычному перечню морских чудес прибавились большие косяки португальских галер. Некоторые из них были белые, а другие – ярко-карминные. Наутилус – это просто прозрачный студнеобразный комок, который растягивается, чтобы ловить ветер; по бокам его свисают мясистые щупальца фута в два длиной, помогающие ему устойчиво держаться на воде. Наутилус – хороший моряк, обладающий превосходным чувством моря. Он берет рифы на своем парусе, когда приближается шторм или поднимается ветер, и, свернув его, опускается под воду, когда поднимается буря. Обычно он содержит свой парус в образцовом порядке и смачивает его, переворачиваясь и погружаясь на секунду в воду. Моряки говорят, что в Атлантическом океане наутилус встречается только между тридцать пятым и сорок пятым градусами широты.
Двадцать первого июня нас разбудили в три часа утра, дабы сообщить нам, что на горизонте видны Азорские острова. Я сказал, что в три часа утра островами не интересуюсь. Но вскоре явился другой мучитель, потом третий, четвертый, и в конце концов, решив, что общий энтузиазм никому не даст спокойно выспаться, я, протирая глаза, выбрался на палубу. Уже пробило половину шестого; утро было сырое и бурное. Тепло закутанные пассажиры жались к трубам и прятались позади вентиляторов, спасаясь от резкого ветра и холодных брызг; вид у всех был сонный и несчастный.
На горизонте виднелся остров Флориш. Он казался просто кучей грязи, торчащей в свинцовом морском тумане. Но когда мы к нему приблизились, взошло солнце, и остров стал прекрасным – зеленый ковер полей и лугов уходил ввысь на полторы тысячи футов, скрываясь в облаках. Его прорезали острые, обрывистые гребни и узкие ущелья; там и сям громоздились скалы, казавшиеся зубчатыми стенами замков; а из распоротых облаков, заливая потоками огня вершины, склоны и долины и оставляя между ними мрачные полосы теней, падали широкие столбы солнечного света. Словно северное сияние перенеслось с ледяного полюса в страну вечного лета!
Мы обогнули две трети острова, держась в четырех милях от берега, и все бинокли на корабле были пущены в ход для разрешения спора о том, что представляет собой зеленая щетина на склонах – рощи или заросли бурьяна, и действительно ли белые домики на берегу – домики, а не могильные плиты кладбищ. Наконец земля осталась за кормой, и мы взяли курс на Сан-Мигель; а Флориш вскоре снова превратился в кучу грязи, ушел в туман и исчез. Но вид зеленых холмов принес большую пользу многим измученным морской болезнью пассажирам, да и все мы чувствовали себя гораздо бодрее, чем можно было ожидать, принимая во внимание, как безбожно рано нас подняли.
Но до Сан-Мигеля нам добраться не удалось – к полудню разыгралась буря, и корабль так швыряло из стороны в сторону, что благоразумие требовало где-нибудь укрыться. Поэтому мы повернули к ближайшему острову – Фаялу (здешние жители произносят «Фай-ол», с ударением на первом слоге). Мы бросили якорь на открытом рейде Орты, в полумиле от берега. В этом городке около девяти тысяч жителей. Его белоснежные дома уютно гнездятся в море свежей зелени, и трудно найти более красивое и привлекательное селение. Оно окружено амфитеатром холмов высотой от трехсот до семисот футов, тщательно обработанных до самых вершин, – ни фута почвы не остается свободным. Каждое поле, каждый акр земли разбит на маленькие квадратные ячейки каменными стенами, которые защищают урожай от дующих здесь ураганных ветров. Сотни этих зеленых квадратиков, разделенных стенами из черной лавы, придают холмам вид огромных шахматных досок.
Азорские острова принадлежат Португалии, и на Фаяле во всем преобладают португальские черты. Но об этом ниже. Смуглые, шумные, лгущие, пожимающие плечами, жестикулирующие лодочники португальцы с медными кольцами в ушах и коварством в сердце облепили пароход, и пассажиры, разбившись на группы, условились о перевозке на берег по столько-то с головы в серебряной монете любой страны. Мы высадились под стенами маленького форта, вооруженного батареями двенадцати– и тридцатидвухфунтовых орудий. Жители Орты считают свой форт чрезвычайно грозным укреплением, но если бы за него взялся один из наших башенных мониторов, им пришлось бы перевезти эту крепость куда-нибудь в глубь страны, чтобы сохранить на случай, когда она им снова понадобится. Толпа зевак на пристани имела жалкий вид: мужчины, женщины, мальчики, девочки – все босые, в лохмотьях, нечесаные, неумытые, по склонностям, воспитанию и профессии – попрошайки. Они двинулись вслед за нами, и до конца нашего пребывания на Фаяле мы так от них и не избавились. Мы шли посередине главной улицы, а они глазели на нас, окружив со всех сторон; то и дело возбужденные зрители забегали вперед, чтобы как следует рассмотреть процессию, точь-в-точь как деревенские мальчишки, бегущие за слоном, который идет по улицам, оповещая о прибытии цирка. Мне было лестно чувствовать себя виновником подобной сенсации. Там и сям в дверях стояли женщины в модных португальских капюшонах. Этот капюшон из грубой синей ткани, пришитый к такому же плащу, представляет собой чудо безобразия. Он высок, широк и бездонно глубок. Он похож на цирковой балаган и скрывает голову женщины, как жестяная будка на сцене – голову суфлера. На этом чудовищном «capote», как он здесь называется, нет никакой отделки, – это просто безобразный тускло-синий парус, и женщина, надевшая его, не может держать к ветру ближе восьми румбов – ей приходится либо идти по ветру, либо оставаться дома. Этот головной убор в моде на всех островах и останется модным ближайшие десять тысяч лет, но покрой капюшона на каждом острове имеет свои небольшие отличия, благодаря которым внимательный наблюдатель может с одного взгляда сказать, на каком острове сеньора проживает.
Португальская мелкая монета reis (произносится – «рейс») просто изумительна. Один доллар равен тысяче рейсов, а все денежные расчеты производятся в рейсах. В первый раз мы обнаружили это благодаря Блюхеру. Блюхер сказал, что безмерно счастлив снова очутиться на твердой земле и хочет задать пир; он сказал, что, по слухам, тут все очень дешево и что банкет его будет великолепен. Он пригласил девятерых пассажиров, и мы превосходно пообедали в лучшем отеле города. В самый разгар веселья, вызванного хорошими сигарами, хорошим вином и сносными анекдотами, хозяин подал счет. Блюхер посмотрел на бумажку, и лицо его вытянулось. Он поглядел еще раз, словно не доверяя собственным глазам, потом дрожащим голосом начал читать вслух все подряд, и розы на его щеках увяли и обратились в пепел.
– «Десять обедов по шестьсот рейсов – шесть тысяч рейсов»! Гибель и разорение!
«Двадцать пять сигар по сто рейсов – две тысячи пятьсот рейсов»! Мать честная!
«Одиннадцать бутылок вина по тысяча двести рейсов – тринадцать тысяч двести рейсов»! Спаси и помилуй нас!
«Итого – двадцать одна тысяча семьсот рейсов»! Господи Иисусе! На всем пароходе не найдется наличных, чтобы оплатить этот счет! Идите – предоставьте меня моей судьбе, ребята. Мой банк лопнул.
Пожалуй, я в жизни не видал такой растерянной компании. Никто не мог выдавить из себя ни слова. Казалось, все до единого онемели. Бокалы медленно опустились на стол, по-прежнему полные до краев. Сигары незаметно выскользнули из ослабевших пальцев. Мы смотрели друг на друга, но у всех в глазах было только безнадежное отчаяние. Наконец зловещее молчание было нарушено. Тень безумной решимости, как туча, легла на чело Блюхера; он выпрямился во весь рост и сказал:
– Хозяин, это низкое, подлое вымогательство, и я ни за что на него не поддамся. Вот, сэр, сто пятьдесят долларов, и ни гроша больше вы не получите. Я кровью захлебнусь, прежде чем прибавлю хоть цент.
Мы ободрились, а хозяин расстроился, – так по крайней мере нам показалось; во всяком случае, он явно смутился, хотя и не понял из всего сказанного ни слова. Он постоял, поглядывая то на кучу золотых монет, то на Блюхера, и затем ушел. Очевидно, он отправился к какому-нибудь американцу, потому что, вернувшись, принес перевод своего счета на человеческий язык, а именно:
Глава VI
Общество-окаменелость. – Своеобразные нравы и обычаи. – Мошенничество иезуитов. – Фантастическое паломничество. – Происхождение мостовой Русса. – Сведение счетов с окаменелостями. – Снова в море.
Мне кажется, что Азорские острова в Америке почти неизвестны. Среди пассажиров не нашлось ни одного, который хоть что-нибудь о них знал. Самые начитанные из нас, хорошо осведомленные о других странах, знали о них только то, что Азоры – группа небольших островков, затерянная в Атлантическом океане, где-то на полпути между Нью-Йорком и Гибралтаром. И все. Поэтому мне представляется желательным дать тут сухой перечень некоторых фактов.
Уклад жизни здесь типично португальский, другими словами – неторопливый, бедный, безалаберный, сонный и ленивый. Управление находится в руках гражданского губернатора, назначаемого португальским королем; кроме того, имеется военный губернатор, который может, когда пожелает, отстранить гражданского губернатора и облечь себя полнотой власти. Население островов составляет 200 000 человек, жители – почти исключительно португальцы. Жизнь идет по привычной, давным-давно установившейся колее, – когда Колумб открыл Америку, эта страна насчитывала уже сто лет. Главная зерновая культура – пшеница, которую жители сеют и мелют так же, как ее сеяли и мололи их прапрапрадеды. Они пашут при помощи доски, обитой по краю железом, в крохотные бороны впрягаются мужчины и женщины; маленькие ветряные мельнички мелют зерно – десять бушелей в день, засыпкой ведает помощник надзирателя, а главный надзиратель стоит рядом, присматривая, чтобы помощник не заснул. Когда ветер меняется, к мельнице припрягают несколько ослов и поворачивают ее верхнюю половину, пока крылья не окажутся в нужном положении, – вместо того, чтобы установить механизм для перемещения одних только крыльев. Волы вытаптывают зерно из колосьев по способу, господствовавшему во времена Мафусаила. На всю страну не найдется ни одной тачки – жители укладывают грузы себе на голову, или на осла, или в плетеную тележку, у которой вместо колес деревянные круги, вращающиеся вместе с осью. На островах нет ни одного современного плуга, ни одной молотилки. Все попытки ввести их терпели неудачу. Как добрый католик, португалец только крестится и молит всевышнего избавить его от святотатственного желания знать больше своего отца. Климат здесь мягкий, снега и льда никогда не бывает, и я не заметил в городе ни одной печной трубы. Члены семьи – ослы, мужчины, женщины, дети – едят и спят в одной комнате, все они грязны, покрыты паразитами и истинно счастливы. Азорцы лгут, надувают иностранцев, ужасающе невежественны и не почитают своих покойников. Последнее показывает, как мало они отличаются от ослов, с которыми делят постель и стол. Среди здешних португальцев хорошо одеты только несколько богачей, священники-иезуиты и солдаты крохотного гарнизона. Батрак зарабатывает в день двадцать – двадцать четыре цента, а хороший ремесленник – раза в два больше. Они считают на рейсы (доллар равен тысяче рейсов) и потому чувствуют себя богатыми и очень довольны. Раньше на островах произрастал прекрасный виноград, из которого изготовлялось превосходное вино, шедшее на экспорт. Но пятнадцать лет назад все виноградники погибли от какой-то болезни, и с тех пор изготовление вина прекратилось. Благодаря вулканическому происхождению всей группы почва на островах очень плодородна. Почти вся земля возделывается, и за год снимается по два-три урожая каждой культуры, но за границу вывозится только небольшое количество апельсинов, которые идут главным образом в Англию. Никто сюда не приезжает, никто отсюда не уезжает. На Фаяле не знают, что такое новости. Равным образом здесь неизвестна и страсть к новостям. Один довольно развитой португалец осведомился, кончилась ли наша Гражданская война. Он от кого-то слышал о ней… или по крайней мере ему казалось, что кто-то говорил что-то в этом роде! А когда один из пассажиров подарил гарнизонному офицеру несколько номеров газет «Трибюн», «Геральд» и «Таймс», тот был весьма удивлен, найдя в них сообщения из Лиссабона, которых еще не было в газетах, привезенных пароходиком, совершавшим ежемесячные рейсы между островами и столицей. Ему объяснили, что эти сообщения переданы по кабелю. Он сказал, что слышал, будто лет десять назад предпринимались попытки проложить кабель, но он почему-то думал, что из этого ничего не получилось!
Такое захолустье – самая благодатная почва для процветания иезуитских плутней. Мы посетили иезуитский собор, построенный двести лет тому назад, и видели там обломок креста, на котором был распят Спаситель. Этот твердый отполированный кусок дерева превосходно сохранился – можно было подумать, что трагедия на Голгофе произошла только вчера, а не восемнадцать столетий тому назад. Но здешним доверчивым людям и в голову не приходит усомниться в подлинности этой деревяшки.
В приделе собора есть алтарь, отделанный чистым серебром, – так по крайней мере утверждают старожилы, и я тоже думаю, что его там найдется, говоря языком старателей, двести фунтов на тонну, – а перед ним горит неугасимая лампада. Какая-то благочестивая прихожанка, умирая, завещала деньги на постоянные мессы за упокой своей души, поставив при этом условие, чтобы пламя в светильнике поддерживалось и днем и ночью. Лампадка маленькая, очень тусклая, и если она погаснет совсем, покойница, я думаю, вряд ли от этого особенно пострадает.
Главный алтарь собора, как и три или четыре малых, представляет собой хаотическое нагромождение позолоченной мишуры и «пряничных» украшений. Вокруг ажурных решеток алтарей толпятся поломанные, пыльные, ржавые апостолы – у одного нет ноги, у другого не хватает глаза, но он храбро поглядывает оставшимся, у третьего недостает пальцев, – все они покалеченные, унылые и более приличествовали бы больнице, чем кафедральному собору.
Стены алтаря сделаны из фарфора и украшены художественно написанными фигурами в натуральную величину, одетыми в живописные костюмы семнадцатого столетия. Они изображают историю кого-то или чего-то, но среди нас не нашлось человека, достаточно ученого, чтобы в ней разобраться.
Когда мы шли по городу, нам повстречался отряд осликов, уже оседланных и ожидающих только седока. Седла были весьма своеобразны, чтобы не сказать больше. Они состояли из чего-то вроде козел, застеленных тюфячком, и все сооружение закрывало примерно половину осла. Стремена отсутствовали, но, собственно говоря, в этой дополнительной опоре не было никакой нужды: всадник чувствовал себя в таком седле почти так же, как верхом на обеденном столе, – оно подпирало колени. Нас окружила шайка оборванных погонщиков португальцев, предлагая услуги своей скотины за полдоллара в час, – еще одна подлость по отношению к чужестранцам, потому что рыночная цена – шестнадцать центов. Шестеро из нас взгромоздились на эти нескладные седла и покорно выставили себя на посмешище, трясясь по главным улицам города с населением в десять тысяч человек.
Мы тронулись. Это была не рысь, не галоп, не карьер, а дикая скачка, слагавшаяся из всех возможных аллюров. Шпор не требовалось. Каждого ослика сопровождал погонщик и десяток добровольцев, и все они лупили животное прутьями, подкалывали заостренными палками, выкрикивали что-то похожее на «секки-яаа!», орали, шумели и устраивали настоящий бедлам. Передвигались они пешком, что не мешало им, впрочем, оказываться на месте вовремя, – они способны обогнать и измотать любого осла. Короче говоря, наша кавалькада была очень оживленной и живописной.
Блюхеру никак не удавалось справиться со своим ослом: он мчался по мостовой зигзагами, а остальные налетали на него; он прижимал Блюхера к повозкам и стенам домов; вдоль улицы тянулись высокие каменные заборы, и ослик отполировал Блюхера сначала с одной стороны, потом с другой, но ни разу не задержался посредине дороги; в конце концов он поравнялся с отчим домом и влетел в комнату, счистив с себя Блюхера о дверной косяк.
Снова усевшись в седло, Блюхер сказал погонщику:
– Пожалуй, хватит. Дальше поедем потише.
Но тот, не зная английского языка, ничего не понял и просто сказал «секки-яаа!», после чего осел снова помчался, как пуля. Неожиданно он резко повернул, и Блюхер перелетел через его голову. Не скрою – каждый осел по очереди споткнулся об эту пару, и вскоре вся кавалькада образовала одну большую кучу. Никто не пострадал. Упасть с такого осла не намного опаснее, чем свалиться с дивана. После катастрофы ослы стояли совершенно спокойно, ожидая, пока шумливые погонщики поправят и закрепят разъехавшиеся седла. Блюхер очень рассердился и хотел выругаться, но стоило ему открыть рот, как его скотина делала то же самое и испускала отчаянный рев, заглушавший все остальные звуки.
Скачка по овеянным ветром холмам и красивым ущельям была на редкость приятна. Эта прогулка верхом на ослах своей новизной вызывала свежие, незнакомые, пьянящие ощущения, стоившие сотни заношенных до дыр удовольствий, которые мы знали дома.
Дороги там – чудо, и какое чудо! Вот остров с горсточкой жителей (всего 25 000), а таких прекрасных дорог в Соединенных Штатах не найдешь нигде, кроме Сентрал-парка. Куда ни пойдешь – всюду гладкие ровные дороги, либо чуть присыпанные черным лавовым песком и окаймленные канавками, аккуратно выложенными гладкой галькой, либо вымощенные, как Бродвей. В Нью-Йорке без конца говорят о мостовой Русса и называют ее новым изобретением, а на этом крохотном, затерявшемся в море островке она известна уже двести лет! Каждая улица в Орте великолепно вымощена большими плитами и ровна, как пол, а не выщерблена, подобно мостовой Бродвея. Каждая дорога огорожена высокими массивными стенами из лавы, которые в этом краю, где не знают морозов, простоят тысячу лет. Они очень толсты, нередко оштукатурены, побелены и увенчаны карнизом из тесаного камня. За ними прячутся сады; деревья свешивают через край стены свои гибкие ветки, и яркая зелень эффектно выделяется на фоне штукатурки или черной лавы. Иногда ветви деревьев и виноградные лозы смыкаются над этими узкими проулками так, что солнца совсем не видно, и вы едете словно по туннелю. Мостовые, дороги и мосты построены правительством.
Мосты – в один пролет, без опор: арка, сложенная из тесаных камней; они вымощены плитами лавы и красиво выложены галькой. Повсюду стены, стены, стены, – и каждая красива, и каждая построена на века; и повсюду мостовые – аккуратные, гладкие и прочные. Если где-нибудь и существуют совершенно чистые, лишенные и намека на пыль, грязь, мусор или какие-либо нечистоты дороги, улицы и фасады домов, то только в Орте, только на Фаяле. Низшие классы неряшливы, жилища их не отличаются чистотой, но и только; в остальном город и острова – чудо опрятности.
Наконец, после десятимильной экскурсии, мы вернулись домой; неугомонные погонщики мчались за нами по пятам через весь город, подгоняя ослов, выкрикивая неизбежное «секи-яаа!» и распевая «Тело Джона Брауна» на убийственном английском языке.
Мы спешились и начали расплачиваться; от криков, приставаний, ругани и ссор погонщиков между собой и с нами можно было оглохнуть. Один требовал доллар за часовой прокат осла, другой – полдоллара за то, что подгонял этого осла, третий – двадцать пять центов за то, что помогал второму, не менее четырнадцати проводников предъявили счета за то, что показывали нам город и окрестности, и каждый оборванец орал, вопил и размахивал руками энергичнее, чем его сосед.
Горы на некоторых из этих островов очень высоки. Мы шли вдоль острова Пику – величественной зеленой пирамиды, которая одним обрывистым склоном поднималась от самых наших ног до высоты в 7613 футов и вздымала свою вершину над белыми облаками, словно остров, плывущий в тумане!
На Азорах мы, разумеется, объедались апельсинами, лимонами, инжиром, абрикосами и прочим. Но я воздержусь от дальнейших описаний. Я здесь не для того, чтобы писать рекламные проспекты.
Мы идем в Гибралтар и достигнем его через пять-шесть дней.
Глава VII
Появление Африки и Испании. – Геркулесовы Столпы. – Гибралтарская скала. – «Кресло королевы». – Частная прогулка по Африке. – Высадка в Марокко.
Неделя борьбы с безжалостной стихией; неделя морской болезни, покинутых салонов и пустынного юта, обдаваемого брызгами – брызгами, которые в своей дерзости возносились так высоко, что до самого верха покрыли трубы парохода толстой белой коркой соли; неделя прозябания под защитой шлюпок и рубок днем и шумной игры в домино среди густых клубов дыма в курительной по вечерам.
Последняя из семи ночей была самой бурной. Грома не было, только волны били о борт, ветер пронзительно свистел в снастях и вода, пенясь, шипела за иллюминаторами. Пароход карабкался все выше, как будто собираясь вскарабкаться на небеса, потом замирал на мгновение, казавшееся веком, и снова стремительно, как с обрыва, падал вниз. Шквал брызг стеной обрушивался на палубы. Повсюду был черный мрак. Вспышка молнии изредка раскалывала его трепещущей огненной чертой, открывая бесконечный вздымающийся океан там, где до этого не было ничего, одевая призрачные снасти сверкающим серебром и освещая зловещим светом лица матросов.
Страх гнал на палубу многих из тех, кто обычно старался избегать ночного ветра и брызг. Некоторые думали, что корабль этой ночью непременно пойдет ко дну, и им казалось, что выйти туда, где бушует ураган, и взглянуть в глаза надвигающейся опасности легче, чем сидеть в свете тусклых ламп, закупорившись в похожей на склеп каюте, и воображать ужасы сорвавшегося с цепи океана. Очутившись наверху, увидев корабль, бьющийся в железной хватке бури, услышав завывание ветра, почувствовав хлещущие брызги, увидев всю величественную картину, на мгновение освещенную молнией, они попадали в плен грозного, необоримого очарования и оставались наверху. Это была страшная ночь – и очень, очень долгая.
В семь часов чудесного утра 30 июля все высыпали на палубу, услышав радостную весть: на горизонте земля! Как удивительно приятно было снова увидеть наверху всю нашу дружную семью, хотя счастье, которым светились лица, лишь отчасти скрывало следы, оставленные на них бесконечными бурями. Но живительное действие свежего солнечного утра скоро заставило тусклые глаза заблестеть от удовольствия, а бледные щеки порозоветь и влило новую силу в ослабевшие от морской болезни члены. Не только солнечное утро было источником этой силы – измученным жертвам океана вновь довелось увидеть благословенную землю! Они словно опять вернулись на родину, к которой стремились все их помыслы.
Через час мы уже шли Гибралтарским проливом, и справа от нас виднелись высокие, обрызнутые желтизной горы Африки, подножье которых было затянуто голубоватой дымкой, а вершины скрывались в облаках, – вполне согласно со Священным Писанием, гласящим: «Тучи и тьма одевают землю», что сказано, по-моему, именно об этой части Африки. Слева от нас были гранитные скалы древней Испании. Ширина пролива в самой узкой части только тринадцать миль.
На испанском берегу там и сям виднелись причудливые каменные башни, – мавританские, решили мы, но впоследствии оказалось, что это не так. Некогда марокканские пираты крейсировали вдоль испанского побережья, выжидая удобного случая, чтобы высадиться, разграбить какую-нибудь испанскую деревушку и увезти всех хорошеньких женщин, которых сумеют найти. Промысел был доходный и приятный, и занимались им многие. Испанцы построили эти сторожевые башни на холмах, чтобы легче обнаруживать марокканских спекулянтов.
Панорама африканского берега была особенно приятна для глаз, уставших от созерцания неизменного моря, и пассажиры мало-помалу совсем ожили и развеселились. Но пока мы восхищались пиками в облачных шапках и берегами, одетыми в туманный сумрак, наши взгляды внезапно приковало, словно магнит, еще более чудесное зрелище – величественный корабль, на котором паруса громоздились над парусами так, что он казался единым огромным парусом, полным ветра. Он летел по волнам, как гигантская птица. Африка и Испания были забыты. Все восторгались только этим прекрасным незнакомцем. Пока мы не отрываясь глядели на него, он во всем великолепии пронесся мимо и развернул по ветру «звезды и полосы»! Шляпы и носовые платки быстрее мысли взвились в воздух, загремело «ура». Прежде он был красив, теперь он стал ослепительным. Многие из наших пассажиров впервые в жизни поняли разницу в чувствах, которые возбуждает родной флаг дома и за границей. Увидеть его – словно увидеть родину, все, чем она дорога, и почувствовать волнение, способное погнать быстрее целую реку вяло текущей крови!
Мы приближались к знаменитым Геркулесовым Столпам, и африканский столп – «Обезьянья гора», величавая древняя гора с гранитной вершиной, – уже показался вдали. Другого – знаменитой Гибралтарской скалы – еще не было видно. Древние народы считали Геркулесовы Столпы пределом мореплавания и концом света. Сведения, которыми не обладали древние, были очень обширны. Даже пророки, писавшие книгу за книгой, послание за посланием, ни разу не намекнули на существование с нашей стороны океана великого континента, а уж им-то следовало бы знать, что он там есть.
Через несколько минут перед нами в самой середине пролива величественно встала одинокая грандиозная скала, по-видимому со всех сторон омываемая морем; и для того, чтобы понять, что это Гибралтар, мы не нуждались в нудных объяснениях много путешествовавшего попугая. Двух таких скал в одном королевстве быть не могло.
Длина Гибралтарской скалы, если не ошибаюсь, полторы мили, высота – тысяча четыреста или тысяча пятьсот футов, ширина у основания – четверть мили. Один ее конец и одна боковая сторона поднимаются из моря вертикально, как стена дома, другой конец очень неровен, а вторая сторона представляет собой обрывистый склон, подъем на который затруднил бы любую армию. У подножия этого склона расположен обнесенный стенами город Гибралтар – вернее, город занимает часть склона. Повсюду – на скате, в пропасти, у моря, на высотах, – повсюду, куда ни взглянешь, Гибралтар одет укреплениями и щетинится пушками. Откуда ни посмотришь – картина внушительная и живописная. Скала выдвинута в море на конце узкой полоски суши и напоминает ком глины на конце плоского камня. Несколько сот ярдов этого плоского перешейка вдоль основания скалы принадлежат англичанам, затем поперек всего перешейка от Атлантического океана до Средиземного моря (примерно четверть мили) тянется «нейтральная зона» – пространство шириной ярдов в триста, открытое для обеих заинтересованных сторон.
«Вы поедете в Париж через Испанию?» Во время перехода от Фаяла до Гибралтара этот вопрос то и дело слышался на корабле, и мне начинало казаться, что никакая другая фраза не способна внушить мне такое отвращение и что никогда больше мне так не надоест повторять: «Не знаю». В последний момент у шести-семи пассажиров хватило твердости характера решиться и уехать; и я немедленно почувствовал облегчение: я опоздал и мог теперь на досуге пораскинуть умом – ехать мне или не ехать. У меня, судя по всему, громадные запасы ума, – для того чтобы ими пораскинуть, мне иногда требуется почти неделя.
Но беда никогда не приходит одна. Не успели мы избавиться от испанской пытки, как гибралтарские гиды придумали новую – скучнейшее повторение легенды, которая и в первый-то раз не производила большого впечатления: «Вот тот высокий холм называется “Креслом королевы”, потому что одна из испанских королев приказала поставить там свое кресло, когда французские и испанские войска осаждали Гибралтар, и сказала, что не сдвинется с этого места, пока крепость не спустит английский флаг. Если бы англичане не оказались настолько галантными, что однажды на несколько часов приспустили флаг, ей пришлось бы либо нарушить клятву, либо просидеть там до самой смерти».
Мы проехали на ослах и мулах по узким крутым улочкам и вошли в подземные галереи, которые англичане пробили в скале при помощи пороха. Эти галереи похожи на широкие железнодорожные туннели, и в них через короткие интервалы расставлены пушки, угрюмо глядящие сквозь амбразуры с высоты футов в шестьсот над уровнем моря на пролив и город. Протяжение этих подземных коридоров – около мили, и на их сооружение, вероятно, было затрачено очень много труда и денег. Пушки галерей господствуют над перешейком и над обоими портами, но я бы не сказал, что они особенно нужны, – и так не найдется армии, которая смогла бы вскарабкаться по отвесной скале. Впрочем, из больших амбразур открывается превосходный вид на море. Из выдолбленной в выступе скалы просторной комнаты с громадной пушкой вместо мебели и с бойницами вместо окон мы увидели невдалеке холм, и один из солдат сказал:
– Вот тот высокий холм называется «Креслом королевы», потому что одна из испанских королев приказала поставить там свое кресло, когда французские и испанские войска осаждали Гибралтар, и сказала, что не сдвинется с этого места, пока крепость не спустит английский флаг. Если бы англичане не оказались настолько галантными, что однажды приспустили флаг на несколько часов, ей пришлось бы либо нарушить клятву, либо просидеть там до самой смерти.
На самой вершине Гибралтара мы задержались надолго – несомненно, мулы устали. Они имели на это полное право. Военная дорога была хорошей, но довольно крутой и к тому же длинной. Вид с узкого уступа оказался великолепным; суда, которые оттуда выглядели меньше игрушечной лодочки, в подзорных трубах становились величественными кораблями, и через эти же подзорные трубы можно было отчетливо различить другие корабли, невидимые для невооруженного глаза и находившиеся, как нам сказали, на расстоянии пятидесяти или шестидесяти миль. Внизу под нами с одной стороны виднелись бесконечные батареи, а с другой – море.
Пока я с большим комфортом отдыхал на валу, подставив нагретую солнцем голову восхитительному бризу, услужливый гид, сопровождавший другую компанию туристов, приблизился и сказал:
– Сеньор, вон тот высокий холм называется «Креслом королевы»…
– Сэр, я беспомощный сирота в чужой стране. Сжальтесь надо мной. Не надо… не надо больше мучить меня сегодня этой ПРОКЛЯТУЩЕЙ старой легендой!
Ну вот… я употребил крепкое словцо, хотя и дал обещание, что никогда больше этого себе не позволю; но всякому терпению есть предел. Если бы вам так надоедали, когда, глядя на расстилающуюся у ваших ног величавую панораму Испании, Африки и лазурного Средиземного моря, вы жаждали бы только одного – в молчании упиваться этой красотой, вы, пожалуй, позволили бы себе словцо и покрепче моего.
Гибралтар выдержал несколько осад, одна из которых длилась более четырех лет (она не увенчалась успехом), и англичанам удалось захватить его лишь хитростью. Удивительнее всего то, что кому-то вообще мог прийти в голову заведомо бессмысленный план брать Гибралтар штурмом; однако такие попытки делались, и неоднократно.
Двенадцать столетий тому назад им владели мавры; мощный замок, воздвигнутый ими в те времена, все еще угрюмо высится в центре города, и его поросшие мхом стены и укрепления исполосованы шрамами от ядер, выпущенных в дни забытых ныне осад и сражений. В скале позади него недавно обнаружили тайник, и там нашли меч изумительной работы и странные старинные доспехи образца, неизвестного археологам, хотя их считают римскими. Римское вооружение и всевозможная римская утварь были открыты в пещере на южной оконечности Гибралтара; история говорит, что Рим владел этой областью в начале христианской эры, и найденные предметы, по-видимому, подтверждают подобное предположение.
В этой пещере найдены также человеческие кости, покрытые толстой каменной коркой, и ученые мужи отважились утверждать, что эти люди жили не только до потопа, но даже за десять тысяч лет до него. Возможно, что и так, – ничего невероятного тут нет, – но поскольку названные лица уже не могут голосовать, все это не представляет особого общественного интереса. Кроме того, в этой пещере найдены скелеты и окаменелые останки животных, которые в Африке водятся повсюду, но на людской памяти не встречались в Испании нигде, кроме одинокой Гибралтарской скалы! Объясняют это тем, что пролив между Гибралтаром и Африкой был некогда сушей, а низменный нейтральный перешеек между Гибралтаром и холмами Испании – океаном, и, таким образом, эти африканские животные, забредшие на Гибралтар (должно быть, в поисках камней, которых тут много), оказались отрезанными, когда произошла великая катастрофа. По ту сторону пролива африканские горы кишат обезьянами, и на Гибралтарской скале тоже издавна водятся обезьяны, – но в самой Испании их нет! Это очень интересная тема для размышлений. Разумеется, гибралтарские обезьяны могли бы, если бы захотели, отправиться в Испанию, и без сомнения они этого хотят, – следовательно, как мило, как самоотверженно с их стороны стойко цепляться за этот скучный утес только для того, чтобы поддержать научную теорию! Я считаю гибралтарскую обезьяну примером чистого, бескорыстного самоотречения и верности христианским заветам.
В Гибралтаре расположен английский гарнизон численностью в шесть-семь тысяч человек, и поэтому на улицах во множестве попадаются ярко-красные мундиры, и красные с синим, и снежно-белые – непарадные; попадаются и голоногие шотландцы в своих забавных юбочках; встречаются и томноглазые испанские девушки из Сан-Роке, и закутанные в покрывало мавританские красавицы (я полагаю, что они красавицы) из Тарифы; и мавританские торговцы из Феса – в тюрбанах и шароварах, подпоясанные кушаком, и босые, оборванные мусульманские бродяги в длинных одеяниях из Тетуана и Танжера – коричневые, желтые, черные, как неразведенные чернила; и евреи из всех стран – в суконных ермолках и туфлях, точь-в-точь такие, как на картинках и в театре, и без сомнения точь-в-точь такие, какими они были три тысячи лет тому назад. Само собой разумеется, что наше племя (почему-то, говоря о наших паломниках, хочется употребить это слово: они бредут по чужеземным местам беспорядочной вереницей, с видом истинно индейского самодовольства и невозмутимого невежества), набранное из пятнадцати-шестнадцати штатов, нашло сегодня на что поглазеть в этой пестрой панораме мод.
Заговорив о наших паломниках, я вспомнил, что среди нас есть несколько субъектов, которые иногда бывают невыносимыми. Однако Оракула я к ним не причисляю. Оракул – это безобидный старый осел, который ест за четверых, выглядит мудрее всей Французской академии, вместе взятой, никогда не употребляет односложного слова, если может припомнить более длинное, никогда даже приблизительно не понимает значения ни одного из своих длинных слов и всегда употребляет их не к месту; это, однако, не мешает ему благодушно высказывать свое мнение по самым сложным предметам и невозмутимо подкреплять его цитатами из несуществующих авторов, а когда его в конце концов припрут к стене, он переходит на противоположную точку зрения, заявляет, что всегда ее придерживался, и бьет вас вашими же собственными аргументами, только выражая их громкими и маловразумительными словами, и тычет их вам в нос, как будто сам до них додумался. Он прочитывает главу из путеводителя, перепутывает из-за плохой памяти все факты, а потом отправляется искать жертву, чтобы обрушить на нее эту мешанину под видом познаний, закисавших в его мозгу десятки лет, с тех пор как он набрался их в колледже у весьма сведущих авторов, которые ныне мертвы и более не издаются. Сегодня утром во время завтрака он указал на окно.
– Видите этот холм на африканском берегу? – сказал он. – Это Стопка Грекулиса, так сказать, а вон ее ультиматум, рядом с ним.
– Ультиматум – это хорошее слово, но почему рядом? Ведь Столпы расположены на разных берегах пролива. (Я понял, что его сбила с толку неясная фраза в путеводителе.)
– Ну, это не вам решать и не мне. Некоторые авторы говорят так, а другие – эдак. Старик Гиббон об этом помалкивает – просто обошел весь вопрос, – Гиббон всегда увиливал, когда попадал в переплет, но вот Роламптон, что он говорит? Он говорит, что они на одном берегу, и Тринкулиан, и Собастер, и Сиракус, и Лангомарганбль…
– Ну. Хватит, хватит… Этого вполне достаточно. Если вы принялись изобретать авторов и свидетельства, то мне сказать нечего. Пусть они будут на одном берегу.
Оракул нам не мешает. Мы его даже любим. Мы без труда выносим Оракула, но у нас на борту имеются еще поэт и добродушный, предприимчивый идиот, – и вот от них наше общество тяжко страдает. Первый преподносит свои стихи консулам, начальникам гарнизонов, содержателям отелей, арабам, голландцам, – короче говоря, всякому, кто согласится вытерпеть это наказание, налагаемое из самых лучших побуждений. Пока он ограничивается кораблем, с его стихами еще можно мириться, хотя, когда он написал «Оду на бушующий океан» в течение одного получаса и «Обращение к петуху на корабельном шкафуте» в течение следующего, такой переход показался всем чересчур резким; однако, когда он посылает одну рифмованную накладную с приветом от лауреата корабля губернатору Фаяла, а другую – главнокомандующему и прочим высшим чинам в Гибралтаре, это не доставляет пассажирам никакого удовольствия.
Другой субъект, о котором я упомянул, молод, зелен, не умен, не учен, не умудрен опытом. Но он еще станет великим мудрецом, если когда-нибудь припомнит ответы на все свои вопросы. Мы прозвали его «Вопросительный знак», и это прозвище от постоянного употребления сократилось в «Вопросительный». Он уже дважды отличился. На Фаяле ему показали холм и сказали, что его высота восемьсот футов, а длина тысяча сто и что через весь холм проходит туннель в две тысячи футов длины и тысячу футов высоты. Он поверил. Он всем рассказывал об этом, рассуждал по этому поводу, читал вслух свои заметки об этом. В конце концов он сделал кое-какие полезные выводы из следующих слов одного рассудительного старого паломника:
– М-да, действительно интересно… замечательный туннель, что и говорить… возвышается над холмом футов на двести, а конец торчит снаружи на целых девятьсот!
Здесь, в Гибралтаре, он загоняет в угол образованных английских офицеров и изводит их, бахвалясь Америкой и чудесами, на которые она способна. Одному из них он сказал, что две наши канонерки могут сбросить Гибралтар в Средиземное море!
Сейчас, когда я это пишу, мы вшестером совершаем частную увеселительную поездку, до которой сами додумались. Мы составляем больше половины числа белых пассажиров на пароходике, идущем в освященный веками мавританский город Танжер (Африка). И нет ни малейшего сомнения в том, что мы испытываем истинное наслаждение. Иначе и не может быть, когда скользишь по этим сверкающим волнам и вдыхаешь мягкий воздух этой солнечной страны. Заботы не могут потревожить нас здесь. Мы вне их юрисдикции.
Мы даже отважно проплыли мимо грозной крепости Малабат (цитадель султана Марокко), не испытав ни малейшего страха. Гарнизон в полном составе и вооружении с угрожающим видом появился перед нами, – но все-таки мы не затрепетали. Весь гарнизон на наших глазах проделал марши и контрмарши по валу, – и все-таки, несмотря даже на это, мы не дрогнули.
Я полагаю, что страх нам незнаком. Я осведомился об имени гарнизона крепости Малабат, и мне ответили: «Мехмет Али бен Санком». Я сказал, что не худо бы дать ему в подкрепление еще несколько гарнизонов; но мне сказали – нет: у него только и заботы, что оборонять крепость, и он с этим вполне справляется – он занимается этим уже два года. Подобные доводы так легко не отбросишь. Репутация – великое дело.
Порой во мне пробуждается непрошеное воспоминание о том, как я вчера покупал в Гибралтаре перчатки. Дэн, наш корабельный доктор и я побывали на главной площади, послушали игру прекрасных военных оркестров, полюбовались английскими и испанскими красавицами и их нарядами и в девять часов, по дороге в театр, повстречали генерала, коммодора, полковника и полномочного представителя Соединенных Штатов Америки в Европе, Азии и Африке, которые заходили в клуб, чтобы записать там в книгу посетителей свои титулы и опустошить кухню; и они рекомендовали нам заглянуть в лавочку неподалеку от здания суда, где можно купить лайковые перчатки – по их словам, очень модные и недорогие. Пойти в театр в лайковых перчатках показалось нам очень элегантным, и мы последовали их совету. Молодая красавица за прилавком предложила мне пару голубых перчаток. Я не хотел голубых, но она сказала, что они будут очень мило выглядеть на такой руке, как моя. Эти слова затронули во мне чувствительную струну. Я украдкой посмотрел на свою руку, и она показалась мне действительно довольно изящной конечностью. Я примерил левую перчатку и слегка покраснел. Не было никаких сомнений в том, что она мала. Но все же мне было приятно, когда продавщица сказала: «Ах, как раз впору!» – хотя я и знал, что это не так.
Я усердно дергал перчатку – это была неблагодарная работа. Продавщица сказала:
– О! Видно, что вы привыкли носить лайковые перчатки, но некоторые джентльмены надевают их так неуклюже.
Такого комплимента я никак не ожидал. Я умею изящно надевать только оленьи рукавицы. Я сделал еще усилие, порвал перчатку поперек ладони от основания большого пальца – и постарался скрыть прореху. Продавщица продолжала рассыпаться в комплиментах, а я не отступал от своего намерения заслужить их или умереть.
– О, у вас есть опыт! (Перчатка лопается на тыльной стороне.) Они вам как раз впору… у вас очень маленькая рука… Если они порвутся, вы можете за них не платить. (Прореха вдоль ладони). Сразу видно, умеет ли джентльмен надевать лайковые перчатки, или нет. В этом есть особое изящество, приобретаемое только долгой практикой. (Вся обшивка, как говорят моряки, разошлась по швам, лайка лопнула на пальцах, и остались только печальные руины.)
Я был слишком польщен, чтобы возмутиться и бросить перчатки ангелу-продавщице. Я был разгорячен, раздражен, смущен – и все-таки счастлив; но меня страшно злил тот глубокий интерес, с которым мои приятели наблюдали за происходящим. Я искренне желал, чтобы они провалились в… Иерихон. У меня было чрезвычайно скверно на душе, но я весело сказал:
– Я беру их. Очень элегантны и хорошо облегают руку. Люблю, когда перчатка плотно облегает руку. Нет, нет, не утруждайте себя; я надену вторую на улице. Здесь жарко.
Было таки жарко. В жизни не попадал в более жаркое место. Я заплатил, изящно поклонился и, выходя, заметил, как мне показалось, в глазах красавицы легкую иронию. Очутившись на улице, я оглянулся – она чему-то тихонько смеялась, и я сказал себе со жгучим сарказмом: «Ах, разумеется, ты умеешь надевать лайковые перчатки – еще бы! – самодовольный осел, которого одурачит любая юбка, стоит ей только немного польстить тебе!»
Молчание моих приятелей бесило меня. Наконец Дэн задумчиво сказал:
– Некоторые джентльмены не умеют надевать лайковые перчатки, а некоторые умеют.
А доктор добавил (очевидно, обращаясь к луне):
– Но сразу видно, когда джентльмен привык носить лайковые перчатки.
После паузы Дэн продолжил свой монолог:
– О да, в этом есть особое изящество, приобретаемое только долгой, долгой практикой.
– Еще бы! Я заметил, что если человек тянет лайковую перчатку так, как будто вытаскивает за хвост кошку из помойки, это значит, что он умеет надевать лайковые перчатки; это значит, что у него есть оп…
– Ну, хватит об этом, хватит! Если вам кажется, что вы очень остроумны, так вы ошибаетесь. А если вы вздумаете сплетничать об этом на корабле, я вам этого никогда не прощу, вот и все.
Тогда они оставили меня в покое. Мы всегда стараемся вовремя оставить друг друга в покое, чтобы обида не испортила шутки. Но они тоже купили перчатки. Сегодня утром мы вместе выбросили наши покупки. Перчатки были грубые, непрочные, усеянные большими желтыми пятнами; они не выдержали бы ни носки, ни критических взглядов. Мы встретились с ангелом, но мы не провели его в дом свой, зато он нас провел.
Танжер! Дюжие мавры бредут по воде, чтобы перенести нас из маленьких лодочек на берег.
Глава VIII
Древний город Танжер, Марокко. – Необычные зрелища. – Колыбель Древнего мира. – Мы становимся крезами. – Как в Африке грабят почту. – Как опасно быть марокканским богачом.
Какое великолепие! Пусть те, кто отправился в Париж через Испанию, извлекают удовольствие из своей поездки – владения султана Марокко вполне удовлетворяют нашу маленькую компанию. Мы уже достаточно насытились Испанией в Гибралтаре. Танжер – вот то место, о котором мы все время мечтали. До сих пор мы встречали заграничных людей и заграничного вида предметы, но всегда вперемешку с предметами и людьми, которые были нам известны и прежде, и поэтому новизна обстановки во многом утрачивала свою прелесть. Мы жаждали чего-то вполне и совершенно заграничного – заграничного сверху донизу, заграничного от центра до окружности, заграничного внутри, снаружи и вокруг, чтобы ничто не разбавляло этой заграничности, ничто не напоминало о знакомых нам народах или странах земного шара. И вот мы обрели это в Танжере! Все, что мы встречаем здесь, мы видели раньше только на картинках, – а к картинкам мы прежде всегда относились с недоверием. Но теперь это недоверие исчезло. Мы считали, что картинки преувеличивают, они казались слишком необычными и фантастическими, чтобы быть правдой. И что же – они были недостаточно сверхъестественными, недостаточно фантастическими, они не показывали и половины правды! Если настоящая заграница вообще существует, то это – Танжер, и только одна книга передает его истинный дух – «Тысяча и одна ночь». Во всем городе не видно ни одного белого, хотя вокруг нас густые людские толпы. Город битком набит людьми и втиснут в толстые каменные стены, которым больше тысячи лет. Дома здесь только одно– или двухэтажные, с массивными стенами, сложенными из камня, оштукатуренные снаружи, квадратные, как ящики из-под галантереи, с крышами, плоскими, как пол, без карнизов, побеленные сверху донизу, – город бесчисленных белоснежных гробниц! Двери – те своеобразные арки, которые мы видим на картинках, изображающих мавританские постройки; полы выложены разноцветными ромбовидными плитами, мозаикой из пестрых фарфоровых плиток, обожженных в печах Феса, или красной черепицей и кирпичами, перед которыми бессильно время; комнаты (еврейских жилищ) меблированы только диванами; чем меблированы дома мавров, не знает никто: для христианских собак доступ в их священные стены закрыт. Улицы истинно восточные; некоторые в три фута шириной, другие – в шесть, и только две – в двенадцать; почти на любой из них человеку достаточно лечь поперек, чтобы остановить уличное движение. Настоящий Восток, не правда ли?
По улицам проходят стройные бедуины, величавые мавры, гордые историей своего народа, уходящей во тьму веков; евреи, чьи предки бежали сюда много столетий назад; смуглые рифы с гор – прирожденные головорезы; подлинные, без всякой подделки, негры, черные, как… Моисей; завывающие дервиши; арабы из сотен племен – всевозможные и всяческие заграничные люди, на которых ужасно любопытно смотреть.
Своеобразие их одежд не поддается описанию. Вот бронзовый мавр в громадном белом тюрбане и богато расшитой куртке, подпоясанный пышным малиновым с золотом шарфом, несколько раз обвивающим его стан, в штанах, которые достигают только до колен, но на которые пошло не меньше двадцати ярдов материи, с инкрустированным ятаганом на поясе, с голыми икрами, в желтых туфлях на босу ногу и с ружьем невозможной длины – и всего только солдат! А я-то думал, что это по крайней мере сам султан! А вот престарелые седобородые мавры в длинных белых одеяниях и широких капюшонах и бедуины в длинных полосатых плащах с капюшонами; негры и рифы, чьи головы выбриты наголо, за исключением пряди, закрученной позади уха, или, точнее, на макушке; всевозможные варвары во всевозможных причудливых одеждах – и все более или менее оборванные. А вот закутанные с ног до головы в грубые белые одеяния мавританки, чей пол можно определить лишь потому, что они оставляют открытым только один глаз и на улице не смотрят на мужчин своего племени, а те не смотрят на них. И пять тысяч евреев в синих, перетянутых поясом лапсердаках, в туфлях, в маленьких ермолках на затылках, с подстриженными на лбу волосами – все по той же моде, по какой стриглись их танжерские предки не знаю уж сколько столетий. Пятки и лодыжки у них обнажены. Носы у всех крючковатые, одинаково крючковатые. Они все так похожи друг на друга, что можно принять их за членов одной семьи. Их женщины – пухленькие, хорошенькие и улыбаются христианину самым приятным образом.
Какой это странный город! Среди памятников его седой старины смех, шутки и наша современная легкомысленная болтовня кажутся профанацией. Такой глубокой древности, как эта, подходит только звучный язык и размеренная речь сынов Пророка. Вот полуразрушенная стена, которая была уже старой, когда Колумб открыл Америку; была уже старой, когда Петр Пустынник поднял отважных людей Средневековья на первый Крестовый поход; была уже старой, когда Карл Великий и его паладины осаждали заколдованные замки, сражались с великанами и чародеями в давно прошедшие сказочные времена; была уже старой, когда Христос со своими апостолами ходил по земле; и стояла там, где стоит теперь, когда еще звучал голос Мемнона и люди продавали и покупали на улицах древних Фив!
Финикийцы, карфагеняне, англичане, мавры, римляне – все сражались за Танжер, все завоевывали его и теряли. Вот облаченный в рваный восточный наряд негр из африканской пустыни наполняет свой козий мех водой у почерневшего, потрескавшегося фонтана, построенного римлянами двенадцать веков тому назад. Вон там – обрушившаяся арка моста, возведенного Юлием Цезарем девятнадцать веков тому назад. Быть может, по нему проходили люди, которые видели младенца Христа на руках Девы Марии.
Неподалеку – развалины верфи, где Цезарь за пятьдесят лет до начала христианской эры чинил свои корабли и грузил их зерном, готовясь вторгнуться в Британию.
И кажется, что на этих старых улицах, под тихими звездами, толпятся призраки забытых столетий. Я смотрю на то место, где стоял памятник, который видели и описывали римские историки всего две тысячи лет назад, памятник с надписью:
Иисус Навин изгнал их, и они пришли сюда. Всего в нескольких лигах отсюда живут потомки тех евреев, которые бежали сюда после неудачного восстания против царя Давида; над ними все еще тяготеет проклятие, и они держатся особняком.
Танжер упоминается в истории на протяжении трех тысяч лет. Он уже был городом, хотя и несколько необычным, четыре тысячи лет тому назад, когда облаченный в львиную шкуру Геркулес высадился здесь. На этих улицах он встретил Анития, местного царя, и разбил ему голову палицей, как это было принято между благородными джентльменами в те дни. Жители Танжера (тогда он назывался Тингис) ютились в самых примитивных лачугах, одевались в шкуры, не выпускали из рук дубины и были так же свирепы, как те звери, с которыми им приходилось вести постоянную войну. Но они были благородным племенем и не желали трудиться. Они питались дарами земли. Загородная резиденция царя находилась в знаменитом саду Гесперид, расположенном на побережье, в семидесяти милях отсюда. Этот сад вместе со своими золотыми яблоками (апельсинами) ныне уже не существует – от него не осталось никаких следов. Знатоки античного мира допускают, что Геркулес действительно мог существовать в древности, и признают, что он был человеком предприимчивым и энергичным, но отказываются считать его настоящим, подлинным богом, ибо это противоречит конституции.
Неподалеку, на мысе Спартель, находится знаменитая пещера Геркулеса, где этот герой укрылся после того, как был побежден и изгнан из Танжера. Она вся исписана изречениями на мертвых языках, и это заставляет меня сделать вывод, что Геркулес вряд ли много путешествовал, иначе он не стал бы вести путевой дневник.
В пяти днях пути отсюда – милях в двухстах – найдены развалины древнего города, о котором не сохранилось ни летописей, ни легенд. И все же его арки, колонны и статуи свидетельствуют о том, что он был построен просвещенным народом.
Обычная танжерская лавка не больше ванной комнаты в какой-нибудь цивилизованной стране. Мусульманский купец, медник, сапожник или мелочной торговец сидит на полу по-турецки и, не вставая, достает любой товар, который вам понравится. За пятьдесят долларов в месяц можно снять целый квартал этих пчелиных сот. Базар загроможден корзинами инжира, фиников, дынь, абрикосов и других фруктов, а между ними лавируют вереницы груженых ослов, ростом не больше ньюфаундленда. Базар полон жизни и красок, а запахами напоминает зал полицейского суда. Рядом евреи-менялы в своих каморках весь день напролет считают бронзовые монеты и перекладывают их из одной корзины в другую. Судя по всему, новых денег чеканится мало. Все монеты, которые я видел, были четырех-пятисотлетней давности, очень стертые и исцарапанные. Деньги здесь дешевы. Джек вышел разменять наполеондор, чтобы запастись мелочью, удобной при здешних низких ценах, и, вернувшись, сказал, что он «изъял всю наличность банка, купив одиннадцать кварт монеты», и что «глава фирмы пошел к соседям договариваться о займе недостающей суммы». Я сам купил почти полпинты этих денег за один шиллинг. Впрочем, я не горжусь тем, что у меня теперь так много денег. Я презираю богатство.
У мавров в ходу небольшие серебряные монеты, а также серебряные слитки, стоящие доллар. Последние – настолько большая редкость, что, увидев подобный слиток, оборванные арабские нищие умоляют позволить им поцеловать его.
Кроме того, здесь в ходу небольшая золотая монета стоимостью примерно в два доллара. Кстати, об этой монете. Когда Марокко воюет, письма развозят курьеры арабы, взимающие высокую плату за доставку. Порой их захватывают и грабят шайки мародеров. Поэтому они, наученные горьким опытом, собрав два доллара мелочью, торопятся обменять ее на такую золотую монетку, которую можно проглотить, если попадешь в руки бандитов. Все шло очень хорошо, пока эту хитрость не раскрыли. Но теперь мародеры попросту дают изобретательной почте Соединенных Штатов рвотное и ожидают результата.
Султан Марокко – бездушный деспот, а его сановники – деспоты помельче. Постоянной системы налогового обложения не существует, но когда султану или паше нужны деньги, они требуют их у какого-нибудь богача, и тому приходится либо выкладывать наличные, либо отправляться в тюрьму. Поэтому в Марокко немногие рискуют быть богатыми. Это слишком опасная роскошь. Иногда кто-нибудь из тщеславия выставляет свое богатство напоказ, но рано или поздно султан в чем-нибудь обвиняет его, – в чем именно, большого значения не имеет, – и конфискует его имущество. Разумеется, в государстве немало богатых людей, но они прячут деньги, одеваются в лохмотья и притворяются бедняками. Частенько султан заключает в тюрьму человека, подозреваемого в богатстве, и делает его пребывание там столь неприятным, что тот вынужден бывает сознаться, где спрятал свои деньги.
Мавры и евреи иногда прибегают к покровительству иностранных консулов, и тогда они могут безнаказанно колоть султану глаза своим богатством.
Глава IX
Паломник на краю гибели. – Как починили часы. – Марокканские наказания. – Хитроумные уловки мусульманских паломников. – Почитание кошек. – Блаженная жизнь генерального консула.
Первое же приключение, которое произошло с нами вчера днем, сразу после того, как мы сошли на берег, чуть было не оказалось роковым для нашего опрометчивого Блюхера. Едва мы сели на мулов и ослов и тронулись в путь под охраной величественного, царственного, великолепного Хаджи Мохаммеда Ламарти (да умножится племя его!), как очутились возле красивой мавританской мечети, богато украшенной в стиле Альгамбры, с высоким минаретом, выложенным разноцветными фарфоровыми плитками, и Блюхер повернул своего осла в открытые двери. Испуганное «хай-хай!» нашей свиты и громкое «стойте!» англичанина, присоединившегося к нашей экскурсии, остановили дерзкого искателя приключений, и нам тут же сообщили, что если христианская собака осквернит прикосновением своей ноги хотя бы порог мавританской мечети, святотатство так велико, что никакое очищение не сможет снова сделать ее местом, пригодным для молитв правоверных. Войди Блюхер внутрь, его, без сомнения, прогнали бы через весь город, побивая камнями, а раньше – и не так давно – христианина, застигнутого в мечети, убили бы без всякой пощады. Проезжая мимо, мы успели разглядеть чудесный мозаичный пол и молящихся, совершавших омовение у водоема, но даже и этот брошенный нами мимолетный взгляд очень не понравился мусульманским прохожим.
