Шестьдесят килограммов солнечного света
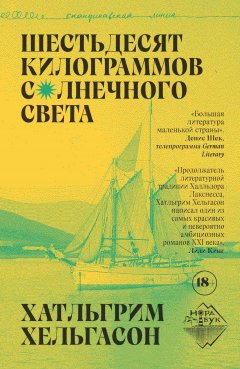
© Hallgrímur Helgason, 2018 Title of the original Icelandic edition: Sextíu kíló af sólskini
© Ольга Маркелова, перевод на русский язык, 2023
© ИД «Городец», издание на русском языке, оформление, 2023
Книга 1
Из сугроба ты вышел
Глава 1
Адам на ледяной пустоши
Вначале страница была пуста: просто чистый белый лист бумаги. Нигде – ни черной былинки: ни точки, ни запятой. Фьорд был одной слепой снежной целиной: от водопада в глубине долины до самого берега моря, и непонятно было, что там под снегом: земля или вода. Пороша стерла все следы пребывания человека, и фьорд лежал под северным небом такой же нетронутый, как в тот день, когда его открыли – а это было 999 лет тому назад.
И вот на эту чистую страницу выходит герой: ковыляет человек, притаскивается изможденный дух с заиндевевшей бородой, в пропотевшем свитере – осунувшийся мужчина, который просто не может носить другое имя, кроме имени Эйлив [1] Гвюдмюндссон. Он останавливается на горном перевале и смотрит на свой родной фьорд, который больше не фьорд, а белая страница – чистая, пока не началась история. И вот он входит на нее и кладет истории начало – прокладывает следы, с каждым шагом чуть ли не по колено проваливаясь в снег своими шерстяными носками и башмаками из акульей кожи. Мы слышим его дыхание – пыхтение, он запыхался от ходьбы, но сейчас его вдобавок еще и бросило в жар; он ничего не может понять: в этом месте у него стоял хутор, где были и домочадцы, и скотина – но сейчас он не видит своего жилища, – а ведь буран, бушевавший целых три дня кряду, уже улегся, и небо подобрало свой снежный шлейф.
Эйлив Гвюдмюндссон спешит спуститься с перевала, разбрызгивая вокруг себя сухой снежок, словно льдиноборóдая паровая машина. И мы следуем за ним – взмокшим, зябконогим, несущим мешок рождественской пшеничной муки – и слышим его пыхтение. Его мы слышим даже лучше, чем он сам, ведь мы – книголюбы – воспринимаем вещи с удобной дистанции, окруженные той самой идеальной книжной тишиной, которая обычно царит вокруг пододеяльников, и с наслаждением сопереживаем чужим страданиям при свете лампы на ночном столике.
По мере спуска с горы пороша превращается в сугробы, сугробы в снега, а снега – в наст. Сейчас пешеход проваливается лишь по щиколотку, приближаясь к тому, что он считал своей жизнью, своим жильем, которое на картах именовалось Перстовая хижина, а теперь его больше нет, и само его название тоже завалило снегом. Солнечный утес – и тот исчез, а ведь он – самая надежная примета, он всегда стоит частично незаметенным, словно неколебимый заповедный ориентир, словно щит для объявлений о сегодняшнем и завтрашнем дне. А теперь – не за что ухватиться в жизни, держалки никакой не стало, и вот хуторянин стоит там, где раньше был его дом, выпускает из себя облако пара и глядит из этой прозрачной дымки большими черными зрачками – единственными темными точками в этой белизне: они катаются по дну долины, словно две горошины по тазу.
«Что за черт, я прямо как «Адам среди снегов» в стихах нашего Лауси!» – подумал Эйлив Гвюдмюндссон и машинально начал бормотать знаменитые строчки из «Книги Лауси», в которой этот плотник-язычник, по полному имени – Сигюрлаус с хутора Нижний Обвал, привязал к родным местам различные сюжеты из Пятикнижия Моисея, чтобы скоротать зиму, когда ему пришлось сидеть без досок.
- Среди снегов Адам стоял
- В костюме Евы.
- А в его жилах снег играл
- Свои напевы.
Отчаяние Эйлива было так велико, что ему даже пришлось снять свою шапку с наушниками. Посредине его заледеневшей бороды протаяла широкая дорожка. Она пролегала от носа до рта, а к подбородку исчезала; в той местности это называлось «оттепель в носу». Его космы спускались вдоль крупных ушей мокрыми от пота изгибами, а на макушке поблескивала сорокалетняя плешь. Он шагал взад-вперед по тому месту, где должен был стоять его хутор – где по всем приметам просто обязан был стоять его собственный хутор, который сейчас вымарали со всех карт, – разевая пасть как собака, которая чует запах, но не находит куска. Но в конце концов он остановился и стал смотреть в сторону устья фьорда. Церковь в Сугробной косе – и та исчезла из виду, а ведь она была с колокольней и выкрашена в черный цвет. Корабли Кристмюнда из Лощины, выходившие на промысел акулы – и те были невидимы, а ведь эти смоленые суда никогда не были добычей снежной слепоты, они всегда вздымали свою парусоподвязанную высокомачтовость у берега близ самого крупного хутора в Сегюльфьорде. Неужели так намело – или это разом обрушились целых четырнадцать лавин? Да еще утром самогó Рождественского сочельника?
Глава 2
3 кг пшеничной муки
Хуторянин Эйлив из Перстовой хижины был в отъезде десять дней, из них четыре – в дороге домой, а ведь в иной погожий день она заняла бы всего лишь пять часов пешком. Целых три раза он пытался переправиться через перевал Подкову, чтобы попасть из Хейдинсфьорда в Сегюльфьорд, но его дважды отгоняли обратно к хутору Угор супруги Буран и Вьюга. Во вторую из этих попыток он был не в состоянии шевельнуть рукой: ветер так бушевал, что даже не давал ему поднять ладонь, чтоб заслонить голову. Настал день святого Торлаука[2], и Эйлив вознамерился во что бы то ни стало добраться домой до вечера. Дома его ждали жена и дети, – а если у них не будет пшеничной муки, то какое уж Рождество! Но вот – хуторянин полдня провел в борьбе с ветром, во время которой Буран беспрестанно пулял по нему из своего дробовика (дробь с юга градом сыпалась ему на левую щеку). Наконец человек сдался и повернул вниз, в долину, но тогда и Буран тоже повернул и задул с востока: Эйливу пришлось ползти вниз по склону на четвереньках, а пять часов спустя он еле-еле добрался до дома супругов Крёйеров на хуторе Угор.
Его ввели в коридор землянки на хуторе[3], словно полуоттаявшего выходца с того света в поскрипывающем панцире, а затем и в горницу, – а ему показалось, что та сияет алым, почудилось, что свет жирника имеет кроваво-красный оттенок, напоминающий дома веселья в Южных морях, о которых однажды читал ему Лауси с хутора Обвал в книжке «В сторону моря».
– А… уже Рождество? – вымучил Эйлив сквозь искусанные стужей губы и почувствовал страх: он подвел своих близких! – И, сказав таковы слова, приблизился он к чернокаменному зеркалишку на столбе и узрел в нем облик свой: глаза налиты кровью до самых зрачков, а в середине зрачка трепещет полная луна на мудреном небе, – и ясно увидел он, что игольное ушко его души омыто кровавым светом луны, ибо пред взором его было красно. Тут сбили с него большую часть сугробов, а потом отвели из горницы по коридору в кухню, где дали постоять над очагом, пока двое человек счищали с него снег. И напустился на лед огонь, и тогда восплакало и возрыдало все его тело.
И все это – ради трех килограммов муки, и пирогов, и хлеба!
Глава 3
Киоск с окошком
В сегюльфьордском торговом кооперативе, размещавшемся в углу складского помещения в Сугробной косе, после целого месяца льдов на море закончились товары, зато прошел слух, что в Оудальсфьорде стоит торговое судно. Из устья фьорда на восток параллельно берегу тянулась узенькая полоска открытой воды среди льдов, и по ней пробиралась шхуна, словно усатый кит, увенчанный парусами и длинным бушпритом. “Fanden splitte mine bramsejl!” [4] – раздавались мысли на этом судне, – кто-то ведь должен возить им муку, этой бедноте колченогой, кормить-то этот проклятый народ надо, но не спрашивайте, почему – и почему именно мне? А в тех товарах, которые они предлагают взамен, ценности немного: топленый акулий пот, палки запекшейся крови[5] да высохшая от старости треска…
Такими были датские мысли, правившие этим торговым судном, – а датчане уже много веков владычествовали над этим народом, и в этом союзе двух стран терпение обеих истощилось до предела, ведь из всех колоний мира Исландию оказалось труднее всего угнетать. Господ уже давно раздражали все эти расходы, и в Исландии все датчане ходили угрюмые.
Так что датчанин – капитан корабля – не желал, чтоб по его палубе шлялись обитатели нищих исландских хижин, и отпускал товары через круглое окошко в корме. Это был, можно сказать, первый в истории Исландии киоск с окошком. Покупатели подгребали на лодках к борту корабля, выкрикивали в дырку название и количество из своих больших и впечатляющих списков покупок, а затем бросали туда свой мешок. Жутко долгое время спустя он возвращался назад в руке датчанина, а полномочный представитель народа-покупателя, исландский купец, приехавший из другого полушария, столицы Четверти[6], самого Фагюрэйри, – клал на датскую ладонь монету. Затем он записывал в книгу, сколько тому или иному голодранцу отпущено в кредит. Такая уж тогда была экономика. В этих трех фьордах денежной купюры не видели с тех давних пор, как в церкви в Сугробной косе однажды выступал один чудной странствующий пастор. В доказательство существования дьявола он размахивал пылающей «пятикопытной» купюрой, утверждая, что она-де служит платежным средством в преисподней. Торговцу отдавали в уплату кожи и рыбий жир, мясо и овечьи головы и брали у него под запись бреннивин[7], сахар и башмаки.
Торговцем обычно бывал тот, кто в поселке носил самое красивое имя (Сигурд Скьёт, Элиберт Хансен…), лучше всех одевался и разговаривал по-датски. Он должен был обладать окладистой бородой, солидным видом и радушием, но при этом крайне неохотно отпускать товары, особенно хмельное. Последняя черта считалась специфически исландской: исландские торговцы – единственные в мире, кому было жаль продавать свой товар, каждая «продажа» была для них разочарованием, каждого «клиента», которого угораздило притащиться к ним в лавку, они встречали вздохом. Из-за бескупюрной экономики и удаленности от мировых портов торговец смотрел на склад товаров как на собственное имущество, нажитое тяжелым трудом – и поэтому расставался с ним неохотно. Было очевидно, что обтянутые кожей деревянные башмаки, сработанные каким-нибудь искусником в Гамбурге, а может, в Хеллерупе[8], и выставленные на полке в исландском фьорде, проделали сюда такой же далекий путь, как китайский шелк – до Копенгагена. Так что торговцу оставалось только одно: заломить цену за этот товар, надеясь, что тогда его никто не купит. Так сложилась особенность исландской торговли, сохранившаяся и до наших дней: продать как можно меньше, зато как можно дороже. Некоторые торговцы доходили даже до того, что сами пользовались товаром, пока он не был продан, например, подтяжками и сервизами. На таких вещах это незаметно, и их всегда можно заново выставить в лавке. Однако на торговцев минувших веков без конца наседал нуждающийся народ, изнуренный голодом и рабством, поэтому их работа была трудной и неблагодарной, и не всем удавалось одинаково хорошо беречь свой склад.
А тот благородный господин, о котором речь пойдет в нашей повести, – красивоусый Эдвальд Копп – как раз отъехал непривычно далеко от дома, от родных прилавка и кассы в Фагюрэйри, и по этой причине суетился и нервничал. Его родной Эйрарфьорд, как и все другие фьорды, затянуло льдом (мороз чинов не спрашивает), и к кораблю нигде нельзя было подплыть – только в этом невзрачном Оудальсфьорде, где жили разве что одни тюлени. Торговцу пришлось трое суток вместо шляпы надевать на голову шапку, спать под крышами землянок, переправляться на коне вплавь через целые ущелья, заполненные снегом, и даже перейти одну горную пустошь с конем в поводу. Но его толстое брюхо при этом не убралось (после трех бесплатных обедов, где ему подали варено-копченую баранину со скиром[9]), и у берега он выпятил живот, так что с моря было видно, что за человек едет: det var en mand med maend! [10]
Да уж, этот народ не весь из сугроба выполз, и здесь встречались люди, накопившие жирок!
Затем он извлек из футляра цилиндр и попросил переправить себя на корабль стоя, так что позади него красиво развевались полы жакета. Спустя один полдень он вернулся назад, слегка подшофе, и отобрал с собой в корабельную шлюпку троих хуторян в одежде овечьих цветов: пусть, мол, сами подают и забирают свои мешки через датский иллюминатор, он не желает о них мараться! Это была вынужденная мера: киоск с окошком предназначался для жителей ближайшей округи, однако жажда хлеба привела к нему множество хуторян из других, совсем уж дальних краев, даже тех, кто не был записан в книгах у Коппа, но надеялся, что торговец войдет в их положение. И хотя эпоха торговой монополии[11] в Исландии уже давным-давно закончилась, у торговцев все еще были «свои» хуторяне, а у хуторян – «свои» торговцы.
Глава 4
99 форелей
Эйлив пришел поздно: жидковатый свет в небесах уже угасал, большинство хуторян разошлось по домам, назревал большой буран. Но одна возможность съездить в киоск все же еще оставалась: однорукий хуторянин с Двойной скалы в Оудальсфьорде со своей неизменной буранной усмешкой уселся в лодку и без дела сидел там на скамье напротив гребца-датчанина, безбородого мальчишки с лихорадочно-красным лицом; из почтения к Коппу и датской короне он ухитрился одной рукой стащить с себя шапчонку и так и сидел в лодке с непокрытой головой, несмотря на холод. А торговец все еще стоял на взморье, когда к нему вдруг принесло такую важную птицу с мешком:
– Перстовая? Нет, тебе я кредита не давал!
– Нет, мы – сегюльфьордские, всегда кредитуемся в лавке в Сугробной косе, у Сигюрда.
– А здесь что ты забыл? В моем omrĺde [12], на моем корабле…
– Ну это… У него, родимого, зерно закончилось. На море же льды.
– Что это за непутевый торговец, у которого склады пустеют! И что же это за хозяйство?
– Да, Сигюрд говорит, ему на мешках плохо спится.
– А! Вот как? А что ты мне дашь? В Сегюльфьорде, поди, денег не печатают?
– Я тут подумал… ну, тринадцать форелей за три килограмма пшеничной муки. Понимаете, Рождество… и жена…
– Ах вот как! Рождество и жена? Так-так! И где же твои форели?
– У меня в озере.
– Вот как? А почему ты их не принес?
– Ну там же все заледенело. А лед-то сейчас толстый.
– Вот как? И когда же мне их ждать?
– К весне. Могу сдать их весной.
– Тринадцать непойманных форелей за три килограмма муки?! А я скажу: тридцать три форели за каждый килограмм!
Торговец слегка запинался в конце фраз, и Эйлив, как и все вокруг, понимал, что это действует капитанский ром. Чуть выше на взморье стоял конюх торговца с лошадьми, собакой и двумя непонятными человечишками; они слушали этот разговор, а чуть поодаль двое хуторян корячились над свертками новоприобретенной тяжести и собирались вместе со своими собачками пуститься в путь домой.
«Девяносто… форелей?» – повторил Эйлив, чувствуя, как его сердцу становится жарко, и оно разом выпускает в кровь семнадцать разных дум. Что можно на такое ответить?
– Ja, ni og halvfems ørreder! [13]
Эйлив ненадолго взглянул на пьяное лицо торговца: этот маленький носишко, крупные щеки, эти навощенные усы, эти глубоко посаженные глазки под твердой-твердой шляпой. И вдруг он представил себе, как девяносто девять форелей воспаряют из Перстового озера погожим весенним вечером, плывут по воздуху вглубь фьорда, через горы, долго-долго летят по небу, а потом вереницей прилетают в Фагюрэйри, к деревянному дому Коппа, выстроенному в норвежском стиле, засасываются в дымовую трубу, вылетают из кухонной плиты и мчатся прямо по коридору (предводитель рыбьего косяка сразу найдет, где у них столовая), потом одна за одной прошмыгивают к концу стола (под люстрой) туда, где сидит господин Копп, осалфетившись и разинув рот, – в который эти рыбы и впрыгивают поочередно на большой скорости. А торговец девяносто девять раз глотает.
Вот что он увидел. Но ничего этого так и не высказал. Они просто стояли там друг напротив друга: долговязый хуторянин-изнуренка и шикарный толстозад. У одного из носа и рта струился пар дыхания – человеческая машина дымила, – а от другого ничего не струилось, судя по всему, его вырезали из цельного куска дерева. И как этому маленькому деревянному человечку удавалось смотреть на такого верзилу сверху вниз? Его высокий цилиндр доходил Эйливу лишь до глаз. При таком положении головы торговца хуторянин видел круглую площадку – верх цилиндра, больше всего напоминавший кусочек пленительного рая: хотя с небес порой летели снежинки, на сию благородную кровлю они не ложились. Но вдруг в лице Коппа что-то начало подрягивать, и через пару снежинок он повернул голову в сторону моря, из его рта вылетела струя рвоты и, описав длинную величественную дугу, со смачным бульканьем коснулась воды.
Эйлив бросил взгляд на лодку и заметил, что человеком, посреди его разговора с Коппом шагнувшим в шлюпку и притулившимся рядом с одноруким гримасником, был не кто иной как работник Кристмюнда из Лощины по имени Якоб – с мощными челюстями и бородой-воротником. Почему подняться на корабль дали ему, а не Эйливу? Они же оба из Сегюльфьорда, то есть из другого торгового округа! И вот он увидел, как этот Якоб очень изящно кивнул ему, и это движение выражало все разом: 1) Ну что, приятель, зерно кончилось? Вечно у тебя одно и то же! 2) Ты и впрямь считаешь, что для тебя и для нас, лощинцев, порядки одинаковые? 3) Да нет, Копп, конечно, – попросту сбрендивший сквалыга, он и пить-то не умеет, вон, смотри: роскошный обед, который съел на корабле, таким жалким образом выблевал!
Торговец все еще соплечавкал на взморье, согнувшись в три погибели. Цилиндр свалился с него. Эйлив видел, как ветер гонял его по заснеженной приливной полосе: черное на белом, как блестящая гроздь из роскошного сада, которая упала в убогий заледеневший мир и теперь перекатывалась там. Тут он увидел свой шанс, сделал нужные шаги и подобрал цилиндр, пока тот не улетел к конюху.
Обитатель землянки подобрал шляпу торговца и стоял с ней на взморье, словно робкая девушка с букетом цветов, а маленький большой человек тем временем завершал свое дело. Наконец Копп выкашлял последние капли слюны, поднялся. Огляделся – голова словно закатное солнце над поблескивающей серой гладью моря: «Где моя шляпа? Где моя шлюпка? Где я вообще нахожусь?» И торговец побрел обратно, ступая своими французскими кожаными сапогами по щиколотку в морскую пену, и от его прежнего запала не осталось и следа, казалось, его одолела усталость: каких же, черт побери, хлопот стоит попытка представить этих виртуозов голода иностранцам!
Копп без слов подошел к своему цилиндру, словно мать к ребенку, и взял его из рук Эйлива, затем вновь повернулся к морю и подозвал шлюпку. Но пока гребец-датчанин отчаливал, торговец развернулся и что-то крикнул тому долговязому – нечто, что могло означать «Ну подойди же!» или «Проваливай к черту!». В представлении хуторянина это значило одно и то же, и он побрел к воде. И пока он стоял там перед верткой лодкой с тремя сидящими людьми и одним стоящим торговцем, с его уст сорвался таковой вопрос:
– А что насчет цены за килограмм? Тридцать три форели за килограмм мне нипочем не заплатить!
– Да ну! Пошли! Как-нибудь устроим… – крикнул ему Копп заплетающимся языком.
Цилиндроносец, кажется, изблевал из себя почти всю свою надменность, и сейчас в его глазах светилось редкостное и тем более удивительное понимание. Значит, во всем этом убожестве все же крылась какая ни есть удача? Этим декабрьским днем у Ледовитого океана всем управляла какая-то милостивая рука? Рука Всевышнего? Нет, вряд ли, подумал Эйлив, в лучшем случае отсутствующая рука однорукого хуторянина с Двойной скалы, который ждал в лодке, окруженный облаком собственного дыхания. Эйлив выделил себе миг на размышления об этом вопросе: на его вкус, все было весьма непонятно. Как и лодка, и тот самый добрый цилиндр, цена за килограмм плясала перед ним на волнах вечно беспокойного моря, а потом он вспомнил, что его ждет Рождество дома, лица доброй Гвюдни и детей, – и шагнул в ту ледяную бесформенность, которой зачастую отличается торговля в Исландии, перелез через борт и нашел себе место на передней скамье, позади лихорадочно-красного гребца.
Он увидел, как цилиндр над плечами датчанина склонился на корму, позади работника Якоба, с усталой ухмылкой расправлявшего свою бороду-воротник. Рядом с ним по-прежнему сидел однорукий со своей извечной буранной усмешкой. Но сейчас она была как раз к месту: началась нешуточная пурга.
Разве это что-нибудь сулит, кроме верной погибели? – думал Эйлив. Неужели он действительно собирается поверить словам пьяного торговца? Но в следующие мгновения он увидел перед собой лишь громадные руки управителя мира, которые появились из вселенской тьмы и оттолкнули датскую шлюпку от берега. Так уж устроен мир, так он вертелся, одно сменялось другим: кто в один миг сел в лодку, в следующий уже будет в море. На глазах стемнело, туча над морем спустилась на тон ниже, и соответственно этому буря разбушевалась еще сильнее. Берег ответил порывом ветра, с него длинной дугой поднялась метель, заплетаясь в воздухе, словно плеть, которой погоняют зверя непогоды, крича в его длинные повислые уши: «Трогай!»
Утомленный делегат в ту ночь выспался в датском корабле, а виртуозы голода отправились восвояси, домой, к трудам, исчезли в тумане, словно лошади с обернутыми кожей копытами.
И вот, сейчас Эйлив стоял здесь, на широком снежном покрывале, обливаясь по́том от страха, и думал: Три килограмма муки – за это все? Три килограмма муки – за мое жилище, жену, детей, корову? Три килограмма муки – за всю мою жизнь?!
И тут он услышал у себя под ногами мычание. Он вдруг услышал мычание под снегом.
Глава 5
Ромул в снежной обители
– Му-у! Му-у!
Эйлив начал копать в том месте, откуда доносился звук. Корова продолжала мычать. Звучало это как труба из потустороннего мира. Из нижнего. Он не мог ничего с этим поделать: он представлял себе бурого пятнистого человека, дующего в золотую трубу длиной с косовище, заканчивающуюся внизу изгибом, напоминающим лезвие косы.
О, Хельга, моя Хельга! Где же ты, родимая?
Он выкопал в снегу две дыры, но ему все время казалось, что корова Хельга где-то сзади, и он принимался рыть в новом месте. Может, это «му» было только у него в голове? Да, конечно, корова запросто могла быть у него в голове, конечно, туда вмещалась целая корова, целый хлев, этот фьорд, эти горы, да и весь белый свет. Конечно, всему этому было место в голове у одного человека.
Так думал Эйлив.
Он часто так думал, даже в решающие моменты – о какой-нибудь несусветной ерунде, не относящейся к делу, и это нередко создавало ему трудности. Например, когда сислюманн[14] давным-давно допрашивал его насчет того куска дельфинятины, он сидел, разместив свои ноги-ходули, обносоченные до колен, напротив самой сислюманновой холеной бороды – и вдруг начал думать о яйцах. О большом множестве яиц. Перед его внутренним взором на заднем плане тянулись длинными рядами тысячи яиц, и его мысли дали ему чайную ложечку и велели ударять каждое яйцо по темечку и подсчитывать, сколько он стукнул. Задание было крайне мудреное – а тут еще ему надо было одновременно отвечать на вопросы сислюманна.
– Что вы делали на берегу в вышеозначенный вечер?
– Яйца бил.
– Простите, как это понимать?
– Да там поднимать не надо: ложкой стукнешь – и все.
Эти яйца надежно обеспечили ему два месяца тюремного заключения в столице. Честно признаться, он ожидал его с радостью: тогда он наконец смог бы уехать из этого вилкообразного трехфьордия. Он был записан батраком в Лощине, а значит, был прикреплен к сельской местности так же прочно, как камни в ограде. Для такого человека тюремное заключение с сопутствующим плаванием на юг, в столицу, было почти как кругосветное путешествие. Однако из-за льдов на море в ту зиму приговор не удалось полностью привести в исполнение, а в следующую зиму за ним не прислали. Исландское правосудие славилось подобной медлительностью, и часто от преступления до допроса проходили годы, а от допроса до приговора и от приговора до тюремного заключения – еще дольше. Иным приходилось в старости отбывать наказание за преступления, совершенные в молодом возрасте. Но большинство простых людей относились к этому спокойно; ведь они уже давно пришли к выводу: что сидеть в тюрьме, что ходить в батраках – разницы почти никакой. Степень несвободы была схожей, хотя работникам дозволялось раз в год переходить к другому хозяину. Зато в темнице, как говорили, трудиться не требовалось.
Эйлив издавна принадлежал к этому сословию, вмещавшему большинство жителей страны и в чиновничьих бумагах именовавшемуся «работными людьми». Поскольку все пригодные земли в Исландии уже были заняты, и вся страна, от мысов до долин в глубине острова, «запродана», работникам вменялось наниматься к какому-нибудь фермеру; этот вид кабалы назывался батрачество. Батраки подчинялись строгому домострою. Им было запрещено вступать в брак и заводить детей. Это исландское рабство, существовавшее веками, недавно было упразднено законом. Но с законами дело обстояло так же, как и с правосудием: чтоб добраться до севера страны, им могли потребоваться десятилетия. Исландских рабов все же не оставляли совсем без жалованья, так что Эйливу за двадцать лет удалось накопить на трех ягнят и одну крышу над головой. Он выстроил себе землянку и стал мелким хуторянином – владельцем хижины с женой, детьми и коровой – где бы они все сейчас ни были. Но приговор все еще висел над ним – видимо, в судебной системе про него забыли. И сам он умудрялся забывать про него на долгое время, хотя, если ему случалось искать овец в горах в лютую непогоду, он порой согревался мыслью о том, что когда-нибудь отправится на юг в уютную тюрьму.
Эйлив снял рукавицы и надетые под ними варежки и вновь принялся раскапывать снег своими длинными пальцами, но опять услышал мычание в голове, метнулся вверх и назад и всплеснул руками: «Что, мол, за черт…» И вдруг провалился в снежную целину по пояс, в какую-то дыру – и это была дыра между тем и этим светом, и Эйлив исчез со снежной целины и угодил вниз, в свою прежнюю жизнь, и теперь от него не осталось и следа, лишь мешок с рождественской мукой: обветшавший побуревший мешок из дерюги.
Эйлив нащупал под собой ступеньку и вскоре высвободился из рассыпчатого снега, скрывавшегося под настом. Он насчитал восемнадцать снежных ступеней в сугробный мрак, непохожий на другие виды мрака, потому что в нем был снежный отсвет. Сердце усилило трепет и принялось посылать ему стрелы мыслей, на острие которых были глаза его детей и… Значит, она все-таки выкопалась, значит, она жива! И здесь они все – и корова!
Наконец он добрался до самого низу, его грубообутые ноги нащупали пол – своего рода пол, и сейчас корова замычала громче, чем прежде. Он сползал своим длинноногим телом вниз по ступенькам, а задом – по ледяному полу, пока не высвободился из этого странного белого коридора и не оказался внизу. Здесь его ждал коридор землянки, темный и тесный, и в конце концов ему пришлось продвигаться там ползком, так как из-за снегопада потолок частично обвалился; в глубине коридора сверкал большой сугроб. Эйлив вполз на четвереньках в бадстову[15], и там его взорам предстали… глаза – два больших глаза его малютки Геста, который глядел на рождественского духа – своего отца, круглые глазенки, словно сероватые латунные пуговицы, сияющие в снежном полумраке. Из угла рта у него тянулась молочная дорожка, а рукой он держался за сосок, он сидел у вымени, словно Ромул без Рема – двухлетний мальчуган, вскармливаемый коровой. Корова Хельга лежала в своем стойле. Она повернула к хозяину свою большую голову, закатила глаза, еще промычала и рьяно потрясла головой, так что ее хлопающие уши намели ледяной крошки со снежной стены, теперь подступавшей к самому стойлу. Она, очевидно, крепко обиделась на то, как он поздно пришел.
Наискосок над хребтом коровы убого висела крыша бадстовы – да, это была именно она: крыша «бадстовы с хлевом». Она была ломаной-переломаной, а в одном месте на ней, словно подкладка на рваной одежине, проглядывал снег. Один ее конец завалился на пол, а второй накренился, и его подпирали три бревна, которых раньше не было: очевидно, их подставила под крышу жена, а в остальном помещение было одной большой кучей снега. Вот они бы мне еще посмеялись за то, что я крышу покрыл досками внахлест!.. Эйлив обвел помещение глазами и тут увидел под снежным курганом по левую руку рядом с собой ноги – то была его любовь, радость и жизнь: две аккуратные ноги – те, что обеспечивали ему связь с землей, обутые в свои домодельные башмаки из овечьей кожи[16] с голубым узором на плюсне, который умела вышивать только Гвюдни – лишь она одна в целом фьорде. Суд божеский на небесах, враг нечистый в преисподней, – да ведь она…
А где же девочка? Моя девчушка!
Малыш Гест – румяный двухлетний мальчуган, сейчас что-то лепетал, протягивая ручки, и Эйлив поспешил к нему и обнял: бутуз мой милый, что же у вас тут стряслось? Корова вновь взглянула на хозяина, и на мгновение ее глаза сделались человеческими и рассказали ему обо всех горестных событиях, длившихся неделю. Хуторянин начал дышать часто и тяжело: как же в этих снежных домиках жарко! Затем он спросил с комком в горле:
– А где Лаура? Где твоя сестра?
– Мама! – ответил мальчик в его объятьях и указал на торчащие из-под снега ноги с выражением лица, которое было самым горестным, что Эйлив видел на своем веку.
Затем он отпустил мальчика и принялся откапывать жену.
Он трудился: потрясенный, разгоряченный, несмотря на мороз, с зубодробительным отчаянием, с его лба градом катился пот – в то время как сердце потихоньку покрывалось инеем.
Это тело – тело, которым он не переставал восхищаться, наслаждаться, любить, эта жизненная сила, бушевавшая под ним, бурливо мягкокожая и горячая, каждый раз превращавшая их хижину в озаряемый светильниками дворец любви, где с каждой стороны ложа выставлен почетный караул в тринадцать человек, а в изголовье прикован лев, открывающийся вид на две пирамиды, эта кожано-мягкая светлая овчарня, когда-то дававшая приют их троим ягнятам (один умер, двое выжили)… – теперь он счищал с этого всего снег, словно соль с дохлой рыбы: вот юбка, бедра, талия, живот, кофта, грудь… Все это напоминало овцу, которую он прошлой зимой выкопал из ущелья: одни лишь внутренности, холодные как лед, – все то, без чего жизнь не может обойтись, а все же бросает, когда спешит вылететь из-под снежного заноса.
Его Гвюдни была совсем такой же, как прежде, в ней не хватало только жизни (чем бы она ни была). Он высвободил из-под снега ее руку; снег был грубозернистый, к рукавам пристала холодная изморозь, сама рука была как лед – но мягкая; это была левая рука. О, эти грязноногтые, истерзанные работой пальцы – эти, несмотря ни на что, до сих пор изящные пальцы-грезы, вновь подарившие ему жизнь… Тут у него вырвался жуткий звук, затем потекли слезы, ему это пришлось не по нутру, и он принялся расчищать себе побольше пространства в этом гробу, поднял руки к потолку и все рыл да рыл, словно полярный зверь, сооружающий себе на зиму снежное логово, затем смёл накопанный снег и продвинулся вглубь ее спального места, счистил погибельную субстанцию с ее лика и потом долго-долго смотрел в эти закрытые глаза. Его жена была бледна красивой смертельной бледностью, вечно красный след от ожога, тянувшийся от правого локтя по плечу, шее и щеке до самых глаз, сейчас потускнел от холода и стал почти не виден: никогда этот ангел еще не был так прекрасен! Он склонил голову над телом, поцеловал ее губы, и когда его обмороженные клешнищи встретились с этими мягкими мышками-подснежницами, ему стало очевидно: мертв как раз он, а вовсе не она. Его сердце было не согласно и посылало мозгу свое изображение. И хотя оно было покрыто льдом, словно парус при буране, было видно, что эта проклятая тварь еще бьется: бум, бум.
В его груди клокотали вздохи и стоны, словно огонь в очаге; он потерял свою Гвюдни – из-за трех килограммов муки; но тут корова Хельга сказала «му», и он очнулся, вспомнил про мальчика и вылез задним ходом на четвереньках из этого своего последнего супружеского алькова. Но Геста след простыл! Вдруг его тоже завалило?
Эйлив быстро осмотрелся по сторонам и вдруг разом воскрес: что, черт возьми, стряслось с мальчиком? В конце концов он вспомнил про лестницу и ринулся из этого смертного трюма на палубу, которая здесь была шириной с целый фьорд. Ах, вот он где – малыш Гест! Он сидел у мешка, и все его лицо было белым от муки:
– Ам!
Глава 6
Трое с чайными ложками
«И даже если пойду я сквозь темный дол, я не буду страшиться зла, ибо ты со мной, жезл твой и посох служат мне утешением». Эйлив вспоминал это, когда шел по светлому долу, неся мальчика на руках. В его голове раздавался голос пастора Йоуна с Сугробной косы: он на каждых похоронах всегда говорил эти слова глубоким басом. Некоторых это злило, и они упрекали пастора в однообразии, но Эйлив был не из их числа, – и результат не заставил себя ждать: он, человек неначитанный, это выучил. «Жезл твой и посох служат мне утешением». Он был доволен пастором, хотя, в общем, соглашался с людьми в том, что тот порой является на кладбище, крепко залив за воротник.
А сейчас похорон предстояло двое: его жены Гвюдни и маленькой Лауры. Когда он откопал правую руку жены, вытянувшуюся от тела вглубь снеговой горы, то в нее оказалась вложена пятилетняя ручонка. Иные при первом шаге падают под тяжестью ноши.
И хотя горе наполовину пожрало его голод, он последовал примеру сына и как следует впрыснул себе в рот молока из коровьего соска, а потом встал, отпустил мальчика, шагнул в сторону от него и испустил из себя мочу по направлению к морю. Если бы читателя в его уютном кресле сейчас перенесли на саму Столбовую вершину, он увидел бы оттуда в глубине белой долины две черные крохотки, одну подлиннее, другую покороче, а затем услышал, как длинная испускает протяжный вопль, а в это время от нее протягиваются какие-то руки. Крик того человека эхом отразился от крутых гор, приглушенный снегом, а потом замер, но не исчез, а слился с воплями и стонами всех эпох, вместе образовывавших так называемый основной тон бытия, который, если как следует прислушаться, можно услышать в каждой долине Исландии.
Коротышке тоже захотелось пи́сать, – что ему в конце концов и удалось после долгих хлопот длинных отцовских пальцев.
Раньше Эйливу не доводилось надзирать за сыновним мочеиспусканием, и он удивился, что из такого крошечного крана хлынула такая мощная струя. Затем он посадил мальчика себе на плечи, и они пустились в путь и сейчас шли вниз с горы к Перстовому хутору, хотя оттуда не было видно ни крыш, ни дыма. Сейчас они, видимо, переходили Перстовое озеро: снежный покров был абсолютно ровным, горизонтальным, и идти здесь было легче, рассыпчатый снежок всего лишь глубиной ниже щиколотки, а под ним – наст.
– Кудя идёмь?
У Стейнгрима наверняка найдется старый парус или другая ткань, чтоб подстелить под корову. А еще для мертвых тел нужны носилки… Не может же быть, чтоб и у них там все погибли?
Стояло тихоструйное морозное безветрие, и сизые тучи над устьем фьорда были горизонтальными, твердой формы, так что они напомнили Эйливу узор на потолочных балках дома – того самого дома, который был, – на которые он порой глазел по вечерам при свете жирника. Что же он сказал ей на прощание, когда уходил?
– Папкя, кудя идёмь?
Такая погода – сущая насмешка со стороны небес, черт возьми! Устроить такую благодать именно сейчас, когда все уже позади, когда твоих уже убили… И вдруг хуторянин сник, с ребенком на руках. Его грудь вздымалась и опускалась, рот слюнявился – а у глаз обнаружилось недержание. Мальчик ошарашенно смотрел, как его отец-великан съежился на льду в позу эмбриона и стал выламывать из себя горе, – но вот удивление сменилось неким заботливым выражением; на ребенка, сидевшего на давно промокшем заду, снизошел материнский покой, а отец тем временем свернулся калачом вокруг него – единственного, что у него осталось – и плакал. Эйлив Гвюдмюндссон плакал. Это сочли бы неслыханной новостью в трех фьордах: этот долговязый овчар – человек, который в начале февраля четыре дня прорывался сквозь погибельный буран к Фагюрэйри, который, разыскивая в горах овец, сменил трех собак – и вдруг плачет!
– Папкя не по́мей, – наконец сказал румяный карапуз, которому явно не хотелось терять еще и отца в придачу к матери и сестре, и он положил голую ладошку на скулу отца, которая на удивление хорошо легла ему в руку и оказалась именно той кнопкой, которая выключила слезоточивое устройство.
– Пошли, Гест, родимый! Отыщем Стейнгрима.
– Тейнгрим доблый.
– Да.
– Тейнгрим не высёкий.
– Нет.
– Тейнгрим лыфый.
– Да.
Название Перстовое особенное: озеро получило свое имя из-за тучи мошки, роившейся над ним, подобно облаку пыли, когда оно впервые предстало человеческому взору. Слово «персть» в древности означало пыль или порошок. Изначально озеро называлось Перстным, но это слово было неудобно рту, и века обтесали его, попутно изменив и его значение.
А сейчас Перстовый хутор, судя по всему, канул в Лету. Они уже перешли озеро и спустились по склону, а до сих пор им не попалось ни досточки. Но все же вскоре они набрели на теснину в насте и вдруг оказались на краю снежной могилы, а под ними трое человек откапывали хутор из-под завала; уже показались крыши двух прилепившихся друг к другу землянок вместе с фасадами, на вид не пострадавшие, а те трое стояли в тесном проходе, который прорыли себе между этими фасадами и стеной, где сейчас стоял Эйлив; от его подошв до двора на хуторе было, пожалуй, метра четыре.
– Сигюрд, а не покопать ли тебе снова у ручья?
– А он разве не замерз?
– Подо льдом там обычно что-то бурлит; в глубинах какое-то тепло есть.
– Я раньше таких снегопадов не припомню.
– Нет, по-моему, такого обильного и не бывало.
– А ты в сторону Хижины смотрел, Гисли?
– Здравствуйте! – сказал тогда Эйлив со снежной стены.
Все трое с удивлением подняли головы и увидели, что над ними возвышается тролль, одетый для перехода через горы, держит тощий мешок, а к спине у него привязан ребенок.
– Не, какого лысого! Да ты нас здорово напугал…
Обитатель хижины стоял над своими соседями, облаченный плащом горя и онемения, и ему казалось, что эти люди уменьшились: уж больно они походили на стайку эльфов-малоросликов с чайными ложками в руках. (Лопаты да грабли, которыми хуторяне разгребали снег, отнюдь не самые удачные инструменты для такого занятия. Исландцы, даром что тысячу лет жили в одной из самых многоснежных стран мира, все еще питали надежды на относительную редкость снежных завалов, а значит, никогда не изготавливали орудий борьбы со снегом. Это говорит нам о несгибаемом оптимизме исландского народа. Он раз за разом терпит метели, но постоянно верит, что погода улучшится.) И возможно, он был прав: здесь люди рьяно откапывали, мастерком и чайной ложкой, момент своей жизни, который покуда лежал неизменный, застывший, под слоем снега, словно сохранившееся с древности помпейское утро. Снегопад превратил людей в археологов собственной жизни.
– Стейнгрим, а у тебя парус есть?
– Парус? – переспросил хозяин Перстового хутора.
– Ты сейчас в море собираешься? – пошутил Гисли.
– Мне нужно к тебе корову привезти.
– Это, что ли, в подарок на Рождество?
– А еще мне нужны носилки или санки – отвезти жену и дочь в Сугробную косу.
– Ну, Лив, дружище, ты и отмочил! Значит, Стейнгриму телушку, а пастору девчушку?
Вся троица рассмеялась легким смехом в своей снежной могиле, а малыш, прицепленный за спиной Эйлива словно котомка, вытянул голову из-за отцовского плеча и уставился на смеющихся с хозяйственным выражением лица. Затем хозяин Перстового спросил уже чуть более серьезным тоном, держа руку над глазами на манер козырька от солнца и глядя вверх, на Эйлива:
– Ты, что ли, уезжать собрался?
– Мамкя помейла́.
Глава 7
Пение двух душ
Работника Гисли послали за подмогой в Лощину, где местные только что сняли крышу с овчарни. Найти людей было непросто, ведь хлопот в тот день – сам сочельник – было хоть отбавляй. Но смерть есть смерть, – и Кристмюнд заставил умолкнуть все вздохи своих работников и ворчание, что, мол, тут люди сами виноваты, мол, упорство Эйлива ни за что не довело бы до добра. «Таких упорных, как Эйлив, еще поискать», – напомнил фермер-рыболов, а потом принялся расспрашивать своих домочадцев, где Якоб и не ездил ли он за мукой на тот же самый корабль, что и житель Хижины, дней эдак десять тому назад.
К хижине их пришло всего двенадцать, не считая Эйлива. Кристмюнд заключил, что Гвюдни, супруга хуторянина, проявила недюжинную выносливость и смекалку, соорудив себе ложе внутри сугроба, который потом и обрушился на нее саму и маленькую дочку, очевидно, пока они спали, ведь глаза у них были закрыты, так? На это Эйлив закрыл свои глаза и кивнул.
Они еле-еле успели вытащить корову на поверхность до темноты: с помощью раскапывания снега, веревок, воловьей кожи, долгих совместных усилий, а также отчаянного верчения хвостом и копытами. Когда Хельгу подняли наверх, она неожиданно вскочила на ноги, оттолкнула двоих силачей и ринулась на открытый наст, но тотчас провалилась в него по самое вымя и застряла, распустив слюну, – в исландской природе этот вид животных нуждался в ежеминутной заботе человека. Они попробовали вытащить ее, но провалились сами и на несколько мгновений усомнились в том, что жизнь в этой стране вообще возможна. Эйлив стоял чуть поодаль, пялился на сероватые кустистые облака в небесах, и ему казалось, что небо обрушилось на него. Мальчика он оставил у женщин в Перстовом.
Им снова пришлось проявить терпение и сноровку, когда они откапывали ноги коровы, чтоб она не сломала их, когда ее перекатывали на воловью шкуру. Наконец скотинку поволокли прочь от раздавленной хижины, и она три раза испустила жуткий рев в быстро синеющие декабрьские сумерки, словно вдруг осознала, насколько серьезно дело, и решила как следует постараться для этой санной похоронной процессии.
Впереди шли четверо человек, сильно наклонившихся вперед; они тянули каждый свою веревку, привязанную к одному из углов шкуры. За ними – корова Хельга. Следом – двое человек, при необходимости подменявших тягачей или подталкивающих корову сзади. Затем – двое мужчин постарше, тащивших тело Гвюдни, привязанное к носилкам, поставленным на лыжи. За ними – двое мужчин помоложе, один из которых тащил тело Лауры, также на лыжных носилках. За ними по лыжне шагали двое коллег – Кристмюнд со Стейнгримом. Никто не проронил ни слова. А вскоре и заря догорела, и дорогу им освещала лишь белизна снега. Иногда смерть – медленно движущаяся толпа мычащих теней.
В десяти метрах позади них плелся Эйлив, словно человек, замыкающий шествие собственной жизни.
Держать Гвюдни за плечи, пока ее выкапывали из-под снега, выпало Кристмюнду. Прежде чем приложиться своей белой головой и короткой белой бородкой к ее красивой щеке, он снял шапку. Эйлив был слегка ошарашен этим зрелищем – и вдруг ощутил, что всего лишь ненадолго брал жену взаймы, а на самом деле она всегда была собственностью крупного фермера из Лощины. Потом он отказался смотреть на свою дочь – просто не смог (кто захочет глядеть в нутро смерти?) и отвернулся, сосредоточившись на том, что взметнулось со дна его души: то было видение волн на море, громадных жутких волн, а он – в открытой лодке в бушующем море огня, и языки пламени перехлестывают через борт, а Кристмюнд у штурвала, у него уже загорелась борода, но он не тушил ее, а вместо этого облизывался и забирал пламя в рот. А сам Эйлив сидел у борта, возле сетей, и тянул, тянул со всей силы, пока из огненной пучины показалась… нет, не акула, а прелестное личико ребенка, которое сказало такую вису[17]:
- А я умру, умру я сам,
- и в мире жить не буду.
- Одно тебе в наследство дам:
- тебя не позабуду.
И лишь когда они спустились к озеру, где им пришлось остановиться, чтоб поправить кожу под скотинкой и получше привязать одну веревку, он нашел в себе силы украдкой посмотреть на тело Лауры. Тягачи замешкались надолго, потому что корова была тяжелая как горе, и Эйлив нагнал их, когда брел в низину, – и там она была: на задних носилках, положенных на снег. Веревки пересекали ей грудь, талию и лодыжки, она превратилась в багаж – он до ужаса ясно это видел: ребенок стал багажом, холодным как лед. И все же Эйлив осторожно приблизился и наконец заглянул ей в лицо – и его выражение выбило Эйлива из колеи: настолько оно было суровым. Девчушка была явно недовольна, что он пожертвовал ее жизнью ради трех килограммов муки.
«Куда же я дел тот мешок?» – эта мысль должна была помочь ему выбраться из бездны, и сейчас он держался за нее как за соломинку всю дорогу до Перстового, – а там хозяйка Эльсабет выставила ответ на стол в виде мучных пирожков с пылу с жару для тринадцати замерзших мужиков. Он видел, как Гест уплетает их один за другим, сидя на коленях у работницы на кровати в глубине бадстовы: судя по всему, малыш уже стал для этой работницы королем и светом ее очей. И только сейчас Эйлив отдал себе отчет в том, что настало Рождество.
Эйливу и его двенадцатерым помощникам пироги пришлись весьма кстати; после такого изнурительного перехода им еще пришлось прокапывать в снежной стене траншею перед самым входом на хутор, чтоб корову можно было спустить перед домом и загнать внутрь: двери в хлев там располагались как раз посередине коридора. Зато мертвые тела, после обсуждений, решили в дом не заносить. Откопать сарай еще не успели, а Эльсабет заявила, что под ее крышей смерти не место: ни в кухне, ни в хлеву. Муж попытался переубедить ее, но она была неумолима, причиной этому служило то, что ее брат умер во цвете лет после того, как на хуторе их родителей подержали в доме тело мертвого странника.
Жители Лощины поздравили всех с Рождеством, а потом вскарабкались на сугроб и отправились восвояси, скрылись в темноте, где земля светлее неба, двигаясь по тропке, которую еще на днях протоптал в снегу работник Гисли. Мертвые тела втиснули между постройкой и снежной стеной, головами вверх, прислонив затылками к фасаду, а ручки носилок воткнули в угол сугроба.
Ночью опять разыгралась метель, и Эйлив лежал без сна и слушал храп своего соседа по кровати, длиннобородого работника Сигюрда, и похрапывание в других кроватях вперемежку с завыванием ветра. Можно было явственно расслышать, каким белым и холодным было это пение над теплым мраком, наполнявшим бадстову. Но в этой ночной черноте он все же различал предметы: столб в изножье, висевшую на нем отгоревшую лампу, ниточку вереска, свешивающуюся с травяной крыши из щели между двумя продольными балками над ним; при наиболее сильных порывах ветра она чуть трепетала. Он подвесил на этот стебелек свои глаза, словно две ягоды голубики, и попытался вспомнить одну студеную вису, которую знал, но вспомнил только последнюю строчку: «У свечки лета фитилек – малёк».
Но с утра во дворе никаких следов метели не обнаружилось: ни наносов, ни наметов – стало быть, ночью погода была тихой. Возне на крыше объяснение нашлось, когда мертвецов осмотрели. Они стояли, как их поставили – только их подбородки отвисли, и рты оказались открыты настежь. С точки зрения комического ока вселенной мертвые мать и дочь напоминали двух стоящих навытяжку поющих дев.
Глава 8
Какие в той местности были волосы
Вновь и вновь вспоминал Эйлив то зрелище: Кристмюнд из Лощины прикладывает свою щеку к щеке Гвюдни и поднимает ее из снежной могилы: бережно, ласково. Как уже говорилось, свою шапку зажиточный фермер снял, и густые волосы разметались по его лицу, раскрасневшемуся от стояния нагнувшись. И чтобы отвести свой разум от неудобных мыслей, Эйлив сосредоточил свой внутренний взор на шевелюре хозяина Лощины, этой кустистой копне, настолько непохожей на головную поросль других жителей этого хреппа[18], что она одновременно заключала в себе ответы на вопрос, почему его уважали – и почему многие питали к нему недоверие, смешанное с завистью. И корни этой недоверчивости были весьма глубоки, ведь исландцы издавна оделяли своей подозрительностью густовласых.
Заселила эту страну публика, около 900 года бежавшая от произвола норвежского короля Харальда Прекрасноволосого, и с древности считалось, что у самих исландских первопоселенцев по части растительности на голове было негусто: жидковолосые или совсем безволосые конунги-плешивцы да их жены с тощими косицами. Все как есть – дети Грима Лысого да Ньяля Безбородого. А тот король получил свое прозвище потому, что дал обет не стричься, пока не подчинит своей власти все фьорды Норвегии; значит, можно сказать, что первые поселенцы в Исландии спаслись бегством от волос. И на своей новой земле они тотчас принялись сбривать под корень леса. С тех пор исландцы не любили никакой поросли: ни на склонах, ни на головах, а лучше всего чувствовали себя среди голого простора, хотели, чтоб им открывался вид на море и чтобы листва и пряди не лезли в глаза. Самым красивым зрелищем они считают сверкающую под небом лысину ледника и требуют, чтоб их горы и пустоши были полностью голы. При крещении Исландии юную нацию больше всего раздражали пышные волосы Христа. По ее мнению, боги должны быть редковолосы от вечной жизни, мудрости и глубины – как то водилось среди языческих богов.
И духовные лидеры в Исландии, от Ньяля до Арасона[19] и Сигюрдссона[20], не могли похвастаться обильными волосами, и поэты – от Снорри[21] до Хатльгрима-псалмопевца[22]. В бездревесной стране длинные волосы были табу – о чем свидетельствует вековая ненависть исландского народа к Халльгерд Лангброк[23]. А ее мужа в действительности убили именно за красивые локоны. Исландцы прекрасноволосых никогда не любили.
Хозяева хутора Лощина, Кристмюнд и Кристбьёрг, оба блистали пышноволосостью. Знаменитые волосы хозяйки, черные и мягкие как шелк, спускались ниже спины, ведь oна регулярно мыла их коровьей мочой. Белоснежная копна хозяина была мягка как пушица и густа как шерсть. Кристмюнд, единственный в Сегюльфьорде крупный фермер, рослый и красивой масти мужик, хозяйство вел образцово, имел целый хор детей и держал множество работников.
Когда-то волосы у Кристмюнда были «басковые», это значит черные. Но много вёсен тому назад его земляки, ради пьяной в дым завистливой забавы, обрили его налысо ножницами для стрижки овец, пока он спал во хмелю на третий день свадьбы своей дочери. Через несколько дней на испещренной порезами лысине вновь выросли волосы, но абсолютно белые. Через пару недель голова хозяина Лощины совершенно побелела, и буквально в то же время в устье фьорда появился красивый высокий айсберг. Тогда море стало часто замерзать; это продолжалось до сих пор, а виновными в этом считали тех, кто тогда в Лощине учинил эту выходку с бритьем: мол, эти мерзавцы тем самым бросили вызов судьбе, – и все ругали «бритые льды» в хвост и в гриву.
В те годы пастором в Сегюльфьорде служил преподобный Йоун Гвюдфиннссон, а сидел он в Сугробной косе. Волосы, такие как у него, густые и на удивление вьющиеся, народ называл «ненашенскими», – и это, наряду со многим прочим, затрудняло пастору несение службы. Из-за «вавилонов на голове» паства не хотела верить его словам, даже цитатам из Заветов. «У всех богов волосы прямы, кроме Бахуса», – якобы сказал когда-то Лауси с Обвала, и всем было ясно, на кого он намекает. Пасторская шевелюра была самой пышной во всем хреппе, по его голове взвихрялись вихры, напоминавшие гряды облаков, которые крутятся вокруг Земли, но они могли и неподвижно торчать целый день, если их поворошить.
Сигюрлаус Фридрикссон, хозяин хутора Нижний Обвал (или, как его прозвали, «До следующего обвала», – этой шутке было уже много веков), был духовной возвышенностью этой местности, худощавым рассадником юмора и рассказов, прекрасно управлявшимся и с рифмами, и с досками, а значит, желанным гостем на каждом хуторе: его привечали и за вирши, и за плотницкую работу. Все свои гонорары он принимал исключительно в рюмочной форме, но, выпив, никогда не становился скучным, напротив, казалось, винный дух лишь взбадривал в нем другой дух: чем больше в него вливалось, тем больше выливалось из него острот, стихов, поэм, занимательных рассказов. Лауси придерживался золотого правила всех хороших авторов: «Дай мне, Господи, силы примириться с тем, что правдиво, мужества облечь его в вымысел и мудрости, чтобы отличить одно от другого». У его жены, Сайбьёрг, от жизни с таким супругом волосы уже давно встали дыбом, но все ж она всегда сидела рядом с ним на пирах, с натянутой улыбкой и поднятыми бровями, уставившись в пространство.
Эйлив из Перстовой хижины был темноволос, лохмат, с патлами, свалявшимися, как у старой овцы, а борода курчавилась мелкими ягнячьими завитками и была вечно юной, хотя его щеки уже носили следы первых заморозков. Зато у его жены Гвюдни локоны были просто загляденье: светлые, вьющиеся. На трех хуторах во фьорде хранилось по пряди ее волос, и многие соперничали за нее саму, когда она, юная и цветущая, пришла вместе с матерью наниматься к Кристмюнду в Лощину. Но когда она покалечила руку и получила ожог щеки из-за несчастного случая на кухне, толпа поклонников резко поредела. И все же жители Лощины не испытали особого восторга, когда из всех возможных женихов к ней посватался Эйлив Гвюдмюндссон, этот долговязик из Хейдинсфьорда, с которым хлопот не оберешься, который прославился тем, что дельфинятину украл, – и он получил согласие! Тогда он, вроде бы, начал возводить себе хутор, да какой там хутор – одно название! – землянку в глубине фьорда, за землями Перстового. «Кто же мне тогда будет по утрам кофе подавать с такой ласковой улыбкой?» – думал Кристмюнд Белоголовый. Но девушке уже грозило вот-вот стать перестарком, а приговор, когда-то вынесенный Эйливу, считай, запорошило снегом.
Минуло уже шесть лет с тех пор, как пасторское благословение превратило батрака и батрачку в свободных малоземельных фермеров.
Глава 9
Магнит
Как и многие другие фьорды Исландии, Сегюльфьорд получил свое название от первого человека, проснувшегося возле его гор, а произошло это 999 лет тому назад. Но, как известно, людьми Исландию заселили позже всех других земель, и она долгое время была державой гордых гор, независимой от человеческой настырности, населенной лишь птицами, моржами, тюленями да лисами. Даже народы Крайнего Севера, множившиеся и размножавшиеся вокруг полюса, боровшиеся за существование на самой мерзлой в мире мерзлоте, не желали селиться в Исландии, а ведь во все эти ледниковые периоды добраться до нее было несложно.
Заселение этого изрезанного бухтами острова состоялось в 800900-ые годы и проходило согласно классическому правилу всех первопоселенцев: «Кто первым пришел, того и земля». Люди направляли свои суда к берегам Исландии, огибали остров, пока не находили незанятый фьорд, – почти как в бассейне, когда приходишь в раздевалку и осматриваешься в поисках свободного шкафчика. Когда таковой обнаруживался, люди снимали с себя пальто и шкуры и вешали в этот пустой шкафчик, таким образом давая знать: «Теперь он наш!» – и давали ему свое имя: Ингоульвсфьорд, Торгейрсфьорд, Лодмундарфьорд…
Тот шкаф, о котором речь у нас, взял себе Кольбьёрн Сегюль. В ту пору большинство шкафчиков было уже занято. Он был шведских кровей, родом с материка. Как сказано в «Книге о заселении земли», «кровь его бежала по жилам на востоке». Свое прозвище он получил благодаря мечу Секулю, сделанному из того доброго металла, который происходит из Георгийских гор, именуется «магнит» и натуру имеет такую: притягивает к себе все ценности, какие встретит на пути, прочее же оставляет. К этому мечу примагничивались кольца и монеты, ожерелья и другие украшения, золото и серебро, – так Кольбьёрн и разбогател. И свой шкафчик назвал Сегюльфьордом[24] – Магнитным фьордом.
На северном побережье Исландии есть три фьорда, которые разевают свои пасти навстречу Ледовитому океану и считаются самыми северными в стране: Сегюльфьорд, Хейдинсфьорд и Оудальсфьорд. Первый из них самый западный, короткий, продолговатый, украшенный двумя плоскими мысами. Мыс, расположенный ближе к устью, называется Сегюльнес – там стояло жилище первопоселенца; он до половины перегораживает вход во фьорд с востока, а тот, что в глубине, называется Сугробная коса. Он чуть больше и перегораживает фьорд с запада. В глубине фьорда, совсем недалеко от моря, расположено Перстовое озеро. Средний фьорд называется Хейдинсфьорд, он длинный и узкий – наполовину море, наполовину долина. На востоке лежит Оудальсфьорд, и он самый короткий на вид.
Эти три фьорда окружены четырьмя горными грядами, чьи склоны круто обрываются в море. С высоты они напоминают горную вилку с четырьмя зубцами, которую кто-то положил на водную скатерть. Вокруг фьордов берега обрывистые и горные склоны неприступны, но выше в горах чередуются вершины и впадины, лишь немногие из которых проходимы. По этой причине добраться из одного фьорда в другой крайне трудно. Здесь часты бури и бураны, море заливает, а снег заваливает.
Но на земле едва ли найдется край, столь же прекрасный в те три недели лета, когда солнце болтается над устьем фьорда, словно лавово-раскаленный райский маятник, и в своих выверенных колебаниях лишь слегка задевает поверхность моря. Тогда все ночи светлы как струи водопада, среди вереска и снегов царит умиротворение, а природа столь великолепна, что заезжий путешественник рискует с непривычки потерять рассудок.
Глава 10
Ледяная лава
На второй день Рождества пришло солнце и тепло с юга, и травяные крыши землянок восстали из-под снежной целины, словно форштевни кораблей из пучины. Во всем фьорде лавина не поломала ни одного дома, кроме хижины Эйлива, хотя у Магнуса с хутора Верхний Обвал завалило овчарню и погибло 37 овец и два барана. Неожиданная оттепель превратила снег, заполнивший фьорды, из тяжкого груза в нечто грубозернистое рассыпчатое, ни пройти ни проехать. Добраться до хлевов, чтоб подоить и покормить скотину – и то подвиг; ковылять по этому ледяному зерну все равно что ходить по хрустальной крошке.
Тогда во льду, сковавшем фьорд, открылись три полыньи, и в самой дальней из них показался кит. Он испустил из себя фонтан, – хотя в тех краях и не знали, что бывает такое архитектурное сооружение – «фонтан».
А через два дня сильные северные ветра принесли мороз, и хрустальная крошка смерзлась в одно сплошное, словно лавовое, ледяное поле, и оно покрыло всю землю во фьорде от края до края, а подступы к хуторам превратились в каток. Сейчас наконец появилась возможность сходить к плотнику Лауси за двумя гробами и взять с собой мертвые тела, чтобы наконец избавить Эльсабет от этих «певуний» на дворе. Сигюрлаус с Нижнего Обвала был приятелем Эйлива, и прощание с покойницами решили провести на его хуторе, тем более что до Сугробной косы оттуда было рукой подать по льду через фьорд даже для хорошо выпившего пастора.
В тот день дул до дрожи резкий северо-восточный ветер, а «лавовое поле» было то пористо-скользким, то гладким как стекло. Не успели поезжане добраться до Альвова холма, что в устье речки в глубине фьорда, как буря стала крепчать так, что идущим пришлось сделать в своем походе перерыв. Они решили покрепче подвязать веревки на покойницах, потому что ветер подхватывал санки. Но покуда люди заново завязывали узлы, вышло неладное: часть шерстяной юбки Гвюдни выбилась из-под веревки, которой были крест-накрест перевязаны ее лодыжки. Ураган в мгновение ока подхватил этот кусок юбки, и он надулся словно черный мешок-парус, – и тут санки мигом унеслись прочь по склону, твердому как лава, и дальше по берегу реки, а позади них трепетали веревки и канаты, образуя кильватер, который виден, когда мертвецы вплывают в царствие небесное. Все произошло так быстро, что поезжане только и успели проводить взглядом санки с покойницей, – в профиль напоминающие сверхскоростное техническое устройство из будущего, – когда те пронеслись по Перстовому озеру, сейчас представлявшему один сплошной сияющий мраморный пол. Гвюдни развила такую скорость, что санки, доехав до другого берега, взмыли вверх по пологому склону и переехали невысокий кряж. И все увидели, как она скрылась там, в белизне гор.
Эйлив, желая не допустить, чтоб дочь отправилась тем же путем, рухнул на колени и склонился над ее телом. Оттепель разморозила ее лицо: теперь она уже не пела, а нижнюю челюсть ей подвязали веревкой, так что рот был закрытым. А в целом мороз сильно потрепал ее: на почерневших губах – белый иней, на щеках – гнилые пятна.
Затем они развернулись, прочь от ветра, и отправились домой, на Перстовый хутор. Через два дня двое человек пошли искать Гвюдни и обнаружили, что зверье затащило ее в свой тайник, а икра левой ноги у нее перегрызена.
Глава 11
К северу от солнца и от Рождества
Первый день нового года появился из ящика комода Всевышнего словно прозрачное небесное покрывало, которое он вынимает раз в год, чтоб расстелить над буднями свою праздничность. После недавних треволнений решили похоронить мать с дочерью во время самой рождественской службы, по разным обстоятельствам перенесенной на Новый год. Морозы все еще стояли нешуточные, но пастор Йоун должен был воспользоваться оттепелью, чтобы подготовить для них могилы.
Хоть погода выдалась хорошая, а в полдень небо было ясное, солнца нигде не было видно. Даже в первый день года оно не удосуживалось показаться, а было где-то за этими высокими белыми горами, окружавшими фьорд с трех сторон. Солнечного света здесь не водилось с 15 ноября по 28 января.
Но из ящика комода Создателя также высыпался тончайшим слоем свежий снежок, так называемая ночная пороша. И вся земля оказалась покрыта белой скатертью при безветрии, и небесная синь отражалась в сосульках на застрехах церкви и Мадамина дома, как называлось жилище пастора. Но вся эта праздничная красота в основном прошла мимо траурно одетых борцов за существование, которые сгрудились хорошо утеплившейся толпой перед церковными дверями, ожидая церковного помощника (он ушел за ключом), и скорее плакались на невзгоды старого года, чем радовались приходу нового. Магнус с Верхнего Обвала, вытянутый человек с длинной бородой, плохо скрывавшей отсутствие подбородка, стоял в центре толпы и выслушивал соболезнования: ведь та лавина в сочельник погубила его овец. У северного фасада Мадамина дома скучали несколько лошадей, словно скорбящие с опущенными головами.
Но никто не замечал, что на кладбище близ северо-восточного угла церкви трое человек с ломами и кувалдами спешили вырубить в мерзлоземе могилы.
Жители Сегюльфьорда уже третье Рождество кряду ходили в церковь через фьорд по льду. «Это ведь все равно что в церковь по полу войти?» – спрашивал кто-то. «А-а?» – раздавалось в ответ после небольшой паузы, и слышно было плохо. Они всегда приходили первыми на мессу и первыми уходили домой, эти молчаливые щекастые люди, и манеры у них были просоленные, и головы проштормленные, но они славились тем, что отлично обрабатывали акулятину. Они жили на разных хуторах – и все же лица выдавали, что они все из одной местности. Было трудно понять, кто здесь муж с женой, а кто брат с сестрой, ведь этот народ с самой эпохи заселения земли из поколения в поколение боролся за существование на этой самой дальней оконечности острова, и сейчас все они состояли в родстве настолько близком, что дальше некуда. Бывало, что это маленькое сообщество страдало от нехватки женщин, когда у всех рождались одни мальчики, а порой не хватало мужчин, когда у всех накапливались дочери. Тогда местным родам приходилось уповать на семя моряков, потерпевших крушение, и засунуть свои предубеждения против пышных волос куда подальше. (В известном рассказе бретонца XVII века Бреваля Морвана говорится, как он один остался в живых после крушения и пробирался к человеческому жилью сквозь прибой и метель по приливной полосе под скалами к востоку от Сегюльнеса, – по одной из самых труднопроходимых в этой стране дорог. Но после этого ему пришлось напрячь все силы не меньше: его уложили в постель и заставили ублажить пять хозяйских дочерей.)
Церковь в Сугробной косе была довольно новой постройкой – средней величины классический деревянный неф с колокольней, – но расположена совершенно не по-христиански: ее двери смотрели на юг, а хоры – на север, вместо того чтобы, как водится у христиан, повернуться алтарем к восходящему солнцу, ибо их бог – солнечный. А вот бог Сегюльфьорда был ветровым, а на северном побережье всякая тварь знает, что к ветру лучше поворачиваться задом, а самый лютый ветер всегда дует с севера. А что касается задней части, то тут уж не важно, освященная она или нет. Так новая церковь выдержала тринадцать ураганов, повернувшись к ветру, словно лошадь зимой в горах. На ее скамьях могла разместиться почти вся паства, хотя заднему ряду несколько лет назад пришлось уступить место роскошному органу, который принесло морем и в целости и сохранности вынесло на берег. На нем была надпись “Farrand & Votey”, а остряки прозвали его «Фанфарон из вод», после того как его с большим трудом втащили в церковь. Этим церковным имуществом народ гордился, – хотя первого органиста в Сегюльфьорде еще предстояло дождаться.
От толпы, стоящей перед церковными дверями и облаченной в свою самую приличную одежду, струился морозный пар. Люди всегда приходили в церковь рано, чтобы занять место, пока там не расселись как у себя дома эти сугробнокосцы: ведь совсем рядом жила самая большая во фьорде семья, число человек в ней порой доходило до двадцати, и большинство из них обреталось на Старом хуторе – в живописных землянках к северу от церкви. В Мадамином доме жили только пастор, его мадама и вдова предыдущего пастора, а также экономка и помощники. В большой бадстове Старого хутора постоянно ночевали всякие залетные мореплаватели, застрявшие на берегу; сейчас это были четверо норвежцев, ждавших, пока море очистится от льдов, – благочестивые богомольные моряки, которые уже научили всех на хуторе словам «фи» да «фан» [25], а сами ни одного исландского слова взамен не выучили. А еще преподобный Йоун по доброте своей взял к себе из хреппа убогих, целых восемь штук, среди которых больше всего выделялись трое стариков-мокроштанников: Сакариас, Йоунас и Йеремиас, – и сейчас они все трое, один за другим, высыпали из землянки. Из-за имен пастор прозвал их своими пророками.
Прихожане молча наблюдали, как старый Сакариас преодолевает эти пятьдесят метров от землянки до церкви. Его походка была деревянной, ноги разъезжались, и шерстяные подштанники, доходящие до паха, болтались между тощими старческими ногами, которые он переставлял – сперва одну, потом другую, – словно тяжеленные шахматные фигуры по доске, а его руки низко свисали. На них болтались варежки, казавшиеся необычайно длинными и от этого напоминавшие промокшие крылья морской птицы. – Последний день года! На ужин каша! – сообщил он: одновременно никому и себе самому.
Гримаса беззубого рта придавала ему отталкивающий вид, да и прозрачные, как у мертвеца, глаза в глубоких глазницах тоже не добавляли привлекательности. А если прибавить к этому соломинки, украшавшие его икры, ляжки, плечи, патлы, создавалось полное впечатление, что в церковь направляется выходец из могилы.
По крайней мере часть его уже перешла в иной мир: когда старец приблизился, стало видно, что левая нога у него боса.
– Разве новый год уже не настал? – спросил мальчик из глубины долины.
– О, нет. О, нет. На ужин каша!
С криком пробежала батрачка, несущая ботинок и носок, и стало видно, как наш знакомец Эйлив внутри могилы остановился, опираясь на лом. «Подумать только, я тут выгрызаю в земле последний приют для моей Гвюдни, а этот ходячий костяк все еще прозябает на свете!» Итак, преподобный Йоун вовсе не удосужился воспользоваться неделей оттепели и не велел тогда выкопать могилы. Эйлив трудился с тех самых пор, как накануне привез гробы, и лишь сейчас прокопался сквозь замерзший слой земли, – и тут раздался похоронный звон. Но он продолжил орудовать ломом, а Лауси, изготовивший гробы, стоял над ним и убеждал его, что пастор все еще дома и в церковь пока не заходил. На подмогу им был прислан рыжий и конопатый мальчишка из поселка, отряженный самим пастором.
Наконец сей великий деятель церкви показался на высоком крыльце Мадамина дома, он снизошел по ступенькам в полном облачении: черной рясе, белом воротнике. А волосы у него были вьющиеся, что придавало ему вид весьма тролльский, но отнюдь не пасторский – ведь кто ж воспримет всерьез пастора с такими волосами? Но его толстощекое лицо, на котором была написала крайняя серьезность, открылось взорам, когда Йоун сошел с крыльца, и повернулся, держась рукой за перила, и сделал передышку, прежде чем направиться в церковь. А за ним шла его супружница, одетая в простую вязаную одежду, маленькая, изящная, – таких двух можно было бы сделать из этого человека, который в своей рясе казался просто горой – но горой бродячей и бегучей.
– Вот, сейчас он мне нравится, – сказал Лауси, отодвигая прядь от глаз. – Но сейчас пора прекращать. Лив, дружище, все равно ты их глубже не зароешь.
Эйлив, весь взмокший от натуги, отложил лопату, взял с кучи выкопанной мерзлоты свою шапку, отер ею пот со лба, а потом позволил себе выругаться на освященной земле. Что это за страна окаянная: сначала жить нельзя из-за снега, а потом умереть по-человечески нельзя – из-за него же! Затем он попросил мальчишку продолжить выгребать землю из ямы: в могиле должно хватить места на два гроба. Они пошли вдоль сводчатых окошек церкви, и в голове Лауси зажглось начало строфы:
- К северу от солнца, от оконца,
- да на севера́ от Рождества…
Глава 12
Падение пастора
Когда наши приятели вошли в церковь, на скамье собралось уже столько народу, что супруг и отец покойниц туда уже не помещался. Эйлив рассчитывал, что место для него оставили в первом ряду, как это было принято, но его правое крыло уже заполонили живущие здесь норвежские моряки и другие местные, а с левой стороны были постоянные сиденья пророков. Рослому хуторянину были видны их затылки: три подрагивающие безликие головы, окруженные белыми космами; казалось, они издевательски ухмыляются ему. Воздух в церкви тотчас стал тяжелым – его загрязнил перегар, тянувшийся от большинства фермеров, которых пастор до службы приглашал к себе. А пол был мокрым от табачных плевков и тающего снега, и многие в публике пристроили кожаные подошвы своей обуви на перекладину для ног. Крошечные псалмовники виднелись в руках – крупносуставных, красно-бурых от работ на морозе, лишь изредка какая-нибудь домохозяйка щеголяла в искусно связанных варежках. Малыш Гест, стоявший на руках у работницы с Перстового, увидев отца, заорал на всю церковь: «Папка!» Перед алтарем стояли оба гроба: просто сколоченные наподобие ящиков, грубо выкрашенные черной краской. Из-за тесноты маленький гроб поставили на большой, и эти стоящие штабелем гробы больше всего напоминали непозволительно громоздкую посылку на небеса.
Преподобный Йоун с трудом протиснулся между этим штабелем и передним рядом скамей, но зацепился своей рясой за гвоздь, торчавший из нижнего гроба, рванул ее, шумно и тяжело дыша, и край подола треснул. То тут, то там отдельные лица снова повернулись к Эйливу, мявшемуся на пороге, но никто не уступил места вдовцу: мол, сейчас служба также и рождественская, так что теперь тут сижу я! Наконец Эйлив встал в задней части церкви и оперся рукой на орган из вод. А Лауси подсуетился, проворно забежал вперед него и пристроил свою левую ягодицу на подоконнике. В самом заднем ряду, перед органом, сидели Стейнка и Эйнар из Хуторской хижины со своими четверыми детьми: лица дряблые от голода, а спины – заплата на заплате, от них струился густой запах хлева: поговаривали, что супруги по ночам клали между собой корову.
Сейчас большинство жителей хреппа (кроме старой сребровласой пасторши, оставшейся в Мадамином доме за вышиванием, и нескольких дряхлых стариков, гревших лежанки то тут, то там во фьорде) собралось в церковном «корабле», и сейчас была бы пора отчаливать в лучший мир, если бы капитан не был в таком скверном состоянии.
Сейчас он возился с перилами вокруг алтаря: они были высотой ему по колено, в них была калитка, через которую он должен был войти, – его место было там, там и должно было начаться богослужение. Он некоторое время корпел над этой детской задачей, но – боже мой! – замок почему-то все время распухал перед его глазами и под пятью неловкими пальцами, словно тот огромный латунный калач, которым запирают врата самого рая. Отпереть этот адский механизм было вообще невозможно! Наконец он выпрямился, сделал долгую паузу и послал восхитительно пьяный взгляд в заднюю часть церкви, на своего помощника, прозывавшегося «Марон-родной», который стоял возле закрытой двери рядом с Эйливом: грудь колесом, а голова недавно острижена. Но Марон-родной был простая душа и к своей роли относился серьезно, поэтому ему вообще нельзя было соваться в пасторские дела, от него требовалось лишь открыть церковь, позвонить в колокол да проследить, чтоб номера псалмов на стене[26] были верные. Все это он уже выполнил и теперь стоял навытяжку, задрав подбородок – рядовой солдат Господа.
А его командир сейчас предпринял финальную попытку и помахал ему рукой (перекрикиваться через гроб нельзя, даже если ты пьян в лоск), а Марон-родной ответил ему тем, что быстро отдал честь по-военному, как он видел на палубах кораблей, крича взглядом: «Все готово, ваше благородие!»
Тут преподобному Йоуну Гвюдфиннссону стало ясно: свое затруднение ему придется разрешить самому; и он рискнул перелезть через перила. Но рясу он при этом задрал не слишком высоко, и она натянулась над перилами и помешала ему как следует шагнуть. Дородный пастор свалился внутрь отсека, который создавали перила вокруг алтаря, и прекрепко ударился головой о планки на той стороне. Женщины, бывшие в церкви, издали изумленный «ах», а в остальном паства приняла это в спокойствии и молчании. Их пастор лежал на левом боку в алтаре, спиной к прихожанам, словно громадный морской тюлень, почти неподвижно, от него лишь послышался глубокий стон, а затем – тяжелое дыхание.
Долго-долго все было недвижимо: и губы помощника, и прихожане на скамьях, – но вот наконец пастор принялся храпеть. Во время этой части программы паства терпеливо сидела на местах, даже субтильная пасторша не встала. Люди решили дать своему пастырю поспать, раз уж ему было так надо.
Немногие народы относятся к недотепам и неудачникам так хорошо, как исландцы, – а те наиболее щедро проявляют доброту, если какой-нибудь высокопоставленный бедолага упал низко. Тогда их снисходительность просто расцветает. Может, так сложилось из-за того, что борьба за существование у них была столь сурова, а смерть караулила за каждым бугорком (сходить задать корм скотине – и то могло оказаться опасным для жизни) – и тогда народ уже не принимал чересчур близко к сердцу, что, например, сислюманн ночью обмочил постель, после ужина взгромоздился на хозяйку хутора или повышибал работнику зубы. Все это скорее было предметом для радости, для положительной характеристики большого человека – ведь о таком ходили предания, сочинялись легенды, для развлечения в безрадостные зимы. Сильнее Христа, Короля и Северного ветра исландцы чтили рассказы, таков был их обычай, их вклад в мировую культуру, и эти слова были неразрывно связаны: «исландцы» и «рассказы». Этот народ верил в бога рассказов, и в этой религии рассказам о начальниках отводилась большая роль. О людях примерных рассказать можно было мало, и они в этой стране не задерживались на пьедесталах. Народу хотелось, чтоб начальство у него было беспутным, и он находил удовольствие в том, чтоб восхищаться его бесчинствами. Мужикам – обитателям хижин это тоже дозволялось, но тогда они должны были «уметь рассказывать истории». Именно по этой причине Лауси с Обвала сходило с рук что угодно, а Эйливу – нет. Историй он не знал, в его голове царили картины, но у него никогда не получалось облечь их в слова. Поэтому когда он стучался в чью-нибудь дверь, то всегда получал в ответ «ох» да «фу».
А пастор все спал. Лишь норвежцы удивленно переглядывались – но наконец и они сошлись на фразе «в каждой стране свой обычай» и решили промеж собой, что в Исландии богослужения именно так и начинаются: священник плюхается у алтаря.
Очевидно, ни одна алтарная доска никогда на своем веку не удостаивалась такого пристального внимания и рассматривания, как сейчас. А может, эти красивые картины как раз и были задуманы как экстренная заставка, если передача запаздывала. В толстой серо-голубой раме просматривалась довольно маленькая и пригожая картина, которую время за две сотни лет обработало по-своему (зимой – с помощью мороза, а летом – с помощью мух) с тем результатом, что все краски на ней приобрели такой оттенок, о котором сам художник и мечтать не мог. Картина изображала воскресение: Христос шагал из могилы, подняв руку вверх, наполовину сбросив саван пурпурного цвета, и излучал одновременно силу и привлекательность. Сия добрая сцена происходила во дворе дома в некой голландской местности в начале семнадцатого века, и на заднем плане выстроились все обитатели, а также их соседи: лица сияли от восхищения и пламенной веры, простонародье неуютно чувствовало себя в присутствии звезды мирового уровня.
Из сопоставления этого живописного полотна и совершенно неживописной сцены под ним можно было вычитать историю христианства. Что и делали собравшиеся, коротая время, пока пастор спал.
Сейчас пастор поудобнее улегся в своем закутке и хрюкнул, так что всем невольно пришел на ум уже не тюлень, а плечистый черный боров в слишком тесном загоне. Послышался шепот норвежцев: “Nej, men fan” [27]. Лауси ухмыльнулся до ушей, а затем посмотрел на Эйлива, стоявшего у края органа. Скорбящий вдовец явно скрылся в метель своих дум, его голова была полна черным снегом, который несся большими тучами.
А малыш Гест незаметно для всех вдруг подошел к алтарю. Перебирая руками перила, он добрался до гробов своих матери и сестры, а затем и дальше, за угол ограды, и наконец до самой всклокоченной головы Йоуна. Тут он протянул руку в «клетку», где лежал пастор, и ущипнул освященное ухо, сказав при этом:
– Па́той по́мей!
От этого преподобный Йоун очнулся от пьяного забытья и, постанывая, с трудом встал.
– Па́той не по́мей! – вскричал тут Гест Эйливссон, и тотчас его забрала от гробов его нянька. – Гетт вы́лесиль па́тойя!
– А на третий день он воскрес, – раздался с одной скамьи мужской бас, неизвестно кому принадлежавший. Работники принялись посмеиваться.
Тут началась рождественская служба. Она прошла в целом без приключений: сон пошел пастору на пользу. Ему даже удалось с большим искусством перейти от благой вести праздника к темной юдоли, относящейся к каждым похоронам. Но когда дошло до надгробной проповеди, положение стало сложным, потому что для этого священнослужителю нужно было подняться на кафедру, а она была тесная и в самом прямом значении этого слова хитровыгнутая, – эта кафедра была художеством великого словосплетателя Лауси. На второй ступеньке преподобный Йоун наступил себе на рясу и чуть не грохнулся навзничь на лестницу. При этом он скрылся от взоров паствы, но сидящим на первом ряду слева все же была чуть видна возня, больше всего напоминающая биение орлана в черном мешке. Но вскоре мешок пропал из виду, и послышалось, как пастор пробирается вверх по ступенькам, а затем – опять тишина. Снова заснул? Нет, очевидно, всего-навсего забрел в незнакомый бар в этом круглом мире винтовой лестницы, потому что оттуда раздались звуки глотков. Когда они закончились, вновь послышалась возня, а затем пастор восстал из церковной кафедры, словно герой саги из бочонка со скиром[28], вооруженный растрепанной Библией, и сейчас выглядел гораздо бодрее, чем прежде.
Преподобный шумно сглотнул и кивнул головой Всевышнему. Но когда он вознамерился водрузить слово Божие на пюпитр, его угораздило уронить книгу с кафедры. Она шлепнулась на колени одному из норвежцев, который тотчас встал и подал Библию обратно на кафедру, почтительно, спокойно, в своем норвежском воскресном свитере, как раз с такими светлыми волосами и такой густой шевелюрой, от которых бежали в свое время первые жители Исландии.
Преподобный Йоун смиренно взял слово Божие и начал листать в поисках надгробных проповедей, которые составил накануне в трезвом виде и перед тем, как отправиться в церковь, засунул под золотой переплет. Но этого листка больше не было внутри Библии: куда-то он, окаянный, улетел, когда книга упала. Пастор свесился с кафедры и нагнул свою большую голову, так что его вьющиеся волосы совершенно неторжественным образом откинулись на лоб, и стал глазами искать белое пятно – бумажку на покрытом слякотью полу или же на серых, как шерсть, коленях, – «ух ты, какие у этой варежки красивые; а это часом не Кристбьёрг из Лощины?» Но все впустую. Голова опустилась еще ниже, обнаружив редковолосую макушку; так эта голова и свисала с пюпитра некоторое время, пока пастор не сделал некий внутренний рывок и не втащил самого себя обратно, поднялся, открыл глаза и с прекомичным выражением лица выпрямился, – а кровь в это время отхлынула от сосудов головы, и его лицо покрыла сероватая бледность.
За сим последовала тишина, расцвеченная покашливаниями.
«У-хммм. Да, а где бумаженция? Здесь ее нет. Нигде здесь нет. Я, что ли, забыл ее засунуть в библенцию? И она лежит дома на столенции, на столе столе столе?» Сейчас пастор щурился на прихожан, надеясь: а вдруг в густом, как шерсть, хмельном тумане что-нибудь промелькнет, хотя бы имена усопших.
– И даже если пойду я сквозь темный дол, я не буду страшиться… – начал он, чтоб хотя бы не молчать, дрожащим голосом, с трясущимися волосами, но тут сообразил и сменил тон. – Ну нет… Сегодня мы собрались здесь не только в связи с рождественским праздником, сочельником, простите, новым годом… но и…
И тотчас пастора поправил подрагивающий головой пророк из первого ряда:
– Сегодня тридцать первое! – возвестил Сакариас голосом, напоминающим ягнячье блеянье, но к этому его присловью все уже давно привыкли. У него была своя теория: что давным-давно из календаря этого хреппа выпал один день: не пришел во фьорд, а заблудился в горах и умер там, где умирают лишь дни. Так что на самом деле сегодня не первый день нового года, а последний день старого. В доказательство этого Сакариас демонстрировал искусные расчеты и выкладки и совершенно непостижимо размахивал циркулем в бадстове Старого хутора, ссылаясь на «тех отца с сыном», Пи и Пифагора, но главное доказательство пропажи одного дня все же имело место каждый год в ночь летнего солнцестояния, когда он в полночь измерял расстояние от самого западного оконного переплета до солнца, раскаленным шаром лежавшего на горизонте в северном окошке в крыше бадстовы, и из этого круглого оконца, опушенного по краям травой, открывался вид на закат в устье фьорда.
– Не, гля-ка. Оно в тридцати четырех сентиметрах от рамы, а по правде должно было быть в тридцати пяти!
Оттого в представлении сего нумеролога завтрашний день не существовал, вчерашний тоже, а текущий момент – тем более. Потому что день, каждый раз встававший за окном, на самом деле был завтрашним днем еще не прожитого вчерашнего. От этого Сакариас постоянно испытывал душевные муки и желал исправить календарь; он уже давно написал властям длинное письмо.
А наш оратор, напротив, настолько привык к этим поправкам пророка, что не услышал его возгласа, а продолжил свою пьяную болтовню с кафедры:
– … но… но также здесь мы хором… хороним Гвюд… Гвюдрун Оусвальдсдоттир из Перстовой хижины и ее дочь Бауру, то есть я хочу сказать Лауру Эйливсдоттир, возрастом дитятю.
По-настоящему покойницу звали Гвюдни Роусантсдоттир, тут наш оратор почти угадал, но дальше пошли уже сплошные домыслы.
– Гвюдрун родилась в тысяча восемьсот сорок… да. Родилась в том славном месте, где… короче, где жили ее родители. И приехала в наш фьорд… – тут пастор поднял глаза и спросил паству. – Она ведь в Лощину приехала? Да, и приехала в Лощину. Совершенно верно. Красивая девушка. Весьма хорошо сложена…
Здесь воцарилось молчание, слишком красноречиво свидетельствуя о том, что этот увлажненный хмелем человек сейчас отдался на волю дум, еще более влажных, – но затем он подобрал нить и вспомнил ребенка, сейчас лежавшего в меньшем гробу, уделив ему пару механических фраз, настолько холодных, что душу скорбящего отца бросило в озноб.
Постепенно эти до дрожи затянувшиеся похороны подошли к концу, и пастор поздравил слушателей с новым годом, а заодно и с Рождеством, бросая в могилу комья земли. Затем собравшиеся спели псалом «Цветку подобно…»[29], без аккомпанемента, в то время, когда самые крепкие в хреппе работники выносили гробы. Первым за ними выскочил Эйлив; в дверях он подхватил своего сына, когда тот подбежал к папе. И тут хуторянин ощутил, что к нему протягиваются долгие желтые помочи с небес: матерчатые, тонкой работы, посланные теми веселыми херувимами, которые обретались в небесной державе на самом нижнем ярусе, – этот день все же не был лишен благословения. Он поднял взор и посмотрел над горами: там они и сидели, пухленькие, толстощекие, улыбались и махали, словно старому знакомцу, а он с ними был незнаком и видел их впервые. Желтые тягучие ленты пропали, едва достигнув его сознания.
Им пришлось долго ждать во дворе одним, перед черными гробами, вместе с похоронщиками, Лауси и насторожившимся помощником пастора, потому что народ не мог выйти из церкви, пока вперед не продвинулись пророки, ходившие весьма медленно. Лауси потратил это время на то, чтоб завершить в уме свое четверостишие:
- К северу от солнца, от оконца,
- и на северах от Рождества,
- я засну, избавлен от суда и от труда,
- и от мира, и от божества.
И вдруг вокруг них начал крепчать ветер, и людей, протискивающихся из церкви на выход, охватило беспокойство. Порывы трепали юбки, взметали бороды – наверно, сейчас лучше отправиться домой, чтоб успеть до темноты – а в первый день нового года дневной свет в этом фьорде выключали ровно в 15:03.
– На ужин каша! – послышался крик Сакариаса, повлекшегося восвояси на хутор. За ним следовали Йоунас и Йеремиас, такие же скорбные ногами ковыляльщики. Кристмюнд из Лощины в шутку спросил, не желают ли они проводить мать с дочерью в могилу, и Йеремиас слегка обернулся и проговорил со своими тремя зубами во рту:
– Ай, она же нас проглотит!
И тут пророки, все вместе, ускорили свой медленный шаг, преуморительным образом спеша подальше от разверстой могилы, словно дети, убегающие от воображаемой угрозы.
А большинство все-таки побрело к месту последнего упокоения, и пастору, когда он наконец появился, пришлось протискиваться сквозь толпу; он густо и мохнато носопыхал, а веки у него были тяжелые. Гробы водворили в могилу, меньший – первым, чему Эйлив удивился, но, оказалось, это произошло по той простой причине, что он стоял ближе к могиле, ведь Лауру выносили из церкви первой, так как ее гроб стоял наверху. Потом на него опустили более длинный гроб. На то, чтоб вырыть две могилы или сделать эту двухместной, времени не хватило. Могила у матери с дочерью оказалась тесной, ее едва хватало на такое двухэтажное сооружение: до крышки верхнего гроба всего полсажени. И все же вдовец считал чудом, что эти две его родные души вообще удалось пристроить в землю, учитывая, насколько она вчера вечером была проморожена.
Затем началось пение, а Гест скидывал своей матери снежки, – но вот преподобный Йоун начал церемонию прощания. Он протиснулся туда, где стояли отец с сыном, а затем простер руку над открытой могилой, шатаясь из стороны в сторону, и приготовился благословлять во имя отца, сына и святого духа, но вытянул руку слишком далеко вперед и начал терять равновесие, стал хвататься за воздух на краю могилы, чтоб удержаться за него при падении. Стоящие рядом тотчас принялись протягивать ему руки помощи, но прежде чем они успели спасти своего пастора от падения, из плотной толпы высунулась жилистая рука и быстро ткнула преподобного Йоуна в спину, от чего он рухнул в могилу и плюхнулся на живот прямо на гроб Гвюдни, да так, что тот хрустнул.
Эйлив бессильно наблюдал, как служитель церкви лежит на его жене: хотя она была в гробу, а пастор явно без сознания, это зрелище было не лишено двусмысленности.
У всех присутствующих от ужаса перехватило дыхание, однако никто не понял, что же здесь произошло, никто не заметил руку, толкнувшую пастора, и не знал, кому она принадлежала, – никто, кроме маленького Геста Эйливссона. Он видел, что случилось – он смотрел на это снизу, из тесной от курток середины толпы, и видел четко. Так его память сделала свою первую зарисовку.
Глава 13
Мадама
Она выглянула в окно. Белый как лед дневной свет играл на сетчатых морщинах ее лица. Вот и еще один новый год начался – да такой светлый; а что там на кладбище за переполох? У них с погребением что-нибудь не заладилось? Она слишком плохо видела, чтоб понять, что происходит, но снова посмотрела на гору и в очередной раз спросила себя, каково ей в этом фьорде. Это был ее сорок первый новый год. Она приехала с юга страны – сорокалетняя жена пастора, который владычествовал здесь до преподобного Йоуна, и он, от большой любви и мук проспиртованной совести, два десятка лет назад выстроил для нее это жилище, до сих пор остававшееся единственным солидным жилым домом в Сегюльфьорде; все остальные были землянками, за исключением дома торгового управляющего Сигюрда, стоявшего на Косе чуть ближе к берегу, довольно сносного деревянного одноэтажного сарая. А чуть к востоку от него располагалась и сама лавка в помещении склада с дырявой крышей.
Звали ее Сигюрлёйг: она была пригожей, правда, нос несколько крупноват; рот у нее был очерчен на диво четко, а губы она часто смачивала, облизывая языком, так что они всегда блестели, как два бело-розовых червяка на пересохшей морщинистой почве – ее лице. Тело у нее было маленькое, руки маленькие, а все же от этих тоненьких побегов произросли одиннадцать больших семей, заполнивших одиннадцать хуторов по всей стране. Каждый месяц она получала письма, в которых сообщалось о погоде, скотине и рождении внуков (именно в таком порядке), с востока, юга и запада страны. Ей неоднократно предлагали уехать жить к внукам, но она все время отказывалась: ей хотелось быть именно здесь, в своем Мадамином доме, хотя пасторы здесь порой вели себя буйно.
Исландские пасторши назывались мадамами, это слово сулило почет и деликатное обращение. Для женщин выйти замуж за пастора было единственным способом избежать вечных хлопот по хозяйству, так как пасторские усадьбы располагались на лучших в стране земельных угодьях, там было самое сносное жилье и лучшие батраки. Даже если муж оказывался беспробудным пропойцей, жребий пасторши все же был гораздо лучше многих других. Поэтому пасторши заставляли себя смириться со множеством неприятных вещей и обладали большим запасом терпения. А когда они становились вдовами (а вдовели они все, так как все без исключения пасторы допивались до смерти), то могли припеваючи жить на деньги, которые посылал им фонд пасторских вдов.
Мадамин дом был выстроен из хорошей норвежской древесины: один этаж и чердак, а подвал каменный, у западной стены крыльцо, а со всех четырех сторон – окна со стеклами. Рукоположенный супруг Сигюрлёйг хотел воздвигнуть ей подходящее жилище и гордо ввести ее в другой мир, на дощатые полы, вверх по лестнице… И это была лестница в небо. Подумать только: она вышла из грязи, земли, мокрети, мытарств и маеты! И поднялась высоко – на второй этаж! В первые дни на лестнице постоянно толпились работники и даже их знакомые с Сугробной реки, да и из Лощины тоже. Новую церковь еще не построили, и люди прежде не поднимались наверх таким способом. Когда экономка впервые взошла на верхнюю площадку лестницы и посмотрела вниз, у нее так сильно закружилась голова, что она едва не свалилась со ступенек.
С той поры мадам Сигюрлёйг редко покидала свой прекрасный мир. Даже в церковь на службу она не выходила. Среди молодых поколений жителей фьорда мало кто видел пасторшу собственными глазами, этим не могли похвастаться даже те, кому посчастливилось на минутку присесть в Мадамином доме. Когда у преподобного Йоуна случались рюмочные дни в гостиной, старая дама обреталась на верхнем этаже, сидела там за вышиванием или читала датскую книгу. В сознании своих односельчан она была возвышенным существом, живущим на высоком этаже, некая помесь бродящего выходца из могилы с восседающей на троне королевой.
Ее собственный преподобный супруг умер всего через несколько лет после постройки дома – и его сразил Бухус, вихрастый бог, выбивший его из седла посреди Перстовой реки. Она умеренно скорбела по нему, а потом радовалась, что у нее поселились новые люди, новый пастор со своей тихоней женой – а значит, с ними в этот дом вошли и экономка, и работники, и обеды, и обслуживание, в этом доме рабочие руки были нужны, одна вдовья пенсия много прокорма не давала. И преподобный Йоун с его женой Гвюдлёйг были замечательными людьми. Зато он внезапно принялся пьянствовать даже сильнее, чем ее покойный супруг, и ей все так же приходилось не спать ночами; тогда она, лежа в постели, пересчитывала потомков. Преподобный Йоун был более шумным, чем ее муж. Это огромное тело с копной волос имело специфическую потребность орать так, что чертям тошно, колотить в двери и петь среди ночи тоскливые песни про любовь к бутылке и горам.
Сейчас она осторожно спускалась по лестнице – мадам Сигюрлёйг, субтильная, изящно одетая, как всегда; седые волосы выбивались из-под черного берета с черной кисточкой. Сейчас она шагнула вниз по ступенькам в еще один год, – женщина, родившаяся не когда-нибудь, а в день коронации самого императора Франции, Наполеона Великого. Почти в тот же миг, когда он преклонил колени на шелковую подушку у алтаря в Нотр-Дам в Париже перед папой Пием Седьмым, чтоб принять от него корону на свою голову, в мире раздался тоненький крик в неком деревянном алькове в исландских хреппах, скупо освещенном декабрьским днем. А сейчас она спускалась по ступенькам во всю эту историю, спускалась в свою маленькую жизнь – бескоронная императрица с северов, женщина, прожившая большую часть жизни; она ставила свои облаченные в кожу мягковойлочные подошвы на деревянные ступеньки, и они глухо поскрипывали, и их скрип был таким же четким, как выражение ее рта, но чем ниже, тем тяжелее становился этот звук, и вот наконец она высоким гостем сошла в разливанное море тиканья, заполнявшего нижний этаж, словно гость из вечности – в будничность, где часы без устали взбивают мгновения билами, чтоб их всегда было в избытке.
В последний раз она спускалась вниз несколько дней назад; очевидно, сейчас она что-то почувствовала, потому что в следующий миг входная дверь распахнулась, и в прихожую напротив лестницы ввалились три запыхавшиеся женщины. Пасторша узнала свою экономку Раннвейг, а еще Кристбьёрг из Лощины и супругу ныне царствующего пастора, Гвюдлёйг, жену Йоуна – последнюю вели под руки две остальные, словно бледную пожилую куклу, и они сильно суетились, их пальто и юбки – и те, казалось, обрели дар речи и то и дело повторяли «Господи Исусе!» и «Боже, оборони!»
Не успели женщины войти, как девчонка-работница Сигрид, которую называли не иначе, как Краснушка, потому что ее щеки все время были ярко-алыми, колоритная девка со вздернутым носом, ворвалась вслед за ними, задыхаясь от бега, и объявила:
– Его кто-то столкнул, кажется, я видела!
Три перепуганные женщины, толпящиеся в прихожей, повернулись к ней, и хотя в их взорах читалась растерянность, им удалось добавить в них удивления и гневного огня: «Не может быть! Кто так поступает? Господи ты, боже мой! Кто столкнул пастора, да еще проводящего погребение, в открытую могилу?!»
– Кажется, я видела, – повторила девчонка, а затем закрыла входную дверь.
Эту новость было трудно переварить, особенно в придачу ко всем другим. Никто больше ничего не сказал, все повернулись к старой мадаме, спустившейся по лестнице. А здесь объяснения были, по большому счету, не нужны. Она стояла перед этой более юной версией самой себя и видела, что говорят ее глаза: «Кто хоронил, теперь сам похоронен. Преподобный Йоун – все…» И хотя маленькая пасторша была потрясена, а старая – ошеломлена, молчание между ними было таким, что его можно было резать ножом, а из отрезанных кусочков выковыривать проблески облегчения.
Женщины сняли пальто, а потом принялись разыгрывать на деревянном этаже, в гостиных, в коридоре и на кухне ту пьесу, которую полагается играть, когда умирает супруг и хозяин дома. Четыре женщины по очереди садились рядом с пятой, чтоб немножко поплакать вместе с ней, сделать ей кофе, принести хлеб и масло, а потом ходить то в комнату, то из комнаты с шумом вздохов и юбок, чтоб в воздухе трепетали косы и расспросы. Они изо всех сил старались сотворить из всего этого печаль в доме, да только светлынь на улице, новогодняя белизна, отказывалась в этом участвовать. Ведь хотя стрелка часов начала клониться к трем, темнота все еще не наступала. Как будто весь фьорд радовался смерти пастора. Но пять женщин упорно продолжали играть свою пьесу, пытались разжечь в себе скорбь, приличествующую моменту, когда в хреппе преставился начальник, – но эта наигранная постановка постепенно переросла в довольно незамысловатый допрос алощекой девицы Краснушки. Что она видела? Кто его столкнул? Его точно кто-то столкнул? Но у нее на все был только один ответ: кажется, она видела, будто кто-то подошел к нему сзади и толкнул в спину, и в итоге этот громадный человек свалился ничком в могилу.
Две мадамы сидели друг напротив друга, кажется, они уже не слушали, словно это было не важно, и снова заглядывали друг другу в глаза. И вновь из молчания между ними можно было вычитать вот что: «Теперь нам наконец дадут поспать, мы спокойно выспимся!»
Глава 14
В одной связке
Вот и миновал Новый год со старым снегом и старым льдом, и почти ничего не произошло. Эйлива и Геста взяли жить на хутор «До следующего обвала», потому что в Перстовом им житья не было, потому что там раздавалось слишком уж много проклятий в адрес матери и дочери, даром что тех уже не было в живых. Эйлив дважды застукивал перстовских супругов, Стейнгрима и Эльсабет, в их кухне у очага за обсуждением отца и сына и слышал там слова «дите сопливое», «тролль бадейный» и «не человек – прорва». Ведь Эйлива не хотели никуда брать, хотя он не знал устали в любой работе: он был осужден за воровство, слишком много ел, да еще долговязый, а ведь эти его ходули не отстегнешь. И вообще, откуда мы знаем – может, он свою жену сам убил, а пастора-то наверняка он в могилу столкнул! Вот она – вершина его бедняцкой удачи! Просто никто об этом не говорит вслух, слишком уж велик этот грех – убить священника!
Оттого-то Лауси и пригласил его жить к себе, ведь они долгое время были братьями: младший и старший, мысль и лопата, и хотя для такого человека тамошнее жилье было тесновато и низковато, он мог и умел работать, а за мальчика полагались кое-какие выплаты от хреппа[30]. Хутор Обвал сам был похож на старую лавину, остановленную тонкой переборкой фасада, а сам этот фасад низко наклонился вперед и едва сдерживал оползень. Казалось, дом готов в любой момент весь целиком сорваться и покатиться вниз по склону. Внутреннее убранство все носило отпечаток какой-то поломанности. Здесь действовал вечный закон: в доме сапожника целых сапог не найдешь.
На этом хуторе размещалось пять душ: фермер Сигюрлаус, Сайбьёрг, его жена, и Грандвёр, ее мать, молчаливая как камень женщина с дальнего мыса, а также дочь супругов, придурковатая девочка-переросток по имени Сньоулёйг, называемая Сньоулька; она всегда беззлобно ворчала, а ее лицо застыло в извечной гримасе, обнажавшей большие, совсем телячьи, передние зубы. Они были желтыми, неухоженными – а все же казались всем гостям главными сокровищами этого хутора. Также здесь обретался работник Йоунас, видом как собака, а на щеках – редколесье. Как выражался Лауси, «у него вместо бороды кошачьи усы выросли». Но хотя хозяин этого хутора и был весельчаком, на самом хуторе все носило печать бренности и многое было устроено на особый лад. Мальчик явно скучал по жизни в Перстовом, где за обедом в гостиной собиралось по пятнадцать человек, а к ним в придачу три собаки и одна кошка, и, несмотря на строгость хозяйки, в том домике было весело. А здесь детей не было, да и четвероногих товарищей для игр тоже, разве что мышка под кроватью. Даже собаки здесь не было, и не было коровы Хельги: его добрую жизнеподательницу до весны решили держать у Стейнгрима. И здесь никто не разговаривал – кроме Лауси, но он всегда думал о чем-то своем, что-то записывал или плел какие-то словеса. В его сундуке лежала целая куча книг, но даже Эйливу оказалось трудно понять то, что хозяин читал по вечерам: «Приветствую царство / черного чада! / Прими, преисподняя, / владыку нового – / меня!» А заглавие было как будто нарочно создано для Эйлива и его великого верстания с судьбой: «Потерянный рай по-исландски». Долговязый чувствовал себя здесь почти сиротой: несвободным, нелюбимым, – но какой выбор был у него сейчас, когда его жизнь со всех сторон затирали морские льды?
Хутор Нижний Обвал не просто так прозвали «До следующего обвала». На него и на хутор Верхний Обвал, находившийся двумя покосами дальше вглубь долины, веками обрушивались бесконечные сели, оползни, камнепады, обвалы, но в основном снежные лавины, и люди на них жили в постоянном страхе перед следующей лавиной, а лавины все шли из Вредоносной впадины, огромного снегосборника под Столбовой вершиной, самой высокой горой в этом фьорде.
С тех пор как остроумец Лауси обосновался в этом месте, он ввел такое правило, что в самое опасное время года домочадцы должны были ложиться спать, связавшись одной веревкой. Хозяин накидывал вокруг своей талии петлю, потом веревка продевалась сквозь ручку его сундука с книгами, затем тянулась к кровати напротив, где петля завязывалась вокруг хозяйки, затем свекрови, потом дочери и, наконец, работника. Если случится обвал, их всех будет легко отыскать. Эти осязаемые семейные узы, весьма прочные (так называемая манильская веревка рыжеватого оттенка, из лавки Коппа), завязывались вокруг каждого туловища морским узлом, так что никого не сдавливали. А сейчас веревку предстояло удлинить для новых членов семьи, но Эйлив отказался: привязываться к этим людям ему не хотелось. «Нет, Лауси, жить вот так вот я не хочу. А мальчика бери». – И Гест оказался с домочадцами в одной связке.
Эйлив ухаживал за овцами в хлеву, который был еще меньше, чем когда-то его собственный, так что ему казалось, что баранешки здесь карликовой породы, и он поил их мышиными порциями. Также он выходил на весельной лодке добывать рыбу вместе с этим лисом Йоунасом, когда льды стали отступать, и не возражал, когда ему велели вязать вместе со всеми по вечерам под чтение стихов в древнепесенном размере. Но его подавленность никуда не уходила. Ночь за ночью ему все снилось, что его жена на том свете с кем-то спуталась.
Но гораздо больше его угнетало происшествие на похоронах, тот факт, что в придачу ко всему пастор «доклюкался» и помер. Он снова и снова видел перед собой мертвенно-бледное и перепачканное лицо преподобного Йоуна, когда того перевернули, эту величественную, все еще пьяную в лоск физиономию, хотя, вроде бы, хмель уже должен был слететь с пастора, ведь в этот самый миг его уже вводили в палаты самого князя тьмы. (Об этом обстоятельстве они – Эйлив, Лауси и работник Йоунас – спорили весь месяц торри[31], и обладатель кошачьих усов считал, что кто помер пьяным, тот будет пьян и в вечности. А о том, в какое место пастор Йоун отправился после смерти, и спорить нечего.) И он снова ощущал тяжесть пасторского тела, каменную тяжесть этого каменного тела, снова и снова чувствовал, как же обидно, что его приходится вынимать из могилы при помощи его же собственных работников. Следы этих трудов ему так и не удалось смыть. Пастор неописуемым образом нагадил ему, испустив дух в могиле его жены и дочери. Что это за пастор, черт его раздери, который во время погребения помирать удумал! Громила окаянный! И теперь эта пакость навек замарала память о Гвюдни и Лауре. Если жена и дочь просто погибли – это одно, а если их еще и пастором придавило – это совсем другое.
Глава 15
Mr. Eternal
И вот в один прекрасный день из-за угла фьорда показался пассажирский корабль «Тира», державший путь на запад, за Рог, и сделал там вежливую остановку. Это было в последний день марта месяца, небо было серым, но высоким, летали во́роны, лед, сползший со всех склонов, щетинился жухлой травой и оголенными камнями, а горные вершины были белоснежны, и море тонко подрагивало как живое.
Приятели Эйлив и Йоунас возвращались с ловли, добыв рыбы столько, что она едва закрыла дно лодки. И тут им закричали и замахали с оконечности Косы. Это могло означать только одно, и они на мгновение задумались, не отвезти ли им сначала улов домой, потому что сейчас в лодке наверняка появятся пассажиры, но Йоунас и слышать не хотел о такой ерунде, так что они развернулись и принялись грести навстречу кораблю. В этом фьорде, конечно же, не было ни причала, ни пирса для крупных судов, а сами эти господа, плавающие вдоль побережья Исландии, лодку без крайней нужды не спускали: корабль должен был укладываться в расписание. Поэтому существовало неписаное правило: если рядом плавала какая-нибудь посудина, она должна была подойти к борту корабля и перевезти пассажиров и груз на берег.
Вот как вышло, что на скамье напротив Эйлива в лодке оказался словоохотливый южанин, чистюля в перчатках, в зарубежных обутках, таких роскошных, что ему пришлось сидеть как девочке: на помосте, подобрав обе ноги на скамью, и от его безбородого лица непрерывно струилась речь, а порой он косился на кучу пойманной рыбы под собой, и выражение лица у него становилось как у человека, вдруг обнаружившего, насколько же в действительности отвратительна основа жизни этого замученного народа. Эйливу это не понравилось – и тут он увидел, как «Тира» на всех парусах покидает фьорд. Ну и как этот человек, такой чистоплюй, собирается жить здесь, среди рыбьей слизи?
– Ты можешь продать свою корову. За корову пока еще много чего можно купить. А еще я могу тебе сильно сбавить, потому что ты – первый, с кем я разговариваю в этом фьорде, а записалось к нам мало народу. Единственное, что тебе нужно будет сделать, Эйлив… ведь тебя Эйлив зовут, так? Эйлив – пишется без ипсилона? Да. Тебе надо будет заранее быть в Фагюрэйри, корабль отчаливает третьего мая. Что ты говоришь, у тебя сын? Ему два года? Тогда мы за него платы не возьмем, просто запишем его как собаку, некоторые берут с собой собак, хотя собакам во Мерике на берег нельзя. В нью-йоркском порту стоит целый корабль с собаками, и они по ночам воют и зовут старый мир. Ну, господин хороший, прощай. Во Мерике для таких больших и сильных, как ты, возможностей полно, у тебя там с самого первого дня была бы работа и зарплата! Тебе бы банкнотами платили! И в лавку ты мог бы ходить без кредита, просто платил бы за сам товар, за soap, shoes или там jacket, а потом сходил бы в «Фотографию» и снялся на карточку! Mister Eternal Gudmundsson!
Ну и болтун! Эйлив до смерти обрадовался, когда выгрузил этого кота в сапогах на приливной полосе, не доезжая Мадамина дома, вместе с посылками двум пасторшам, которые сейчас, в своем вдовстве, сидели там, раскачиваясь взад-вперед. А забирала ящики с посылками помощница экономки, Краснушка, девчушка с алыми щеками и вздернутым носом, которая в придачу приняла от наших гребцов связку сайды. Она ошарашила Эйлива, одарив его теплым взглядом в тот момент, когда забирала рыбу. Она с ним заигрывала? Эта девчонка сопливая? Либо так, – либо она была уверена, что пастора, ее хозяина, убил именно он, и была ему настолько благодарна. Неумолкающий южанин, весьма величаво соскочивший с носа лодки на берег, почти не замочив ног, отпрянул, когда помощница экономки прошагала мимо него на берег, помахивая рыбой.
– Благодарю за труды, – крикнул он Эйливу на прощание. – Приходите в воскресенье в church, я там буду анонсировать переезды во Мерику и записывать желающих! The Promised Land is not only a promise! [32]
Английского языка Эйлив не понимал, а вот эту запальчивость понял хорошо. И конечно, он слыхал об Америке; в Лощине батраки с батрачками семь лет назад как-то собрались, а на следующее Рождество они уже оказались запечатлены на скрижалях истории в фотоателье в Манитобе, разодетые не хуже самого Коппа. Подумать только: этот негодник Кристьяун и эта бабенка Марфрид с мельницы стали совсем как чистая публика… Узы батрачества до самой Америки не дотягивались.
Он взялся за весла с таким рвением, что даже костяшки побелели под весенними варежками, а сам смотрел, как американский агент забегает в Мадамин дом с такими кошачьими повадками, словно плут-затейник из английского романа, которого ему как-то раз описал Лауси. Впрочем, агент и впрямь был исторической личностью, ведь за тысячу лет ни один купец не явился сюда, чтоб избавить людей от оков этого фьорда, – хотя, может, это только штучки, какие в ходу у торговцев, один мухлеж и надувательство? Тот человек никогда не видал рыбьего плавника, а к тому же выказал беспримерную хитрость:
– Ты же это сделаешь ради меня, да, Эйлив? Чтобы это все окупилось, мне нужно по меньшей мере по десять человек из каждого здешнего фьорда.
Они легко неслись через фьорд: человек, весло и морская вода – единственная и настоящая троица, – а Эйлив думал о своей жизни и своем положении. Вот он сидит тут в открытой лодке – сорокасемилетний исландец, и все части тела у него в целости, а вот репутация подмочена, – хотя кто бы не стащил кусок еды в открытом сарае для сушки рыбы после того, как ему отказали в ночлеге на третий вечер большого бурана, а перед этим он два дня шел, и у него маковой росинки во рту не было? Один лишь случай – вполне закономерный страх голода зимой 1878 года – и все моменты его жизни попали под осуждение. Чтоб окрасить всю бадью, оказалось достаточно одной ягодки.
Он смерил взглядом затылок работника Йоунаса, сидевшего на скамье возле отсека для рыбы, – тощего, синюшного – а грести-то этот мужичонка вполне может, этого уж не отнять. Но ему агент даже слова не сказал, он обращал свои тирады исключительно к Эйливу. Может, он смекнул, что за сокол сидит тут на веслах – тенелюбивый, жухлобородый, для всех неудобный, а в первую очередь для самого себя. На прошлой неделе Эйлив набрел на работника на взморье, где тот засовывал свой прибор в Сньоульку, и его сугробно-белые ягодицы сверкали среди черноты камней. С такого расстояния было трудно определить, что выража�
