Злой рок. Политика катастроф
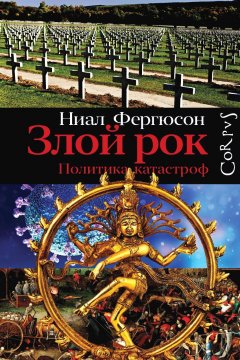
Niall Ferguson
Doom. The Politics of Catastrophe
Охраняется законом РФ об авторском праве. Воспроизведение всей книги или любой ее части воспрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.
© 2021, Niall Ferguson All rights reserved
© В. Измайлов, перевод на русский язык, 2023
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2023
© ООО «Издательство Аст», 2023
Издательство CORPUS®
Введение
Роберт Бёрнс «К полевой мыши…»[1]
- И доля горестней моя:
- Вся в настоящем жизнь твоя;
- А мне и в прошлом вспоминать
- Ряд темных лет
- И с содроганьем ожидать
- Грядущих бед!
Исповедь суперраспространителя
Наверное, никогда еще за всю историю человечества мы не испытывали такой неуверенности в будущем и не были столь несведущи в отношении прошлого. В начале 2020 года, когда из Уханя пришли вести о новом коронавирусе, немногие осознали их значение. Сам я еще 26 января впервые заговорил о том, что возрос риск глобальной пандемии[2]. Когда я написал об этом, меня сочли чудаком (определенно, так думали почти все делегаты на Всемирном экономическом форуме в Давосе, совершенно не видя угрозы). В то время в СМИ (от Fox News до Washington Post) было принято считать, что коронавирус для американцев не страшнее обычной зимней волны гриппа. 2 февраля я писал: «Сейчас самую населенную страну мира охватила эпидемия и вероятность того, что она перерастет в глобальную пандемию, очень высока… Но самое сложное… – это противостоять тому странному фатализму, по воле которого большинство из нас не меняет планы и не носит неудобные маски, даже когда опасный вирус распространяется экспоненциально»[3]. В ретроспективе эти фразы читаются как завуалированное признание. В январе и феврале я путешествовал как заведенный – как и почти все предыдущие двадцать лет. В январе я совершал перелеты из Лондона в Даллас, из Далласа в Сан-Франциско, оттуда в Гонконг (8 января), Тайбэй (10 января), Сингапур (13 января), Цюрих (19 января), обратно в Сан-Франциско (24 января), а потом – в Форт-Лодердейл (27 января). Пару раз я надевал маску, но через час уже не мог терпеть и снимал. В феврале я летал почти столь же часто, хотя и не так далеко: в Нью-Йорк, Сан-Валли, Бозмен, Вашингтон и Лифорд-Кей. Возможно, вы спросите, что же это за жизнь такая. Порой я в шутку говорил, что круговорот лекций превратил меня в «историка международного масштаба». Только потом я понял, что мог оказаться одним из суперраспространителей, которые из-за своего сверхнасыщенного графика поездок разносили вирус из Азии по всему миру.
В первой половине 2020 года моя еженедельная газетная колонка стала своего рода хроникой эпидемии. Впрочем, я никогда не упоминал о том, что сам проболел почти весь февраль – причем с постоянным мучительным кашлем. (С лекциями я справлялся, налегая на скотч.) «Бойтесь за стариков, – написал я 29 февраля, – смертность у тех, кому за восемьдесят, превышает 14 %, а у тех, кому нет и сорока, она близка к нулю». Я опустил не столь утешительные данные о мужчинах-астматиках за пятьдесят. И оставил за скобками тот факт, что дважды ходил к врачу, который каждый раз говорил мне – как тогда говорили врачи почти по всей Америке, – что доступных тестов на COVID-19 нет. Я знал лишь одно: все это серьезно и происходит не только со мной и с моей семьей.
Те, кто легкомысленно бросает: «Да это не опасней гриппа…», упускают из виду самое главное…
С коронавирусом все неопределенно, ведь болезнь трудно обнаружить на ранних стадиях, когда многие уже инфицированы, но симптомы у них еще не проявились. Мы не можем точно сказать, сколько человек сейчас болеет, поэтому нам неизвестны ни репродуктивное число вируса, ни уровень смертности. И нет ни вакцины, ни лекарства[4].
В другой статье, опубликованной 8 марта в Wall Street Journal, я писал: «Если в США заболевание распространится так же широко, как в Южной Корее, – с учетом разницы в численности населения, то скоро в стране будет 46 тысяч случаев и более чем 300 смертей. А если уровень смертности в США окажется столь же высоким, как в Италии, смертей будет уже 1200»[5]. На тот момент в Соединенных Штатах насчитывались лишь 541 подтвержденный случай и 22 смерти. Отметку в 46 тысяч случаев мы прошли 24 марта, а в 1200 смертей – 25 марта… всего две недели спустя[6]. 15 марта я отметил: «Вчера аэропорт имени Джона Кеннеди полнился людьми, которые, как это происходит испокон веков во время эпидемий, бежали из большого города (и распространяли вирус)… Мы входим в паническую стадию пандемии»[7]. В тот день и я, взяв жену и двух младших детей, улетел из Калифорнии в Монтану. Здесь, в Монтане, я до сих пор и нахожусь.
Я мало писал и думал о чем-либо еще в первой половине 2020 года. Почему меня так увлекла эта тема, если моя ключевая компетенция – история финансов? Дело в том, что я очень интересовался тем, какую роль играют болезни в истории человечества, еще с тех пор, как более тридцати лет тому назад, в аспирантуре, изучал эпидемию холеры, поразившую Гамбург в 1892 году. В необычайно подробном исследовании Ричарда Эванса я познакомился с идеей, что смертность, вызванная патогеном, до некоторой степени отражает тот социально-политический строй, который он атакует. Эванс утверждал, что в Гамбурге людей убивал не только холерный вибрион, но и – наравне с ним – их убивала классовая структура, поскольку городские собственники, наделенные властью, не позволяли улучшить устаревшие системы водоснабжения и канализации. Среди бедноты смертность была в тринадцать раз выше, чем среди богачей[8]. Когда я несколько лет спустя проводил исследование для своей книги «Горечь войны», меня поразила статистика, позволявшая предположить, что в 1918 году германская армия потерпела поражение отчасти из-за вспышки заболевания, к которой, возможно, привела «испанка»[9]. А в книге «Война всего мира» (The War of the World) я еще более подробно рассмотрел историю пандемии 1918–1919 годов и показал, что Первая мировая война закончилась двойной пандемией – не только гриппом, но и такой идеологической заразой, как большевизм[10].
В 2000-х годах я занимался исследованием империй и тоже проводил экскурсы в историю заразных заболеваний. Рассказывая о европейских колонистах в Новом Свете, нельзя умолчать о том, что болезни были призваны «проредить индейцев и освободить место для англичан», как бессердечно выразился Джон Арчдейл, губернатор Каролины в 1690-х годах. (Вторую главу в книге «Империя» я назвал «Белая чума».) А еще меня поразило, сколь много британских солдат, служивших вдали от родины, погибло от тропических болезней. Шанс военного пережить службу в Сьерра-Леоне был крайне низким – умирал каждый второй[11]. В «Цивилизации» я посвятил целую главу тому, какую роль современная медицина сыграла в экспансии Запада, а именно в колонизации и усилении политического влияния. Я показал, что колониальные власти значительно улучшили наши знания о заразных заболеваниях и нашу способность их контролировать. Причем порой их методы были очень жестоки, и я этого не скрывал[12]. «Великое вырождение» откровенно предупреждало, что мы стали более уязвимы перед «случайными мутациями вирусов наподобие гриппа»[13][14], а «Площадь и башня», по сути, рассказывала историю мира, исходя из того, что «быстроту и охват распространения заразы определяют не только сами вирусы, но и характер разносящей их сети»[15][16].
Я пишу эти строки в начале сентября 2020 года. Пандемия COVID-19 еще далека от завершения. Уже подтвердилось примерно 26 миллионов случаев заболевания, и, если судить по данным о серопревалентности по всему миру, это лишь малая часть тех, кто заразился вирусом SARS-CoV-2[17]. Общее число умерших приближается к 900 тысячам человек, и цифра явно занижена, поскольку статистика из ряда крупных стран (в особенности из Ирана и России) не внушает доверия. А жертв все больше, и их количество в целом растет более чем на 6 % в неделю, не говоря уже о числе тех, чье здоровье подорвано навсегда: сколько их – этого еще никто не определил. С каждым днем все вероятнее, что лорд Рис, британский королевский астроном, выиграет пари у Стивена Пинкера, психолога из Гарварда, и «биотерроризм либо биологическая ошибка в течение шести месяцев, считая с 31 декабря 2020 года, в рамках одного события приведут к миллиону жертв»[18]. Некоторые эпидемиологи заявляли, что без радикального социального дистанцирования и экономических локдаунов окончательное число жертв могло бы составить от тридцати до сорока миллионов[19]. Конечно, оно уже не станет столь высоким – из-за ограничений, наложенных правительствами, а также из-за того, что само общество стало вести себя иначе. Однако те же самые немедикаментозные меры потрясли мировую экономику намного сильнее, чем финансовый кризис 2008–2009 годов, – а возможно, что и так же серьезно, как Великая депрессия.
Зачем писать историю пандемии сейчас, когда она еще не завершилась? Все просто: моя книга – это не история нашей обескураживающей постмодернистской болезни, – хотя в двух завершающих главах (девятой и десятой) я и попытаюсь очертить абрис такого замысла. Это общая история катастроф, в число которых входят не только эпидемии, но и вообще все виды бедствий: геологические (землетрясения), геополитические (войны), биологические (пандемии), технологические (ядерные аварии). Падения астероидов, извержения вулканов, экстремальные погодные явления, голод, страшные аварии, экономические кризисы, революции, войны и геноцид – здесь вся наша жизнь и очень много смерти. Ведь как нам, ничего не зная о них, верно увидеть беду – хоть свою, хоть любую другую?
Очарование рока
Эта книга исходит из предпосылки, что мы не можем изучать историю катастроф, как природных, так и рукотворных (впрочем, эта дихотомия, как мы еще увидим, мало оправдана), в отрыве от истории экономики, общества, культуры и политики. Крупные бедствия редко бывают вызваны лишь внешними причинами – исключением можно считать разве что падение массивного астероида, которого не случалось уже 66 миллионов лет, или вторжение пришельцев, которого не случалось вообще никогда. Даже самое страшное землетрясение катастрофично лишь настолько, насколько распространилась урбанизация вдоль линии разлома – или вдоль побережья, если за этим землетрясением придет порожденное им цунами. Пандемия складывается из нового патогена и атакованных им социальных сетей. Нам не понять масштаб заражения, изучая только сам вирус, поскольку он заразит ровно столько людей, сколько ему позволят заразить упомянутые сети[20]. В то же время катастрофа срывает покровы с поражаемых ею обществ и государств. Это момент истины, момент откровения: в его свете одни предстают хрупкими, другие – стойкими, третьи – «антихрупкими», способными не только выдержать бедствие, но и благодаря ему окрепнуть[21]. У катастроф есть серьезные экономические, культурные и политические последствия, многие из которых парадоксальны.
Все общества живут в неопределенности. Даже древнейшие цивилизации, о которых до нас дошли сведения, прекрасно понимали, сколь уязвим Homo sapiens. С тех пор как род человеческий начал запечатлевать свои мысли в искусстве и литературе, вероятность вымирания – или «конца света» – возросла до угрожающих масштабов. Как мы увидим в первой главе, перспектива апокалипсиса – грандиозного последнего, Судного дня – занимала в христианском богословии центральное место, после того как о нем пророчествовал сам Иисус. Драматическую развязку, о которой повествовало Откровение Иоанна Богослова, пророк Мухаммед внес в ислам. Подобные картины разрушения мы находим и в других вероисповеданиях, даже в тех, которым более свойственна цикличность, – в индуизме и в буддизме, – а кроме того, в скандинавской мифологии. Часто, и временами неосознанно, мы, современные люди, толкуем в эсхатологических терминах смысл пережитых или увиденных бедствий. А приверженцы светских идеологий, особенно марксисты, порой жаждут «мирского» апокалипсиса (в котором капитализм рушится под гнетом своих противоречий) столь же истово, как христиане-евангелисты – Восхищения Церкви. Есть нечто знакомое и в том, с какой страстью радикальные пророки катастрофического изменения климата требуют решительного «покаяния» экономики во избежание конца времен.
Слово doom – рок, фатум, смерть и Страшный суд – впервые встретилось мне в Восточной Африке, когда я был еще мальчишкой: так назывался популярный инсектицид, который в настоящее время порой используется в религиозных целях[22]. Оно восходит к староанглийскому dōm, древнесаксонскому dóm и древнескандинавскому dómr – словам, означающим официальное решение или приговор суда (как правило, неблагоприятные). «Для всех неотвратим судьбы закон»[23], – говорит Ричард III. «Иль эту цепь прервет лишь Страшный суд?»[24] – вопрошает Макбет. Конечно же, мы боимся рока. Но мы им и очарованы – отсюда и обилие литературы о «последних днях человечества» (так иронически назвал Карл Краус свою великую сатирическую драму о Первой мировой войне). Научная фантастика и кинофильмы изображали наш конец бесчисленное множество раз. Смертоносная пандемия – лишь один из многих вариантов того, как в массовой культуре человечество сметается с лица земли. Примечательно, что в дни первых американских локдаунов, вызванных появлением COVID-19, одним из самых популярных фильмов на Netflix стала картина Стивена Содерберга «Заражение» 2011 года, которая повествует о пандемии (впрочем, гораздо более страшной)[25]. Я сам, словно завороженный, пересматривал «Выживших» от Би-би-си (драматический сериал 1975 года) и читал трилогию Маргарет Этвуд про Беззумного Аддама. Рок притягателен.
И все же нам стоит бояться не конца света – не наступая по расписанию, он неизменно разочаровывает милленариев, – а серьезных бедствий, которые многим из нас доводится пережить. Они могут принимать разные формы. Они невероятно разнятся по масштабу. И даже если их удается предсказать, они влекут смятение особенного рода. Редко когда в литературе находит свое отражение реальная катастрофа, приводящая в оцепенение – и все же убогая. Замечательное исключение – пронизанное цинизмом свидетельство Луи-Фердинанда Селина о вторжении немцев во Францию в 1914 году, ставшее частью его романа «Путешествие на край ночи» (1932). «Когда ты лишен воображения, умереть – невелика штука, – замечает Селин, – когда оно у тебя есть, смерть – это уже лишнее»[26][27]. Мало кто из писателей сумел так ярко запечатлеть хаос грандиозной катастрофы и абсолютные ужас и растерянность, охватывающие каждого в отдельности. Франция понесла кошмарные потери в начале Первой мировой войны. И все же кажется, что циник Селин, изображая искалеченные души обитателей французского дна (от аванпостов во Французской Экваториальной Африке до парижских окраин), предвещает еще большую беду – которая ждала впереди, в 1940-м.
Летом 1940 года Франция пала. «Странное поражение» – так назвал свою книгу, посвященную этому краху, историк Марк Блок[28]. Таких странных поражений – бедствий, которые нетрудно было предсказать, но тем не менее сокрушительных – в истории было много. В столкновении с COVID-19 и Америка, и Великобритания, пусть и каждая по-своему, потерпели во многом именно такие поражения. Они воспринимались лишь как колоссальный провал правительств, не сумевших надлежащим образом подготовиться к катастрофе, вероятность которой, как известно, всегда была достаточно высокой. Винить в этом лишь самонадеянных популистов – слишком легко. С точки зрения избыточной смертности в Бельгии дела обстояли так же плохо, если не хуже, хотя там премьер-министром была Софи Вильмес, сторонница прогрессивных взглядов.
Почему некоторые общества и государства реагируют на бедствия намного лучше других? Почему некоторые распадаются, большая часть сохраняет цельность и лишь немногим удается стать сильнее? Почему политика порой приводит к катастрофам? Этим вопросам и посвящена моя книга. И ответы на них совсем не очевидны.
Неопределенность катастрофы
Насколько легче было бы жить, умей мы предсказывать бедствия! Авторы веками пытались доказать, что исторический процесс предсказуем, с помощью кучи разнообразных циклических теорий – религиозных, демографических, поколенческих, денежно-кредитных… Во второй главе я рассмотрю такие теории и задамся вопросом: помогут ли они предвосхитить очередное несчастье – и если не избежать его, то хотя бы ослабить удар? Ответить можно уже сейчас: не особо. Проблема в том, что все, кто верит в подобные теории или в любую иную форму прозрения, не понятную широким массам, неизбежно оказываются в роли Кассандры. Они видят будущее – или думают, будто видят его, – но не могут уверить в этом окружающих. Если так посмотреть, многие катастрофы – это истинные трагедии в античном понимании этого слова. Пророк, предвещающий горе, бессилен убедить хор скептиков. Царь не волен избежать своей участи.
Но есть веская причина, по которой Кассандры не могут никого убедить: они не способны предсказывать точно. Когда именно наступит катастрофа? Как правило, им это неизвестно. Да, некоторые беды – это «предсказуемые неожиданности», подобные «серым носорогам», которые, грозно топоча, несутся прямо на нас[29]. Впрочем, иногда в тот миг, когда «серые носороги» наносят удар, они преображаются в «черных лебедей» – в поразительные события, которых «никто не мог и предвидеть». Отчасти так происходит потому, что многие катастрофы, причисленные к «черным лебедям» – пандемии, землетрясения, войны, финансовые кризисы, – подчиняются не нормальному распределению вероятностей, который наш мозг легко воспринимает, а степенным законам. Нет средних пандемий и средних землетрясений – есть несколько грандиозных и великое множество малых. И нет никакого надежного способа предсказать, когда придет большая беда[30]. В обычные времена мы с семьей живем у разлома Сан-Андреас. Мы знаем, что «нечто серьезное» может случиться в любой момент. Но насколько серьезным будет это «нечто»? И когда именно все произойдет? Этого никто сказать не в силах. То же относится и к рукотворным бедствиям – к тем же войнам и революциям (которые чаще пагубны, нежели благотворны). Это справедливо и для финансовых кризисов: они приводят к меньшему числу погибших, но их последствия часто оказываются столь же разрушительными. Как покажет третья глава, у истории есть одна определяющая черта: в ней намного больше «черных лебедей» – не говоря уже о «драконьих королях» (событиях столь масштабных, что они выходят даже за рамки распределения по степенному закону[31]), – чем можно было ожидать в мире, подвластном нормальному распределению. Все такие события лежат не в области рассчитанного риска, а в сфере неопределенности. Более того, мир, который мы построили, со временем становится все более сложной системой, подверженной стохастическому поведению, и в нем возрастает доля нелинейных отношений и распределений с толстым хвостом. Такое бедствие, как пандемия, – это не простое событие, оторванное от других. Оно неизбежно ведет к другим видам катастроф – экономическим, социальным, политическим. Могут возникнуть, и часто возникают, волны или цепные реакции бедствий, и мы видим это тем чаще, чем сильнее мир объединяется в единую сеть (четвертая глава).
К сожалению, наш мозг не эволюционировал так, чтобы наделить нас способностью понимать мир «черных лебедей», «драконьих королей», сложности и хаоса, – или хотя бы смиряться с ним. Было бы замечательно, если бы развитие науки освободило нас хотя бы от толики иррациональности, свойственной древнему и средневековому мирам. («Мы согрешили. Это суд Божий».) Но пусть религиозные верования и ослабли, развились другие формы магического мышления. «Эта катастрофа разоблачает заговор» – так теперь все чаще говорят, услышав о неблагоприятном событии. А еще есть смутное почтение к «науке», которое при ближайшем рассмотрении оказывается новой разновидностью предрассудка. «У нас есть модель, мы понимаем этот риск» – подобные слова не раз звучали перед недавними катастрофами, как будто наука – это сделанные на скорую руку компьютерные симуляции с готовыми переменными. У нас есть фундаментальный труд оксфордского историка Кита Томаса «Религия и упадок магии» (Religion and the Decline of Magic), а в пятой главе я делаю предположение, что нам стоит готовиться к написанию книги «Наука и возрождение магии»[32].
Справляться с бедствиями становится еще сложнее потому, что наши политические системы все чаще выдвигают на ведущие роли тех, кто особенно склонен игнорировать проблемы, упомянутые в предыдущих абзацах. Это не суперпрогнозисты, а высокорисковые предсказатели. Психология военной некомпетентности была предметом прекрасного исследования[33]. Меньше пишут о психологии политической некомпетентности, которой посвящена шестая глава. Как известно, политики редко обращаются за советом к экспертам (разве что ими движет какой-нибудь скрытый мотив)[34]. А еще экспертов довольно легко отодвигают на второй план, если их знания неудобны. Но можно ли определить общие формы политической несостоятельности, когда речь идет о подготовке к бедствиям и о смягчении их последствий? На ум приходят пять категорий:
1. Неумение учиться у истории.
2. Отсутствие воображения.
3. Склонность бороться с прошедшей войной или кризисом.
4. Недооценка угрозы.
5. Прокрастинация, или вечное ожидание определенности.
«Проблема догадок», которую сформулировал в контексте ядерной стратегии Генри Киссинджер, – яркий пример того, насколько асимметричны решения, принятые в состоянии неопределенности, особенно в условиях демократии:
У каждого политического лидера есть выбор: затратить на оценку как можно меньше сил – или, напротив, как можно больше. Если он выберет первое, то со временем может оказаться, что он был неправ, и ему придется дорого за это заплатить. Действуя на основе догадки, он никогда не сумеет доказать, что его усилия были необходимы, – но может уберечь себя от многих печалей в будущем… Если он начнет действовать рано, то никогда не узнает, было ли это необходимо. А если он решит ждать, то ему или повезет – или нет. Это ужасная дилемма[35].
Правителей редко вознаграждают за то, что они сделали во избежание бедствий, – ведь отсутствие таковых редко становится поводом для торжества и благодарности. Чаще их винят за неудобства, доставленные теми профилактическими мерами, которые они рекомендовали. О контрасте между стилем руководства в наше время и в дни Дуайта Эйзенхауэра повествует седьмая глава.
И все же не во всех провалах виновны первые лица. Часто слабое звено располагается ниже по иерархической лестнице. Как доказал физик Ричард Фейнман, изучив обстоятельства гибели космического челнока «Челленджер» (январь 1986 года), роковую ошибку совершил вовсе не Белый дом, который будто бы торопился совместить успешный запуск с обращением президента. Ее допустили бюрократы среднего звена из NASA, которые настаивали на том, что риск катастрофы составляет 1 к 100 000, хотя их же собственные инженеры определили этот риск как 1 к 100[36]. Подобные случаи, как и промахи высшего звена, характеризуют многие современные бедствия. Как сказал после урагана «Катрина» конгрессмен-республиканец Том Дэвис, существует «огромная пропасть между разработкой политики и ее внедрением»[37]. Такие разрывы свойственны бедствиям любого масштаба, от кораблекрушения до краха империи, и это позволяет предположить наличие «фрактальной геометрии катастрофы» (ей посвящена восьмая глава).
То, как ведут себя в момент катастрофы обычные люди – и в децентрализованных сетях, и в толпах без руководителя, – порой оказывается даже важнее, чем решения лидеров или приказы правительств. Почему некоторые воспринимают новую угрозу рационально, иные – пассивно, как сторонние наблюдатели, а третьи отвечают на нее отрицанием или протестом? И почему природная катастрофа может породить политическую, при которой разгневанные люди становятся революционной толпой – и переходят от разума к безумию? Полагаю, ответ заключен в изменчивой структуре самого общества. Напрямую катастрофа затрагивает меньшинство. Остальные узнают о ней через какую-нибудь информационную сеть. Даже в XVII веке зарождающаяся массовая пресса могла сеять смятение в человеческих душах – как выяснил Даниэль Дефо, когда изучал лондонскую чуму 1665 года. А интернет увеличил потенциал для распространения неверных сведений и дезинформации настолько, что можно говорить о двух эпидемиях, поразивших мир в 2020 году: одну вызвал биологический вирус, а другую – еще более заразные заблуждения и ложь, распространявшиеся в Сети со скоростью вируса. Проблема могла бы стать не столь серьезной, сумей мы провести осмысленные реформы законов и постановлений, регулирующих деятельность крупных технологических компаний. Но несмотря на самые широкие свидетельства того, что с 2016 года статус-кво несостоятелен, почти ничего не было сделано.
История медицины: это еще не конец
Мы склонны представлять эпидемии и пандемии в узком смысле – как выражение воздействия определенных патогенов на население. Однако силу воздействия пандемии определяет не только сам патоген, но и социальные сети и государственные возможности, с которыми он сталкивается. Коэффициент летальности при заражении инфекцией не вписан в РНК коронавируса. Он варьируется от места к месту, от времени ко времени, по причинам как генетическим, так и политическим и социальным.
На протяжении большей части истории незнание медицинской науки делало людей уязвимыми перед новыми штаммами заболеваний. И чем более крупным и цельным в торговом отношении было общество, тем выше оказывалась вероятность того, что оно пострадает от пандемии, – как выяснили себе в ущерб греки и римляне. Именно существование трансъевразийских торговых путей позволило чумной палочке в XIV веке убить так много европейцев. А европейская экспансия за океан, начавшись примерно полтора столетия спустя, привела к Колумбову обмену: патогены, завезенные европейцами, почти полностью уничтожили коренное население Америки; затем сами европейцы вернулись из Нового Света с сифилисом, а когда на Карибские острова и в обе Америки пошли корабли с рабами-африканцами, там появились малярия и желтая лихорадка. К концу XIX века европейские империи могли похвалиться тем, что близки к победе над заразными заболеваниями. Но им не удалось совладать с кризисами в здравоохранении (скажем, вернулась бубонная чума), и это вызвало недовольство за океаном у местных националистов, а вспышки холеры в портах и в промышленных городах «раззадорили» европейских прогрессистов и социал-демократов. Еще в конце 1950-х годов пандемии считались характерной особенностью мирового порядка.
Конец XX столетия казался временем прогресса. Советский Союз и США, замышляя биологическую войну друг против друга, все же совместно изничтожали оспу и по отдельности сдерживали малярию. С 1950-х до 1980-х годов во многих сферах здравоохранения, от вакцинации до санитарии, удалось добиться огромных успехов. Более того, к последним годам века порой казалось, что угроза пандемий отступила. Когда рандомизированные контролируемые клинические испытания стали стандартом для медицинских исследований, мы наконец достигли – или думали, что достигли, – «конца истории медицины»[38]. Конечно же, это было не так. Начиная с пандемии ВИЧ/СПИДа, новые вирусы показали, сколь уязвим мир, который все теснее связывают сети.
Мы получали бесчисленные предупреждения о том, что самыми крупными и очевидными опасностями, грозящими человечеству, являются новый патоген и глобальная пандемия, которую этот патоген может вызвать. И тем не менее в январе 2020 года, когда «серый носорог» превратился в «черного лебедя», в большинстве стран никто не предпринял быстрых и эффективных действий. В Китае однопартийное государство отреагировало на вспышку нового коронавируса почти так же, как некогда Советский Союз – на чернобыльскую ядерную катастрофу: в ход пошла ложь. В Соединенных Штатах президент-популист, которому эхом вторили кабельные новости, сперва отмахнулся от опасности, будто от обычного сезонного гриппа, а потом вносил хаос в работу своей администрации. Но настоящим позором стал жуткий провал правительственных агентств, единственная задача которых – защищать американцев от биологических угроз. В Великобритании был похожий сценарий. Устремления европейских федералистов (и представления евроскептиков о европейской сверхдержаве) в один миг оказались пустышкой: все страны, спасая себя, закрывали границы и старались не расставаться с дефицитным медицинским оборудованием. Разговоры о европейском «сообществе единой судьбы» (Schicksalsgemeinschaft) возобновились только после того, как стало ясно, что Германию не ждет участь Италии. Бедствие показало нам не только вирулентность вируса, но и недостатки каждой из упомянутых политических единиц. Тот же самый вирус был намного менее губителен в Южной Корее и на Тайване – если говорить о восточноазиатских демократиях, достойно принявших вызов. В девятой главе я пытаюсь понять, почему все так случилось, и размышляю о том, насколько пагубную роль сыграла «инфодемия» фейковых новостей и теорий заговора, которая развивалась параллельно с биологической пандемией. В десятой главе я рассматриваю экономические последствия пандемии и предлагаю объяснение, почему перед лицом сильнейшего макроэкономического потрясения со времен Великой депрессии финансовые рынки вели себя – на первый взгляд – столь парадоксально. И, наконец, в одиннадцатой главе обсуждаются геополитические последствия пандемии – и ставится под сомнение широко распространенное мнение, согласно которому COVID-19 принесет Китаю наибольшую выгоду, а Соединенным Штатам – наибольший ущерб.
Путь Илона
Так какие же универсальные уроки даст нам погружение в историю катастроф?
Во-первых, предсказать большую часть бедствий, скорее всего, невозможно. Для самых масштабных катастроф в истории – от землетрясений до войн и финансовых кризисов – характерны либо случайные распределения, либо распределения по степенному закону, а они относятся к области неопределенности, а не риска.
Во-вторых, у катастроф слишком много форм, чтобы мы могли снижать их риск при помощи стандартных подходов. Как только мы сосредоточили все силы на угрозе салафитского джихадизма – нас постиг финансовый кризис, вызванный субстандартными ипотеками. Стоило нам вспомнить, что экономические потрясения часто отражаются на политике и ведут к росту популизма, – как тут же сеет панику новый коронавирус. Что будет дальше? Мы не можем этого знать. Для каждой потенциальной беды есть хотя бы одна Кассандра, чье предсказание похоже на правду. И не на все пророчества нам стоит обращать внимание. Возможно, в последние годы мы позволили одной опасности – изменению климата – отвлечь нас от всех остальных. В январе, когда глобальная пандемия уже началась и рейсы с зараженными людьми летели из Уханя во все части света, на Всемирном экономическом форуме говорили почти только об экологической ответственности, социальной справедливости и корпоративном управлении (ESG) – с акцентом на экологию. Как станет ясно, опасности, вызванные повышением глобальной температуры, кажутся мне реальными и потенциально катастрофическими. Но изменение климата не должно быть одной-единственной угрозой, к которой мы готовимся. И если бы мы сумели признать, что этих угроз много (и что определить, как часто мы будем с ними сталкиваться, крайне сложно), то нам, возможно, удалось бы более гибко реагировать на любые беды. Не случайно в число государств, которые в 2020 году лучше всех справились с коронавирусом, вошли три – Тайвань, Южная Корея и (первоначально) Израиль, – живущие в постоянной опасности, ведь им, помимо прочего, грозит и гибель под ударами страны-соседа.
В-третьих, не все бедствия имеют глобальный характер. Впрочем, чем более сетевым становится человеческое общество, тем выше потенциал для заражения – и не только биологического. Сетевое общество должно обладать продуманными прерывателями цепи, которые в случае кризиса могут без промедления уменьшить связность сети и при этом не раздробить общество на «атомы» и не парализовать его полностью. Более того, любое бедствие либо усиливается, либо ослабляется информационными потоками. В 2020 году именно дезинформация – те же вирусные новости о фальшивых методах терапии – ухудшила ситуацию с COVID-19 во многих местах. А эффективное управление сведениями о зараженных и об их контактах помогло сдержать пандемию в тех немногих странах, власти которых повели себя грамотно.
В-четвертых, COVID-19, как показано в девятой главе, вскрыл серьезные недостатки в системе здравоохранения в США и в целом ряде других государств. Был соблазн – и ему поддались многие журналисты – возложить всю вину за избыточную смертность, вызванную пандемией, на президента. Подобную ошибку – склонность приписывать отдельным предводителям чрезмерное влияние на ход истории – высмеивал еще Лев Толстой в «Войне и мире». На самом деле в 2020-м много кто оплошал: и помощник министра по вопросам готовности и реагирования в Министерстве здравоохранения и социальных служб США, и губернатор штата Нью-Йорк, и мэр Нью-Йорка, и традиционные и социальные медиа… На бумаге США были готовы к пандемии лучше, чем любая другая страна в мире, и имели намного больше ресурсов. Почти так же хорошо – на бумаге – было готово британское правительство. Но в январе, когда по сообщениям из Китая стало ясно, что новый коронавирус, теперь известный как SARS-CoV-2, и заразен, и смертоносен, по обе стороны Атлантики допустили катастрофическое бездействие. Американский эпидемиолог Ларри Бриллиант, игравший ключевую роль в кампании по искоренению оспы, на протяжении многих лет повторял формулу для противодействия любому инфекционному заболеванию: «Раннее обнаружение, ранее реагирование»[39]. В Вашингтоне и Лондоне все сделали с точностью до наоборот. А если бы это оказалась угроза иного рода? Неужели и тогда реакция была бы столь же медленной и неэффективной? Если проблемы, выявленные пандемией, характерны не только для бюрократии в сфере здравоохранения, но и для всего административного аппарата, то, вероятно, все будет именно так.
И, наконец, в истории заметна такая тенденция: во времена социальных потрясений рационально реагировать очень непросто – этому мешают религиозные или квазирелигиозные импульсы. В прошлом все любили поразмышлять о том, как опасна пандемия, – но, по правде говоря, мы скорее развлекались (вспомните «Заражение»), чем оценивали реальную угрозу. Даже сейчас, когда в жизнь претворяются иные научно-фантастические сценарии – как глобальное потепление и климатическая нестабильность, так и подъем китайского полицейского государства (назовем лишь два), – нам очень трудно реагировать на это логично и последовательно. Летом 2020 года миллионы американцев вышли на улицы примерно трех сотен городов, чтобы во всеуслышание (и порой не без насилия) выразить свой протест против жестокости полиции и системного расизма. Но как бы ни шокировал инцидент, ставший катализатором этих волнений, то, что они проходили на фоне пандемии очень заразного респираторного заболевания, несло в себе огромную опасность. А элементарная мера предосторожности – ношение маски – стала символом партийной принадлежности. В некоторых частях страны к покупке оружия относились лучше, чем к ношению маски, – и это указывало на возможную катастрофу не только в здравоохранении, но и в сфере общественного порядка.
COVID-19 – не последнее бедствие, с которым мы встретимся. Это лишь самая недавняя беда – после волны исламского терроризма, после мирового финансового кризиса, после череды государственных провалов и всплесков неконтролируемой миграции и после так называемой демократической рецессии. Пожалуй, нас вряд ли ждет теперь катастрофа, связанная с изменением климата: мы редко сталкиваемся с тем бедствием, которого ожидаем, – чаще случается нечто, о чем большинство из нас даже не думало. Скажем, нас поразит штамм устойчивой к антибиотикам бубонной чумы. Или русские совместно с китайцами устроят массированную кибератаку на США и их союзников. А может, некий прорыв в нанотехнологии или генной инженерии ненамеренно повлечет катастрофические последствия[40]. Или искусственный интеллект воплотит зловещие предчувствия Илона Маска, превзойдет человечество и низведет его до уровня «биологического загрузчика для цифрового сверхразума». Примечательно, что в 2020 году Маск отмахнулся от угрозы COVID-19. («Вся эта паника из-за коронавируса – чушь собачья», – гласил его твит от 6 марта.) Кроме того, Маск утверждал, что «люди совладают с экологической нестабильностью» и что даже саму смерть – угрозу существованию каждого отдельного человека – можно победить при помощи редактирования ДНК и хранения неврологических данных. И все же в целом он пессимистично высказывается о будущем нашей цивилизации на Земле:
Цивилизация существует… примерно семь тысяч лет. И если считать с того момента, когда появились хоть какие-то надписи, хоть какие-то зафиксированные символы – помимо наскальной живописи, – то это крошечный промежуток, учитывая, что возраст Вселенной – 13,8 миллиарда лет… И это были… своего рода американские горки на фронте цивилизации… Есть определенная вероятность – и ее не преуменьшить, – что с нами что-то случится, несмотря на наши лучшие намерения и вопреки всему, что мы пытаемся делать. В какой-то момент или внешняя сила, или внутренняя невынужденная ошибка приведут к уничтожению нашей цивилизации – или же к такому ее ослаблению, после которого она уже не сможет распространиться на другую планету[41].
Для Маска, по сути, выбор стоит между «сингулярностью» – то есть неостановимым прогрессом искусственного интеллекта – и концом цивилизации. («Вот две возможности».) Поэтому он и считает, вразрез с мнением большинства, что «…самая большая проблема, с которой столкнется мир в ближайшие двадцать лет – это демографический коллапс». Вот почему он и предлагает колонизировать Марс.
Мы просто не можем знать, какие из всех мыслимых сценариев грядущего, более подробно представленных в заключении к этой книге, воплотятся в жизнь и когда именно это случится. Все, что мы можем, – это учиться у истории, как строить социальные и политические структуры, которые будут хотя бы стойкими, а в лучшем случае – антихрупкими. Нам нужно понять, как устоять и не рухнуть в пропасть самобичевания – что так часто происходит с обществами, застигнутыми катастрофой, – и как не поддаться сладким голосам сирен, все поющим о том, что только тоталитарный режим или мировое правительство сумеют защитить и наш несчастный вид, и наш непрочный мир.
Глава 1
О смысле смерти
Гамлет[42]
- Но смерть, свирепый страж, хватает быстро…
Мы все обречены
«Мы обречены». Эта фраза, которую сделал популярной рядовой Джеймс Фрейзер – «каледонская» Кассандра из британского телевизионного ситкома «Папашина армия», – была одной из дежурных острот моей юности. Шутка заключалась в том, чтобы произнести эти слова в как можно более неподходящий момент – например, когда убежало молоко или когда вы не успели на последний автобус до дома. В одном из эпизодов («Незваные гости») есть чудная сцена, когда Фрейзер – его играл великий Джон Лори – рассказывает сослуживцам-ополченцам душераздирающую историю о проклятии. В юности, говорит Фрейзер, его корабль бросил якорь у маленького острова близ берегов Самоа. На этом острове – по словам его друга Джетро – в руинах древнего храма стоял идол, украшенный огромным рубином «величиной с утиное яйцо». Они отправились за рубином, прорубая себе путь сквозь густые джунгли. Но как только Джетро коснулся камня, перед друзьями предстал колдун – и проклял Джетро, прокричав: «СМЕРТЬ! РУБИН ПРИНЕСЕТ ТЕБЕ СМЕРТЬ! СМЕ-Е-ЕРТЬ!»
РЯДОВОЙ ПАЙК: И проклятие сбылось, мистер Фрейзер?
РЯДОВОЙ ФРЕЙЗЕР: О да, сынок, сбылось. Он умер… в прошлом году. Восемьдесят шесть ему стукнуло.
Пусть даже мы и не прокляты – мы все обречены. К 2056 году (самое позднее) я буду уже мертв. Мне пятьдесят шесть лет и два месяца, и если верить Администрации социального обеспечения, то проживу я, считая в среднем, еще 26,2 года и доберусь таким образом до отметки в восемьдесят два – на четыре года уступив другу Фрейзера, проклятому колдуном. Национальная статистическая служба Великобритании даже более щедра: она сулит человеку моих лет еще два лишних года – а кроме того, дает один шанс к четырем, что я доживу до девяносто двух. Решив проверить, нельзя ли улучшить эти показатели, я обратился к калькулятору долголетия «Доживи до ста» (Living to 100), который дает ответ на основе подробнейшей анкеты об образе жизни и семейном анамнезе. Калькулятор «Доживи до ста» сообщил мне, что до ста я, наверное, не доживу – но вот мои шансы прожить еще тридцать шесть лет оказались даже выше среднего[43]. Конечно, все было бы иначе, подхвати я COVID-19 – болезнь с уровнем летальности в 1–2 % для моей возрастной группы (а для меня, наверное, и того больше, если учесть мою легкую астму).
Безусловно, умереть в пятьдесят шесть было бы весьма печально. И все же это был бы хороший результат по меркам большинства из 107 миллиардов людей, которые жили на Земле за всю историю человечества. В Великобритании, где я родился, ожидаемая продолжительность жизни при рождении достигла уровня в пятьдесят шесть лет лишь в 1920 году – сто лет тому назад. С 1543 по 1863 год средний показатель составлял чуть меньше сорока лет – и Великобритания еще отличалась своим долголетием. А если взглянуть на мир в целом, то ожидаемая продолжительность жизни была меньше тридцати лет до 1900 года, когда она увеличилась до тридцати двух лет, и ниже пятидесяти до 1960 года. В 1911 году индийцы в среднем жили всего двадцать три года. В России в 1920 году средний показатель достиг низшей точки и составил двадцать лет. В мире за последний век он неуклонно повышался и за период с 1913 по 2006 год возрос почти вдвое – но часто случаются и провалы. В Сомали он сейчас составляет пятьдесят шесть лет: это мой возраст[44]. Ожидаемая продолжительность жизни там по-прежнему низка отчасти потому, что очень высока младенческая и детская смертность. Примерно 12,2 % детей, рожденных в Сомали, умирают прежде, чем им исполнится пять; 2,5 % погибают в возрасте от пяти до четырнадцати[45].
Когда я пытаюсь взглянуть со стороны на свой опыт человеческого существования, мне вспоминается Джон Донн (1572–1631) – поэт времен короля Якова I, доживший до пятидесяти девяти. За шестнадцать лет Анна Донн родила мужу двенадцать детей. Трое – Фрэнсис, Николас и Мэри – не дожили и до десяти. Сама Анна умерла вскоре после рождения двенадцатого ребенка – мертворожденного. Когда же умерла Люси, любимая дочь поэта, а сам он едва не последовал за нею в могилу, Донн написал «Обращения к Господу в час нужды и бедствий» (1624), содержащие величайшие проповеди сочувствия умершим: «Смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем человечеством, а потому никогда не посылай узнать, по ком звонит колокол: он звонит и по тебе»[46].
Неаполитанский художник Сальватор Роза написал, возможно, наиболее впечатляющую картину в жанре memento mori – «Хрупкость человеческой жизни» (L’umana fragilità). Живописца заставила взяться за кисть вспышка бубонной чумы, поразившая его родной Неаполь в 1655 году. Чума забрала жизнь его маленького сына Розальво, а также брата, сестры, ее мужа и пятерых их детей. Гадко усмехаясь, крылатый скелет, выступающий из тьмы позади Лукреции – возлюбленной Розы, – хочет забрать их сына как раз тогда, когда ребенок делает первую попытку что-то написать. Чувства художника, убитого горем, навеки отражены в восьми латинских словах, которые ребенок, повинуясь воле скелета, выводит на холсте:
- Conceptio culpa
- Nasci pena
- Labor vita
- Necesse mori
«Зачатие – грех, рождение – боль, жизнь – тяжкий труд, смерть – неизбежна». Я никогда не забуду, как меня поразили эти слова, когда я прочел их, впервые посетив Музей Фицуильяма в Кембридже. В них воплотился человеческий удел, с которого сорвали все покровы, обнажив безрадостную суть. По общему мнению, Сальватор Роза был веселым и беззаботным; он писал сатиры, а также пьесы для комедии дель арте и сам играл в спектаклях. Однако примерно в то время, когда умер его сын, Роза написал другу: «На сей раз небеса нанесли мне удар, явив, сколь бесполезны все человеческие средства, и боль моя слабее всего, когда я пишу тебе о своих горьких рыданиях»[47]. Сам он умер от водянки в пятьдесят восемь.
И в Средние века, и в начале Нового времени смерть в мире была настолько повсеместна, что нам трудно это представить. Как утверждал в труде «Человек перед лицом смерти» Филипп Арьес, смерть была «приручена» бытием, подобно браку и даже рождению детей. Она была социальным обрядом перехода, который люди делили с семьей и обществом, – и за которым следовали похороны, траурные ритуалы и привычные утешения для понесших утрату. Но с XVII века отношение к смерти изменилось. Пусть даже причины смертности стали яснее, она все сильней приводила в смятение, и на Западе начали устанавливать определенную дистанцию между живыми и мертвыми. Викторианцы чрезмерно романтизировали смерть и делали ее сентиментальной, создавая в литературе «прекрасные смерти», все меньше и меньше походившие на реальные, а XX век перешел к отрицанию «конца жизни». Умирание превращалось во все более одинокое, антиобщественное, почти невидимое действо. Появился, как выразился Арьес, «совершенно новый тип умирания»: агонию переместили в больницы и хосписы, а миг конца предусмотрительно скрыли за ширмой[48]. Американцы не любят слова «умирать». Люди «уходят». Ивлин Во жестоко высмеял такое отношение к смерти в книге «Незабвенная» (1948), вдохновленной несчастливым пребыванием в Голливуде.
Впрочем, у англичан все лишь немногим лучше. В «Смысле жизни по Монти Пайтону» смерть – это одна огромная бестактность. Она является в живописный английский загородный дом в облике Мрачного жнеца (в черную мантию облачился Джон Клиз) и застает три пары за званым ужином:
СМЕРТЬ: Я смерть.
ДЕББИ: Удивительно! Мы как раз говорили о смерти всего пять минут назад…
СМЕРТЬ: Молчать! За вами я.
АНЖЕЛА: Вы имеете в виду, что…
СМЕРТЬ: Я забираю вас. Такова моя цель. Я смерть.
ДЖЕФФРИ: Довольно мрачное завершение вечера.
ДЕББИ: Могу задать вопрос?
СМЕРТЬ: Какой?
ДЕББИ: Как так вышло, что мы умерли все сразу?
СМЕРТЬ (после долгого молчания, указывая пальцем на сервировочную тарелку): Лососевый мусс.
ДЖЕФФРИ: Как? Дорогая, это ведь не консервы?
АНЖЕЛА: О, мне ужасно, ужасно неловко!
Неотвратимый эсхатон
Каждый год в мире умирает примерно 59 миллионов человек – именно столько, по приблизительным подсчетам, населяло планету в то время, когда израильским народом правил царь Давид. Можно сказать иначе: в день умирает около 160 тысяч человек – эквивалент Оксфорда или трех Пало-Альто. Возраст примерно 60 % умирающих – 65 лет и выше. За первую половину 2020 года от новой болезни – COVID-19 – во всем мире умерло примерно 510 тысяч человек. Мы еще увидим, что любая смерть – это трагедия. Но даже если бы никто из них не умер по какой-либо другой причине – а подобное, учитывая возрастной профиль, маловероятно, – то это лишь скромное возрастание (на 1,8 %) по сравнению с уровнем смертности, которая ожидалась в первой половине 2020 года. В 2018 году умерло 2,84 миллиона американцев, то есть примерно 236 тысяч в месяц, или 7800 в день. Три четверти умерших были старше шестидесяти пяти. Чаще всего люди умирали от болезней сердца и от рака – 44 % случаев от общей смертности. Как сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в первой половине 2020 года в стране зарегистрировали 130 122 смерти, «связанные с COVID-19». При этом общая избыточная смертность (сверх нормы) приближалась к 170 тысячам человек. Если считать, что никто из этих людей не умер бы по какой-либо другой причине – а это, опять же, маловероятно, – то смертность за этот период на 11 % превысила базовый уровень, выводимый из недавних средних значений.
Итак, мы все обречены, даже если медики сумеют продлить ожидаемое долголетие еще дальше, – как предсказывают некоторые, за вековой рубеж. Да, мы трудимся не покладая рук, стремясь решить проблему конечности жизни[49], но бессмертие остается мечтой – или кошмаром, как о том поведал в «Бессмертном» Хорхе Луис Борхес[50]. Но обречены ли мы как вид, как целое? Ответ: да.
Жизнь, как неустанно напоминала мне и сестре наша мама-физик, – это космическая случайность. Так говорят и другие физики, намного более известные (скажем, Марри Гелл-Ман)[51]. Вселенная родилась 13,7 миллиарда лет назад, в результате так называемого Большого взрыва. Не без помощи ультрафиолета и молний на нашей планете развились химические строительные блоки, «кирпичики» жизни, благодаря чему 3,5 или 4 миллиарда лет назад возникла первая живая клетка. Еще 1,2 миллиарда лет назад простые многоклеточные организмы начали размножаться половым путем, запустив волны эволюционных изменений. Примерно шесть миллионов лет назад генетическая мутация у шимпанзе привела к появлению первых человекообразных обезьян. Homo sapiens возник совсем недавно: от 200 до 100 тысяч лет назад. Он стал доминировать над другими видами человекообразных обезьян около 30 тысяч лет назад, а около 13 тысяч лет назад распространился почти по всей планете[52]. Многое должно было сложиться определенным образом, чтобы мы пришли к этому моменту. Но условия Златовласки[53], позволяющие нам процветать, не могут длиться вечно. К настоящему времени примерно 99,9 % видов, когда-либо обитавших на Земле, уже вымерли.
Говоря об этом словами Ника Бострома и Милана Чирковича: «…вымирание разумных видов на Земле уже происходило, и наивно полагать, будто это не может случиться снова»[54]. Даже если нам удастся избежать судьбы динозавров и дронтов, «примерно через 3,5 миллиарда лет возросшая светимость Солнца стерилизует земную биосферу. Но сложным формам жизни на Земле суждено погибнуть еще раньше, возможно через 0,9–1,5 миллиарда лет, считая от современной эпохи», поскольку к тому времени условия станут невыносимыми для любых живых существ, похожих на нас. «Такова стандартная участь всей жизни на нашей планете»[55]. Да, вполне вероятно, что мы сумеем найти другую пригодную для жизни планету, если разрешим проблему межгалактических путешествий на почти невообразимо огромные расстояния. Но даже в этом случае у нас в конце концов закончится время: последние звезды погаснут примерно через сто триллионов лет, после чего сама материя распадется на основные составляющие.
Мысль о том, что мы как вид можем провести на Земле еще целый миллиард лет, вроде бы должна обнадеживать. И все же многие из нас словно жаждут того, чтобы Судный день настал как можно быстрее. «Конец света», или эсхатон (от греческого слова ἔσχατος), – это элемент большинства главных религий мира, в том числе и самой древней – зороастризма. В «Бахман-яште» предсказаны не только неурожаи и общий упадок нравственности, но и «темное облако, [которое] превращает все небо в ночь», и дождь из «ядовитых тварей». В индуистской эсхатологии предполагаются обширные временные циклы, но ожидается, что нынешний цикл, Кали-юга, завершится весьма кроваво, когда Калки, последнее воплощение Вишну, низойдет на белом коне во главе армии и «установит праведность на земле». Апокалиптические настроения есть и в буддизме. Гаутама Будда предрек, что по прошествии пяти тысяч лет его учение забудут и человечество ждет нравственное вырождение. Тогда явится бодхисаттва Майтрея и вновь откроет учение о дхарме, после чего мир разрушат смертоносные лучи семи солнц. В скандинавской мифологии тоже есть свой конец света, Рагнарёк («Сумерки богов»): великая погибельная зима (Фимбульветр) погрузит мир во тьму и отчаяние, а затем боги сразятся насмерть с силами хаоса, огненными великанами и другими мифическими созданиями (йотунами), и в конце концов мир будет поглощен океаном. (Поклонники Вагнера видели версию этих событий в «Гибели богов».)
В каждой из этих религий разрушение – это прелюдия к возрождению. А вот в авраамических религиях космология линейна: конец времен – это и правда Конец. Иудаизм предвидит мессианскую эру, когда в Израиль вернутся изгнанники, живущие в рассеянии, явится Мессия и воскреснут мертвые. Христианство – вероучение, основанное последователями человека, который утверждал, что он и есть этот Мессия, – предлагает намного более яркую трактовку эсхатона. Как сказал Иисус своим последователям, перед парусией, или Вторым пришествием, грядет «великая скорбь» (Мф 24:15–22), «такая скорбь, какой не было от начала творения» (Мк 13:19), или «дни отмщения» (самое подробное их описание в Евангелиях – Лк 21:10–33). В Откровении Иоанна Богослова содержится, возможно, одно из самых поразительных видений конца: война на небе между Архангелом Михаилом с его ангелами и Сатаной; в результате войны Сатана будет низвергнут и скован на тысячу лет, а Христос будет править в течение этого тысячелетия вместе с воскресшими мучениками – но после верхом на звере багряном явится Вавилонская блудница, упоенная кровью святых, и в Армагеддоне свершится великая битва. Сатана будет освобожден из цепей – и ввержен в озеро горящей серы. А потом мертвые предстанут на суд Христов – и недостойные будут брошены в огненное озеро. Поражает описание четырех всадников Апокалипсиса:
И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри.
Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить.
И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и смотри.
И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч.
И когда Он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей.
И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий; елея же и вина не повреждай.
И когда Он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: иди и смотри.
И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя «смерть»; и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвертою частью земли – умерщвлять мечом, и голодом, и мором и зверями земными.
Откр 6:1–8
Судный день предвещают великое землетрясение, затмение солнца и кровавая луна. Звезды падут на землю, и горы и острова двинутся с мест своих.
Альбрехт Дюрер. «Четыре всадника Апокалипсиса» (1498)
Удобная черта христианского эсхатона – неопределенность, которую Христос оставил в душах учеников, говоря о его сроках: «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один» (Мф 24:36).
Когда в 70 году Тит разрушил Иерусалим, первые христиане увидели в этом исполнение пророчества Иисуса о том, что Второй храм будет разрушен. Но последующие впечатляющие события, которые предрекал Христос, не осуществились[56]. Ко времени Блаженного Августина, епископа Гиппонского, казалось благоразумным приуменьшить роль тысячелетнего царства. И в своем труде «О граде Божьем» (426) Августин именно так и поступил, перенеся это царство в сферу непостижимого и (неопределенно) отдаленного будущего.
Возможно, упадок христианского учения о тысячелетнем царстве в какой-то мере объясняет революционное воздействие новой религии Мухаммеда, родившейся в Аравийской пустыне в VII веке. Во многих отношениях ислам просто стряхнул пыль с самых ярких моментов книги Откровения. В Мекке Мухаммед учил своих последователей тому, что Судному дню будет предшествовать появление одноглазого аль-Масиха ад-Даджжаля (лжемессия) в сопровождении семидесяти тысяч евреев из Исфахана. Потом с неба низойдет Иса (Иисус) и восторжествует над лжемессией. В доктрине суннитов ашрат ас-са’а – признаки Часа, то есть знамения Судного дня, – включают в себя огромное черное облако дыма (духан), спускающееся с неба; образование в земле провалов; нашествие Яджуджа и Маджуджа (Гога и Магога), которые будут опустошать земли и убивать правоверных. Когда же Аллах изведет Гога и Магога, солнце встанет с запада и из-под земли выйдет Даббат аль-ард (существо земное); затем зазвучит божественная труба, мертвые восстанут (аль-Кийама) на последний суд (Яум аль-Хисаб). Впрочем, это пророчество не сбылось, и Мухаммед поспешно перешел от идей искупления к империализму. Как пророк уверял в Медине, Аллах желает, чтобы мусульмане сохранили Его честь, наказывая неверных, – и не просто ожидали Страшный суд, но и начали содействовать его скорому наступлению, совершая джихад[57]. Шиитская эсхатология в целом похожа на суннитскую, но в ней после периода распущенности и разврата предполагается возвращение двенадцатого имама, Мухаммада аль-Махди.
Для христиан исламские завоевания на Ближнем Востоке и в Северной Африке были лишь самой масштабной из целого ряда страшных опасностей. Христианству грозили еще викинги, мадьяры и монголы. Кто-то видел в этих и других несчастьях знаки конца света: христианская эсхатология никогда не сходила со сцены. Иоахим Флорский (1135–1202) делил историю на три этапа и обещал скорое наступление третьего, последнего. А после Черной смерти, постигшей христианский мир в 1340-х годах – если судить по коэффициенту смертности, это было самое страшное бедствие, какое когда-либо доводилось пережить христианам, – некоторые решили, что конец близок. В 1356 году монах-францисканец Жан де Роктайад написал книгу Vade mecum in tribulatione («Путеводитель в мучении»), в которой предсказывал неспокойные времена в Европе: общественные беспорядки, бури, наводнения и новые эпидемии[58]. Подобные почти революционные видения вдохновляли в 1420 году чешских таборитов, а в 1485-м – францисканца Иоганна Хильтена, пророчившего закат папства[59]. И опять же, вслед за тем, как Мартин Лютер произвел эпохальные изменения в церковной иерархии, милленаризм придал самым разным сектам – анабаптистам, диггерам, левеллерам – ту уверенность, благодаря которой они бросили вызов официальной власти. И хотя в XVIII столетии погоня за тысячелетним царством утихла, в XIX–XX веках она возродилась вновь: последователи самопровозглашенного пророка Уильяма Миллера (позже известные как адвентисты седьмого дня) основали новую церковь с решительно милленаристской доктриной, предвещавшей конец света в 1844 году. (Человечество выжило, и миллериты назвали это «Великим разочарованием».) Свидетели Иеговы и члены Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны) имеют свои особые воззрения на неотвратимость эсхатона. Многие лидеры современных культов убедили последователей, что до конца времен уже недалеко. А некоторые из этих деятелей, в особенности Джим Джонс, Дэвид Кореш и Маршалл Эпплуайт, добились апокалипсисов локального масштаба в форме массовых самоубийств.
Одним словом, конец света исключительно часто встречается в нашей письменной истории.
Судные дни
Можно было бы подумать, что развитие науки в конце концов освободит людей от религиозной и псевдорелигиозной эсхатологии. А вот и нет. Как выразился социолог Джеймс Хьюз, мало кто обладает иммунитетом «к милленаристским предрассудкам – хоть благим, хоть пагубным, хоть фаталистическим, хоть мессианским»[60]. Всего чуть больше века назад, когда близилась к завершению первая поистине «индустриализованная» война, которую вели посредством танков, самолетов, подлодок и ядовитого газа, в Фатиме, португальской деревушке, являлась Дева Мария; при Армагеддоне (Мегиддо в тогдашней Палестине) кипели бои; Святую Землю провозгласили домом евреев; немецкие войска провели наступательную операцию «Михаэль», названную в честь Архангела Михаила; и разразилась глобальная пандемия, более смертоносная, чем сама война[61]. Многие провозвещали неминуемый конец света, когда к власти в России пришел Владимир Ленин, устроивший по всей бывшей Российской империи антицерковный террор и иконоборчество[62]. 21 июня 1919 года в New York Times писали, что русские крестьяне по всей стране считают Ленина «не кем иным, как антихристом, о котором сказано в Писании»[63].
Уроженец Кёльна, политический философ Эрик Фёгелин полагал, что коммунизм (как и нацизм, от которого ему пришлось бежать в 1938 году) был основан на утопической и искаженной интерпретации христианства. Фёгелин определял «гнозис» как «предполагаемое непосредственное восприятие или видение истины без необходимости критического осмысления; особый дар, которым наделена духовная или интеллектуальная элита». Он уверял, что гностицизм представляет собой «тип мышления, который претендует на абсолютное познавательное владение реальностью»[64]. И когда гностицизм принял форму политической религии, в нем возникло опасное и ложное стремление «имманентизировать эсхатон» – иными словами, создать Царство Небесное на земле[65]. Современные гностики, по мнению Фёгелина, стремятся к «редивинизации общества… заменяя веру в христианском смысле более ощутимыми способами причастности к божеству»[66][67]. (Фёгелин предполагал, что этот сдвиг к «ощутимой причастности» мог представлять собой ответ на сложность поддержания подлинной христианской веры[68].) В недавних, но сходных по духу произведениях историк Ричард Лэндис отмечал, что тот же самый порыв характерен для широкого спектра исторических и современных милленаристских движений, вплоть до салафитского джихадизма и радикального энвайронментализма[69].
Похоже, наука не вытеснила эсхатон, а только его приблизила. Известно, что Роберт Оппенгеймер, увидев взрыв первой атомной бомбы в Нью-Мексико, неподалеку от Уайт-Сэндс, вспомнил слова Кришны из «Бхагавадгиты» (индийской «Песни Господа»): «Я стал Смертью, разрушителем миров»[70]. В самом начале холодной войны художница Мартил Лангсдорф, чей муж сыграл ключевую роль в Манхэттенском проекте, создала образ Часов Судного дня[71]. Впервые они появились на обложке «Бюллетеня ученых-атомщиков» как наглядный пример страха, терзавшего многих физиков, – в том числе тех, кто был вовлечен в создание атомной бомбы: они боялись, что «техногенная катастрофа» уже, как это ни ужасно, совсем рядом. Полночь на Часах Судного дня означала ядерный Армагеддон. Много лет именно редактор «Бюллетеня», Юджин Рабинович, решал, куда перевести стрелки часов. После его смерти этим занялся комитет, который собирается дважды в год. В период холодной войны ближе всего к полуночи стрелки оказывались в 1953–1959 годах, когда до Судного дня оставалось всего две минуты. Ученые также сочли невероятно опасными 1984–1987 годы: на протяжении четырех лет подряд стрелки показывали три минуты до полуночи. Эти страхи отразились и в популярной литературе. Роман Невила Шюта «На берегу» (1957), действие которого происходит в 1963 году, повествует о жителях Мельбурна, беспомощно ожидающих той минуты, когда появится смертоносное облако радиоактивных осадков – следствие Третьей мировой войны, начавшейся (что несколько неправдоподобно) с албанского ядерного удара по Италии. Выбор у них невеликий – беспробудное пьянство или выпущенная правительством таблетка для самоубийства. А в графическом романе Рэймонда Бриггса «Когда дует ветер» (1982) пожилая чета, Джим и Хильда Блоггс, прилежно строит противорадиационное убежище, как будто Третью мировую можно пережить так же, как и Вторую.
И все же надежность Часов Судного дня под вопросом. В наши дни историки сходятся во мнении, что самым опасным моментом холодной войны был Карибский кризис. Но в течение всего 1962 года стрелки часов показывали семь минут до полуночи, а в 1963-м они были передвинуты на 23:48 и оставались там, даже когда президент Линдон Джонсон усилил вмешательство США во вьетнамскую войну. Что примечательно, в январе 2018 года атомщики решили, будто мы находимся в двух минутах от Армагеддона[72], а спустя два года передвинули стрелку вперед, на сто секунд до полуночи, – на том основании, что «существованию человечества по-прежнему грозят сразу две опасности (ядерная война и изменение климата), многократно усиленные информационной войной, которая стала возможной вследствие развития кибернетических технологий и которая подрывает способность общества к правильному реагированию. Положение дел в сфере международной безопасности вселяет ужас не только из-за этих угроз, но и потому, что мировые лидеры допустили разрушение международной политической инфраструктуры, призванной справиться с упомянутыми опасностями»[73]. Выходит, сегодняшний злой рок всегда лучше, чем прошлогодний.
Ядерный кошмар был не единственным апокалиптическим предвидением, преследовавшим мир в дни холодной войны. С 1960-х по конец 1980-х годов боязнь глобального перенаселения привела к ряду ошибочных и порой откровенно пагубных усилий, направленных на «контроль» за рождаемостью в так называемых странах третьего мира. Стивен Энке из корпорации RAND[74] утверждал, что, если платить беднякам за согласие на стерилизацию или введение внутриматочных контрацептивов, это будет содействовать развитию в 250 раз эффективнее, чем любые иные формы помощи. Книга Пола Эрлиха «Демографическая бомба» (The Population Bomb, 1968), созданная по заказу Сьерра-клуба[75], предсказывала, что в 1970-х годах сотни миллионов людей умрут от голода. Линдон Джонсон поверил этим словам – и точно так же им поверил почти весь Конгресс, в двадцать раз увеличив бюджет Агентства международного развития США, нацеленный на семейное планирование. В 1969 году Роберт Макнамара, президент Всемирного банка и бывший министр обороны США, объявил, что банк займется финансированием здравоохранения только в том случае, «если оно будет теснейшим образом связано с ограничением рождаемости, потому что медицинские учреждения, как правило, содействуют снижению уровня смертности и тем самым ведут к демографическому взрыву». Ряд американских институтов – в том числе Фонд Форда и Совет по делам народонаселения – заигрывали с идеей массовой принудительной стерилизации целых групп населения. Последствия таких действий – очередной пример того, сколь много вреда могут причинить люди, убежденные в неминуемом апокалипсисе, который они сами себе вообразили. Индианок склоняли, а иногда и принуждали, к использованию внутриматочных спиралей, индийцев – к вазэктомии, и это стало причиной многих страданий. В разгар чрезвычайного положения в Индии правительство Индиры Ганди провело более восьми миллионов стерилизаций. Примерно две тысячи человек умерли из-за плохо сделанных операций. Кроме того, ООН поддержала Коммунистическую партию Китая в еще более жестоко внедряемой политике «одна семья – один ребенок»[76]. Сейчас, в ретроспективе, мы видим, что проблему с ростом населения решила не массовая стерилизация, а «зеленая революция» в сельском хозяйстве, первопроходцами которой были такие агрономы, как Норман Борлоуг.
Милленарии наших дней пророчат климатическую катастрофу. «Примерно в 2030 году, – пишет Грета Тунберг, защитница окружающей среды из Швеции, – мы можем запустить необратимую неконтролируемую цепную реакцию, которая приведет к концу нашей цивилизации в ее нынешнем виде»[77]. «Через двенадцать лет миру придет конец, если мы не решим проблему изменения климата», – предсказывала в 2019 году конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес[78]. Появление Греты Тунберг как олицетворения радикального энвайронментализма воскрешает в памяти былые формы эсхатологии – и не в последнюю очередь из-за того, каких суровых жертв требует девушка. «Нам не нужна „низкоуглеродная экономика“, – заявила она на Всемирном экономическом форуме в январе 2020 года. – Нам не нужно „снижать выбросы“. Мы должны их полностью прекратить, если хотим сохранить шанс удержать потепление в пределах полутора градусов… Любой ваш план, любая ваша политика не дадут ровным счетом ничего, если в их основе не будет радикального прекращения выбросов начиная с сегодняшнего дня»[79]. Новая зеленая революция – или «Новый зеленый курс», который предлагают Окасио-Кортес, Тунберг и другие, – предполагает резкое сокращение всех выбросов углекислого газа без особого внимания к экономической и социальной цене такой меры. Мы еще вернемся к этому вопросу, сейчас же достаточно сказать, что предупреждения о неотвратимом конце света рискуют стать все менее достойными доверия, если их так часто повторять (подобно крику «Волк!» из детской сказки).
Нельзя отрицать тот факт, что и пророкам-милленариям, и гностикам, стремящимся к эсхатону, и ученым, предвещающим беды, и авторам, которые эти беды изображают, удалось предсказать не менее сотни концов света, обернувшихся ничем. И здесь мне вспоминается театральная комедия «За гранью» (Beyond the Fringe, 1961), в которой Питер Кук играет роль брата Энима – пророка, который в ожидании апокалипсиса привел своих последователей на вершину горы.
ДЖОНАТАН МИЛЛЕР: Каким же будет тот конец, что ты предвозвестил, брат Эним?
ВСЕ: Да, каким же будет он?
ПИТЕР КУК: Ну, все будет так… порвется небо в клочья – понимаете ли, – и горы уйдут под землю – понимаете ли, – и поднимутся долины – понимаете ли, – и будет шум великий от того.
МИЛЛЕР: А раздерется ли надвое завеса в храме?
КУК: Завеса в храме раздерется надвое за две примерно минуты до того, как мы увидим знак: явленье в небе головы летящей зверя.
АЛАН БЕННЕТТ: И будет могучий ветер, брат Эним?
КУК: Да, безусловно, могучий ветер будет, ведь слово Божие о том нам говорит…
ДАДЛИ МУР: И этот ветер будет столь могучим, что сможет он земные горы повалить?
КУК: Ну нет, столь могучим он не будет – и потому мы на гору поднялись… какой ты все-таки болван…
МИЛЛЕР: Когда же будет он, обещанный тобой конец?
ВСЕ: Да, когда же будет он, когда?
КУК: Примерно через полминуты, как указывают древние свитки… и мои наручные «Ингерсолл».
Пророк и его последователи собираются с духом, готовясь к концу света, и начинают обратный отсчет:
КУК: Пять, четыре, три, два, один – ноль!
ВСЕ (нараспев): Пришел конец – и да исчезнет мир!
Пауза.
КУК: Время было по Гринвичу, так ведь?
МИЛЛЕР: Да.
КУК: Ну да, я думал, полыхнет пожарче. Ладно, ребята, завтра в тот же час… наш день еще настанет!
«Пришел конец – и да исчезнет мир!» Актеры спектакля «За гранью» готовятся к концу света.
Статистика бедствий
На самом деле нам стоит бояться не того, что бедствия убьют нас всех, а того, что они убьют многих. Проблема в том, что мы стараемся осмыслить и потенциальный масштаб катастроф и их вероятность. «Смерть одного человека – трагедия, смерть миллионов – статистика». Этот афоризм обычно приписывают Сталину. Кто сделал это первым? Истоки можно проследить до колонки Леонарда Лайонса, опубликованной в 1947 году в Washington Post:
В те дни, когда Сталин был Народным комиссаром боеприпасов СССР [так писал Лайонс], состоялась встреча высших комиссаров. Обсуждали прежде всего голод, царивший в Украине. Один чиновник, поднявшись, заговорил об этой трагедии – о том, как от голода умирают миллионы людей. Он начал приводить цифры… Сталин прервал его: «Если от голода умирает только один человек, это трагедия. Если умирают миллионы, это всего лишь статистика»[80].
Лайонс не привел первоисточник, но почти несомненно, что он – либо же сам Сталин – взял эту фразу у Курта Тухольского, который, в свою очередь, приписывал ее одному французскому дипломату: «Война? Мне кажется, в этом нет совершенно ничего ужасного! Смерть одного человека – это катастрофа. Сотня тысяч мертвецов – это статистика!»[81] Вариант такого образа мыслей, как заметил Элиезер Юдковский, мы встречаем и сегодня: «Люди, которые и не помыслят навредить ребенку, слышат об опасности, грозящей самому нашему существованию, и говорят: „Ну, может быть, род человеческий и не заслуживает того, чтобы выжить…“ Проблема, которую экзистенциальные риски представляют для рациональности, состоит вот в чем: масштабы катастроф настолько велики, что люди переходят к другому типу мышления. Внезапно смерть людей перестает быть чем-то плохим, а подробные прогнозы, столь же внезапно, перестают требовать каких-либо экспертных знаний»[82].
Но мы должны осмыслить статистику – или по крайней мере попытаться. И если сделать должную поправку на серьезные недостатки исторических источников, то можно сказать, что за всю документированную историю, по всей вероятности, было семь масштабных пандемий, жертвами которых становилось более 1 % от установленного на тот момент населения мира, причем четыре из них убили более 3 %, а две – Юстинианова чума и Черная смерть – более 30 % (впрочем, возможно, что первая собрала намного менее кровавую жатву)[83]. Схожим образом, доступные данные о смертности во время войн указывают, что поистине смертоносных конфликтов было немного. Сведения, собранные физиком Льюисом Фраем Ричардсоном и социологом Джеком Леви, а также авторами ряда других, более поздних исследований, позволяют выявить семь крупномасштабных столкновений, в каждом из которых погибло более 0,1 % населения мира (от уровня, установленного на тот момент, когда начались вооруженные действия). Если говорить в абсолютном выражении, то самыми смертоносными конфликтами в истории были две мировые войны. Ричардсон провел анализ всех смертоносных конфликтов с 1820 по 1945 год, и лишь две мировые войны получили 7 баллов – иными словами, это были единственные события, в которых погибли десятки миллионов, три пятых (60 %) от числа умерших во всей выборке, включавшую войны, убийства и все, что между ними[84]. В мировых войнах (начавшихся в 1914 и 1939 годах) погибло соответственно около 1 и 3 % населения мира. Возможно, конфликты, сравнимые по уровню разрушений, случались и раньше; особенно это касается войн, проходивших в Китае в эпоху Троецарствия (III в. н. э.), между концом империи Хань и победой империи Цзинь[85]. А если говорить в относительном выражении – то есть о доле убитых среди тех, кто участвовал в боях, – то в число самых смертоносных войн современной истории войдет война Тройственного альянса (1864–1870), практически неизвестная за пределами воевавших в ней стран (Аргентина, Бразилия и Уругвай совместно выступили против Парагвая). В целом патогены были намного смертоноснее войн. И кроме того, большинство из погибших в войне Тройственного альянса умерли не в бою, а от болезней. По оценкам Чирилло и Талеба, «ни один вооруженный конфликт не приводил к гибели более 19 % населения мира»[86]. Конкистадоры убили на порядки меньше жителей Центральной и Южной Америки, чем завезенные ими европейские болезни, сопротивляться которым коренные народы не могли[87].
Примерно так же можно рассмотреть и гражданские войны, и геноциды, и демоциды – массовые убийства населения, которые отличаются от смертей, случающихся, когда воюют государства. Общее число жертв сталинизма в Советском Союзе, возможно, превышало двадцать миллионов – действительно, «статистика». Уровень смертности был на 10 % больше нормального в Камбодже при Пол Поте, а также во время Мексиканской революции (1910–1920) и в Экваториальной Гвинее (1972–1979). Шесть из семи смертоносных конфликтов, получивших от Ричардсона 6 баллов – это гражданские войны: Восстание тайпинов (1851–1864), Гражданская война в США (1861–1865); Гражданская война в России (1918–1920); Гражданская война в Китае (1927–1936); Гражданская война в Испании (1936–1939) и межобщинные столкновения, сопровождавшие отделение Индии и обретение ею независимости (1946–1948).
Мы склонны считать, что ни одно столетие не было столь кровавым, как XX век. Однако при этом говорят, что исключительная жестокость, проявленная в XIII веке Чингисханом, правителем монголов, сократила количество жителей Центральной Азии и Китая на 37 миллионов человек, и если эта цифра верна, она соответствует примерно 10 % населения мира в то время. Кровопролитными были и походы Тамерлана в Среднюю Азию и Северную Индию в конце XIV века: число их жертв, по оценкам, превысило 10 миллионов. Когда маньчжуры завоевали Китай (XVII в.), погибло, по всей вероятности, 25 миллионов человек. В Китае до 1900 года произошло не только Восстание тайпинов, но и еще несколько мятежей, и их подавление привело к страданиям, не уступающим, а может быть, даже и превосходящим те, какие испытал китайский народ в гражданских войнах XX столетия. Мятеж Ань Лушаня (VIII в.), как полагают, привел к смерти более 30 миллионов человек. Немало людей погибли в восстаниях факельщиков (Северный Китай) и красноголовых (Южный Китай), более близких к нашему времени, а также в годы мусульманского бунта в провинции Юньнань и северо-западном Китае. В последних случаях количество погибших приходилось рассчитывать на основе переписей, которые проводились в провинциях и на местах до и после упомянутых событий. Снижение численности населения, по-видимому, объясняется уровнем смертности от 40 до 90 %. Однако болезни и голод могли унести столько же жизней, сколько и организованное насилие, – а возможно, и намного больше.
И, наконец, есть причина считать, что в те века, когда народы Западной Европы покоряли и колонизировали обе Америки и Африку, смертность порой находилась на столь же высоком уровне, как и в XX столетии. Как уже отмечалось, при завоевании Америки подавляющее большинство жертв погибли не от насильственных действий, а от болезней, так что те, кто говорит о «геноциде», обесценивают смысл исторических неологизмов в той же мере, как и те, кто называет вспышки голода в Индии в XIX веке «викторианскими холокостами». Впрочем, можно вспомнить, как бельгийская монархия после 1886 года порабощала жителей Конго, а германские колониальные власти в 1904 году подавляли восстание племен гереро и нама – эти случаи вполне сравнимы с организованным насилием в ХХ веке. Возможно, под властью бельгийцев в Конго погибла пятая часть населения. Смертность среди восставших племен гереро и нама была еще выше – умер, по самым скромным подсчетам, каждый третий, и если мерить относительно, то это был самый кровопролитный конфликт за все XX столетие. Впрочем, абсолютное число умерших составило 76 тысяч человек, а в Конго с 1886 по 1908 год, по оценкам историков, было убито семь миллионов[88]. И хотя мы уже традиционно упорядочиваем данные, высчитывая проценты, нельзя забывать, что вопреки мнению Сталина миллион смертей – это всегда миллион трагедий, миллион преждевременных и мучительных смертей, и неважно, что у нас в знаменателе – десятки миллионов или миллиарды. Точно так же неважно, кто виноват в этих смертях – две воюющих сверхдержавы или миллион убийц. Ричардсон был удивлен, обнаружив, что сразу вслед за мировыми войнами, которые погубили 36 миллионов человек (это около 60 % от общего числа всех, кто умер в «смертельных конфликтах» за выбранный им 126-летний период), в его перечне шла категория событий, получивших 0 баллов: на долю случаев, в которых умерло от одного до трех человек, пришлось 9,7 миллиона смертей. Оставшиеся 315 войн и тысячи свар среднего размера были сообща в ответе лишь за четверть жертв в его списке[89]. А еще нужно сделать поправку на то, что в XX веке повысилась ожидаемая продолжительность жизни, и смерть – особенно в богатых странах Европы и Северной Америки – почти всегда сопровождалась более значительной потерей, нежели в прежние эпохи, если считать годы жизни с учетом ее качества.
Многие из величайших экономических бедствий в истории, что неудивительно, совпали с масштабными пандемиями и конфликтами, о которых мы говорили выше. Но всё же не все. К Великой депрессии, началом которой считается «крах Уолл-стрит» в октябре 1929 года, привели структурные дисбалансы в мировой экономике, жесткая система фиксированных обменных курсов, поддержка подхода «разори соседа» и ошибки, совершенные в монетарной и финансово-бюджетной политике. Экономист Роберт Барро составил самый удачный глобальный перечень экономических катастроф XX столетия, выстроив их по влиянию на финансы и на реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в расчете на душу населения. Из шестидесяти случаев снижения реального ВВП на душу населения на 15 и более процентов, тридцать восемь можно было приписать войне и ее последствиям, а шестнадцать – Великой депрессии. Из тридцати пяти стран, представленных в выборке, самые значительные спады (каждый в 64 %) наблюдались в Греции с 1939 по 1945 год и в Германии с 1944 по 1946 год. Опыт Второй мировой войны для Филиппин и Южной Кореи был немногим лучше: ВВП на душу населения в обоих государствах сократился на 59 %[90].
Поскольку для Соединенного Королевства наличествуют уникально долгие временные ряды, мы можем установить современные экономические показатели для периода, охватывающего как минимум три последних века (а для Англии – даже до конца XIII столетия), и определить годы экономических тягот в прежние времена. По данным Банка Англии, худшим в английской истории был 1629 год[91] (когда экономика сократилась на 25 %), а сразу за ним идет 1349-й (снижение на 23 %). Последний спад, превышающий в годовом выражении 10 %, случился в 1709 году, когда экономическую деятельность по всей Европе подорвал «Великий мороз» – самая холодная за пять столетий зима, вызванная, как принято считать, необычайно низкой активностью солнечных пятен (минимум Маундера), а также тем, что в предыдущие два года извергались вулканы: Фудзияма в Японии и Санторин и Везувий в Европе[92]. Худшим в XX веке был 1921 год (минус 10 %), время резкой послевоенной дефляции и высокой безработицы[93]. Однако никакая пятилетка не сравнится с концом 1340-х годов, когда Черная смерть сократила население более чем на 40 %. В 2020 году, если судить по его прошедшей половине, вполне может произойти худший спад британской экономики с 1709 года: в конце июня Международный валютный фонд спрогнозировал снижение ВВП на 10,2 %[94].
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 1868–2015 гг. (среднее число лет, которое должен был бы прожить новорожденный, если бы структура смертности, зафиксированная на год его рождения, оставалась неизменной на протяжении всей его жизни)
Впрочем, есть пределы того, что нам могут поведать экономические данные. Когда я работал над докторской диссертацией о гиперинфляции 1923 года в Германии – и затем, когда изучал финансовые последствия начала Первой мировой войны, – я понял, что во времена жесточайших кризисов экономическую статистику либо перестают собирать, либо собирают, но с перебоями. Всемирный банк располагает обширной базой данных, в которой можно найти сведения о ВВП на душу населения для почти любой страны мира с 1960-х годов. Но если взглянуть на страны, сильнее остальных пострадавшие от экономического и политического неблагополучия за последние шестьдесят лет, – а это Афганистан, Венесуэла, Ирак, Йемен, Камбоджа, Ливан, Сирия, Сомали и Эритрея, – то в каждом случае, что неудивительно, мы увидим пробелы в данных, совпадающие с периодами максимальной дестабилизации. Кто может точно сказать, насколько суровыми были их экономические бедствия?[95] Мы знаем только, что почти все эти страны близки к вершине рейтинга недееспособности государств (прежде он назывался перечнем «несостоятельных государств»)[96]. Потом перед нами встает еще одна проблема (на первый взгляд парадоксальная): мы видим, что с 1914 по 1950 год, во время мировых войн, экономической депрессии и краха глобализации, развитие человечества (измеряемое в общем плане – в показателях средней продолжительности жизни, образования, доли национального дохода, расходуемой на социальные проекты, и уровня демократии) во многом продвинулось вперед по самому широкому фронту[97].
Если вкратце, то измерить бедствие количественно сложнее, чем можно было бы предположить, – даже в современную эпоху статистики. Сведения о жертвах часто оказываются неточными. Чтобы понять смысл катастрофы, необходимо знать не только конкретное число погибших, но и избыточную смертность – иными словами, количество смертей, которых бы не случилось при иных обстоятельствах, относительно базового уровня, рассчитанного как среднее значение за последние годы. При попытке оценить масштабы бедствия выбор того или иного знаменателя может привести к огромным отличиям. В шестой главе мы увидим, что голод, в 1943 году ставший катастрофическим для ряда областей Бенгалии, теряет в масштабе, если выразить число погибших в процентах от всего населения Индии, и едва заметен по отношению к жителям всего мира в контексте самой страшной войны в истории. Цель моей дальнейшей работы такова: я дам читателям возможность самим сравнить разные обличья, которые принимает рок, – и не стану уверять, будто все бедствия в чем-то одинаковы. На сентябрь 2020 года COVID-19, по оценкам, убил 0,0114 % населения мира и занимает двадцать шестое место в списке самых губительных пандемий в истории. Испанский грипп 1918–1919 годов был примерно в 150 раз смертоноснее. Но для наиболее пострадавших городов в те месяцы, на которые пришелся самый жестокий удар, COVID-19 был столь же убийственным, как и «испанка», – а может, и более. Если судить по избыточной смертности, то апрель 2020 года в Нью-Йорке был примерно на 50 % хуже, чем октябрь 1918-го, и в три с половиной раза хуже, чем сентябрь 2001 года, месяц, когда террористы атаковали Всемирный торговый центр[98]. В первой половине 2020 года удар, нанесенный COVID-19 по населению Лондона, был сравним с немецкими ракетными бомбардировками, которые обрушились на английскую столицу во второй половине 1944 года, и в обоих случаях правительство столкнулось со схожей задачей: как защитить людей от смертельной угрозы – и при этом не парализовать жизнь города[99]. Я не намерен уравнивать «Аль-Каиду»♦[100] или нацистов с вирусом SARS-CoV-2, а просто стремлюсь показать, что бедствие, если говорить об избыточной смертности, может принимать разнообразные формы и при этом создавать одинаковые проблемы.
Каждая преждевременная гибель – как мог бы сказать Сталин – в чем-то сродни трагедии: чем моложе погибший, тем больше боли причиняет его смерть и тем она трагичнее. Впрочем, как покажет следующая глава, и некоторые катастрофы поистине трагичнее других.
Глава 2
Циклы и трагедии
И место… и… зрелище доставили им немало мотивов для нравоучительных размышлений о превратностях фортуны, которая не щадит ни людей, ни самые великие из их произведений и которая низвергает в общую могилу и империи, и города…[101]
Эдуард Гиббон
В поисках циклов
Можно ли предсказать катастрофу? Дописьменные общества, несомненно, сделать этого не могли. В жизни господствовали силы природы, и лишь немногие из них, главным образом сезоны, были ритмичные и предсказуемые. Бедствия объяснялись только влиянием сверхъестественных сил. В политеистических религиях «боги» часто сводились к именам противоборствующих сил природы. Неудовлетворительный характер политеизма привел эпикурейцев к отрицанию всяческой божественной воли. В I веке до н. э. римский философ Тит Лукреций Кар предположил существование бесконечной вселенной, состоящей из атомов, характеризующихся, по сути, случайной динамикой[102]. Становление идеи о верховном, целеустремленном сверхъестественном вершителе судеб, способном запускать исторические циклы, шло медленно. В ветхозаветной Книге Екклесиаста мы встречаем раннюю теорию цикличности: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем» (Еккл 1:9). Впрочем, в Ветхом Завете стремления Яхве излагаются в форме сложного исторического нарратива: сотворение мира, грехопадение, избрание Израиля, пророки, Вавилонское пленение и возвышение Рима… Новый Завет ранних христиан добавил к этому революционную концовку – вочеловечение, распятие и воскресение, – а также, как было ранее отмечено, картину окончательного апокалипсиса, которым завершится исторический цикл[103].
Античные историки Рима стремились придать истории смысл, призывая на помощь Судьбу – пусть временами и капризную, но все же имеющую цель. Полибий во «Всеобщей истории» утверждал, что «превратности» Судьбы на самом деле имели цель – триумф Рима. Подобная концепция изложена и в работе Тацита, хотя там божественной целью называется разрушение Рима. Для Тацита, как и для Полибия, исход «внешнего течения событий», которое «по большей части зависит от случая», имеет «смысл и причины»[104]. Полибий упомянул и о другом сверхчеловеческом факторе – характерном для стоиков представлении о циклическом развитии истории, кульминационными моментами которой становятся периодические природные катастрофы:
Если род человеческий погибнет от потопа или чумы, от неурожая… вместе с людьми погибнут и все учреждения их и искусства. Если со временем из уцелевших остатков как из семян снова вырастет известное число людей, то непременно они, подобно прочим живым существам, станут собираться вместе[105][106].
Свои циклические черты с самых древних времен есть и в китайской имперской историографии. Небесный мандат даруется династиям – и забирается, когда те становятся его недостойны; так возникает династический цикл. Это конфуцианское представление пытался оспорить первый император династии Цинь, но в конечном итоге оно осталось нерушимым. В Китае, как и на Западе, теории цикличности соперничали со взглядами, подобными воззрениям милленариев, но в эпоху Тан династический цикл обрел законный статус[107]. И пусть даже с 1949 года марксизм-ленинизм формально вытеснил концепцию Небесного мандата, китайская история по-прежнему повсеместно мыслится в свете последнего, а Коммунистическую партию просто считают самой поздней династией.
Таким образом, исторические теории цикличности регулярно появлялись в интеллектуальной жизни Запада и Востока. В «Новой науке» (1725) Джамбаттиста Вико утверждал, что цивилизация проходит повторяющиеся циклы (ricorso) из трех веков: Века Богов, Века Героев и Века Людей. Свою науку он считал «Рациональной Гражданской Теологией Божественного Провидения… доказательством, так сказать, исторического факта Провидения, потому что она должна быть Историей того Порядка, который был дан совершенно незаметно для людей и часто вопреки их собственным предположениям великому Граду Рода Человеческого»[108][109]. Можно провести параллель между подходом Вико и представлениями Арнольда Тойнби, британского мудреца XX столетия[110]. «Богатство народов»[111] (1776) Адама Смита заложило основу для строго экономического анализа общества, и этот анализ также предполагал цикличность исторического процесса. У Смита тоже не «слепой случай», а «невидимая рука» подталкивала людей к действию, заставляя их неосознанно работать на общее благо, даже преследуя собственные эгоистичные интересы, и это приводит общество сперва к развитию, потом к «благосостоянию», а потом к «стационарному состоянию». В гораздо более мрачном «Опыте о законе народонаселения» (1798) Томас Мальтус выдвинул идею о демографическом цикле, в котором либо голод, либо «порок» являются неизбежным следствием того, что росту населения внутренне свойственно опережать рост производства продуктов питания. Карл Маркс совместил гегелевскую диалектику с основами рикардианской политэкономии. Так возникла модель исторических перемен, которые происходят благодаря классовой борьбе и завершаются материалистическим апокалипсисом, предсказанным в «Капитале»:
Монополия капитала становится оковами того способа производства, который вырос при ней и под ней. Централизация средств производства и обобществление труда достигают такого пункта, когда они становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Она взрывается. Бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют[112][113].
Последователи Маркса по-прежнему ждут, когда же все случится, – как и приверженцы Питера Кука на вершине своего холма.
Клиодинамика
В последние годы сторонники «клиометрики» и «клиодинамики» стремятся возродить циклический подход. Казалось бы, мальтузианская модель лучше всего приложима к эпохе, предшествующей Новому времени[114]. Но вариации этой модели предлагались и для ряда современных кризисов[115]. Хороший пример – разнообразные попытки объяснить арабские революции 2010–2012 годов так называемым «молодежным бугром». В одном исследовании, где рассматривались страны, в которых темпы прироста численности молодежи превысили 45 % за пять лет, говорится, что «ни одна из них не сумела избежать значительных политических потрясений. Риск необычайно жестокой гражданской войны для таких стран был очень высоким (примерно один шанс из двух)». (Это позволяет предположить, что проблемы ожидают такие четыре государства Африки, расположенные к югу от Сахары, как Нигер, Кения, Уганда и Малави[116].) Сам по себе «молодежный бугор» – не гарантия грядущих беспорядков, но он становится таковой, когда сочетается с низким экономическим ростом, чрезвычайно авторитарным режимом и распространением высшего образования[117]. В рамках самого амбициозного проекта, осуществленного в этом неомальтузианском ключе, Джек Голдстоун рассмотрел 141 случай нарушения стабильности с 1955 по 2003 год, в том числе – кризисы демократии, гражданские войны и распад государств. Страны с высоким уровнем младенческой смертности в семь раз чаще сталкивались с внутренней политической напряженностью, чем страны, где этот уровень был низким. Вооруженный конфликт в приграничных государствах, как и проводимая властями дискриминация даже какой-либо одной группы меньшинств, также повышал вероятность нестабильности[118].
В широком плане с неомальтузианцами связаны историки и социологи, искавшие ключ к историческим циклам в конфликтах поколений. Впрочем, в данном случае вопросы политической культуры преобладают над демографическими. В 1920-х годах Карл Манхейм утверждал, что «критический период» подросткового возраста формирует характер поколения на всю жизнь. Оба Артура Шлезингера, père et fils[119], писали о «циклах американской истории», отмечая регулярное колебание между либеральным и консервативным консенсусом[120]. Относительно недавно Уильям Страус и Нил Хау выступили с теорией о цикле смены поколений, который повторяется каждые восемьдесят-девяносто лет[121]. В каждом таком периоде, по мнению исследователей, совершается четырехэтапный цикл «превращений»: «Подъем», «Пробуждение», «Спад» и, наконец, «Кризис». Страус и Хау, как и когда-то Освальд Шпенглер, связывают каждую из этих стадий с определенным временем года: цикл начинается весной и оканчивается зимой. Они полагают, что последний американский кризис случился в период, охватывающий Великую депрессию и Вторую мировую войну. Если их модель верна, тогда мы вошли в новую, четвертую стадию, которая началась с мирового финансового кризиса 2008–2009 годов и достигнет кульминации в 2020-е, когда поколение беби-бума передаст власть миллениалам[122].
У всех подобных теорий цикличности есть один общий недостаток: они предоставляют сравнительно мало возможностей для взаимодействия различных переменных – географических, экономических, культурных, технологических, политических и связанных с окружающей средой. Самые дерзкие и амбициозные идеи в клиодинамике пытаются это исправить различными изобретательными способами[123]. Историк Иэн Моррис определяет «циклы развития и крушения государств… в Юго-Восточной Азии – примерно 3100 г. до н. э. (конец Урукской экспансии), 2200 г. до н. э. (падение Древнего Царства в Египте и Аккадской империи) и 1200 г. до н. э. (конец бронзового века), а в Южной Азии – примерно 1900 г. до н. э. (падение Индской цивилизации)» и предполагает, что «в каждом случае присутствовала взаимная связь между культурной эволюцией и окружающей средой». Для Морриса ключевую роль играла война, и, в частности, то, каким образом разведение крупных лошадей преобразило сухие степи центральной Евразии из пустоши в зону торговли и военных действий – и, конечно же, способствовало распространению болезней[124]. В последние годы, что неудивительно, в моду вошло внимание к климатическим факторам. Приведем лишь один пример: Цян Чэнь стремился соотнести времена засухи с династическими кризисами в имперском Китае[125]. Другие специалисты подчеркивали роль наводнений[126].
В книге «Историческая динамика» (2003) Петр Турчин предложил новаторскую модель взлета и падения государств. По его мнению, новые государства склонны формироваться на спорных границах существующих стран (на «метаэтническом пограничье»), поскольку в таких местах – зонах периодических конфликтов – у людей, которые находятся под сильнейшим давлением, формируется особая социальная сплоченность, предполагающая способность к коллективным действиям; Ибн Хальдун, мусульманский ученый XIV века, в книге «Мукаддима» назвал такую сплоченность словом асабия. Но когда государство достигает определенного уровня цивилизации, со всей сопутствующей роскошью и неравенством, стимул для сотрудничества слабеет и асабия сходит на нет[127]. В книге «Война и мир и война» (War and Peace and War, 2006) Турчин добавил новый элемент: строители успешных империй, как, скажем, римляне, вбирали в себя покоренные народы, а не уничтожали их. Впрочем, успех сеет семена упадка – и это не только истощение асабии, но и знакомый нам мальтузианский цикл. С миром и стабильностью приходит и процветание; процветание вызывает рост населения и ведет к перенаселению; перенаселение влечет за собой безработицу, низкое жалованье, высокую арендную плату и в некоторых случаях нехватку еды. Уровень жизни падает – и люди готовы восставать. В конечном итоге крах общественного порядка приводит к гражданской войне; после этого упадок империи неизбежен[128]. В сочинении «Вековые циклы» (соавтор – Сергей Нефедов) эта система воззрений обрела формальное выражение. Социальные/политические перемены вызываются взаимодействием четырех переменных:
1. Количество населения в отношении к «емкости среды».
2. Устойчивость государства (сбалансированность бюджета).
3. Общественная структура (особенно численность элиты общества и характерный для нее уровень потребления).
4. Общественно-политическая стабильность.
В этой «структурно-демографической теории» цикл составляют четыре фазы:
1. Расширение: население стремительно возрастает, цены стабильны, реальная заработная плата сообразна ценам.
2. Стагфляция: плотность населения приближается к пределам «емкости среды»; заработная плата уменьшается и/или повышаются цены. Элиты наслаждаются периодом процветания, поскольку могут требовать от арендаторов высокую плату.
3. Общий кризис: население сокращается; арендная плата и цены падают, заработная плата растет. Жизнь может улучшиться для крестьянства, но последствия разрастания элит ощущаются в виде внутриэлитного конфликта.
4. Депрессия: эта фаза полномасштабной гражданской войны завершается лишь тогда, когда численность элиты сократится до уровня, на котором может начаться новый вековой цикл[129].
Турчин и Нефедов полагают, что «доминирующую роль во внутренней войне, как представляется, играет перепроизводство элиты, ведущее к внутриэлитной конкуренции и к росту контрэлиты, которая мобилизует народные массы в борьбе против существующего порядка»[130][131]. Для циклического кризиса, помимо прочего, характерны рост инфляции и банкротство государства[132]. Не так давно Турчин начал говорить, что данная теория применима к современным США. Как и Нил Хау, он в течение какого-то времени предсказывал кризис, утверждая, что он случится примерно в 2020 году[133].
Несомненно, клиодинамика – это новая увлекательная область науки. Турчин и его коллеги собрали в массивную базу данных «Сешат» (Seshat) информацию о сотнях политий – политических единиц, охватив шесть континентов и эпохи от неолита до середины прошлого тысячелетия. Эта база устанавливает новый стандарт для систематического исторического изучения политических структур[134]. В замечательной статье Джэвон Шин и соавторы предложили улучшение модели Турчина, и в качестве переменной были введены технологии хранения и передачи информации. «В социально-политическом развитии, – пишут исследователи, – изначально главную роль играет увеличение масштабов политии, затем улучшение экономических систем и обработки информации, а позже – дальнейшее увеличение масштабов». Авторы предполагают, что для обществ может существовать «порог масштаба, за пределами которого ускорение обработки информации выходит на первый план, и порог информации, преодоление которого способствует дополнительному увеличению в масштабе»[135]. Уделяя особое внимание тому, что общества Нового Света (за исключением, возможно, цивилизации с центром в Куско) не создали развитых систем письменной фиксации, ученые спрашивают: «Может ли оказаться так, что некоторые из частых крушений обществ связаны с тем, что те не могут в достаточной мере развить обработку информации? Не потому ли они топчутся на месте или даже рушатся, что их действия крайне малоэффективны? И не скрыта ли причина этого в слабом взаимодействии с внешним миром либо в малой внутренней слаженности? Или же она коренится в невозможности соперничать с политиями, чьи превосходящие способности к обработке информации позволили им достичь больших размеров?»[136]
И все же, как признают Турчин и Нефедов, любой цикличный процесс сам по себе непременно находится под воздействием сил явно нецикличных: экстремальных колебаний климата, пандемий, технологических разрывов, а также крупных конфликтов, которым, как мы видели, свойственна почти полная непредсказуемость – и в плане продолжительности, и в плане масштабов[137]. Турчин предположил, что 2020 год, вероятно, вызовет в США «всплеск» социально-политической нестабильности и станет «достойным преемником» таких лет, как 1870, 1920 и 1970-й. Эти слова можно вполне считать пророческими[138]. Возросшая иммиграция еще с 1970-х годов определенно совпадала со стагнацией реальной зарплаты, хотя и прочие факторы – технологические изменения и конкуренция с Китаем – сыграли по меньшей мере столь же важную роль. Яркое отражение перепроизводства элит – стоимость обучения в Йеле, которая, в сравнении со среднегодовой зарплатой на производстве, все время растет. Можно обратить внимание и на то, как увеличилась – по отношению ко всему населению в целом – доля магистров делового администрирования (MBA) и юристов. Дробление элит ясно видно и в парализующих политических симпатиях Вашингтона, округ Колумбия, и в ожесточенной борьбе за посты в законодательной власти, и в повышении затрат на избирательные кампании. А еще США очень недостает асабии, необходимой для успешного завершения войн, начатых на территории других государств[139]. И все же, несмотря на недавние жаркие споры по поводу массовых убийств и случаев, когда полиция применяла силу с летальным исходом, уровень насилия в 2020 году остается намного ниже, чем был в 1870, 1920 и 1970-м, и это показывают данные самого Турчина. Возможно, у американцев в личном владении сейчас больше оружия, чем когда-либо, но используют они его друг против друга намного реже, чем во время предыдущих «всплесков» насилия[140]. Но в любом случае, если говорить про 2020 год, то возникает вопрос: какую долю нестабильности, ярчайшим проявлением которой стали массовые акции в поддержку движения Black Lives Matter в конце мая и в июне, следует объяснять воздействием пандемии, которую не могла предсказать никакая теория исторических циклов?
Подобное возражение можно привести и против иных теорий цикличности, ныне вошедших в моду. Рэй Далио, управляющий хедж-фонда, разработал свою модель исторического процесса, в которой все вращается вокруг долговой динамики (взамен демографической). Примерно как и Турчин, Далио различает «большие циклы… состоящие из колебаний между: 1) периодами счастья и процветания, когда люди стремятся к богатству и продуктивно создают его, а те, кто наделен властью, работают гармонично, чтобы этому способствовать, и 2) периодами гнетущей бедности, когда борьба за богатство и власть рушит гармонию и продуктивность, а иногда даже ведет к войнам и революциям»[141]. Философия истории Рэя Далио проста и незатейлива; в чем-то она сродни автодидактическому подходу Джорджа Сороса к бихевиоризму. «Большинство вещей и явлений, – пишет Далио, – периодически повторяются во времени… Есть предел числу типов личности; и числу путей, которые эти личности выбирают; и числу ситуаций, с которыми они на этих путях сталкиваются; и числу вызванных этими ситуациями историй, которые с течением времени повторяют сами себя». Он предлагает «формулу того, что заставляет величайшие империи мира и их рынки переживать взлет и падение», основанную на «семнадцати силах… объяснивших почти все эти события во времени». В другом месте он пишет о «едином показателе богатства и власти… примерно равном средней величине восьми параметров развития. Вот они: 1) образование; 2) конкурентоспособность; 3) технологии; 4) производительность экономики; 5) доля в мировой торговле; 6) военная мощь; 7) устойчивость финансового центра и 8) резервная валюта». Кроме того, он говорит о четырех взаимодействующих циклах: долговом, денежно-кредитном, цикле распределения богатства и геополитическом цикле[142]. На основе этой теории четырех циклов Далио приходит к такому выводу: дни процветания и первенства Соединенных Штатов сочтены – похожим образом в 1930-е годы свое могущество потеряла Великобритания. Что же касается доллара, то «деньги – это мусор»[143].
Проблема такого подхода в том, что он не может объяснить событий, которые так и не произошли, – но были бы ошибочно предсказаны этой моделью, возникни она когда-либо в прошлом. Почему, скажем, Великобритания не испытала упадка и краха после 1815 года? В 1822 году отношение госдолга к ВВП достигло пика и составило 172 %. По истечении пяти лет дефляции (с 1818 по 1822 год) экономическое неравенство было очень ощутимым и привело к политическим волнениям. После того как 12 августа 1822 года совершил самоубийство ненавистный виконт Каслри, международный порядок, установленный на Венском конгрессе, начал рушиться. И тем не менее Британская империя в начале XIX века только набирала силу, а революции – в 1830 и 1848 годах – произошли по другую сторону Ла-Манша. Точно так же можно спросить, почему упадок и крах не случились в 1970-х годах в США. Инфляция нанесла серьезный удар по сбережениям держателей облигаций: когда Ричард Никсон разорвал последнюю связь между долларом и золотом, уровень инфляции вырос до двузначных показателей. В бедных городских кварталах начались беспорядки, в студенческих кампусах – протесты. Президенту пришлось подать в отставку, а страна бесславно проиграла войну во Вьетнаме. И все же Америка выстояла и в 1980-х годах стремительно восстановилась. В 1989-м, спустя два года после того, как вышла книга Пола Кеннеди «Взлеты и падения великих держав» – очередной труд о цикличности истории, подчеркивавший жизненную необходимость высокой производственной мощности и сбалансированности бюджета и на этом основании предрекавший Америке упадок, – США победили в холодной войне, поскольку советская империя в Центральной и Восточной Европе была сметена волной революций. В это же время стремления Японии к статусу сверхдержавы развеялись как дым, когда в стране лопнул пузырь цен на активы.
Реальность, как мы еще увидим, заключается в том, что история – процесс слишком сложный, чтобы смоделировать ее даже столь неформально, как это склонны делать Турчин и Далио. Более того, чем методичнее моделируются исторические феномены (особенно пандемии, но наравне с ними – и климатические изменения, и ухудшение экологической обстановки), тем легче перейти «от почти верного понимания к абсолютно неверному»[144].
Неограненный алмаз
Если бы мы могли предвидеть экономические, социальные или политические потрясения, то, вероятно, хоть каких-нибудь из них нам удалось бы избежать. В книге «Коллапс» (2011) Джаред Даймонд предложил иную теорию, не столь жесткую, как исторический циклизм, и более похожую на перечень мер, призванных помочь избежать крушения нашему миру, который все сильнее озабочен проблемой изменения климата, вызванного деятельностью человека. «Коллапс» он определил как «резкое падение численности населения и/или потерю политических, экономических, социальных достижений на значительной территории на продолжительное время»[145]. Непосредственной причиной коллапса могли стать непреднамеренный ущерб, нанесенный окружающей среде; естественное изменение климата, не связанное с деятельностью человека; или война (агрессия враждебного соседа). Но с наибольшей вероятностью коллапс наступал в том случае, если то или иное общество не могло справиться с возникшей перед ним угрозой – или угрозами[146]. И в отличие от людей, стареющих долго и постепенно, общество может прекратить свое существование в мгновение ока.
…Один из главных уроков, который мы можем вынести из коллапсов прошлого (майя, анасази, остров Пасхи и прочие), как и из недавнего коллапса Советского Союза, состоит в том, что общество может прийти к упадку всего за 10–20 лет после пика рождаемости, расцвета силы и государственной мощи. В этом смысле кривая развития государства может совершенно отличаться от жизни человека, приходящей к упадку после продолжительной старости. Причина проста: рекордное население, потребление ресурсов вызывает рекордную нагрузку на окружающую среду, которая ведет к истощению ресурсов. Таким образом, не удивительно, что распад общества может последовать вскоре за его расцветом[147][148].
Итак, общество либо не может предвидеть причину коллапса; либо не в силах осознать его в тот миг, когда тот происходит (проблема «ползучей нормы»); либо даже не пытается остановить коллапс из-за политических, идеологических или психологических барьеров; либо пытается его остановить, но не достигает успеха.
В книге Даймонд анализирует семь примеров, два (Руанда и Гаити) – из недавнего прошлого, другие – из более далекого: норвежцы Гренландии; жители острова Пасхи (Рапа-Нуи); полинезийцы с островов Питкэрн, Хендерсон и Мангарева; анасази (юго-запад Северной Америки) и майя (Центральная Америка). Кроме того, он рассматривает три истории успеха: тихоокеанского острова Тикопиа; Центральной Новой Гвинеи и Японии времен сегуната Токугава. Важнейшая из его историй – это взрослая версия книги Доктора Сьюза «Лоракс» (1971). В коллапсе, который постиг жителей острова Пасхи – в годы расцвета его население составляло десятки тысяч человек, но к началу XVIII века, когда там впервые появились европейцы, сократилось до полутора-трех тысяч, – по Даймонду, виновны «воздействие человека на окружающую среду, прежде всего вырубка лесов и уничтожение популяции птиц, и политические, социальные и религиозные факторы, стоящие за этим воздействием, – такие, как… сосредоточенность… на строительстве статуй и соперничество между кланами и вождями, приводившие к возведению все больших и больших статуй, что в свою очередь требовало большего расхода древесины, канатов и пищи»[149][150]. Лишенная деревьев, способных удержать почву, плодородная земля острова Пасхи страдала от эрозии. Урожаи становились скудными, а запасы древесины истощались, и островитяне уже не могли строить каноэ и выходить в море за рыбой. Это привело к междоусобной войне и в конечном итоге – к каннибализму. Мораль ясна: продолжайте разорять планету – и тогда мы все закончим, как жители острова Пасхи.
Впрочем, есть и альтернативная версия истории островитян. Она гласит, что поселенцы прибыли на остров лишь около 1200 года, а леса исчезли по большей части из-за крыс, завезенных колонистами. Что же до гигантских каменных статуй, то их вовсе не перекатывали в горизонтальном положении на бревнах – им помогали «шагать», удерживая вертикально. Островитяне питались дарами моря и крысиным мясом, а кроме того, выращивали овощи; и коллапс постиг местное общество в результате воздействия европейцев, в частности из-за того, что на острове с 1722 года появились венерические заболевания[151]. Согласно еще одной гипотезе, население острова проредили южноамериканские работорговцы[152]. Это большая разница по сравнению с тем, о чем рассказывает «Лоракс».
Но, кажется, более широкий аргумент Даймонда – согласно которому коллапс представляет собой феномен не только экологический, но в той же мере политический и социальный, – можно сохранить. В книге «Кризис» (2019) он пишет: «…Государства переживают общенациональные кризисы, которые завершаются различными – позитивными или негативными – исходами и подразумевают общенациональные изменения… Успешное преодоление внешнего или внутреннего давления требует внесения выборочных изменений. Это верно как для государств, так и для отдельных людей»[153].
Одна из самых давних идей в политической мысли Запада – аналогия между отдельным человеком и политическим телом. Вспомните фронтиспис Абрахама Босса для «Левиафана» Томаса Гоббса: над пейзажем, подобно башне, высится фигура в короне, а ее туловище и руки составлены из более чем трех сотен человек. Даймонд возрождает эту идею, рассматривая семь конкретных случаев национального кризиса и его преодоления: в Финляндии, Японии, Чили, Индонезии, Германии, Австралии и США. На основе этих примеров Даймонд формулирует двенадцать стратегических шагов, которые, по его мнению, позволяют справиться с национальным кризисом:
1. Первый шаг к преодолению кризиса – идет ли речь о личности или о нации – признать, что кризис существует.
2. Следующий шаг – принять вашу личную / национальную ответственность за меры, которые необходимо реализовать.
3. Третий шаг – «возвести ограду» (не обязательно материальную), чтобы обозначить личные/национальные проблемы, требующие решения.
4. Дальше может оказаться очень полезной материальная и эмоциональная поддержка от других людей/наций.
5. Возможно, вы сумеете обратить себе во благо опыт других людей/наций, сделав их ролевой моделью для решения проблем.
6. Вероятность того, что вы преуспеете, выше, если вы обладаете «силой эго», которая в случае государств будет называться чувством национальной идентичности.
7. Даймонд также рекомендует «честную самооценку» как личностям, так и государствам.
8. Если в прошлом вы уже переживали личные/национальные кризисы, это поможет.
9. Кроме того, поможет терпение.
10. Хорошая идея – проявить гибкость.
11. Пользу принесет и наличие «глубинных ценностей».
12. Помимо прочего, поможет и свобода от личного/геополитического принуждения[154].
Проблема в том, что на самом деле современные национальные государства не слишком похожи на отдельных людей. Намного точнее будет сказать, что они, как и любая крупная полития, представляют собой сложные системы – и не подчиняются тем широким «гауссовым» законам, под которые подпадают отдельные представители нашего вида. Например, для взрослых людей характерен примерно одинаковый рост. Гистограмма человеческого роста – это классическая колоколообразная кривая, причем большинство из нас попадают в пределы от пяти до шести футов (ок. 152–183 см), и нет никого ниже двух футов (ок. 61 см) или выше восьми (ок. 244 см). Нет людей размером с муравья или с небоскреб. С национальными государствами (эта форма политического устройства лишь недавно начала преобладать в истории) все иначе. На два мегагосударства – Китай и Индию – приходится 36 % населения мира. Затем идут 11 больших государств, от США до Филиппин, в каждом из которых – более ста миллионов человек, суммарно чуть больше четверти мирового населения. 75 стран среднего размера, в которых проживает от десяти до ста миллионов человек, дают еще треть населения планеты. И есть еще 71 государство с населением от 1 до 10 миллионов (5 % человечества), 41 страна с населением от 100 тысяч до 1 миллиона (0,2 %) и, наконец, 33 государства с менее чем сотней тысяч жителей.
Размеры государств не подчиняются нормальному распределению, равно как и кризисы. Масштабные потрясения, которые так любят изучать историки – войны, революции, финансовые крахи, государственные перевороты, – отличаются тем, что происходят редко, оказывают мощное воздействие и располагаются в хвостах распределений, ни в коей мере не являющихся нормальными. Великие революции, свершившиеся в истории – подобные английской, американской, французской, русской и китайской, – не происходили везде и повсюду. В истории большинства стран можно найти лишь несколько непримечательных восстаний. Человеческая жизнь – это совсем другая история. Возможно, не у каждого случаются кризисы подросткового и среднего возраста, но все же мы сталкиваемся с ними достаточно часто для того, чтобы эти термины не требовалось никому объяснять. Количество детей у нас по большей части варьируется от одного до четырех. Почти у всех людей случаются те или иные проблемы со здоровьем. И, как отмечалось в первой главе, все мы умираем – обычно в сравнительно узком возрастном диапазоне, который, опять же, подчиняется нормальному распределению. Итак, жизнь человека чаще всего следует некоему циклу. Некоторые национальные государства, напротив, живут очень долго. Соединенному Королевству уже более четырех сотен лет (а страны, составляющие его, гораздо старше), Соединенным Штатам – около двухсот пятидесяти. Для других характерны невероятные институциональные разрывы. Китайские руководители любят повторять, что Китаю примерно пять тысяч лет, но это просто небылица, которая зародилась благодаря иезуитам, возводившим начало китайской истории к 2952 году до нашей эры. А официальный статус этой выдумке придал Сунь Ятсен, признавший легендарного Желтого императора (Хуан-ди, чье правление, как считается, началось в 2697 г. до н. э.) в качестве первого правителя Китая. По сути же, Китайская Народная Республика лишь недавно отпраздновала 70-летний юбилей, так что она на двенадцать лет моложе, чем Джаред Даймонд. И большинство национальных государств мира немногим старше, поскольку они, подобно Индонезии, сформировались в период деколонизации, который начался по завершении Второй мировой войны. Какова ожидаемая продолжительность жизни при рождении у национального государства? Никто этого не знает.
Одним словом, ожидать, что национальные государства будут вести себя как люди, – это такая же явная категориальная ошибка, как пытаться определить частоту аварий на трассах, исходя из представления о двигателе внутреннего сгорания. Именно потому, что на сложные политии не распространяются те ограничения, какие налагаются на каждого человека, сравнение Даймонда сбивает с столку. (А попытки применить его ко всему человечеству приводят в еще большее замешательство.) В каждом из семи случаев, о которых пишет Даймонд, конкретная нация успешно преодолела разразившийся кризис (или кризисы). В выборке отсутствуют и государства, которые безвозвратно распались (как тот же Советский Союз или Югославия), и бывшие колониальные протектораты, не получившие статус независимого государства, и неисчислимые этнические группы, так и не сумевшие добиться права на самоуправление. Если национальные государства – это те же люди в увеличенном масштабе, что тогда представляют собой подобные случаи? У политий – для которых разделение на части не всегда фатально – есть возможности, какие нам, людям, просто недоступны.
Проклятие Кассандры
«Возможно ли счесть наше нынешнее чрезвычайное положение не убогой драмой, а классической трагедией? – спрашивал американский драматург Дэвид Мэмет в июне 2020 года. – И что в нашем случае навлекло чуму на Фивы?»[155] И это законный вопрос. Ведь если история не циклична и не подражает жизненному циклу отдельно взятого человека – тогда, вероятно, она драматична? И воссоздает в гораздо более широком масштабе – на «мировой сцене» – классические театральные взаимодействия?
Самые знаменитые катастрофы – это трагедии. Именно так их привычно описывают журналисты. Но некоторые бедствия трагичны в прямом смысле – иными словами, они следуют канонам классической трагедии. В них, как у Эсхила в «Агамемноне», есть и пророк, и хор, и царь. Пророк провидит грядущую беду, хор сомневается, а царь – обречен.
- ПРЕДВОДИТЕЛЬ ХОРА
- Сей дом – Атридов. Коль сама не ведаешь,
- Где ты, – вот, я поведал, не солгал тебе.
- КАССАНДРА
- Богопротивный кров, злых укрыватель дел!
- Дом – живодерня! Палачей
- Помост! Людская бойня, где скользишь в крови.
- ПРЕДВОДИТЕЛЬ ХОРА
- Она – ищейка ловчая, и крови дух
- Далече чует: нюхает, и сыщет кровь.
- КАССАНДРА
- Вот они, вот стоят, крови свидетели!
- Младенцы плачут: «Тело нам
- Рассекли, и сварили, и отец нас ел».
Кассандру в качестве рабыни привез из покоренной Трои победоносный Агамемнон. Но жена царя, Клитемнестра, решает убить мужа – так она мстит за их дочь Ифигению, которую Агамемнон много лет тому назад принес в жертву богам ради попутного ветра, отправляясь на Троянскую войну. А еще Клитемнестра хочет, чтобы ее любовник Эгисф стал царем вместо Агамемнона. Кассандра совершенно ясно видит все, что произойдет в будущем. Но на нее наложено проклятие: она не в силах никого убедить.
Пророчество Кассандры о падении Трои (слева) и ее смерть (справа). Ксилографическая иллюстрация из книги Джованни Боккаччо De mulieribus claris («О знаменитых женщинах») в переводе Генриха Штайнхёфеля. Отпечатана в мастерской Иоганна Цайнера, Ульм, ок. 1474 г.
- КАССАНДРА
- Содеять что – хочешь, проклятая?
- Того, с кем ты спала, зачем —
- Его встречая – в баню повела?.. Зачем?
- Что дале – не вижу. Спешат. В чью-то руку
- Что-то сует рука…
- ПРЕДВОДИТЕЛЬ ХОРА
- Еще не разумею. Словно бельмами,
- Вещание загадками мне застит свет…
- ХОР
- Но из провидцев, кто смертным добро вещал?[158]
Когда Агамемнона действительно убивают, хор погружается в смятение и раздор. Эсхил заставляет певцов нерешительно спорить о том, как реагировать на смерть их царя[161]. Пророчество неумолимо исполняется во второй и третьей частях «Орестеи». Во второй трагедии, «Хоэфоры» («Плакальщицы»), сын Агамемнона, Орест, возвращается в Аргос и вместе со своей сестрой Электрой замышляет убийство матери и ее любовника. Он совершает матереубийство, и его начинают преследовать Эринии. В третьей трагедии, «Эвмениды» («Благосклонные»), Орест ищет справедливости у Афины – и получает ее в виде первого в истории суда присяжных.
В этих трагедиях предельно ясно показано, что ждет того, кто бросит вызов богам. Сам Орест страшными словами описывает «гнев кровной вины», с которым он столкнется, если не отомстит за смерть отца: «Коростом хворь насядет и вгрызется в плоть, // Гнилым источит зубом человечий вид, // Оденет кости белыми лохмотьями. // Но язвы ль только?»[162][163]. Афины же берутся под защиту от таких бедствий «благосклонными», после того как те примиряются с оправданием Ореста. И хор поет:
- Ты не вей,
- Вредный древу черный ветр!
- Властно пенье кротких чар.
- Ты, зной,
- Знай предел, хмельной лозы
- Щади росток, щади глазок!
- Засуха, бесплодье,
- Порча, ржа, не троньте нив!..
Бедствие в Древней Греции вовсе не было чем-то невообразимым: оно всегда таилось поблизости и его сдерживала лишь благосклонность богов.
Еще одно похожее несчастье мы встречаем у Софокла в трагедии «Царь Эдип», где на Фивы падает божья кара в виде чумы.
Как гласит пророчество дельфийского оракула, Эдип должен найти убийцу царя Лая, своего предшественника. Но местный прорицатель Тиресий знает, что сам Эдип его и убил и что он совершил не только отцеубийство, но и инцест, женившись на своей матери Иокасте. Эдип осознает, в каком неприятном положении оказался, и исполняет пророчество Тиресия, ослепляя себя.
Ричард Кларк и Рэндольф Эдди предположили, что многие современные бедствия вторят классическим трагедиям[168]. Ураган «Катрина»; авария на атомной станции «Фукусима-1»; расцвет ИГИЛ♦; финансовый кризис – во всех этих случаях была Кассандра, которую никто не услышал. В «коэффициенте Кассандры» Кларка и Эдди – четыре составляющих: угроза бедствия; пророк; тот, кто принимает решения; и критики, пренебрегающие предупреждением и отвергающие его. В этой системе координат бедствия предсказуемы – но разнообразные когнитивные искажения, словно сговорившись, мешают предпринять необходимые упреждающие действия. Катастрофу тяжело вообразить, если ничего подобного не происходило прежде (или недавно); или если все ошибочно полагают, что она невозможна; или если ее масштаб превышает все мыслимые пределы; или если она просто кажется слишком нелепой[169]. Возможно, Кассандрам недостает умения убеждать. Или же на тех, кто принимает решения, влияют диффузия ответственности, «инерция повестки дня», регуляторный захват, интеллектуальная ограниченность, идеологические шоры, откровенная трусость или бюрократические патологии, как, например, «разумная достаточность» (обращение к проблеме без ее решения) или утаивание жизненно важной информации[170]. А «хор» – мнение не столько общества, сколько экспертов, – может пасть жертвой самых разных предрассудков, таких как жажда определенности (рандомизированные контролируемые исследования, рецензированные статьи), привычка развенчивать любую новую теорию или же необратимые затраты на инвестиции в «устоявшуюся науку»[171], не говоря уже об искушении провозвещать бесконечную ложь в авторских колонках на страницах газет и в ток-шоу.
Многие эксперты страстно желают исчислить риск – и не особенно любят неопределенность. Эта разница важна. Как утверждал в 1921 году Фрэнк Найт, «неопределенность… радикально отличается от привычного представления о риске… Измеримая неопределенность, или собственно „риск“, настолько отличается от неизмеримой, что по существу вообще не является неопределенностью»[172]. Время от времени будут происходить события, «настолько уникальные, что не существует других событий или достаточного их числа, благодаря которым подобные случаи можно было бы свести в таблицу, сформировав основу для любого сколь-либо ценного вывода о какой-либо вероятности»[173]. Ровно о том же в 1937 году замечательно писал Джон Мейнард Кейнс в отповеди критикам своей «Общей теории»[174]:
Когда я говорю о «неопределенном» знании… я не просто желаю отделить известное наверняка от того, что всего лишь возможно. Как я понимаю, в игре в рулетку нет места неопределенности… Лишь немного неопределенной является продолжительность жизни. То же можно сказать и о погоде. Когда я говорю «неопределенность», в голову приходят примеры грядущей общеевропейской войны или… ставка процента через двадцать лет… У нас нет надежной научной основы, чтобы вычислять вероятность подобных событий хоть с какой-нибудь точностью. Можно сказать и проще: мы не знаем[175].
И что еще хуже, из-за огромного числа когнитивных искажений нам едва поддаются даже исчислимые риски. В своей знаменитой статье Даниэль Канеман и Амос Тверски на опытном материале показали, что даже в самых простых ситуациях люди не могут как следует оценить вероятности различных событий. Сначала психологи выдали каждому участнику эксперимента по тысяче израильских фунтов[176]. На выбор предлагались два варианта: (a) выиграть дополнительную тысячу фунтов с вероятностью 50 % и (b) получить 500 фунтов. Лишь 16 % опрошенных выбрали первый вариант и 84 % предпочли второй. Затем Канеман и Тверски попросили тех же людей вообразить, что у них есть по две тысячи фунтов, и выбрать один из двух вариантов: (с) потеря тысячи фунтов с вероятностью 50 % или (d) гарантированная потеря 500 фунтов. На сей раз большинство (69 %) решило рискнуть, и лишь 31 % участников выбрали второй путь. Любопытно, что в материальном отношении обе задачи есть одна и та же задача. В обоих случаях респонденты выбирали между лотереей первого варианта – с равной вероятностью 50 %-й итоговый выигрыш мог составить как тысячу (a), так и две тысячи фунтов (c), – и определенностью второго, когда им доставалось 1500 фунтов (b и d). В этом и прочих экспериментах исследователи обратили внимание на удивительную несимметричность реакции людей: неприятие риска, когда речь шла о выигрышах, сменялось желанием рискнуть как следует и по возможности предотвратить убытки[177].
«Нарушение инвариантности» – лишь одно из множества возможных эвристических искажений (искаженных способов мышления или обучения), которые и отличают реальных людей от homo oeconomicus
