1913. Лето целого века
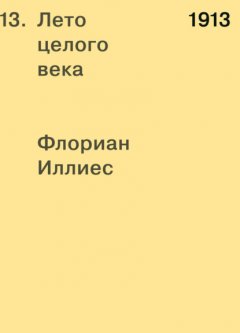
Январь
Это месяц, в котором Гитлер и Сталин встречаются, гуляя по парку дворца Шёнбрунн, Томасу Манну грозит аутинг, а Францу Кафке – сойти с ума от любви. К Зигмунду Фрейду на кушетку забирается кошка. Очень холодно, снег скрипит под ногами. Эльзе Ласкер-Шюлер не на что жить, она влюбляется в Готфрида Бенна, получает от Франца Марка открытку с лошадьми и обвиняет Габриэль Мюнтер в никчемности. Эрнст Людвиг Кирхнер рисует кокоток на Потсдамской площади. Выполнена первая мертвая петля. Но все тщетно. Освальд Шпенглер уже пишет «Закат Европы».
Эрнст Людвиг Кирхнер и Эрна Кирхнер (Шиллинг) в мастерской на Дурлахерштрассе, 14 (Музей Кирхнера, Давос) (фрагмент).
Первая секунда 1913 года. Выстрел оглушает темную полночь. Раздается щелчок, палец пружинит на металле курка – и второй глухой выстрел. Сбежавшиеся полисмены задерживают стрелявшего. Его зовут Луи Армстронг.
Украденным револьвером двенадцатилетний Луи хотел встретить в Новом Орлеане наступающий год. В итоге ночь он проводит в камере, а ранним утром первого января его отправляют в исправительное заведение, Colored Waifs' Home for Boys. Там он демонстрирует поведение настолько буйное, что директору заведения, Питеру Дэвису, не приходит в голову ничего лучшего, как подсунуть ему трубу (вообще-то он хотел надавать ему пощечин). И – о чудо – Луи Армстронг умолкает, чуть ли не с нежностью сжимает ладонями инструмент, и пальцы, еще ночью игравшие со спусковым крючком револьвера, вновь ощущают под собой холодный металл – но вместо выстрела, уже там, в кабинете, начинают извлекать из трубы первые теплые, буйные звуки.
«Только что грянула полуночная пушка, крики с моста и с улицы, бой часов и колоколов отовсюду»[1], – сообщает из Праги доктор Франц Кафка, служащий Агентства по страхованию рабочих от несчастных случаев при Королевстве Богемии. Вся его публика расположилась в далеком Берлине в квартире на Иммануэлькирхштрассе, 29 и состоит из одного-единственного человека, но этот человек для него – весь мир: Фелиция Бауэр, двадцать пять лет, волосы светлые, сама худощавая, довольно высокая, стенографистка в АО «Карл Линдстрём». В августе – дождь лил как из ведра – случилось их короткое знакомство: у Фелиции промокли ноги, у него – душа ушла в пятки. Но с тех пор каждую ночь, когда домашние спят, они пишут друг другу по страстному и странному письму. А днем – еще по одному вдогонку. Когда однажды от Фелиции пару дней не было писем, Кафка, пробудившись от беспокойного сна, в отчаянии сел за «Превращение». Он рассказывал ей про эту историю, а незадолго до Рождества ее закончил (теперь она лежала у него в секретере, согреваемая теплом обеих фотографий, присланных Фелицией). Но как скоро ее далекий, любимый Франц сам способен превратиться в страшную головоломку, она узнала только с этим новогодним письмом. Не побила бы она его зонтиком, вопрошает он из пустоты, если бы он просто остался в постели, случись им вдруг условиться о встрече во Франкфурте-на-Майне, чтобы после выставки сходить в театр, – примерно так ставит Кафка вопрос, трижды сослагая наклонение. И затем он безобидно заклинает их взаимную любовь, мечтая о том, чтобы его и Фелиции запястья были связаны неразрывно. И все для того, чтобы «вот так, нерасторжимой парой, взойти на эшафот». Прелестная мысль для письма невесте. Еще не целовались, а уже фантазии о совместном восхождении на эшафот. Кажется, будто Кафка и сам вдруг испугался того, что из него вырвалось: «Да что же это такое лезет мне в голову», – пишет он. Объяснение просто: «Это все число 13 в дате Нового года». Вот, оказывается, с чего начинается 1913 год в мировой литературе: с жестокого фантазма.
Объявление о розыске. Пропала: «Мона Лиза» Леонардо. В 1911-м ее похитили из Лувра – и до сих пор ни следа. Полиция Парижа допрашивает Пабло Пикассо, но у того алиби, его отпускают домой. В Лувре скорбящие французы возлагают букеты цветов к голой стене.
В первые дни января – точная дата неизвестна – на венский Северный вокзал поездом из Кракова прибывает запущенного вида тридцатичетырехлетний русский. Он хромает. В этом году его волосы еще не знали мыла, а пышные усы, буйным кустом разросшиеся под носом, безуспешно пытаются скрыть оспины. Только прибыв, в поношенных ботинках и с набитым чемоданом, он не медля садится в трамвай до Хитцинга. Греческо-грузинское «Ставрос Пападопулос», стоявшее в паспорте, вкупе с неухоженной наружностью и морозом на улице не вызвало подозрений у пограничников. В Кракове, будучи в другой эмиграции, он вчера вечером успел в очередной раз обыграть Ленина в шахматы, седьмой раз подряд. Это он умел явно лучше, чем ездить на велосипеде. Последнему Ленин отчаянно пытался его обучить. Революционеры должны быть быстрыми, – втолковывал он. Но этот человек, который на самом деле звался Иосифом Виссарионовичем Джугашвили, а теперь выдавал себя за Ставроса Пападопулоса, ездить на велосипеде не научился. Незадолго до Рождества он скверно с него упал на оледенелых мостовых Кракова. Нога была еще в ушибах, колено вывихнуто, и только второй день как он вообще мог ходить. Мой «чудесный грузин», как назвал его с улыбкой Ленин, когда тот, хромая, пришел к нему за поддельным паспортом для поездки в Вену. В добрый путь, товарищ.
Границу он пересек беспрепятственно, лихорадочно корпел в поезде над рукописями и книгами, которые в спешке укладывал в чемодан при пересадке.
Прибыв в Вену, он снял маску грузинского имени. С января 1913 года он говорил: меня зовут Сталин. Иосиф Сталин. Сойдя с трамвая, он заметил слева дворец Шёнбрунн и раскинувшийся за ним парк. Он идет на Шёнбруннер Шлоссштрассе, 30, как указывалось в записке, которую дал ему Ленин. И еще: «Дверной звонок – Трояновский». И вот он сбивает снег с обуви, высмаркивается в платок, нерешительно жмет кнопку звонка. При появлении служанки произносит кодовое слово.
В Вене на Берггассе, 19 кошка прокрадывается в кабинет Зигмунда Фрейда, где началось очередное вечернее собрание по средам. Это уже вторая нежданная гостья за последнее время – поздней осенью к кругу господ присоединилась Лу Андреас-Саломе: поначалу на нее косились с подозрением, теперь – глядели, млея от восторга. На подвязке своих чулок Лу Андреас-Саломе носила целую коллекцию скальпов гениев, добытых ею: с Ницше она была в одной исповедальне в соборе Святого Петра, с Рильке – в одной постели и в гостях у Толстого в России; считается, что в ее честь Франк Ведекинд назвал свою «Лулу», а Рихард Вагнер – свою «Саломею». Теперь ее трофеем стал Фрейд – по крайней мере, трофеем интеллектуальным: этой зимой она даже удостоилась чести гостевать у него на рабочем этаже и обсуждать с ним его новую книгу «Тотем и табу», над которой он как раз сидел, а также выслушивать жалобы на К.Г. Юнга и этих цюрихских предателей. Но главное, к тому моменту уже пятидесятидвухлетнюю Лу Андреас-Саломе, автора нескольких книг о Духе и Эротике, маэстро сам обучал психоанализу – в марте она подумывала открыть собственный кабинет в Гёттингене. Теперь она пришла на семинар «Общества среды»: рядом с ней – ученые коллеги, справа – уже тогда ставшая легендарной кушетка, и везде статуэтки, которые собирал одержимый античностью Фрейд, пытаясь скрасить свое пребывание в современности. В этот круг блестящих умов вместе с Лу через дверь проскользнула и кошка. Фрейд сперва замешкался, но увидев, с каким любопытством кошка разглядывает греческие вазы и римские статуэтки, наказал принести ей молока. Но Лу Андреас-Саломе сообщает: «При этом, несмотря на всю его любовь и восхищение, она не обращала на него ровно никакого внимания: холодные зеленые глаза с косыми зрачками смотрели на него как на предмет, и если Фрейду вдруг становилось мало ее эгоистично-нарциссического урчания, то ему приходилось жертвовать собственным комфортом и, опустив ногу с кушетки, искусным движением кончика туфли добиваться внимания кошки». Впредь у кошки всегда был доступ на эти собрания, а когда она захворала, ей даже было дозволено, завернутой в компресс, лежать на кушетке Фрейда. Как оказалось, и она поддается терапии.
Кстати о хворающих. Куда делся Рильке?
Страх, что 1913 год окажется годом несчастливым, преследует современников. Габриэле Д'Аннунцио дарит другу свое «Мученичество Святого Себастьяна», предусмотрительно датируя посвящение годом «1912+ 1». Арнольд Шёнберг тоже затаил дыхание перед несчастливым числом. Неспроста он изобрел двенадцатитоновую музыку – основу музыки современной, рожденную из ужаса ее создателя перед тем, что его ждет. Рождение рационального из духа суеверия. В произведениях Шёнберга цифру 13 и не встретишь: ни такта такого нет, ни страницы. С ужасом обнаружив, что название его оперы о Моисее и Аароне состояло бы из 13 букв, он вычеркнул вторую «а» из имени Аарон, так что с тех пор она называется «Moses und Aron». А тут – целый год под знаком чертовой дюжины. Шёнберг родился 13 сентября и панически боялся умереть в пятницу 13-го. Но все тщетно. Арнольд Шёнберг умер в пятницу, 13-го (правда, лишь в 1913 + 38, то есть в 1951 году). Но и год 1913-й готовит ему сюрприз. На публике ему дадут оплеуху. Но все по порядку.
Для начала на сцене: Томас Манн. Ранним утром 3 января Манн садится в Мюнхене в поезд. Сперва он читает газеты, письма, смотрит в окно на заснеженные холмы Тюрингского леса, то и дело начинает клевать носом в душном купе, тревожась мыслями о Кате, в очередной раз уехавшей на лечение в горы. Летом он навещал ее в Давосе, и в приемной врача у него неожиданно родилась идея большого рассказа, но сейчас она кажется ему такой бессмысленной, такой далекой от мира, эта история с санаторием. Что ж, через пару недель для начала пусть выйдет «Смерть в Венеции».
Томас Манн сидит в поезде, переживает за свой гардероб: какая досада – всякий раз одежда мнется в поездке; по прибытии в гостиницу незамедлительно отдать пальто на глажку. Решив размять ноги, он встает, отодвигает дверь купе и расхаживает по вагону. Да так важно, что всем кажется, будто это ходит проводник. За окном пролетают Дорбургские замки, Бад-Кёзен, Заальские виноградники, – занесенные снегом, они, словно полоски зебры, тянутся вверх по склонам. Вид и правда красивый, но Томас Манн чувствует: чем ближе Берлин, тем сильнее страх.
С поезда его прямиком доставляют в гостиницу «Унтерден-Линден»; регистрируясь, он оглядывается, не узнал ли его кто из гостей, проталкивающихся к лифтам. Затем поднимается в свой постоянный номер – обстоятельно приодеться и лишний раз пройтись расческой по усам.
В Груневальде, в самой западной части города, в своей вилле на Хёманнштрассе, 6, в тот же самый час Альфред Керр повязывает бабочку и воинственно подкручивает кончики усов.
В восемь вечера начнется их дуэль. В пятнадцать минут восьмого оба рассаживаются по дрожкам. Они едут к Немецкому театру, прибывают одновременно. Игнорируют друг друга. На улице холодно, оба спешат внутрь. Когда-то в Банзине на берегу Балтийского моря – но это только между нами – он, Альфред Керр, крупнейший критик Германии и тщеславнейший пижон, просил руки Кати Принсгейм, богатой еврейки с глазами кошки. Но она отвергла его, бурного и гордого уроженца Вроцлава, и кинулась на грудь Томасу Манну – сухому, как полено, ганзеату. Уму непостижимо. Но, может быть, сегодня вечером – удачный шанс с ним расквитаться.
Томас Манн садится в первом ряду, старательно излучает торжественный покой. Этим вечером – берлинская премьера его «Фьоренци», которую он писал в пору, когда привыкал любить Катю. Но он предчувствует фиаско – пьеса давно была его больным местом. Во избежание драмы не следовало драму и лепить, – думает он. «Кое-что я пытался спасти, но, кажется, меня не слышат», – написал он Максимилиану Гардену перед тем, как выйти в Мюнхене из дома на Мауэркирхенштрассе, 13.
Он ненавидел беспомощно наблюдать неумолимое приближение собственной катастрофы. Такое не пристало никакому Томасу Манну. Как бы то ни было, то, что он в декабре увидел на репетиции, не сулило ничего доброго. Он мучительно следит за пьесой, в которой должен пробудиться к жизни флорентийский ренессанс – но не ладится никак: одних потуг сплошные вереницы на фоне Уффици.
Украдкой Манн бросает взгляд через плечо. Там, в третьем РЯДУ – Альфред Керр: карандаш так и летает по записной книжке. Тьма в зрительном зале непроглядная, и, тем не менее, ему чудится улыбка на лице Керра. Улыбка садиста, нашедшего в этой постановке прекраснейший материал для издевательств. А когда Керр ловит на себе тревожный взгляд Томаса Манна, его охватывает еще более блаженный трепет. Он смакует мысль, что в его руках теперь и Томас Манн, и бездарная «Фьоренца». Он уже знает, что сожмет ладони очень крепко, а разожмет – на землю рухнут бездыханные тела.
Занавес, любезные аплодисменты – любезные настолько, что режиссер в единственной своей удачной постановке приглашает Томаса Манна на сцену аж дважды. Он не скоро устанет упоминать об этом в бесконечных письмах. Дважды! Тот чинно кланяется – дважды! – но выходит как-то неуклюже. В третьем ряду сидит Альфред Керр и совсем не хлопает в ладоши. Этой же ночью, вернувшись на виллу в Груневальде, он просит заварить чаю и принимается писать. Торжественно садится за печатную машинку и набирает римскую «I». Керр нумерует каждый абзац, словно тома в собрании сочинений. Сперва затачивает саблю: «Автор – душа тонкая, и даже чересчур, корень ее произрастает из тихого обиталища усидчивости автора». И начинает кромсать: эта дама, Фьоренца, выступающая, вероятно, символом Флоренции, вышла донельзя вялой, сама пьеса, сочиненная не иначе как в библиотеках, получилась натянутой, сухой, слабой, безвкусной, излишней. Так вот он написал.
Пронумеровав десятый абзац и поставив точку, он удовлетворенно вынимает из машинки последний лист: уничтожение.
Утром следующего дня, когда Томас Манн садится в обратный поезд до Мюнхена, Керр направляет текст в редакцию газеты «Дер Таг». 5 января она выходит из печати. Когда Томас Манн ее читает, с ним случается удар. Пьеса его сочинена «не по-мужски», написал Керр, – это заденет Манна больше всего. Намекает ли здесь Керр на скрытую гомосексуальность Томаса Манна или просто сам Манн понял это как намек, – суть одно. Керр – как кроме него один лишь Краус – знал толк в том, какими словами больнее ранить. В любом случае, Томас Манн ранен глубоко, «до крови», как он пишет. Всю весну 1913 года он так и не оправится от этой критики, ни одно его письмо не оставит без внимания этот инцидент, ни одного дня не пройдет без ненависти к этому злостному субъекту. Гуго фон Гофмансталю Манн пишет: «Примерно я полагал, что там будет, но действительность превзошла все ожидания. Ядовитая пачкотня, из которой любому будет ясна кровожадность ее сочинителя!»
Он написал это лишь потому, что меня не заполучил, милый мой Томми, – утешает мужа вернувшаяся с лечения Катя, по-матерински гладя его по голове.
Закладываются основы двух национальных мифов: в Нью-Йорке выходит первый номер журнала «Вэнити Фэйр», а в Эссене мать Карла и Тео Альбрехтов открывает прототип первого супермаркета сети Aldi.
А у Эрнста Юнгера что? «Четверка с минусом». По крайней мере, такую оценку семнадцатилетний Юнгер получает в реформированной школе Хамельна за сочинение о «Германе и Доротее» Гёте. В нем он написал: «Эпос переносит нас во время Французской революции, чей жаром сияющий свет пробуждает от полусна повседневности даже мирных обитателей тихой Рейнской долины». Но учителю мало. Красными чернилами он отметил на полях: «Мысль на этот раз выражена чересчур серьезно». Что мы узнаём: Эрнст Юнгер уже был серьезным, когда никто еще не принимал его всерьез.
Каждый вечер Эрнст Людвиг Кирхнер садится в поезд свежеотстроенного метро и едет до Потсдамской площади. В Берлин вместе с Кирхнером переехали и другие художники «Моста» из Дрездена, этого забвенного летнего города барокко, где они его и основали: Эрих Хеккель, Отто Мюллер, Карл Шмидт-Ротлуф. Они были сплоченной общностью: делили краски и женщин, так что порой и неясно, где чья картина. Но Берлин, эта вечно пульсирующая недостижимость, называемая столицей, лепит из них индивидуумов и пилит мосты, их связующие. В Дрездене все они были в своей стихии, воспевая чистые цвета, природу, человеческую наготу. В Берлине им грозит гибель.
Эрнст Людвиг Кирхнер обретет свою стихию лишь в Берлине – перевалив за тридцатилетний рубеж. Его искусство городское, суровое, пропорции фигур удлиненные, а стиль рисунка резок и агрессивен, как сам город. Лак покрывает его полотна, будто копоть метрополии оседает на лбу. Уже в вагонах метро его глаза жадно впитывают людей, на коленях он делает первые быстрые наброски: два-три штриха карандашом – мужчина, шляпа, зонт. Потом он выходит, пробирается сквозь толпы людей, сжимая в руке альбомы и краски. Его тянет в «Ашингер», где можно просидеть весь день, заплатив за одну тарелку супа. Там и проводит вечера Кирхнер и все смотрит, рисует и смотрит. Темнеет быстро, шум на площади оглушителен – на ней самое оживленное движение в Европе: здесь пересекаются не только центральные транспортные артерии города, но также линии и традиции модерна. Если подняться из метро в мокрый снег дня, то увидишь конные повозки, перевозящие бочки, а рядом с ними – первые шикарные автомобили и пролетки, пытающиеся не въехать в лошадиные лепешки. Несколько трамваев одновременно пересекают большую площадь, их металлический скрежет на поворотах заполняет пространство во всю ширь. И посреди этого – люди, люди, люди, все бегут, словно у них истекает время, над ними рекламные щиты, анонсирующие цены на сосиски, кёльнскую воду и пиво. А под аркадами – элегантные кокотки, проститутки, единственные, кто на этой площади замер, словно пауки на краю своей сети. Траурные вуали укрывают их лица от внимания полицейских, но в глаза бросаются огромные шляпы – причудливые башни с перьями под уличными фонарями, которые с наступлением зимнего вечера загораются зеленым газовым светом.
Этот бледный зеленый свет, горящий на лицах кокоток на Потсдамской площади, и дробящийся шум большого города Кирхнер хочет превратить в искусство. В полотна. Но пока он не знает, как. И поэтому просто продолжает рисовать. «К своим рисункам я обращаюсь на ты, – говорит он, – а к картинам – на вы». Он убирает в папку своих закадычных друзей – целую пачку эскизов, которые за последние часы набросал за столом – и несется домой, в мастерскую. В Вильмерсдорфе, на Дурлахерштрассе, 14, второй этаж, Кирхнер обустроил свое логово: все занавешено восточными коврами, заставлено фигурками и масками из Африки и Океании, японскими зонтиками. Здесь и его собственные скульптуры, его мебель, его картины. На фотографиях тех лет Кирхнер либо обнажен, либо в черном костюме с галстуком, в белоснежной рубашке, застегнутой на верхнюю пуговицу, с сигаретой, небрежно зажатой в руке, а-ля Оскар Уайльд. Рядом всегда Эрна Шиллинг, его любовница, сменившая собой самозабвенную, в мягких контурах, дрезденскую Додо; современная свободомыслящая женщина с короткой стрижкой, физиогномически – поразительного сходства с Фелицией Кафки. Она украсила квартиру Кирхнера вышивками по собственным и по его эскизам.
Кирхнер познакомился с Эрной Шиллинг и ее сестрой Гердой годом ранее в одном из танцевальных заведений Берлина, где на сцене стояла также и Зиди, подруга Хеккеля. Грустными глазами он в тот же вечер заманивает танцовщиц к себе в мастерскую – он с первого взгляда понял: архитектоника их тел «научит мое чувство прекрасного изображать физически красивую женщину нашей эпохи». Сначала у Кирхнера роман с девятнадцатилетней Гердой, затем – с двадцативосьмилетней Эрной, а в промежутке он с ними обеими. Кокотка, муза, модель, сестра, святая, шлюха, любимая – ничто у Кирхнера нельзя воспринимать буквально. Из сотен рисунков нам известна каждая деталь обеих женщин: чувственно провоцирующая Герда, Эрна с маленькой высокой грудью и широким задом, собранная, меланхоличная и спокойная. Из этого времени сохранилось восхитительное полотно: слева три обнаженных, предлагающих себя женщины, справа художник в своей студии, во рту сигарета, взглядом знатока он оценивает женщин, таким он себе нравится: «Суд Париса», – пишет он черной краской на обратной стороне холста, 1913, Эрнст Людвиг Кирхнер.
Но когда Парис Кирхнер этой ночью возвращается с Потсдамской площади, свет уже не горит – Парис опоздал на свой суд, Эрна и Герда спят, утонув в огромных подушках в гостиной, которую это trio infernale сделает самой знаменитой берлинской комнатой в мире.
Эрнст Август Ганноверский в январе впервые целует прусскую принцессу Викторию Луизу.
Новогодний номер венского «Факела», уже тогда легендарного «журнала одного человека», Карла Крауса, кричит о помощи: «Эльза Ласкер-Шюлер ищет тысячу марок на воспитание сына». Под объявлением подписываются, среди прочих, Сельма Лагерлёф, Карл Краус, Арнольд Шёнберг. После развода с Гервартом Вальденом писательница не смогла больше оплачивать Оденвальдскую школу, куда отдала своего сына Пауля. Полгода Краус боролся с собой и с вопросом, стоит ли печатать это обращение, – между тем Пауль уже давно посещает интернат в Дрездене, – но под Рождество даже над ним, Краусом, этим инквизитором, строго разводящим эмоции и рациональность, возобладало милосердие. И самое последнее свободное место в «Факеле» он отдает под маленькое объявление. Перед ним Краус пишет: «Мне видится Галопин Апокалипсиса, бьющий копытом в преддверии мирового краха – Посланец Тления, раскаляющий чистилище бренности».
Жутко холодно в комнатушке на Гумбольдштрассе, 13 в берлинском Груневальде: Эльза Ласкер-Шюлер только закуталась в плед, как резкий дверной звонок вырывает ее из задумчивости. Ласкер-Шюлер – глаза дикие, черные, локоны темные, любви всегда мало, а жизни много – завязывает пояс на восточном халате и открывает почтальону, протягивающему ей почту: сияющий красным «Факел» из Вены от далекого строгого друга Карла Крауса. А сразу под ним – маленькое синее чудо, открытка от Франца Марка, художника «Синего всадника». Ласкер-Шюлер: в пестрых одеяниях, звенящих кольцах и браслетах, с необузданной сказочной фантазией; в то время она была олицетворением внутреннего Востока общества, так спешащего в модернизм, образом идеала, объектом вожделения таких разных мужчин, как Краус, Василий Кандинский, Оскар Кокошка, Рудольф Штайнер и Альфред Керр. Но на обожествлениях не проживешь. Дела у Эльзы Ласкер-Шюлер идут совсем нехорошо после развода с Гервартом Вальденом, крупным галеристом и издателем газеты «Штурм», который теперь с этой ужасной Нэль, своей новой женой, ходит по кафе, куда Эльза поэтому пойти не может. Но именно в одном таком арт-кафе она в декабре встретила Франца и Марию Марк, ставших ее лейб-гвардией, ангелами-хранителями.
Эльза Ласкер-Шюлер берет в руки «Факел», ничего не подозревая о трогательном объявлении Карла Крауса, и переворачивает открытку от Франца Марка. Она застывает в немом восторге. На крохотном пространстве ее дальний друг нарисовал «Башню синих лошадей», пышущих силой животных, вздымающихся к небу, утративших связь с этим временем и замерших в его центре. Она чувствует, что получила уникальный подарок: первых синих лошадей «Синего всадника». Может, эта особенная женщина, которая чувствует все, чувствует даже больше: что спустя несколько недель в далеком Зиндельсдорфе идея этой почтовой карточки перерастет в еще большую «Башню синих лошадей», в программное полотно, в картину века. Позднее она сгорит, и лишь эта крохотная карточка сохранит отпечатки пальцев Франца Марка и Эльзы Ласкер-Шюлер и будет всю оставшуюся вечность рассказывать о моменте, когда «Синий всадник» пустился вскачь.
Поэтесса тронута тем, что великий художник включил в картинку с лошадьми и ее знаки – полумесяц и золотые звезды: начинается диалог, обмен ассоциациями, словами, открытками. Она провозглашает его воображаемым «князем фон Кана», сама она – «Юсуф, царевич Фиванский». Уже 3 января Эльза пишет в ответ благодарность за синее чудо: «Какая красивая открытка – я всегда хотела, чтобы у моих сивых лошадей был такой цвет, один из самых моих любимых. Как мне вас благодарить!!»
Когда Марк следующей открыткой приглашает ее с ними в Зиндельсдорф, она, изнуренная разводом и Берлином, немедля соглашается и садится с четой Марков в поезд. Она слишком легко одета, Мария Марк кутает ее в дорожный плед. Вполне может быть, что она сидит в том же поезде, которым Томас Манн возвращается с никудышной премьеры своей «Фьоренцы» в родную семейную обитель. Прекрасная фантазия: полюс Северный и полюс Южный немецкой культуры 1913 года в одном поезде.
Когда изможденная поэтесса прибывает в Зиндельсдорф у подножия Альп, она поначалу живет у Франца Марка и его жены Марии, внушительной матроны, под крыло которой всякий раз шмыгал Марк, когда дули суровые ветра. «Художник Марк и его львица», как называла их Эльза.
В комнате для гостей у бездетной пары она выдерживает лишь пару дней и перебирается в местный отель, с щедрым видом на топи и горы. Но и там не обрести покоя: хозяйка настоятельно рекомендует ей лечение водами и дает соответствующие книги. Но все напрасно. Эльза Ласкер-Шюлер срывается очертя голову в Мюнхен и снимает там комнату в пансионе на Терезиенштрассе.
Чета Марков следует за ней и застает ее за завтраком: перед собой она расставила целую армию оловянных солдатиков, которых, судя по всему, купила для сына, и на скатерти в сине-белую клетку «вела ожесточенные сражения – вместо тех, что неустанно преподносила ей собственная жизнь». Она пребывала в боевом настроении, буйном, и была не вполне в себе последнее время. В конце января, в галерее Транхаузер на открытии большой выставки Франца Марка, она знакомится с Кандинским, а затем входит в клинч с художницей Габриэль Мюнтер. Та обронила что-то, что Ласкер-Шюлер восприняла как оскорбление в адрес Марка, на что прокричала на всю галерею: «Я художница, и от такой никчемности подобного не потерплю».
Мария Марк стояла меж двух сыплющих бранью женщин, не зная, что делать, и лишь причитала: «Дети мои, дети». Позднее она пожалуется, что очень уж много у Эльзы Ласкер-Шюлер «от позы литератора мировой скорби», но ведь все же «она действительно что-то пережила, в отличие от скорбящей на весь мир берлинской молодежи». Вот как выглядит мир 1913 года, если смотреть на него из Зиндельсдорфа.
20 января в среднеегипетской деревушке Тель эль-Амарна делят находки последних, финансируемых берлинцем Джеймсом Саймоном, раскопок Германского восточного общества: одна половина отходит Каирскому музею, а немецким музеям – другая половина, среди которой – «разрисованный гипсовый бюст некой принцессы королевского рода». Директор французского ведомства по предметам древности в Каире утверждает предложенное немецким археологом Людвигом Борхардтом распределение. Один лишь Борхардт, как только взволнованный египетский помощник сунул ему в руки этот бюст, смекнул, что держит в руках находку тысячелетия. Уже каких-то пару дней спустя гипсовая скульптура отправится в Берлин. Пока она еще не носит имени Нефертити. Пока она еще не стала знаменитейшим женским бюстом во всем мире.
Как лихо закручен этот год! Неудивительно, что русский летчик Петр Николаевич Нестеров выполнил в 1913-м первую в истории человечества мертвую петлю на своем бомбардировщике. И что австрийский фигурист Алоис Лутц в этом лютом январе на замерзшем озере так ловко крутанулся в воздухе, что этот прыжок и сегодня носит название «лутц». Для его выполнения нужен заход назад-наружу по пологой дуге и отскок с наружного ребра левой ноги. Чтобы добиться вращения, следует рывком прижать руки к туловищу. Для двойного лутца это логичным образом необходимо проделать дважды.
Целых четыре недели пробудет Сталин в Вене. Никогда больше он так надолго не уедет из России за границу, разве что только через тридцать лет – в Тегеран, где его собеседниками в переговорах станут Черчилль и Рузвельт (в 1913-м один был военно-морским министром Англии, другой боролся против вырубки американских лесов, будучи сенатором в Вашингтоне). Сталин редко покидает свое укрытие на Шёнбруннер Шлоссштрассе, 30 у Трояновских, он целиком поглощен написанием «Марксизма и национального вопроса» – поручения Ленина. Лишь иногда, днем, он разминает ноги в замковом парке Шёнбрунна, холодно и аккуратно раскинувшегося среди январского снега. Раз в день случается краткая суета, когда император Франц Иосиф покидает замок и едет на карете в Хофбург поуправлять страной. Невероятные шестьдесят пять лет, с 1848 года, Франц Иосиф стоит у власти. Со смертью своей любимой Сисси он до сих пор не справился, ее портрет во весь рост так и висит над его рабочим столом.
Престарелый монарх, сгорбившись, совершает несколько шагов до темно-зеленой кареты, за ним остается холодное облачко дыхания, ливрейный лакей закрывает дверь, и кони рысью уносятся по снегу. И снова – тишина.
Сталин идет по парку, размышляет; начинает темнеть. Ему навстречу идет другой гуляющий: двадцать три года, несбывшийся художник, проваливший вступительный экзамен в Академию искусств и теперь убивающий время в мужском общежитии на Мельдеманнштрассе. Он, как и Сталин, ждет своего большого шанса. Его зовут Адольф Гитлер. Возможно, они, о которых знакомые того времени рассказывали, что оба любили гулять около Шёнбрунна, однажды вежливо поприветствовали друг друга, приподняв шляпы, когда бродили по бесконечному парку.
Эпоха крайностей, этот страшный короткий двадцатый век, начинается январским днем 1913 года в Вене. Остальное – молчание. Сталин и Гитлер не встретились, даже когда в 1939-м заключили свой роковой «пакт». Никогда они не были в такой близи друг от друга, как в один из этих студеных январских вечеров в замковом парке Шёнбрунна.
Впервые синтезирован наркотик экстази, весь 1913 год будет подаваться заявка на патент. Но потом, на несколько десятилетий, о нем забудут.
А вот и весточка от Райнера Марии Рильке! Бегство от бессонницы и творческого кризиса привело Рильке в Ронду на юге Испании. Ехать в Испанию ему велела одна незнакомка на ночном сеансе, а так как Рильке всю жизнь зависел от указаний зрелых дам, то, видимо, приходилось обращаться к оккультным обитательницам межмирья, когда реальные меценатки и любовницы не знали, что посоветовать. И вот он пребывает в шикарном отеле «Королева Виктория», новомодном британском доме, но сейчас, вне сезона, почти пустом. Отсюда он прилежно шлет письма «дорогой милой маме». И другим далеким женщинам, с которыми он может повздыхать: Мари фон Турн-и-Таксис, Еве Кассирер, Сиди Надерни, Лу Андреас-Саломе. Об этих дамах мы еще услышим в этом году, не волнуйтесь.
В настоящее время Лу – женщина, лишившая его девственности и убедившая подправить имя с «Рене» на «Райнера» – котируется чрезвычайно высоко: «Лишь бы нам вновь увидеться, дорогая Лу („дорогая“ подчеркнуто трижды), вот самая большая моя надежда». На полях он нацарапает вдобавок «моя опора, мое все, как всегда». И – к почтовому поезду, которому до Гибралтара три часа езды. А оттуда – до Берггассе, 19, профессору Зигмунду Фрейду для Лу Андреас-Саломе. И Лу ответит «дорогому, милому мальчику», что поступает с ним теперь жестче, чем тогда. И: «Мне кажется, тебе необходимо страдать, и страдать ты будешь всегда». Это еще садо-мазо или уже любовь?
Так и тянутся дни в страданиях и письмах. Иногда Рильке продолжает работать над «Дуинскими элегиями», по крайней мере, строки с первой по тридацать первую шестой элегии ему удались, но закончить он ее никак не может – лучше выйти в белом костюме и светлой шляпе на прогулку или почитать Коран (чтобы сразу после этого сочинить экстатические стихи во славу ангелов и Вознесения Девы Марии). Здесь можно чувствовать себя вполне комфортно, вдали от мрачной зимы: поначалу Рильке даже наслаждается тем, что солнце здесь и в январе садится за горы лишь в половину шестого, что перед этим оно еще раз теплым светом озаряет так гордо раскинувшийся на скалистом плато город Ронда – «неповторимое зрелище», как пишет он своей госпоже, маме. Миндальные деревья уже в цвету, фиалки распустились, ирисы в саду отеля отливают светло-голубым. Рильке вынимает черную записную книжку, просит кофе на террасу, колени укрывает пледом, жмурится на солнце и записывает: «Ах, кто бы сумел расцвести, тому бы и сердца хватило / Опасность пустую презреть, утешиться полным величьем».[2]
Да, кто бы сумел расцвести. В Мюнхене Освальд Шпенглер, тридцатитрехлетний мизантроп, социопат и бывший учитель математики, работает над первой частью монументального труда «Закат Европы». Сам он подает хороший пример этому закату. «Я, – пишет он в набросках к автобиографии, – последний своего вида». Все движется к концу, в нем самом и на его теле видны страдания Европы. Отрицательная мания величия. Увядающие цветки. Шпенглера гложет страх. Страх войти в лавку. Страх перед родственниками, страх перед говорящими на диалекте. И конечно: «Страх перед раздетыми женщинами». Не страшно ему только размышлять. Когда в 1912-м затонул «Титаник», ему открылся глубинный символизм этого события. В возникающих параллельно записях он страдает, сетует, жалуется на тяжелое детство и еще более тяжкое настоящее. Каждый день он записывает в новой вариации одну-единственную мысль: великое время подходит к концу – неужто никто не видит? «Культура – последний вздох перед угасанием». В «Закате Европы» он сформулирует это так: «У каждой культуры свои новые возможности выражения, которые появляются, созревают, увядают и никогда не повторяются»[3]. Но такая культура идет ко дну медленней океанского судна, не волнуйтесь.
С начала года издательство Карла Симона в Дюссельдорфе налаживает сбыт новой серии оригинальных диапозитивов: семьдесят две цветные стеклянные пластины, семь картонных коробочек в деревянном ящике, приложение в виде брошюры на тридцать пять страниц. Тема – «Гибель Титаника». Страну накрывает волна показа слайдов. Сначала видны капитан, корабль, каюты. Затем – надвигающийся айсберг. Катастрофа, спасательные шлюпки. Тонущий пароход. Все верно: океанское судно идет ко дну быстрее Европы. Леонардо Ди Каприо еще не родился.
У Франца Кафки – одного, кстати, из тех, кто испытывает большой страх перед раздетыми женщинами – пока заботы совсем иного рода. Внезапно его осеняет. В ночь с 22 на 23 января он пишет уже, должно быть, двухсотое письмо Фелиции Бауэр, где спрашивает: «Ты вообще разбираешь мой почерк?»
Ты вообще разбираешь почерк этого мира? Так вопрошают Пабло Пикассо и Жорж Брак и придумывают все новые и новые шифры, которые должен разобрать зритель. Только они показали всему миру, что можно изображать саму смену перспективы, назвав это «кубизмом», как теперь, в 1913 году, уже делают шаг дальше. Позже это назовут синтетическим кубизмом, потому что теперь они клеят на картины древесные волокна и все что только можно – холст становится приключением. Брак совсем недавно въехал в новую мастерскую в Париже, на последнем этаже отеля «Рома» на улице Коленкор, там он схватил ни с того ни с сего гребень и прошелся им по картине «Композиция с трефовым тузом» – и линии оказались похожи на узор древесины. Пикассо усвоил это в тот же день. И как всегда, наловчился это делать гораздо лучше. Так революционеры искусства спешили все дальше и дальше, подгоняемые паническим страхом, что буржуазная публика поймет их полностью. Возможно, Пикассо успокоило бы, знай он, что 6 февраля Шницлер напишет в своем дневнике: «Пикассо: ранние картины необычайны; ярое противление его теперешнему кубизму».
Он едва выжил. Теперь Ловису Коринту придется дорого поплатиться за свое творческое наследие. 19 января в «Сецессионе» на Курфюрстендамм, 208 откроется сенсационная выставка: двести двадцать восемь полотен, название – «Творческое наследие». Сегодня, в первый день года, сквозь похмелье – которым он мучается лежа на канапе на Клопштокштрассе, 48 – предстоящее начинает наводить на него легкий ужас. И четырех нет, а уже темно, за окнами снег с дождем. Для начала багетная мастерская Вебера на Дерфлингерштрассе, 28 хочет причитающиеся ей деньги за обрамление «Творческого наследия», а именно 1632,5 марки. За фуршет, который Коринт дает в честь открытия, поставщик, преемник Адольфа Крафта, Курфюрстендамм, 116, требует 200 марок предоплаты. В поставку включены: «Язык, 1 блюдо; кобуржская ветчина под камберлендским соусом, 1 блюдо; косуля под камберлендским соусом, 1 блюдо; ростбиф под ремуладом, 1 блюдо». Ловису Коринту уже от одних слов дурно. Все творческое наследие под камберлендским соусом. У него еще вчерашний несвежий польский карп не переварился. Когда его Шарлотта уезжает, он лопает все без разбору – так он по ней тоскует, ясное дело. И вот он пишет новогоднее письмо жене Шарлотте, лазающей где-то по заснеженным горам: «Кто знает, каким сложится новый год; уж старый счастливым не был. Да и черт с ним». Воистину. Коринта, этого всегда пышущего здоровьем художника, которого из позднего барокко занесло в Берлин начала двадцатого века, весьма пообтрепал тяжелый инсульт. Жена ухаживала за ним, принося себя в жертву. Когда была задумана выставка «Творческое наследие», все испугались, что придется иметь дело уже с наследством. Но он выкарабкался. И даже добрался до мольберта. Теперь по всему городу висели афиши выставки: ежедневно с девяти до четырех, вход – одна марка. Коринт смотрел с афиш, изумляясь самому себе, в то время как Шарлотта отдыхала от него в Тироле. Она успеет вернуться к фуршету. Хорошо выглядите, мадам, – говорит ей Макс Либерманн 19 января на открытии в «Сецессионе», с куском косули под камберлендским соусом в правой руке. Наследие мое творческое хорошо выглядит, – думает Ловис Коринт, тяжелым шагом оглушая выставочные залы. Но теперь пора идти дальше. Только впредь, пожалуйста, без этого кубизма.
Заглянем ненадолго к Фрейду на Берггассе, 19. Эти январские дни он проводит в кабинете, завершая работу «Тотем и табу». И само собой: бессознательное изо всех сил пробивается в эту книгу об этнологических принципах нарушения табу и фетишизации. Но кажется, будто сам Фрейд этого еще не осознал. В тот самый момент, когда собственные ученики, в первую очередь К.Г. Юнг из Цюриха, 1875 года рождения, осыпают его резкими упреками, Фрейд, 1856 года рождения, развивает теорию «отцеубийства». Еще в декабре 1912 года Юнг написал Фрейду: «Разрешите обратить Ваше внимание на то, что Ваш метод обращаться с собственными учениками как с пациентами является ошибочным». Таким образом он, дескать, производит на свет «наглых баловней» и «раболепных сыновей». И далее по тексту: «Между тем, сами Вы остаетесь на самом верху в качестве отца. В сплошной покорности никто не смеет дернуть пророка за бороду».
Мало что еще так заденет Фрейда, как это отцеубийство. Должно быть, много новых седых волосков появилось в его бороде за эти месяцы; он формулирует первое ответное письмо, которое, однако, не отправит, и которое лишь после смерти автора обнаружат в его письменном столе. Тем не менее, 2 января 1913 года он собирает волю в кулак и пишет К.Г. Юнгу в Кюснахт: «Ваша гипотеза, будто я обращаюсь со своими учениками как с пациентами, с легкостью подвергается опровержению». И затем: «Впрочем, на Ваше письмо нельзя ответить. Оно создает ситуацию, которая и в устной форме была бы обременена сложностями, а в письменной – и вовсе оказывается неразрешимой. Между нами, аналитиками, условлено, что никому нет нужды стыдиться собственного невроза. Ежели кто при ненормальном поведении не перестает кричать, что он здоров, тот дает повод усомниться в его умении распознать болезнь. Итак, я предлагаю нам с Вами вообще прекратить наши частные отношения. Я при этом ничего не теряю, ибо меня с Вами, по счастью, давным-давно связует лишь тонкая нить испытанных разочарований». Какое письмо! Отец, которому бросил вызов сын, в ярости колет в ответ. Никогда еще Фрейд так не выходил из себя, как в эти январские дни, никогда еще она не видела его такими подавленным, как в этом 1913 году, – будет потом рассказывать Анна, его любимая дочь.
К.Г. Юнг отвечает письмом от 6 января: «Я последую Вашему желанию прекратить частные отношения. Впрочем, кому, как не Вам, лучше знать, что означает для Вас этот момент». Это он пишет чернилами. А затем впечатывает на машинке, словно водружает надгробный камень на одну из самых масштабных в двадцатом веке интеллектуальных связей между двух мужчин: «Остальное – молчание». Какая прекрасная ирония в том, что один из самых толкуемых, описываемых и обсуждаемых разрывов 1913 года начинается с обета молчания. С этого момента Юнг эмансипирует свою работу от методов Фрейда, а Фрейд – от методов Юнга. Но прежде он еще раз совершенно точно сформулирует отцеубийство у первобытных народов: они надевают маски убитых отцов – и затем молятся своей жертве. Практически уже диалектика Просвещения.
Но остановимся пока на диалекте Просвещения. Десятилетний Теодор Адорно, прозвище «Тедди», живет на Шёне Аусзихт, 12 во Франкфурте-на-Майне, просвещается и учит гессенский диалект. Самое близкое существо, кроме мамы – шимпанзе Бассо во Франкфуртском зоопарке. Франк Ведекинд, автор «Пробуждения весны» и «Лулу», дружит в это время с Мисси, шимпанзе из Зоологического сада Берлина.
Марсель Пруст у себя в кабинете на бульваре Хаусманн, 102 в Париже обустраивает собственную клеть. Ни солнечный свет, ни пыль, ни шум не должны отвлекать его от работы. Весьма специфический work-life balance. Окна кабинета он занавесил тройными шторами, стены обил прессованной пробкой. В этой звукоизоляции Пруст сидит при электрическом свете за написанием чрезмерно вежливых новогодних писем, как и каждый год, с настоятельной просьбой уберечь его в будущем от подарков. Его не уставали приглашать, но каждый, кто это делал, знал, насколько это утомительное предприятие, ибо он неоднократно присылает сообщения и записки, приедет ли он, наконец, или нет, и почему, вероятно, все же не приедет, и так далее. В науке нерешительности с этим господином посоперничал бы разве что Кафка.
В этой звукоизоляции духа Марсель Пруст корпит над романом о памяти и поиске утраченного времени. Первая часть должна называться «Любовь Свана», и тонкими чернилами он выводит последнее предложение: «Реальность, которую я знал, больше не существовала. Определенное воспоминание есть лишь сожаление об определенном мгновении; и дома, дороги, аллеи столь же мимолетны, увы, как и годы».[4]
Способно ли воспоминание лишь на то, чтобы быть сожалением? Гертруда Стайн, парижская салонная львица и подруга авангардистов, мерзнет в двух улицах от Пруста. Она ужасно ссорится со своим братом Лео; их совместное проживание, длившееся не один десяток лет, грозит распасться. Все мимолетно? Она мечтает о весне. Согревает себя мыслями. Она смотрит на Сезаннов, Матиссов и Пикассо у себя на стене. Но придет ли весна одними только мыслями о ней? Она сочиняет маленькое стихотворение, в котором есть строчка: «Роза есть роза есть роза». Как и Пруст, она хочет удержать что-то, желающее пройти. Вот как далеко уже зашел мир поэзии и воображения в январе 1913 года.
Макс Бекман завершает картину «Гибель Титаника».
Февраль
Дождались. В Нью-Йорке Арсенальная выставка провоцирует большой взрыв современного искусства, Марсель Дюшан показывает «Обнаженную, спускающуюся по лестнице». С нее же начинается и резкий подъем вверх. Да и в остальном: всюду обнаженные натуры, прежде всего в Вене – нагая Альма Малер (у Оскара Кокошки) и все остальные женщины Вены у Густава Климта и Эгона Шиле. Другие обнажают свою душу за сто крон в час у доктора Зигмунда Фрейда. А между тем Адольф Гитлер в комнате отдыха венского мужского общежития рисует трогательные акварели собора Святого Стефана. Генрих Манн пишет в Мюнхене «Верноподданного» и отмечает у брата свое сорокадвухлетие. Снег все так же глубок. На следующий день Томас Манн покупает участок земли для постройки дома. Рильке все так же страдает, Кафка все так же медлит, зато растет маленький магазин шляпок Коко Шанель. А австрийский престолонаследник, эрцгерцог Франц Фердинанд, несется на своем авто с золотыми спицами по Вене, играет в железную дорогу и переживает о терактах в Сербии. Сталин впервые встречает Троцкого – и в том же месяце в Барселоне появляется на свет человек, который однажды по заказу Сталина Троцкого убьет. Так все же 1913 год – несчастливый?
Франц Марк. Башня синих лошадей (akg-is).
Сколько можно ждать? Австрийский престолонаследник Франц Фердинанд с ума сходит от ожидания. Уже немыслимых шестьдесят пять лет сидит на троне восьмидесятитрехлетний император Франц Иосиф и не торопится уступать его родному племяннику, чья очередь подошла после смерти Сисси, любимой жены Франца Иосифа, и Рудольфа, любимого сына. Да, спицы на колесах его авто тоже золотые, как у колесницы императора, но вот титул – титул с 1848-го только у дяди: император Франц Иосиф. Или, если быть точным: «Его Императорское и Королевское Величество, Божьей милостью император австрийский, апостолический король венгерский, король богемский, долматский, хорватский, славонский, лодомерский и иллирический, король иерусалимский и прочая; эрцгерцог австрийский; великий героцог тосканский и краковский; герцог лотарингский, зальцбургский, штирский, каринтийский, карниольский и буковинский; великий князь трансильванский; маркграф моранский; герцог верхней и нижней Силезии, оденский, пармский, пьяченцский и гуастальский, Освенцима и Затора, тешинский, фриульский, рагузский и зарский; владетельный граф габсбургский и тирольский, кибургский, горицский и градишский; князь трентский и бриксенский; маркграф Верхних и Нижних Лужиц и Истрии; граф Гогенемс, Фельдкирх, Брегенц, Зоннеберг и прочая; государь Триеста, Котора и Вендской марки; великий воевода Сербии и прочая, и прочая, и прочая».
