Волшебный хор
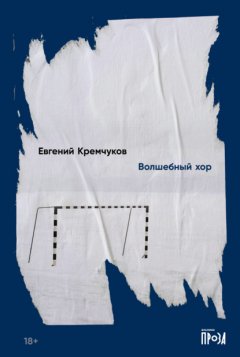
Редактор Татьяна Тимакова
Издатель П. Подкосов
Главный редактор Т. Соловьёва
Руководитель проекта М. Ведюшкина
Ассистент редакции М. Короченская
Художественное оформление и макет Ю. Буга
Корректоры Т. Мёдингер, О. Смирнова
Компьютерная верстка М. Поташкин
Фотография на обложке Иван Михайлов
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© Е. Кремчуков, 2023
© ООО «Альпина нон-фикшн», 2023
Они запели хором, но слова,
Стесненные гортанью, превращались
В пернатый гомон, грай, трескучий гвалт.
Уильям Батлер Йейтс.Кухулин упокоенный
Глава 1
Печальный аромат цветущей сливы
Об аресте Протасова Баврин узнал в Идзу, префектура Сидзуока, за осмотром местных достопримечательностей. В тридесятое это японское царство занесло его ветрами поначалу служебными, а затем экскурсионными. Три последних дня он провел на международном конгрессе в Иокогаме в составе делегации городского управления культуры и (как накинули им сверху прошлой осенью) развития туризма. Именно проекты сохранения той самой культуры и развития того самого туризма и завели Баврина так далеко от дома. Вкупе с десятичасовым перелетом и разницей во времени почти в полдня сам конгресс отнял чудовищно много сил: мероприятия проходили на нескольких площадках, интенсивная вертикальная жизнь японского мегаполиса слишком уж разнилась с привычной провинциальной размеренностью дома. Видимо, как воздаяние за усердные труды, суббота перед вылетом обратно оказалась свободной, и коллеги, скооперировавшиеся с вологодской и брянской делегациями, уговорили его на вариант с экскурсией в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу.
Выехали затемно, программа предстояла очень насыщенная. Дорога шла вдоль залива Сагами, из окна микроавтобуса Баврин любовался рассветными видами побережья. Чуть позже, после первой остановки, он отправил Рите несколько совершенно открыточного вида снимков белоснежного замка Одавара и цветущих в замковом парке японских слив вместе с пожеланиями доброго утра – которое наступит у нее только через шесть часов. Там, на родине, подобная красота в начале марта была совершенно невозможна и, может статься, даже невыносима – среди унылого, серого, горизонтального пейзажа, замазанного грязным снегом; жена позавидует, конечно, и не обязательно белой завистью, но ведь он все-таки не развлекаться без нее на край земли умотал, да и очень уж хотелось ему поделиться окружающими его сегодня совершенствами. Здесь же, в торговых палатках около замка, Баврин купил среднюю фигурку самурая в доспехах для Егора и один магнитик «с видом» – на холодильник. Себе подумывал взять или большую кружку с теми же «видами», или миниатюрную реплику катаны на подставке – для письменного стола в рабочем кабинете, или бутылочку-другую сливового вина; долго толкался, ходил перед лотками туда и обратно, но так ничего и не выбрал. Рите же он заранее решил привезти на Восьмое марта какую-нибудь японскую косметику из дьюти-фри. Коллеги закупались более основательно.
От замка их повезли на заставу Хаконе – как поведал гид, десятую из пятидесяти трех станций на тракте Токайдо, соединявшем когда-то старую и новую столицы и увековеченном в гравюрах Андо Хиросигэ. Здесь, на Хаконе, японцы со свойственным им педантичным и трепетным отношением к собственной древности воссоздали в мельчайших деталях деревянные постройки и атмосферу этого «КПП» полуторавековой давности: башню наблюдения, солдатские казармы, домики для досмотра и регистрации, конюшню, что-то там еще, уже не умещавшееся в крутящуюся из стороны в сторону голову Баврина. В музее старых дорог к нему подошла Марина. Она училась когда-то вместе с его Ритой в институте, и лет семь назад по просьбе жены Баврин пристроил ее к себе в управление культуры, так что их с Мариной-Риной отношения были, пользуясь актуальным в последнее время термином, «гибридными»: смесью официально-служебных и приятельски-домашних. Рита же пролоббировала и включение подруги в состав городской делегации на этот конгресс – чтобы Баврин не оставался за тридевять земель без присмотра.
– Дмитрий Владимирович, ты домашним сувениры какие-нибудь купил? – негромко, чтобы не мешать гиду, спросила Рина.
Баврин смущенно покивал, достал из сумки самурая и магнитик. В ответ на недоуменный взгляд коллеги развел руками:
– Рите пока не нашел ничего, а у меня и так все есть. Безделушки все эти. Я имею в виду, нет чего-то такого, что стоило бы везти из этих тьмутараканей…
– В нашу тьмутаракань, да?.. – усмехнувшись, продолжила она. – Я твоим тоже тут кое-что купила. – Рина ловко скинула рюкзачок, порылась в нем и достала из глубины цветастую коробочку размером с ладонь. – Это Егорке. Японские сласти, там такие маленькие конфетки в виде медвежат, птичек, цветочков-лепесточков. А что Рите взяла – не покажу, конечно, а то ты обязательно разболтаешь.
Похожий на японца гид Виктор Андреевич, не прерывая рассказа о феодальных князьях-даймё, проезжавших по тракту Токайдо в Эдо, где они год через год жили при императорском дворе, чтобы продемонстрировать собственную лояльность, раз-другой между слов неодобрительно взглянул на увлеченных разговором туристов. Баврин, почувствовав себя неловко, удержал Марину от дальнейшей болтовни и жестом уведомил гида, что все понял. Коллега-подруга вернулась к Жданову с Волчком.
Сразу после заставы и музея старых дорог их ждала водная прогулка на небольшом катере по раскинувшемуся рядом с Хаконе озеру Аси. К полудню погода приметно испортилась, небо затянуло, великолепную вершину Фудзи укрыли низкие облака, но даже и так невозможно было оторвать взгляды и объективы от совершенных линий Горы. В фоновом режиме гид продолжал неторопливый рассказ о японском средневековье.
Баврин прислушался. Экскурсовод вел речь о маленьком инженерном чуде – водном туннеле, идущем от озера Аси. Замыслил его в семнадцатом веке, три с половиной сотни лет назад, староста одной из деревень здешней префектуры. Крестьяне деревни, лежавшей к западу от озера, как, собственно, и всякие японские крестьяне, выращивали рис, но поля их часто страдали от засухи. Воды не хватало, и староста задумал создать ирригационную систему, для чего необходимо было подвести к полям воду из озера Аси. Проблема, однако, заключалась в том, что между озером и деревней лежал горный хребет, путь через который пролегал по единственному перевалу. Тогда староста предложил пробить в горах туннель. Предложить-то он предложил, но надо было сначала согласовать все по инстанциям – самодеятельность в подобных вопросах была невозможна. Озеро Аси – а значит, и вся вода в нем – принадлежало синтоистскому храму в Хаконе; староста отправился к настоятелю храма испросить разрешения использовать озерные воды, и тот дал согласие. Затем необходимо было получить разрешение на строительство от сёгуната Токугава, оно также было официально запрошено и получено старостой, после чего он нанял две бригады строителей, которые вместе с крестьянами деревни трудились над прокладкой туннеля пять лет. Копали одновременно с западной и с восточной стороны горы, причем расчеты были произведены с такой удивительной для своего времени точностью, что встреча под горой произошла ровно посередине пути с каждой стороны и строго в намеченной точке. Общая длина туннеля сквозь каменную преграду составила невероятные семьсот кэн – почти тысячу триста метров. Воды озера Аси пришли сквозь горный хребет на рисовые поля, спасая их от гибельных засух. Среди односельчан староста стал едва ли не полубогом.
И все бы хорошо, но тогдашние «силовики» заподозрили неладное. Дело в том, что в средневековой Японии власти очень пристально следили за перемещениями жителей: все законопослушные путешественники могли двигаться только по трактам, проходя контроль и регистрируясь на каждой заставе. Уклонение от этих правил каралось строжайше – смертной казнью. Вот и посчитал некто бдительный из тех, в чьем ведении находилась безопасность государства, что обходной туннель под горой может быть использован заговорщиками и злоумышленниками, которые захотят обойти заставу Хаконе, а там, глядишь, и тайно проникнуть в саму столицу. Не в этом ли, задались вопросом власти, заключался подлинный умысел того, кто притворно выступил в образе крестьянского благодетеля? Деревенский староста был схвачен, обвинен в шпионаже и заговоре против императорской власти и казнен.
После озерной экскурсии их отвезли к лесному водопаду Дзёрэн, где Баврин, оглядывая окрестности одной из дорожек, поскользнулся на влажных плитах ступеней, однако, уже беспомощно и нелепо замахав руками, успел в последний миг ухватиться одной рукой за коллегу Волчка, а другой – за какого-то громадного вологжанина высотой едва ли не в полтора человеческих роста. Сердечно поблагодарив вовремя подвернувшихся соотечественников за чудесное спасение от падения в мартовский ручей, он собрался было написать Рите о том, как, оступившись на скользкой тропинке, едва не промок до нитки, но вывернулся-таки из цепких ледяных пальцев японской судьбы – с приложением прекрасного, схваченного камерой смартфона пейзажа с водными потоками, низвергающимися в окружении зеленых великанов с высоты пятиэтажного дома… но в эту минуту Волчок отвлек его каким-то вопросом, а потом они все вместе двинулись гурьбой и группой обратно к микроавтобусу, так что Баврин решил полный фотоотчет отправить вечером из гостиницы через вайфай.
Последним пунктом программы их путешествия была пешая прогулка по Идзу. В ту минуту, когда, уже набродившись по улочкам небольшого городка и окончательно выдохшись под всей обрушившейся на них за день красотой и историей, они стояли полукругом у древнего надгробного камня Минамото-но Ёрииэ, в треть уха слушая рассказ гида о борьбе самурайских кланов рубежа двенадцатого-тринадцатого столетий, несчастной жертвой которой пал этот молодой второй сёгун Камакурского сёгуната; в ту минуту, когда и сам уже подуставший немолодой гид, наконец завершая экскурсию, читал им в гениальном переводе Веры Марковой «Песнь о срединном пути», мерцающую и тонкую танка Минамото-но Санэтомо – младшего брата покоящегося здесь героя, впоследствии также ставшего жертвой интриг и заколотого на ступенях храма собственным племянником, сыном этого самого Ёрииэ:
- Этот мир земной –
- Отраженное в зеркале
- Марево теней.
- Есть, но не скажешь, что есть.
- Нет, но не скажешь, что нет, –
в эту минуту Баврин почувствовал вибрацию телефона в кармане куртки. Пришло сообщение с пожеланиями прекрасного дня и настроения от проснувшейся в зимнем российском далеке Риты. Он взглянул на часы, в уме вычел разницу во времени и обнаружил, что жена встала поздно, по выходному своему обыкновению. Следующий уик-энд им предстояло привычно встречать уже вместе. Да, должно же будет быть четыре праздничных дня, вспомнил он, с четверга, с восьмого! Значит, рабочая неделя короткая. Хотя… предвыборный головорот, дел невпроворот, как бы там, наоборот, не до полуночи сидеть. Возвращаться не хотелось, конечно. Не хотелось покидать эту экзотическую, как старинная гравюра, японскую сказку, невероятно уютную внутри хрустального шара гиперсовременности, да и утомительный обратный перелет легкой жизни не обещал. В конце, после коротких сообщений о том, что она выспалась, встала, завтракает, целует и скучает, Рита прислала ссылку на заметку с интернет-портала их городской газеты «Энский наблюдатель». «Посмотри, кстати, как время будет» – так подписала она, приправив сообщение троекратным многоточием. Сразу переходить по ссылке Баврин не стал, решив, что глянет в более спокойной обстановке.
Он прочитал новость, которую прислала жена, за обедом в маленьком ресторанчике в Идзу. «Учителя-историка Второй городской гимназии обвиняют в экстремизме и оправдании нацизма, – сообщал «Энский наблюдатель» в короткой утренней заметке. – Следственный комитет предъявил обвинения по статье 282 Уголовного кодекса "Возбуждение ненависти либо вражды" бывшему учителю истории Второй гимназии Михаилу П. Поводом стали посты в социальных сетях и блоге обвиняемого. Следователи также инкриминируют ему деяния, ответственность за которые предусмотрена статьей 354.1 "Реабилитация нацизма", с заявлениями о чем обратились родители сразу нескольких учеников гимназии. Вчера по ходатайству следствия суд принял решение об избрании мерой пресечения для бывшего историка заключение под стражу».
Сомнений быть не могло, речь в заметке «ЭN» шла о Протасове, бавринском друге детства и отрочества, юности и зрелости. Баврин перечитал короткий текст, пытаясь обнаружить в нем некие скрытые детали, которые могли бы… Могли бы – что? Поверить в то, что все это правда, он не мог. Сомнений не было.
Обратной дороги и остатка дня до самой гостиницы Баврин не заметил.
Уже в своем одноместном номере, поздней ночью перед завтрашним вылетом домой, Баврин скрупулезно и пристально перебирал в памяти, репостил ли он какие-нибудь Мишины записи, комментировал ли что, ставил ли где лайки. Зашел с телефона на одну, другую, третью страничку друга – но все они или оказались закрыты, или не загружались. Выходило, однако, навскидку, что вроде нет, не репостил, хотя, возможно, комментировал и уж лайки-то ставил почти наверняка. Что это значило сейчас для него самого, Дмитрий Владимирович гадать не хотел. И чем больше он думал обо всем, что ждало его дома по возвращении, тем дальше обнаруживал себя от этого: дальше и от дома, и от жены, и от сына, и от управления, и от содержащегося под стражей в следственном изоляторе Протасова, – будто расстояние между ними исчислялось сейчас не километрами, а годами.
Засыпая, он погружался в глухую илистую глубину, в еще одну старинную легенду, рассказанную вчера гидом на озере Аси. Их катер проплывал мимо больших красных ворот-тории синтоистского храма Хаконе – Вратами Мира назывались они, стоящие прямо в воде у берега озера. По легенде отсюда в давние времена отплывал на лодке монах с бочонком риса в качестве подношения живущему в глубинах огромному дракону. Монах должен был доставить свой груз к самому центру озера, там столкнуть его в воду и быстро, не оборачиваясь, грести обратно. Да, ни в коем случае не оборачиваясь – чтобы не увидеть, как бочонок исчезает во внезапно образовавшемся водовороте.
Глава 2
Пора представиться
Имя мое, по правде говоря, ничего вам не скажет. Есть мнение, что в начале истории можно назваться любым из имен. Потом уже – да. Потом дело другое – там, конечно, придется держаться избранного. Но в эти первые минуты перед нами еще открыты все возможности: фигурки пока не расставлены, имена не даны, не проведены линии связей, – история только началась, и никому из нас, персонажей, и никому из вас неизвестно, какой она окажется. Однако взгляд, слух, внимание уже пытливо ищут, за какие бы им тут крючки зацепиться. Имя вот, например, да? Первое появление героев, первые слова.
Так и в зерен горсти, рассыпанной по столу, и в кофейной гуще, и в стереометрии облаков свежего апрельского неба, и в вечернем рисунке светящихся окон многоэтажки напротив – глаз наш во всем на свете пытается выискать рациональную структуру и смысл. Человек воображает, будто именно он установлен в центре мироздания, окруженный мириадами декораций.
В детстве я все время считал. Ребят в классе, проезжающие по улице машины, встречных людей, спутников в вагоне трамвая, куски хлеба в столовой, глотки горячего чая. Шевелил внутри себя губами, беззвучно отсчитывая: один, два, три… Не просто отсчитывал, а как будто откладывал в голове, загибал на внутренних пальцах. Так откладывал, что легко мог вспомнить, например, месяц спустя все исчисленное мной. По дороге домой из школы семнадцатого октября во втором классе я встретил сорок девять человек: из них двадцать одну женщину, двенадцать мужчин и шестнадцать детей. Подростки считались за детей, конечно. Или вот еще: семьдесят восемь машин на мосту, по которому идет прогуливающий физру пятиклассник. Или, скажем, тридцать шесть фраз матери, поделенных на четыре фразы отца, в ночном разговоре на приглушенных повышенных тонах за неплотно прикрытой дверью. Вот как я рос – через сложение и вычитание, умножение и деление, возведение в степень и извлечение корня. Арифметика восходила к алгебре, призывая под свои знамена синусы и тангенсы, начала анализа открывали заветные двери для пытливого ума.
Маленькие люди в классе звали меня Калькулятором, находя в том, кажется, нечто очень смешное или очень обидное. Но глупость и смешит, и унижает только самого своего хозяина. Меня это не задевало совершенно. Мне-то было известно, кто я на самом деле – числовек, числовед, числовод.
Годам к тринадцати я обнаружил, что все на свете, включая историю и биографию, есть число и исчисление. Как так – все? Сейчас поясню – при помощи развернутой метафоры. Самое главное – не путайте число и количество. Вот живет человек, а лучше сказать – летит по мирозданию воздушный шарик человека. Внутри шарика этого – прошлое, поверхность его – настоящее, оно касается будущего вокруг, того будущего воздуха, в который шарик этот растет. Объем прошлого может быть исчислен, пусть и не в привычных нам единицах: прожитое человеком время – его длина; за ширину можно принять пространство, географию, «где бывали, что видали»; а глубиной, создающей, собственно говоря, объем, будет биография его души, человеческая история, то, чем заполнено – пустое само по себе – время его жизни. Глубина как раз и решает: некто, сидевший безвылазно в собственном одном доме одного города, за счет интенсивности, глубины, как принято говорить, «внутренней жизни», может статься, наберет объем больший, чем другой персонаж, облетевший своим шариком полмира, но растративший всю эту ширину на походы по местным клубам и фотки в нынешнем инстаграме[1].
И вот, говорю вам, человек живет, расширяясь в будущее, нарастая сам на себя, обрастая собой. Парадоксальным образом мы можем обнаружить, что чем больше прошлое человека, тот самый объем, о котором мы говорили минуту назад, – тем больше его настоящее, поверхность человека, как вы помните, и тем больше будущее его.
– И что потом? – раздается воображаемый голос откуда-то из задних рядов.
– Потом?.. Потом шарик лопается. И настоящего не остается никакого. А прошлое перемешивается с будущим – с будущим других шариков, плывущих в общем для всех воздухе.
На истфаке педуниверситета интересы мои качнулись от определенностей к вероятностям – я увлекся карточными играми: деберц, белот, преферанс, чуть позже – покер. Особенно мне нравился покер, да, – ведь в нем, по сути дела, играют в людей, а не в картонки. Не сказать, чтобы я достиг каких-то великолепных вершин, проигроком я не стал, но играл, в общем, в стабильный плюс. По завершении недолгой игроцкой «карьеры» накопил я и неплохой материальный остаток от нескольких лет занятий тем, что вызывало во мне живой интерес и к тому же приносило удовольствие. Я предполагал, что это вложение станет моим первоначальным взносом в капитал будущей семейной и счастливой жизни… но тот, кто прокладывает на своем огромном кульмане линии человеческих судеб, располагал, видимо, иначе. Однако вернемся к нашим сказкам дядюшки Римана.
В студенческие годы я подрабатывал ночным сторожем в небольшой частной клинике. В большей степени просто для того, чтобы иметь какой-то долгий уголок вне дома. С восьми до восьми, две ночи через две. Вечером обходил все кабинеты на обоих этажах, закрывал двери и устраивался на ресепшене читать, писать истории в своих тетрадях, а ближе к сессиям обычно подтягивать учебу. В конце дежурства обходил все еще раз, потом встречал уборщицу и администратора и ехал домой отсыпаться. На перекуры и зимой и летом я дисциплинированно отправлялся на крыльцо, и по утрам мне нравилось разглядывать спешащих мимо по своим делам прохожих. Для них, так или иначе выспавшихся, уже совершался новый день, для меня же продолжался прежний. И вот на каком-то из дежурств – точно не вспомню, конечно, но было это ранним утром в середине мая, где-то после праздников, – я обратил внимание на такого прохожего человека. Молодой высокий мужчина, немногим старше меня самого. Он был одним и тем же, он повторялся, то есть проходил через мой перекур каждую буднюю рань в одно и то же время – жил, видимо, где-то неподалеку, и путь его лежал мимо нашего скверика на автобусную остановку. Тогда я стал уделять ему внимание – на следующее утро, и через два на третье, и опять. Сначала просто смотрел с любопытством, затем как-то едва не собрался даже приветственно крикнуть ему что-нибудь. А потом вдруг обнаружил с его помощью то, что теперь назову для вас суммой человека.
С одной стороны, человек есть сумма всех своих информаций. Оседающие во мне новости, учебники, книги, фильмы и музыка, личный и опосредованный опыт, все, что я вижу – моим или чужим – зрением, все, что я слышу, осязаю, обоняю или пробую на вкус, – составляет мою память, меня самого. Каждый из нас родом из страны собственной памяти.
Но – кроме сказанного – человек есть и сумма собственной разности. Возьмем этого моего ежедневного прохожего – всякий раз, когда я его видел, он был, казалось бы, одинаковым. И вместе с тем – каждый раз смещался, пусть и самую малость, относительно себя предыдущего. Что-то ведь он прожил собою за это время, что-то с ним произошло. Он был на день старше, он чуть-чуть изменился за прожитые тысячу четыреста сорок минут своей жизни. Не будем вдаваться в детали, важно, что это смещение неизбежно, невозможно скрыть зазор между вчерашним и сегодняшним человеком. И вот – заранее прошу простить мне следующие два слова – «интегральная сумма» всех этих зазоров, разниц, смещений и называется судьбой.
Но вам, вероятно, любопытно было бы обратиться от моих теорий в сторону того, что же произошло. Действие всегда держит сильнее описания, не так ли? Что ж, итак. Я окончил университет, завязал с игрой, планировал устроиться на службу и сочетаться законным браком. Однако биография моя повернула в другую сторону.
Со статистической точки зрения все видовое разнообразие человеческих судеб укладывается в очень небольшое количество сюжетов. Зритель, наблюдатель, читатель видит текущую по поверхности историю, куррикулюм витэ – таким образом, что ее плесы и омуты, излучины и разливы могут показаться ему случайными, однако внутри истории, в скрытой глубине времени могучие, неотвратимые, безымянные силы направляют ее движение. И вот, не удивляемся же мы тому, что река течет, что невидимый ветер кружит октябрьский лист, что звезда движется через ночь, ведомая законами небесной механики, что маленький человек – по каким-то здешним, земным, но не менее таинственным законам – появляется на свет из поцелуя и переплетенных пальцев. Вся целиком жизнь героя от первого ярко распахнувшегося света до дыры в последнюю темноту будет составлена из окружающей его информации. Заметим здесь в скобках, издревле считается, что основной вопрос философии представляет собой дилемму, тогда как подлинно он раскрывается в форме триады: информация о бытии определяет сознание, которое определяет бытие.
Заметим и еще одно, прежде чем наконец-то нам уже начать, еще кое-что – о числах. С легкой руки незрячего старика-визионера из волшебного Буэнос-Айреса принято считать, что историй, которые мы рассказываем, так или иначе всего четыре: об осажденном и обреченном городе, о странствии и возвращении домой, о поиске сокровища, о самоубийстве бога. Однако, осмелюсь сказать в примечание к Борхесу, мне известна и пятая – это история о превращении. Та, в которой Чжуан-цзы и нимфалида колеблются, кто же из них кто. В которой, похрустывая суставами, Грегор Замза находит себя чудовищем (или чудовище обнаруживает, что его непостижимым образом зовут теперь Грегором Замзой). Это история о том, как несчастный охотник Актеон превращен небрежным божественным жестом в оленя и становится жертвой собственных гончих; о том, как тройка, семерка и дама ведут молодого военного инженера к семнадцатому нумеру Обуховской больницы. Эта же история повествует и о том, как сын плотника восходит на Престол Небесный.
В том или ином изводе история о превращении, в сущности, совершается жизнью над каждым из нас.
И теперь в моих планах провести нас по галерее комнат, состоящих из двух месяцев моей истории… В ней все как в жизни: посторонние шумы, случайные встречи, звучание незнакомых и знакомых голосов, мелькнувший на периферии зрения силуэт, – невозможно предугадать, окажется ли что-нибудь важным или нет. Возможно, имеет значение все на свете, а возможно, что и ничего вообще, кроме разве одного: когда захлопывается дверь, с какой стороны ты обнаруживаешь себя – внутри или снаружи?.. Впрочем, здесь я исправлю себя: идти нам с вами не комнатами и коридорами, а скорее – лесными тропинками, проложенными меж уходящих стволами и кронами в небо, тихо замерших зеленых великанов. Здесь нам – смотреть, здесь нам – слушать. Всякая история наполнена смыслами, как летний лес птицами. Но едва ли стоит пытаться услышать их все сразу. Да это и невозможно. Обернись же в зрение, в слух, доверься проводнику в глубине таинственной чащи – мы идем узкой тропинкой по линиям судьбы героев, неведомый мой спутник. Начать нам следует издалека, но пусть это не тревожит тебя. Не бойся и оступиться, в последний миг перед падением всегда подхватят, не упустят твою руку. Постарайся, отринув сомнения, следовать и следить за выбранным героем – внимательно, ничего не упуская, собирая себе единственную мелодию. Быть может, доведется нам где-то и остановиться перед неясной развилкой; как верный провожатый, как всеведущий гид, я неотступно буду рядом, не мешая там, где во мне не будет излишней нужды, и появляясь ровно в ту минуту, когда необходимо окажется направить наш следующий шаг из главы в главу.
Конечно, если бы мы сидели теперь лицом к лицу, можно было бы здесь дружески улыбнуться и просто сказать: «Что ж, пора представиться. Мое имя Михаил Протасов». Но я сижу сейчас не рядом и не напротив, а под стражей в общей камере энского СИЗО.
Глава 3
Место, которого нет
Всех она переживет: и отца, рожденного в последний год золотого столетия и сложившего свою рано полысевшую честную голову в перестрелке с уголовниками дождливой осенью тридцать пятого в должности замначальника райотдела НКВД, каковая птица-перестрелка, конечно, одним-то крылом срезала год-другой его собственной жизни, однако крылом вторым – оберегла и жену его, и двух маленьких дочерей-погодок, благодаря той предрассветной засаде на складах ж/д станции переживших конец тридцатых в статусе и с пенсией семьи героя Гражданской войны и борца за установление советской власти в Энской губернии, а не с позорным, как обжигающий плевок, клеймом ЧСИР – членов семьи изменника родины; переживет она и старшего сына, погибшего молодым аспирантом под лавиной во время восхождения на Адай-Хох; переживет непутевого, но доброго своего мужа, уснувшего за рулем по дороге от озер с рыбалки; и младшего сына с невесткой, проводивших поздний летний отпуск восемьдесят шестого года на юге и навсегда ушедших в ночное море на «Адмирале Нахимове»; переживет она и мать, выжившую на старости лет из ума, воображающую себя гимназисткой и уверенно путающую дочь с давным-давно почившей собственной бабкой; и сестру, с которой их разделили полжизни и полмира и которая окончила земной свой путь в обратном полушарии, в маленьком хосписе на окраине Уоллонгонга, Новый Южный Уэльс, Австралия; переживет наконец и себя саму, когда, ближе к середине десятого десятка, обнаружит собственное иссушенное тело внутри загустевшего, остывшего, остановившегося времени, похожего на маленькую полость в темном янтаре, где не осталось от жизни ее вообще почти ничего, за исключением этого сложносочиненного перечня утрат, который, словно доисторическое и дочеловеческое длинношеее, извиваясь в слышном ей одной половичном шуршании, ежедневно и ежевечерне медленно, неотвязно ползет за нетвердыми уже, шаркающими старушечьими шагами – стелясь вдоль плинтусов и заполняя извивами глухие пыльные комнатки ее ветхого дома в частном секторе.
Но в протасовском и бавринском детстве она оставалась еще старушкой бодрой и строгой, крепко держащей дом и прилагавшийся к нему участок – небольшой палисадник перед окнами на улицу и огородик в три сотки во дворе – в нерушимом, искони и навек установленном порядке. Для соседей она была Наташей Петровной, учителкой, и они ее не то странно любили – с нутряной своей, природной, крестьянской простотой, не то от той же простоты побаивались, но неизменно и искренне уважали. Для Миши же, которого лет, наверное, с пяти ежегодно отдавали ей на воспитание на все три летних каникулярных месяца, была она просто баб Ташей. Отец и мама навещали их по выходным, а он жил в своей городской «деревне» безвыездно с июня по август, греясь жарче послеполуденного солнца в лучиках баб-Ташиного добра, тепла и света. С третьего же класса остался у бабушки навсегда.
Там же, в одном из баб-Ташиных лет, Протасов составил знакомство с Митей Бавриным. В команду того привел с собой Лехман, Леша Манченко, живший в панельной пятиэтажке на 3-й Советской и оттого считавшийся меж них «городским». Он отрекомендовал смуглого полноватого новичка как своего с недавних пор соседа и доброго хлопца. Баврин, похожий на какого-то южанина: не то болгарина, не то грека, не то молдаванина, – не старался нарочно понравиться, не плел небылиц, на вопросы отвечал кратко и дельно; это вызывало симпатию. Вопреки экзотической внешности, оказался он, возможно, самым местным из них. Предки его, рассказал Митя, обитали в этих краях издревле, с тех пор как царь Алексей Михайлович за верную службу и ратные подвиги пожаловал казачьего атамана Власа Никитича Баврина землей и деревенькой в одном из здешних уездов.
Тем утром Протасов с Боцманом сидели на штабе в дальней стороне оврага, когда Лехман привел своего цыганенка. Штаб они обустроили еще в незапамятные времена и подновляли каждый май. Сюда приносили все обретенные ими по огромному и таинственному детскому своему миру сокровища, здесь пекли в углях картошку, ставили юннатские опыты на лягухах, жарили на сковородке «сухарики» из свежих дождевых червяков, играли в ножички или в подкидного дурака растрепанной боцманской колодой, строили планы на будущее. Теперь их стало больше – но пообвыклись быстро, поболтали; затеяли – кажется, не без мысли о «проверке на дорогах» – пострелять из самострелов, которых имелось три штуки на четверых; новенький, получалось, оставался пока без собственного оружия, но они пообещали дать ему испытать свои. Самострелы у них были конструкции Манченко – на аптечном жгуте с прищепкой, для стрельбы вишневыми косточками. Лешка привез идею в конце прошлого лета из пионерлагеря – потом они уже все вместе собирали прототип, испытывали, дорабатывали конструкцию. Весной начали иногда постреливать в овраге, а как пошла зеленка – тут уж наступило для их партизанских засад раздолье! Впрочем, июнь и недельку июля забрал себе футбол – они собирались пораньше и с утра до ночи гоняли мяч за школой. Далекий мексиканский чемпионат мира – первый на их сознательном веку – дотянулся и сюда, накрыв отчаянную команду волной священного безумия: Дасаев против Марадоны, Платини против Линекера, Беланов и Бурручага крутили финты, носились до изнеможения по школьному полю, лупасили видавший виды мяч; прерываясь ненадолго на обед, возвращались опять, передохнувшие, злые до новых побед той сияющей, жгучей злостью, унять которую могла одна лишь ночь – когда уже невозможно становилось разглядеть в темноте ни мяч, ни ворота, ни соперника. Тогда расходились до следующего света, бежали домой – в голове ветер, в волосах песок, – чтобы поутру, подзарядившись и включившись, наново приняться за старое. Но июньское волшебство, увы, закончилось, как кончается все на свете. Наши вылетели в одной восьмой, Платини не смог ничего поделать со сверхчеловеческой немецкой машиной, Линекер наколотил больше всех, но не дотянулся даже до полуфинала, и только величайший из аргентинцев на стотысячном стадионе под бело-голубым небом Мехико поднял над головой Кубок мира. Все кончилось, футбол уступил место иным забавам.
В тот день, собравшись основательно, не спеша выдвинулись на позицию в густом кустарнике вдоль центральной дороги. Устроились попарно, но недалеко, шагах в десяти друг от друга: чуть выше – Боцман с Лехманом, чуть дальше – Митя Баврин с Мишей Протасовым. Лехман, он, конечно, и взял бы соседа своего в напарники – кабы не необходимость делить с ним дорогой руке и сердцу личный самострел… поэтому новичок достался Протасову. Пока Баврин обустраивал себе местечко между кустов, ворочался, шуршал в ветках, Миша тихо сел на корточки и взглянул вверх. Оттуда, сверху, сквозь просветы в листве, которую, будто приоживляя колдовством, беззвучно пошевеливал в себе горячий воздух, оттуда наблюдало за ними полуденное солнце. Вот он – бог контрразведки, всевидящее око, где в мире возможно от него по-настоящему укрыться?
– Эй, Миш, – отвлекая, шепотом позвал его Баврин. – Чему смеешься?
Протасов обнаружил, что действительно улыбается, сидя с запрокинутой головой. Не решит ли новый его товарищ, что он тут с ним чеканутый?
– Кусты густы, – таким же ответно таинственным шепотом быстро сказал он. Потом чуть подвинулся вприсядку к недоумевающему Мите, выпучил жутко глаза, резко моргнул, заговорщицки подмигнул и продекламировал:
– Густы кусты и не пусты.
Митя изменился в лице, зримо побледнев, и Протасов понял, что хватит.
– Ладно, хорош ломать комедию! Дело впереди, брат. – Подмигнув еще раз, уже по-простому, без кривляний, он ободрительно хлопнул друга по плечу. – Не время для дрейфа!
Достал из кармана сухую косточку, осторожно натянул резинку, закрепил в прищепке. Они были готовы.
Сверху по пустынной улочке быстро ехала ярко-красная «Комби». Ближе, ближе. Вот уже совсем около их кустов. Здесь. Т! т! – Баврин услышал распавшийся на две половинки костяной стук метких попаданий первой группы. Т! – отжав прищепку, поставил собственную точку его напарник.
Место для засады выбрали они очень удачно. Узенькая «деревенская» дорога не была заасфальтирована, кроме того, летним днем здесь почти всегда безлюдно и никакого встречного движения – так что водители гнали, не стесняясь. Высокий кустарник рос прямо вдоль дороги, пешеходные тропинки лежали с тыльной его стороны, вдоль дощатых заборов. Легкие стуки по кузову – даже если водитель их вдруг случайно и услышит в салоне, не пропустив мимо ушей в общем шуме, – могли издавать отлетевшие из-под колес кругляши гравия, щебенка. Партизанской диверсии в тех звуках-стуках никто на свете бы не заподозрил.
– А у меня сестра стрельбой из лука занимается, – сказал Митя, когда машина скрылась вдалеке.
– Да ну?.. – протянул Протасов. – Не врешь?..
– Нет, конечно! Она кандидат в мастера спорта, знаешь, как здорово стреляет! И все время ездит по соревнованиям. Ее, может быть, даже в сборную возьмут! – В доказательство, что ли, всего сказанного Баврин раскрыл на ладони извлеченное из кармана сокровище – значок со спортивной фигуркой стрелка, какой-то аббревиатурой, цифрами и подписью «Алушта-86».
– Ого! Дай поглядеть. – Протасов покрутил свеженький разноцветный значок в пальцах, рассмотрел внимательно и бережно вернул владельцу. – А мои родичи, кстати, в конце августа тоже на юг едут по путевке, в Одессу и потом еще в какой-то круиз в Крым. Меня не берут – потому что школа. Тоже, наверное, значки привезут!..
Зашуршали кусты сзади – это Лехман, акробатически изгибаясь в четыре погибели, пробирался между веток в их укрытие.
– Эй, второе отделение! – негромко окликнул их. – Как дела, бойцы?
– Порядок, – отрапортовал Протасов. – Держим сектор обстрела. Ты знал, что у него, – он кивнул в Митину сторону, – сестра – мастер спорта по стрельбе из лука?
– Кандидат, – скромно отредактировал товарища Баврин.
– Ну, кандидат – это тоже вещь! – Лехман покивал с уважением. – Да нет, я не знал. Слушай, а ты можешь у сестры спросить, чтобы нам из спортивного лука как-нибудь пострелять, получится?
– Попробую, – подумав, ответил Митя. – Обещать не могу. Но попробую.
– Было бы здорово, – сказал Протасов.
– Да, будет здорово, если срастется. – Манченко покрутил головой, оглядев дорогу сверху вниз и обратно. Взглянул на большие свои командирские часы, водонепроницаемые, противоударные, гордяцкие. – Ну что, ждем еще? Или на обед? Кстати, пошли после обеда в город, а? У меня бутылки есть – сдадим, газировки попьем или в кафе-мороженое.
Они одобрили эту идею. Решили подождать еще минут десять, потом разойтись по обеденным квартирам, а через час собраться наверху и двинуть в город.
– Бывайте, мужики! – Лехман пожал им руки и так же по-цирковому ловко выбрался обратно на тропинку. – Держим связь.
Минут через пять они услышали шум – сверху опять ехала машина, в этот раз грузовик – повидавший всякие виды, дребезжащий и обшарпанный зилок.
– Держи! – Протасов протянул Баврину предварительно взведенный самострел. – Про упреждение не забудь, знаешь?
Но Митя отказался:
– Давай лучше пока ты. Я потом, в другой раз, мне бы сначала для тренировки просто по банкам в штабе пострелять.
– Ну, смотри сам. – Времени на споры не было, да и чего спорить. Протасов усмехнулся. – И учись!
Цель приближалась. Поравнялась с местом первой засады. Т! т! – знакомо стукнули по деревянному борту машины пульки Лехмана и Боцмана. Пора! Миша прицелился по кабине. Вдох – выдох – пауза – спуск. И – ничего. Как же? Ничего не отозвалось с той стороны выстрела. Промазал?!
Проехав еще полтора десятка метров грузовик вдруг резко, рывком каким-то, затормозил. Протасов заметил, что ветровое стекло с их стороны опущено. Прихоть траектории, геометрия воздуха, совпадение невидимых звезд именно туда и направили злополучную вишневую косточку. Из кабины выбрался огромный страшный мужик в тренировочных штанах и майке. Он дико громыхнул дверью, быстро оглядел улочку и резким шагом направился в их сторону.
Мальчишки, что вспугнутые воробьи, порхнули сразу из обеих засад, раздирая кусты сполохом безоглядного бегства. Громила в майке с воплем «Стоять!» бросился за ними. У Боцмана с Лехманом, стартовавших с большей форой, нашлось время перемахнуть через изгородь у заброшенного дома и чесануть по заросшему участку в сторону соседнего переулка. У второй пары партизан времени забираться на забор не оставалось, и они летели ополоумевшими зайцами прямо вверх по улице, надеясь, что мужик устанет, отстанет, машину бросать не станет, да что угодно, только бы ноги унести!.. Но он нагонял их неотвратимо, как… Да все равно как что, не до того, не до сравнений было! Митя, на удивление легконогий для своей комплекции, прилично вырвался вперед, а Протасов отчего-то начал задыхаться и отставать. Он попытался вскользь оглянуться и ускориться, но вдруг запутался в собственных ногах, шагах и неровностях планеты и кувырком полетел в пыльную щебенку. «Умри и сдохни, как Лехман говорит», – мелькнуло в голове красным цветом, похожим на выносящий вердикт под домашкой учительский почерк. Неумолимая и настигающая, дышащая ужасом, их неудачная жертва была уже совсем рядом, когда едва успевший привстать на колени, совершенно беспомощный Протасов увидел, как между ним и погибелью ниоткуда возьмись очутился запыхавшийся цыганенок.
– По-дждите!.. – глотая звук, выдохнул в сторону отмщения побелевший Баврин.
Но разъяренный водитель ждать ничего не стал. Он сгреб Митю за шкирку и тряхнул так, что мироздание вокруг провалилось, а потом подскочило вверх.
– Чего ждать, шпана?! – заорал растрепанный мужик. Потом увидел отлетевший к обочине и валяющийся рядом с Мишкой самострел. И, как фокусник в цирке, не выпуская из горсти превратившегося в крольчонка Баврина, двинулся в направлении двойной расправы.
– Это не он, – контуженно, но отчетливо выдавил Митя. – Это я. Стрелял. Он просто со мной был.
– А ты что – из всех борзой самый?!
– Нет.
– А что тогда?
– Просто глупый. Но он не виноват. Только я. Он вообще стрелять отказался.
– Глупый?! – переспросил мужик, перехватывая Баврина левой рукой. – Нахал ты безмозглый, а не глупый. Что из вас, щенков таких, вырастет? Ты понимаешь, нет?!
Митя потряс головой. Протасов просто глядел на них снизу распахнутыми глазами, не провидя будущего. Сверху, не отрываясь и не отводя взгляда, смотрело – солнце. Водитель наконец разжал свою великанскую ладонь, из которой выпал жалкий мальчишка в задранной футболке, влепил Баврину для проформы подзатыльник, сплюнул и, развернувшись, пошел к брошенному своему грузовику.
Вечером они вдвоем, Миша и Митя, сидели на баб-Ташином крыльце и ели из вазочек подтаивающий развесной пломбир с клубничным вареньем. Над ними висела тишина на тонкой ниточке молчанки – «кошка сдохла, хвост облез, кто промолвит, тот и съест», – и лишь ложечки то и дело позвякивали о стекло. День медленно гас, отступая за шагом шаг от светящихся все ярче за их спинами окошек. Все дальше и дальше – туда, где через пару часов истает он полностью в последних своих глубинах.
Глава 4
Метель
«Тесна становится кровать. Пора вставать. Пора вставать!» – еще не проснувшись, едва шевеля воображаемыми губами, продекламировал внутри набитой войлоком головы Баврин. Дотянувшись, выключил будильник на телефоне. Пожалуй, медленнее обычного, так что Рита зашевелилась рядом. Декламация его была, конечно, самообманом, во всяком случае, наполовину: вставать-то действительно было пора, однако кровать не то что не становилась тесна, родная эта кровать, по которой он за неделю соскучился всем своим телом, была сегодня как никогда ласкова и нежна с ним. Но такому вот способу просыпаться друг Миша научил его на первом, кажется, курсе. И что – в общем-то, всегда работало. Возможно, это заклинание, привычные, повторяющиеся из утра в утро одни и те же слова включали в нем механизм возвращения – когда рассыпавшиеся за ночь по миру сновидений детальки и кусочки сознания магически и магнетически притягивались обратно друг к другу, собираясь вместе и сцепляясь одно с другим шпонка в паз, выступ к выемке, штырь к гнезду. Чтобы глаза ему открывать собранным уже пазлом человека, собою самим.
«Пора вставать…» – снаружи было не просто утро понедельника, а утро понедельника в превосходной степени. «Как его сказать? – в порядке вздора мелькнул вопрос. – Понедельничнейшее утро?» Неудивительно – после беспокойной ночи в Иокогаме, после того как весь вчерашний день, от раннего весеннего рассвета до глубокой зимней тьмы, он добирался домой через полмира, сменив все возможные виды современного транспорта: воздушный, автомобильный, метро, железнодорожный, опять автомобильный… Ан нет, не все! – водного-то транспорта не было, правду сказать. Но это нормально для средней их полосы в первых числах марта. Впрочем, самой воды – уже по возвращении в город – в ледяном и снежном ее состоянии оказалось вокруг с избытком.
На вокзале их встретил Максимыч на собственной газельке администрации, которую любезно прислал развезти командированных по домам Вайс. Старик, конечно, ворчал нещадно, но и с чемоданами помог, и напоил их уже в машине из полувекового китайского цветастого термоса чаем с шиповником и с кедровой настойкой – припас ведь, взял из дома специально для усталых наших странников!.. Ворчанье Максимыча охватывало и общую социально-политическую обстановку в стране и в мире, и то, куда их четверых черти носили на край света, и, это уж само собой разумеется, то, что его выдернули из дома, во-первых, прямо-таки ночью, во-вторых, в воскресенье, в-третьих, выезжать сегодня надо ну точно не на газели, а как минимум на гусеничном вездеходе, потому что, и это уже в-четвертых, сами видите, что тут у нас творится.
А творилась окрест – потусторонней силы метель.
Так-то всю неделю, пока их не было, рассказывал Максимыч, расшевеливалась оттепель. Днем чуть выше нуля, ночью чуть ниже, слякоть, сырость, пакость, туда-сюда. Но на воскресенье похолодало, а ближе к вечеру город накрыла снежная буря. Ледяной, волчий, лохматый ветер рвал воздух в миллиарды белых клочьев и хлопьев, бился в юродивых припадках о землю, о небо, о стены домов, о несчастные деревья и рекламные щиты. Вьюжная эта реконкиста в четверть часа занесла и завернула под собственную власть все, что чуть раньше, высвобождаясь понемногу, неделями подтаивало и оттаивало. Город, конечно, встал. Техника, дворники – не справлялись. В такую вот ночную стихию и выбрались наши путешественники из вагона на перрон.
Максимыч был, конечно, мастер, однако не волшебник. Он ехал медленно, как мог, выбирал более или менее приемлемый маршрут, но все равно газелька то и дело застревала в снежных наносах. Особенно тяжело приходилось на светофорах – тронуться с места сразу было сродни чуду. Раза три Баврину со Ждановым и Волчком приходилось выбираться в метель и на диком ветру, уворачиваясь от летящего из-под буксующих колес снега, раскачивая, выталкивать застрявшую машину. То и дело водитель и сам выпрыгивал с лопатой, выгребал снег из-под колес и тяжело, уже даже не оббивая обувь, залезал обратно. По маршруту Баврин был на высадку первым. Однако на площади Максимыч, обернувшись, устало сказал:
– Дмитрий Владимирович, прости покорно, но я до тебя заехать не смогу. Через твои дворы не пробраться нам. Никак.
– Я понимаю, – ответил водителю Баврин. – Ты уж там, на углу, где мой поворот, меня тогда высади, дальше я сам. Прогуляюсь перед сном.
Шагнув из машины, приняв чемодан и наспех махнув рукой коллегам, Баврин пригнулся и двинулся в переулок – через режущую, воющую, свистящую и слепящую мглу. Вьюга, кажется, поняла, что теперь остались они с человеком один на один, что нет за ним больше ни сотни лошадиных сил, ни обогрева, ни товарищеского плеча, ни тысячелетий цивилизации. Что вот – он один во чреве ее, и вольно ей делать с ним, что пожелается. От поворота до подъезда было метров полтораста, ну двести. Но их еще надо было пройти. Если что-то здесь и убирали дворники днем и вечером, то к ночи от их трудов не осталось и следов; местами наносы были по колено, да и сам мятущийся снежный воздух был таким плотным и жестким, что Баврину стойко казалось, будто он весь идет внутри сугроба. Хотелось бросить чемодан и ползти легким ужом по верху белого покрова, по кромочке, не проваливаясь в глубину. Хотелось закрыть глаза и чтобы невидимая ладонь приподняла его над всем ледяным головокружением и перенесла прямиком в квартиру, где теплый свет, где горячий душ, обжигающий губы чай. Хотелось спать. Спать… – в одну секунду, между шагом и шагом, Баврину вдруг почудилось, будто и правда он уснул – или, наоборот, проснулся, на миг обнаружив себя на прекрасном берегу озера Аси. Где-то здесь рядом была и покойная его смерть – однако Баврин обо что-то неприметное в снегу споткнулся, едва не полетел кувырком, замешкался, и на полшага в этой белой мгле они разминулись.
Но мело сквозь Баврина еще целую ночь до утра. Несколько часов в кровати пролетели под сомкнутыми веками прозрачно и неощутимо, как жизнь в кратком изложении. Он брел по маленькому двору родительской пятиэтажки, который отчего-то странно закруглялся сам в себя и каждый раз начинался заново. Все перепуталось, смешалось и смутилось, сугробы росли – а он уменьшался с каждым кругом по ловушке сновидения, шаг становился короче; на очередном повороте мальчик увидел темный холмик недалеко от скамейки у второго подъезда. На лежащем в снегу человеческом теле сидели большие черные грачи и, широко размахивая крыльями, вели свой гортанный разговор. Один, и другой, и третий собеседник то и дело между реплик, будто что-то разъясняя остальным, запускали острые клювы в глубину холмика и резко выдергивали оттуда омерзительно розовые клочки. Мальчик сделал шаг-другой поближе. Мокрый, тяжелый снег налипал на ресницы и слепил его, но ему хотелось разглядеть лицо. В тот момент, когда грачи обернулись на него и предупреждающе закричали, Баврин увидел, что это его новый сосед Алеша Манченко – только уже взрослый, очень небритый и мертвый. В раздумьях он обернул еще одно колечко по круглому двору и снова взглянул на тело – один грач сорвался куда-то в матовую снеговерть, оставшиеся двое перебрались Протасову на голову; тот лежал на спине, глаза были открыты, казалось, он разглядывает этих осанисто переступающих, топчущихся на нем действительных тайных советников владычицы зимнего царства. Баврин подошел к ним, по грудь в снегу, так что руки приходилось задирать вверх, и осторожно, чтобы не шумнуть, не спугнуть, лег с Костей Кораблевым рядом; Боцман всегда, конечно, был странным, но превратиться вот так в покойника и троицу грачей – это ну совсем уж где-то за пределами. Хотелось толкнуть его локтем в бок и попенять: что ты, дескать, совсем берега попутал, дружище. Снег хлопьями опускался на него, и наблюдатель обнаружил, что руки Баврина поверх сугроба широко раскинуты в стороны, будто он собрался обнять огромное белое небо, перепутанное с землей, и с городом вокруг, и со всем этим миром, за границами которого ничего нет. Усопший погружался туда, в слепяще яркую свою темницу, в глубину, где нет разницы между закрытыми и открытыми глазами, где мальчик смерть свою перерастает, где тревожно тормошит его будильник и он пытается внушить себе, будто тесна становится кровать.
И пора вставать.
Баврин добрел до ванной, традиционным кивком поприветствовал зеркало, умылся и принял душ, приобретая вновь человеческий облик – как будто стекающая по лицу и телу быстрая прохладная вода понедельника уносила в себе все, что облепило его за ночь, расчищая черты – до вчерашнего, прежнего, первоначального рисунка. Еще раз взглянул на себя по ту сторону стекла на стене – узнаваясь.
Потом пошел поднимать сына. Тот поначалу сопротивлялся, не подавал признаков пробуждения, затем приоткрыл-таки глаза.
– Я долго спал?
– Да, – ответил Баврин.
– Я выспался?
– Да.
Это была давняя их игра, еще со времен сада. Так они подтверждали начало нового дня и новой жизни. А долго, однако, ее не вспоминали.
Дмитрий Владимирович торжественно вручил сыну привезенного за полмира самурая, которого Егорка благоговейно покрутил-повертел, рассматривая еще не до конца раскрывшимися глазами, а потом не менее торжественно водрузил на верх своей книжной полки.
– А себе что привез?
– Сын, – усмехнулся Баврин, – у меня все есть. Дуй умываться.
Потом он наскоро приготовил тосты с ветчиной и, в то время как сын отрешенно их поглощал, поболтал с ним о делах школьных – о том, что случилось-приключилось в классе за неделю, пока его не было, о том, что там новенького с репетитором по английскому, о книгах. Он не забывал, сколь многое в воспитании зависит от способности взрослых разделить с ребенком его интересы, заботы и хлопоты, и поэтому старался всегда, как говорится, держать руку на пульсе.
Нельзя, однако, сказать, что интерес Баврина к делам учебным имел природу исключительно педагогическую – сын учился в его школе, в Первой гимназии, которую давным-давно окончил сам Баврин, поэтому и любопытство было вполне естественным. Ныне Баврин-младший был в какой-то мере его представителем в тех стенах, где совершались когда-то детство и отрочество Баврина-старшего, где он осваивался в жизни и, вцепившись крепко маленькими лапками, грыз гранит науки.
Гимназией их школа стала в девяносто втором, а до того была, как и все прочие, средней общеобразовательной. Так что гимназистом Митя Баврин успел побыть лишь один выпускной год и разницы, по чести сказать, никакой не почувствовал. Потом-то, наверное, учебные программы стали как-то различаться. Но их выпуск, первый гимназический, уже разлетелся из вековых стен школьного своего гнезда – в будущую осень и зиму, в распахнутый мир, в смятение и головокружение русской метели, в злую и прекрасную новую жизнь. Класс у них был дружный, первые годы на февральский вечер встречи собирались в школе полным почти составом. Сам Баврин изредка заглядывал и просто так – повидаться с кем-нибудь из учителей: с Ариной, с Петр Михалычем, с Сибирцевым. Затем, понятное дело, ряды стали редеть – особенно год на пятый-шестой, когда женитьбы и замужества, дела семейные и служебные отодвинули их школьное товарищество в прекрасное далеко. На десятилетие выпуска пришли всего семеро из двадцати семи одноклассников-«бэшек»: Баврин с Протасовым, Макс Новиков, Сережа Прихоцкой, Вадим Скрымник и Соня Ландсберг с Катей Ивановой, которая оказалась уже совсем не Ивановой, а – сейчас бы припомнить – то ли Соловьевой, то ли Соколовой – какой-то, в общем, Птичкиной. А после той встречи, кажется, и не собирались классом вообще. В соцсетях потом, конечно, все нашлись и задружились; но это было уже только воспоминанием об общении, об одной на всех, общей когда-то юности, а не общением самим и не юностью. По Егоркиным же учебным и классным делам, так повелось с самого начала, в школу ходила Рита. В последние годы в начале февраля Баврин уже даже и не вспоминал о вечере встречи. А ведь, стоп, в этом году – подождите, вдруг сообразил он, – в этом году двадцать пять лет же будет, четверть века!.. И что теперь – соберешь разве кого?
Впрочем, школа где-то в его глубине все равно оставалась опорным пунктом. Так однажды сказал Протасов, а Баврин запомнил: «Это наша система обороны, наша линия сопротивления времени. Детство, и бабушкин чердак – подловка, как мы его называли, и штаб в овраге, и школа, и наша курилка истфака – ее узловые точки. По ним – наша граница».
– Пап, я пошел! – Сын тем временем уже собрался и заглянул на кухню попрощаться. – Спасибо за самурая, пап, я нафоткал, парням покажу сегодня – обзавидуются!
– До вечера, Егор! – ответил Баврин и подумал, что вечером, может статься, вернется слишком поздно, чтобы поболтать с сыном. Понедельник, выборы на носу, Протасов, наконец…
Однако сейчас у него оставалось еще около получаса той прекрасной утренней тишины, в которой он находил возможность побыть наедине с собой. Поэтому и положил себе привычкой вставать раньше, чем можно было бы – день-то рабочий начинался в девять. Но это восхитительное одиночество – сын уже ушел, супруга пока не встала – стоило дороже тридцати минут сна.
Рита, несущая в себе семимесячную тягость будущей жизни, пришла к нему на кухню, как раз когда Баврин устроился за кофе с бутербродами почитать утренние новости города и мира и комментарии к ним.
Глава 5
Точка бифуркации, иначе говоря – развилка
Осень году тому выпала совершенной. По идеальному сценарию, расписанному где-то в неисповедимой небесной канцелярии, в неких высших метеорологических сферах, в первую сентябрьскую неделю город будто остался во второй половине августа – разве что ночи, соответствуя календарю, сделались чуть прохладнее. Затем на день-другой приоткрыли осеннюю картинку: пасмурно, дождь, приглушенный свет, – но и самые эти дожди все равно шли теплые и какие-то даже ласковые, а потом сразу распахнулась над миром вся нежная красота русского бабьего лета.
Тепло стояло до самого конца месяца. По утрам, прежде восхода солнца, пока небо было затянуто не то сумерками, не то облачной дымкой, иногда казалось, что мир застыл в каком-то странном, равновесном и равновозможном промежутке – и самое легкое дуновение ветерка способно было непредсказуемо качнуть весы как в сторону грядущей осени, так и к прошедшему лету. Но вставало солнце, и падал жребий, и все оказывалось прежним, лишь едва-едва заметно проступала желтизна на листве каштанов в парке. Лето все еще было здесь, будто в утешение и воздаяние за проведенные в экзаменационном цейтноте – сначала выпускном, потом вступительном – июнь-июль.
Да, жизнь неприметно по дням, но неотразимо по годам изменилась. Казалось, все еще было прежним: те же дома стояли по тем же улицам, те же люди заходили в них вечером и выходили с утра, из домов же с иными номерами наоборот – выходили по вечерам, чтобы к утру вернуться… Все это длилось, длилось и повторялось, кружась, неуловимое, неизменное, но неуловимо меняющееся. Отрочество сменилось юностью, пусть и нельзя было угадать, разглядеть одной между ними границы, черты отсечной, рубежа; а вот тектоническому сдвигу эпох, совершившемуся при них, была точная грань – двухлетней почти давности. Два года назад в это время они были еще советскими школьниками, а теперь, в нынешнем сентябре девяносто третьего – российскими студентами. Два года назад сражались на спичках (отобранные военачальниками полки русских княжеств напротив лучших монгольских туменов – богатыри и багатуры, сталкиваясь в противоборстве и упорстве, в давлении и сопротивлении, выясняли, чья из них порода крепче); а уже следующей осенью им предстоит постигать современные мотострелковые науки на университетской военной кафедре. Теперь же Протасов рассказывал Баврину в курилке истфака на третьем этаже, что задумал писать «Четырнадцать блистательных сражений» – и начать, пожалуй, с битвы на Калке в лето одна тысяча двести двадцать третье от Рождества Христова.
– И что же в том страшном и жутком разгроме блистательного-то, Миша? – вопрошал друга Баврин.
– Ну, тут чьими глазами смотреть на разгром, да? С восточной стороны это была просто хирургически выверенная победа мудрых и хитрых Джебе и Субэдея над втрое-вчетверо превосходящим войском, в чужих, заметь, и совершенно неизвестных им землях.
– То есть кровь твоих собственных предков, горечь поражения…
– Подожди, – перебил друга Протасов, – кровь моих предков вообще-то с обеих сторон могла течь – кто это сейчас нам точно скажет?.. Если что. И потом, Митя, я историк, а не идеолог. Меня интересует чистое военное искусство. Объективное, независимо от его национальной принадлежности. Единственная правда, единственный идеал историка – это верность истине, понимаешь? Разве нет? Не стране, не народу, не морально-этическим или патриотическим каким-то теориям и аксиомам – истине.
– С этим не поспоришь, – помолчав, ответил Баврин. – Однако хочется, знаешь, ответить тебе словами Пилата.
Еще два года назад они сбегали из школы на пески – дуэлянты, корнеты, виконты, – похищая с уроков таких недотрог: то Соньку, то Настасью; а теперь и после лекций, и после субботних библиотечных штудий, и когда только ни находился удобный случай – неуступчиво увязывались вдвоем провожать до дома Ниночку Сперанскую из одиннадцатой группы. Каждый из них норовил оказаться поближе, но красавица не по летам мудро и спокойно держала границу своей доброжелательности и интереса на равном расстоянии для обоих.
Два года назад их жизнь – бытовая, во всяком случае, ее сторона – была отмерена карточками на хозяйственное мыло и мыло туалетное, макароны, колбасу, масло, сахар, соль. А теперь господа студенты могли позволить себе и другие картонки – расписать, скажем, пулю в преферанс по копеечке на большом перерыве.
Два года тому, собравшись великолепной четверкой – мушкетеры, гардемарины, декабристы, танкисты, – топали, бывало, промозглым вечером на рок-воскресенье в ДК железнодорожников, где Боцмана, неплохо державшего в руках бас-гитару, звали иногда сыграть то в ПФКФ («Призрачный Флот Капитана Флинта» – гордо пояснял он друзьям), то в какие-то совершенно невероятные «Волосы В Носу»; теперь же выпускное лето развело тайное их общество: Боцман поступил в Гнесинку и жил в Люберцах у двоюродной тетки, Лехман укатил за славой в Рязань – в десантное свое училище, и в добром старом Энске остались только Баврин с Протасовым.
Два года назад – чуть меньше двух: зимой десятого класса, в декабре том, в январе? точно не припомнишь, – они смастерили, было дело, бомбочку; ну как «они» – соорудил-то ее по какому-то секретному, неизвестно где им разведанному рецепту Мишка, но испытывать «изделие» темным зимним вечером собрались и отправились на пустырь за общежитием пединститута, уж конечно, все вместе. Небольшой, в полкулака, обмотанный изолентой шарик швыряли сначала о заледеневшую землю – однако устройство никак не срабатывало. То ли присыпавший снег гасил силу удара, и мелкие внутренние камешки «взрывателя», столкновение которых должно было дать необходимую искру, сталкивались недостаточно… мм, ударно, недостаточно удачно. То ли товарищи, без умолку болтая, говорили под руку и сбивали настрой. То ли что.
– Дай я покажу!
– Подожди, не так надо!
– Да вы не умеете просто, смотрите!
– Дураки, учитесь, вот!
Но ничего не выходило, и раз, и другой, и …надцатый. Ни у того, ни у другого – ни у кого. Тогда они принялись бросать бомбочку в стену общежития – ближе к углу, подальше от светящихся окон. С тем же, собственно говоря, результатом. Перепробовали все, начали уже подмерзать, дело наскучивало, разочарование росло.
– Ерунда какая-то.
– Похоже, не сработает.
– Лучше бы у дедов в части гранату сторговали.
– Пошли, ладно, зуб на зуб уже.
В общем, все они, включая самого народного умельца Протасова, разуверились и развернулись, собираясь идти обратно к кому-нибудь в подъезд греться. Так уж, для проформы, наотмашь, напоследок Мишка швырнул еще раз свою неудавшуюся бомбочку в стену. А стена в ответ вспыхнула так резко и ярко, громыхнула так дико, что почудилось им, сейчас рухнет вся пятиэтажка. Ох, как они чесали через тот пустырь, четыре мелких дичка, четыре оглушенных зайца! Как из всех ярко горящих вечерних окон, казалось им, выслеживали и указывали на них – глядите, вон они, бомбисты, давай за ними, хватай головорезов, в милицию звони, смотри, куда бегут!..
Но обошлось тогда, никто их не заметил или не разглядел в темноте, никто не приходил в школу их разыскивать, и только огромное, с метр в диаметре, черное пятно на стене пединститутской общаги и через два года еще напоминало об отчаянном зимнем испытании новейших вооружений.
Теперь же, два года спустя, они уже обсуждали внутреннюю, и внешнюю, и опять внутреннюю политику юного российского государства – не на политинформации перед первым уроком, а на переменах в курилке. Куда же еще было им идти учиться в те годы, как не на исторический?.. И Протасов, и Баврин чувствовали себя вроде как подводниками, поднявшимися на поверхность в субмарине, что годами бороздила таинственные глубины, загадочные затерянные миры их детства и отрочества, и теперь вдруг распахнулся люк в такую – о, эпическая сила! – бурю, мглу, хлесткую круговерть, в океанский шторм, смешавший единые темные воды и черные небеса, в тяжелый крен Истории, ревущей, грохочущей и перекраивающей самоё систему координат.
В тогдашнем сентябре споры их маленького кружка разговорщиков в сорвавшейся с орбиты стране крутились вокруг одного и, казалось бы, того же: кто виноват? что делать? куда мир катится? Едва ли не каждого из них, из шумной той компании, собиравшейся в курилке на переменах, не покидало ощущение какой-то неисправности: происходящее, дескать, происходит так-сяк-наперекосяк потому, что в какой-то момент была где-то в чем-то совершена ошибка, в поворот свернули не в тот или нужный пропустили; а вот если ошибку обнаружить и исправить, всех виноватых вычислить и примерно наказать… – тут-та, Карлсон, мы и заживем!
– Ребят, но почему, зачем мы всю дорогу начинаем с виноватых?! – размахивал в толпе рукой с папиросой Лева Штейн, третьекурсник. – То есть нам отчего-то надо всегда сначала поставить того или другого к стенке, как будто это что-то исправит. Ну давайте объявление еще дадим в «Из рук в руки»: «Ищу виноватого!» Легче станет? Да не станет! Другой, другой вопрос потому что должен возникать в самом начале, чтобы другой триггер первым срабатывал – не «кто виноват?», а «что делать?»…
Все персонажи этого воспоминания выступают из серого небытия и клубов табачного дыма – и то один, то другой силуэт поочередно вступает в прения, будто в тесный кружок тусклого света.
Вот Толя Волков, высоченный и худой, как верста, рыжеволосый, делает шаг вперед и говорит:
– Превосходная мысль, Лева. Но она превосходит в том числе и реальную действительность, понимаешь? Потому что и ктовиноваты и чтоделати у всех одинаково разные…
– Но!.. – Штейн опять вскидывает руку, пытаясь ворваться внутрь волковских слов.
– Нет, не «но»! – перехватывает его порыв предыдущий оратор.
– Лева, он прав, – выступает поддержать друга и неизменного спутника Толя Зайцев. В отличие от рыжего и лохматого Волкова, он выбрит под Котовского. Что-то есть в нем эдакое успокаивающее, основательное. Кстати, согласно легенде, включенной в устные анналы мифов, былин и небылиц истфака, этих двоих вообще ни разу за все пять лет с первого курса не видели в университете порознь. Ни разу. Что ж, разумеется, вместе они и здесь, в нашем воспоминании. – Мысль твоя понятна, дружище. Ты имеешь в виду, что первоначальной установкой, интенцией должна быть не деструктивность «вины», а конструктивность «решения», ну или поиска решения, так?
Штейн кивает.
– Однако принципиальная проблема несколько в другом. Она глубже и фундаментальнее. В разброде и шатаниях – именно это как раз сейчас и происходит. В том, что голос и мнение есть у каждого; и по принципам нового гражданского общества всякому дана возможность высказаться; и этот всякий считает, что его голос равновелик любому другому, и мы получаем в итоге не мелодическое, управляемое, стройное единство хора, который ведет ту или иную, но общую все-таки песню, а получаем ровно то, что сейчас творится, – смуту всю вот эту, гвалт восточного базара…
– Ну а что, разве не справедливо, чтобы голос был у каждого? – Обыкновенно перваки тихо смолили и помалкивали в таких дискуссиях, но в тот раз Протасов не удержался, влез со своим вопросом. – Справедливо же. И потом – почему мы думаем, что причина в какой-то ошибке? Может, ошибки нет никакой, может, все это совершенно естественная динамика. Нет ошибки, нет виноватых; как у лесного пожара – молния ударила. Это и есть наше время – молния, да? Вот они, наши прекрасные девяностые, мы за них в ответе – и перед собой, и перед старшими, и перед младшими, и перед историей, наконец. И действовать в них, в этом огне мы должны решительно, отважно и браво. А раз так – почему не может иметь свой самостоятельный голос и свое самостоятельное действие каждый из нас? И выбор по своему внутреннему голосу, и действие в соответствии с этим выбором? А сильного и победителя определит время.
– Ты говоришь о справедливости и идеалах… – Толя Волков опять начал, но едва заметно запнулся, а продолжил за него его дуумвир:
– Миш… Миша ведь, да? Ты нарисовал перед собой такую романтическую картину. Но… тут дело в том, что мир не слишком справедлив. В принципе. Можно, конечно, сокрушаться, что реальная жизнь далека от тех или иных идеалов… Однако это не хорошо и не плохо. Видишь ли, иногда и иногде-то несправедливость играет и на нашей стороне. Иногда и мы получаем то, чего не должны были бы получить – если бы все по справедливости было, – Зайцев улыбнулся. – И думаю, на дистанции это как-то… уравновешивается, что ли.
– Толь, – выдвинулся в круг света и Баврин. – А кто же должен управлять – как ты сказал – единством хора?
– Тут уж как сложится, – начинает один. – Подчас считается, что сами хористы выбирают такого… хорега, дирижера. Но мне кажется, что это выбор – времени, эпохи, а не людей.
– Ты никогда не обращал внимания?.. – продолжая, берет слово другой. – В лесу или в роще, в сквере даже, когда и ветра, кажется, нет совсем, ни дуновения – а несколько листов у клена или тополя, липы, неважно, вдруг начинают сами собой колебаться; соседние листы неподвижны, на одной веточке с этими, рядом, а несколько, ну сколько их там, два, три – они словно бы оживают сами собой, да?.. Тогда начинается ветер. – Звенит звонок, и они бегут по аудиториям – туда, в серое небытие за пределами воспоминания и взгляда. О чем-то, как обычно, не договорив, что-то, как всегда, оставив на следующий перекур.
В пятницу в конце сентября были эти разговоры; на оба прохладных, но еще погожих выходных Митя уехал помогать родителям по даче. А утром в понедельник Протасов на факультете не появился, зато после обеда вместо внука пришла баб Таша. Она ждала Баврина перед большим перерывом у дверей поточной аудитории, маленькая, седая и растерянная.
По ее словам, в пятницу вечером Миша рассказал, что звонил Косте Кораблеву, этому вашему Боцману, в субботу же наутро взял билеты на московский поезд и уехал в напряженную, закипающую столицу. Сказал, что проведет там у Боцмана выходные, может на день-другой еще задержится, обещал ей от Кости позвонить, рассказывала баб Таша. Но в воскресенье она звонка от внука так и не дождалась, а сегодня утром приходила соседка и рассказала, что ее невестка ехала с Мишей одним поездом и видела, как на первой же станции за городом милиция сняла с поезда по разным вагонам десятка три молодых мужчин – и Миша Протасов был как раз среди них. Наташа Петровна попыталась от доброхотной соседки позвонить в тот райотдел, выяснить хоть что-то, и в городское управление она ходила сегодня в самую рань, однако и там и там ей сказали, что информации о подобных задержаниях у них нет, время, сами видите, какое – скомканное и смутное, и наверняка все, бабушка, в ближайшие дни само собою как-то прояснится.
Баврин, как мог, попытался внушить баб Таше уверенность в том, что разобраться и найти Мишку будет делом несложным. Предупредил однокурсников, зашел в деканат («по семейным обстоятельствам надо»). Потом проводил старушку домой и, уже оставшись один, понял, что уверенности нет вообще никакой. Что теперь, ехать в райцентр искать следы Протасова? Так там, скорее, сам же и сгинешь. Единственное, что ему пришло на ум, – пойти за советом к Левитину, их школьному математику. У Петра Михайловича, он рассказывал по случаям из жизни, брат служил в областной прокуратуре и в высоких, кажется, чинах. Возможно, с этой стороны имелись какие-то шансы разузнать о Мишкиной судьбе.
Митя забежал в гимназию, еще привычно просмотрел внизу расписание, поздоровался, с кем повстречался; и стены, и воздух, и люди – здесь все так живо помнило его, и он сам пока ничуть из этих стен, и воздуха, и людей не вырос. Так же вихрем вознесся по лестнице на второй этаж, попросил разрешения позвонить из учительской – Михалыч оказался дома; жил он в десяти минутах неспешной ходьбы, которые Баврин влет преодолел за пять. У парадного, правда, отдышался, оправился и пятерней чуть выправил прическу – все же проходил он теперь по студенческому, взрослому разряду, а не мальчишкой-пострелом. Левитин принял его очень дружелюбно, позвал в гостиную, стал было расспрашивать о новой жизни, учебе и прочем, но Митя, извинившись, сообщил, что пришел, в общем-то, с единственной целью – за помощью. Рассказал все вкратце; Михалыч кое-что уточнил, сделал в блокноте несколько записей и пообещал сегодня же встретиться с братом.
– Надеюсь, что удастся что-то тут сделать, – очень серьезно сказал учитель. – Главное, чтобы Миша…
– Что? – спросил Баврин, так и не дождавшись окончания фразы.
– Не знаю что, – помолчав, ответил Левитин. – Время сейчас злое и на глупости скорое. Страшное время. Я позвоню, Митя, если удастся разузнать.
Левитин, кстати, тогда не позвонил. Но в среду, двадцать девятого, Протасов появился перед первой парой, как ни в чем не бывало. Неохотно рассказал, что три дня его держали в милиции: три допроса и один вчера серьезный разговор. Потом отпустили – что, как, почему, он и сам толком не знает. Подписку о невыезде взяли, дали справку для деканата, что находился в рамках проведения оперативно-разыскных каких-то уж там мероприятий.
Помогли ли чем в этом счастливом разрешении хлопоты баб Таши, Мити Баврина, Левитина ли, левитинского ли брата, или само уж оно сложилось эдаким более или менее благосклонным образом – так и осталось неизвестным.
Глава 6
Сто восемь миллиардов
Да, именно столько. Задумывались вы над этим или нет – именно столько людей жили на Земле за всю историю человечества. Сто восемь миллиардов. Или около того – точного числа, конечно, никто не назовет. (А вернее, можно назвать любое число этого порядка – и оно будет точным, если вы понимаете, о чем я.) Вот столько нас – всех вместе, не разделяя на мертвых и живых. Когда я не так давно, несколько лет назад, обнаружил по случаю это число и пытался вообразить себе, насколько оно велико или мало, как вообще может оно выглядеть, мне представилось, что за каждым из ныне живущих – из тех, чьими копошениями, движениями, голосами заполнена сей час поверхность планеты, – за каждым из этих семи с чем-то там миллиардов идут, сцепившись паровозиком, будто на утреннике или на полуночных танцах в развеселом клубе, еще четырнадцать человек. Четырнадцать нас. За каждым из нас – включая младенцев в материнских утробах. Первые, ближние в этих цепочках – еще вполне себе кости; от тех, что к середине, осталась лишь пригоршня праха; от самых же последних – только тень, дуновение ветра…
А можно, например, подсчитать иначе. Взять вот, кстати, хоть наш добрый старый Энск, заштатный по современным меркам городишко всем населением в треть миллиона. Не три миллиона, не путайте – треть! И когда – следим за мыслью внимательно! – в каждом из жителей нашего доброго старого Энска мы откроем внутри, как матрешку, такой же еще город Энск со всеми его тремястами тридцатью тремя тысячами горожан – тогда общим числом этого тайного внутреннего населения и будет все человечество от начала времен до сего дня, от мала до велика. Энск энсков человек, математически говоря. Самому мне, по чести сказать, второй вариант воображения кажется даже более удачным: мне нравится, что в нем все люди настоящего времени с людьми прошлых времен перемешаны до неразличимости, кто там кого держит за руку, целует, обнимает, к сердцу прижимает или что.
Потому что так оно и есть – как ни крути, нет границ между нами. Я мог бы много тут говорить еще о человеке во времени, о непрерывности истории и прочем, и прочем, и прочем. Но зачем? Мы и так прекрасно понимаем друг друга. Достаточно того, что дед мой с бабушкой где-то там же, что и сотник из экспедиционного тумена Субэдей-багатура, и Алиенора Аквитанская, где и ваши прадеды с прабабками, и пожилая болдинская крестьянка, что носила молодому барину по утрам свежего молочка осенью тридцатого, и афганский пастух, и юноша-шайенн – на него мы смотрим отчего-то не сбоку, как на многих иных, а со стороны ночного и звездного неба, которое и сам он разглядывает, лежа спиной на еще не остывшей от долгого летнего солнца, доброй, с давнишних детских игр приветной скале.
Каждый из них жил – и каждый никогда больше не повторится. Такое множество похожих и совершенно разных людей, со сходными и отличными одна от другой судьбами; людей, вместе с тем непостижимым образом одинаково смотревших из глубины ночи на прорисованную лунным светом занавеску. Да, любой из всех может быть воображен – в известной, в безвестной ли своей судьбе. Но сколько там будет от него в этом воображении, а сколько от меня самого, воображающего?
Томас Нагель, мы помним, задается вопросом: каково быть летучей мышью? – и по долгом размышлении обнаруживает, что у нас нет и не будет возможности на подобный вопрос ответить. Но это еще ладно. Можем ли мы ответить, скажем, каково быть тем безымянным сотником Субэдеевым, пытливо разглядывающим очередную – бессчетную на бесконечном пути – речушку и долгое поле за нею? Кто-то способен отождествиться с ним? Или вот с тем седовласым – кто он там: фракиец, афинянин? – стариком, изгнанником, греком, что стоит у борта триеры и смотрит во взбиваемую веслами вечную глубину моря Ио? Да и что настолько вдаль глядеть – могу ли я сам ответить, каково быть моим отцом? или моей матерью? а моей сестрой? Которой у меня нет.
Поэтому мы и несемся сквозь поток времени и газировки каждый один, каждый в своем пузырьке – бывшие и настоящие, реальные и вымышленные. Поэтому и получается, что человечество – уравнение, где сто восемь миллиардов неизвестных. И я совсем не противоречу себе. Потому что порознь ли, вместе ли, все равно одно единое мы здесь – и те, кто, подобно нам с тобою, Дмитрий Владимирович, пока наверху, где голос звучит и сияет свет, и те, из кого составлена подземная часть одушевленной горы. В картине сей, мозаике, мелодии – ничего нового; сто восемь миллиардов стежков, щелчков, мазков. Огромный и странный бутерброд из биологии и мифологии – вот оно все, это ваше человечество.
Что ж, еще немного жизни теперь написали, подумал Баврин, раскладывая кусочки сыра по бутербродам. Затеяли вдвоем будущее это письмо – первые знаки, первые строки, хромосомы, что там, молекулы ДНК. Сложились, если так можно сказать – чтобы дать возможность новому сознанию совершиться в мире. Все мало-помалу предначинается в этой истории – еще одной плюс к ста восьми миллиардам, той, чей крохотный зародыш спит пока перед входом в общее наше жи́тие и растет во сне, обрастая будущим собой. Риты внутри.
Странно, но в прошлый (то есть в первый) раз все было иначе – самосовершилось как будто без особого их с женой участия, сколь бы комично это ни звучало. Само по себе, от них в стороне – так небо меняет цвет по часам, так вращается год вокруг солнечной своей оси… Ему сколько тогда было – двадцать девять, еще не тридцать даже, а Рите едва исполнилось двадцать, она сама-то дитя, смех один. Ту минуту, когда она ему сказала, – о, ее он помнил прекрасно! А вот последующие за ней семь-восемь месяцев – просто вылетели напрочь, будто и не было их вовсе. Не обнаруживалось в памяти совершенно ничего – что, как, были ли они, дни и месяцы те, вообще или он сразу через час забирает в Красном Кресте двоих, куда сдавал одну? Недавно выяснилось, кстати, что и Маргарита тоже ничего из того первого опыта не помнит. Будто и для нее взаправду сейчас это все как-то в новинку и в диковинку.
Однако – если, конечно, верить на слово шести-с-половиной-летнему заявлению, сделанному однажды на полном серьезе за воскресным семейным завтраком, – однако память о тех месяцах сохранилась у того, от кого меньше всего можно было бы такого ожидать, – у Егорки. «Помню, как я где был» – так он выразился. Началось с того, что ребенок, безаппетитно почерпывая ложкой жидкую кашу и лениво спуская ее обратно в тарелку, посчитал нужным уведомить взрослых, будто полагает неверным расчет своего – а за своим и любого – возраста. Дескать, правильно было бы вести отсчет не со дня появления готового малыша из маминого животика на свет божий, а со дня появления в этом самом животике души живой и божьей искры. Согласны? На возражение Риты, что внутри животика он был еще не самостоятельный человек, а только часть мамы, юный философ ответил, что уже и тогда осознавал себя и – ergo – существовал. (Разумеется, таких именно слов Баврин-младший в те времена не знал, это уж нынче отцовское сознание столь витиеватым образом выражало те давние детские мысли; но что сами мысли были именно таковы – тут Дмитрий Владимирович готов был дать голову на отсечение!..)
– А вы, молодой человек, – обратился Баврин к сыну, – подтвердить это ваше осознанное существование можете чем-то? Чтобы мы с мамой могли, так сказать, с чистой совестью вам эти семь-восемь месяцев накинуть. Иначе придется пока слушать старших, подчиняться дисциплине и кашу все-таки доедать.
– Могу и подтвердить, – уверенно ответил сын. – Помню, как я где был.
И рассказал, что помнит прекрасно бабушку и дедушку, хотя никогда в жизни своей их не видел. Однако Рита, будучи уже в положении, то есть – с ним, летала в том году к родителям через Москву. И вот теперь Егорка ничтоже сумняшеся сообщил, что помнит и то, как они ехали с мамой по земле, и как спускались в глубину под землю, и поднимались обратно на свет, и летели по небу. Как тепло и молочно обнимала бабушка, а ночью плакала тихо, что свеча, без хлипов, в приглушенном свете спальни; как пахло дедовым табаком и лекарствами и тянуло из форточки сыростью, прелой листвой. Каким темным и зеленым было пальто тети Маши, когда она нас встречала, разве ты не помнишь, мама, с широким таким пояском?
– Но откуда… как ты мог это видеть-то, Егор? – Рита, конечно, не помнила, каким там именно было сестрино пальто, но сам рассказ сына поразил ее независимо от того, насколько точным в деталях он был. Она странно засмеялась. – Через животик мой, что ли, видел? Через кофту насквозь? Через пуховик?
Егорка, шести тогда с половиной лет от роду, взглянул на нее так, будто ну невозможно же на самом деле не понимать настолько очевидных вещей.
– При чем тут вообще живот, пуховик? Через глаза твои, мама, – сказал.
Глава 7
Троица
Последний раз он виделся с Протасовым позапрошлый год на Троицу. «Крайний раз» виделся – как сказал бы, суеверно и уверенно поправляя Баврина, современный русский народ. И смех, конечно, и грех, и грецкий орех с этими «крайностями». А вот народу, кстати, на светлый праздник собиралось по обыкновению тьма. Несмотря на сплошную облачность в тот день и принимающийся час от часу моросить дождь, город будто бы перебрался большей своей частью на кладбище: улицы даже и в самом центре Энска лежали совершенно пустыми – ни людей почти, ни машин; зато за городом кладбищенские дорожки, сектора и участки были многолюдны, заполнены зонтами, движением, брожением, шуршанием полиэтиленовых плащей, приветами, встречами, праздными разговорами. К чести мэрии, справлялись с этим наплывом предусмотрительно и подготовленно. Доставка живых к их мертвым происходила организованно и по плану: для всего личного транспорта, дабы избежать пробок, проезд от начала шоссе закрывали, снимали большую часть автобусов со всех остальных городских маршрутов и переводили их на кладбищенский 11-й, интервал по которому с самого раннего утра составлял не больше двух-трех минут. И все равно, конечно, автобусы шли основательно набитыми.
Баврин впервые взял тогда с собой Егора – а Риту, у которой в энской земле никого не было, они оставили дома. Взобрались в автобус на площади, сына он задвинул в уголок, сам стал рядом, тронулись; и на тебе – Миша Протасов заходит на следующей!.. Хоть вошел старинный друг и через переднюю дверь, вдалеке от стоявших на задней площадке Бавриных, но взгляды их как-то сразу встретились, выхватили друг друга в толпе, в тесноте и обиде. Больше двух лет – с весны, с лета ли четырнадцатого – они до того дня не виделись, не слышались и не перемолвились словом ни в онлайне, нигде. Протасов бросил на Баврина один-другой быстрый взгляд (первый – случайный, второй – мгновение спустя – уточняющий) и, не кивнув, повернулся к протискивающемуся кондуктору, а потом уставился куда-то вперед в окошко поверх голов. Будь дело в будний день, в другую неделю, можно было бы сделать вид, что они едут в разных направлениях, выйти раньше, проехать дальше, еще что-нибудь. Однако именно в это воскресенье направление у всех в автобусе было единственным.
И вышли они там же, где и большинство пассажиров – у Старого и Нового, через дорогу одно от другого, кладбищ. Ко Второму, которое лежало двумя остановками дальше, поехали совсем немногие – было оно отчего-то не слишком популярным. В вывалившейся на дорогу и теперь растекавшейся на ручейки толпе Протасова вдруг разглядел Егорка: «Пап, дядя Миша!» – вскрикнул и потянул за руку к нему.
Тут уж отвертеться от встречи было невозможно. Они поздоровались за руку, ничем не выдав двухлетнего отчуждения и льда. Сын тоже протянул дяде Мише маленькую руку, которую тот с улыбкой крепко пожал. Баврин спросил, что-как баб Таша, здорова ли, помнит ли, выходит ли; Протасов в ответ поинтересовался, как дела у Риты. Дальше – не расходиться же – пошли в праздничной толпе вместе: в общем-то, им было всем по пути. Баврин девять лет как приезжал сюда к отцу и маме; родители Протасова, доставленные в закрытых гробах из Новороссийска, упокоились здесь еще в восемьдесят шестом. Центральная аллея, потом налево, второй ряд. Простой, неприметный памятник Николая Петровича и Риммы Артуровны. Протасовых, как самых близких к воротам из тех, кто их ждал, они навестили первыми. «А мы оба теперь их старше», – подумал Баврин.
Егор стоял на шаг ближе к памятнику, со странным вниманием разглядывал портреты, цифры, буквы – краска выглядела свежей, кажется, недавно подновленной.
– Дядя Миша, – обернулся он, – а вы их хорошо вообще помните?
Протасов несколько отрешенно покивал, потом на минуту задумался.
– Знаешь, Егор Дмитриевич, какими словами начинает свой знаменитый труд «Домоводство» Петр Достопочтенный, девятый аббат Клюни? – Он изобразил пальцами воздушные кавычки. – «Человеческая память исключительно слаба, и смертные не могут оставить потомкам правдивый отчет о своих деяниях». Это как облачко на фотографии. Вот и я даже не знаю – то ли я помню их, то ли воображаю. Отчетливо ли вижу вот тут? – он легонько стукнул по лбу. – Кажется, вроде, да. Но не слишком часто, наверное, смотрю.
Протасов помолчал, усмехнулся, потрепал слегка Егоркины вихры.
– Сказать, как твой папа с друзьями по-шутейному меня называли в детстве, в школе? Михал Натальевич – по отчеству в честь моей баб Таши. Я больше бабушкин сын, это правда, чем родительский. Странная тут получается замена – мама с отцом для меня как раз такое не очень четкое воспоминание из далекого детства – похожее примерно на то, как обычно бабушек с дедушками помнят. Ну, пойдем дальше, что ли? – обернулся он.
Баврин рассеянно кивнул.
Потому что дальше их шестнадцать уже лет ждал Лехман. Старший лейтенант Манченко Алексей Викторович. Тысяча девятьсот семьдесят шестой тире двухтысячный. Кавалер ордена Мужества (посмертно). Пал смертью храбрых в сырую весну Второй чеченской под обстрелом, когда колонна десантников попала в засаду.
– А где он погиб? – спросил Егорка, которому отец много рассказывал о друге детства. Лицо это мальчик видел, кажется, впервые и пытливо вглядывался в застывшую на черном граните улыбку: тонкие губы спокойно сжаты, лишь чуть-чуть приподнят правый уголок.
Баврин и Протасов переглянулись.
– В Чечне, – ответили оба в один голос.
– Да это ясно, – сын покачал головой над тугоумием взрослых. – Я имею в виду – где именно там в Чечне? Почему здесь на памятниках всегда даты пишут, а места нет: где родился, где умер? В «Википедии» же всегда указывают и дату, и город.
– Тут ты прав, – помолчав, ответил Протасов. – А так у нас выходит, что время как будто важнее пространства, да?.. Но про Лешку мы просто не знаем с твоим отцом, где, что, в каком ауле. Можно было бы разыскать, конечно, это все, но… Это не самое главное теперь, наверное.
А Баврин вспомнил, как они стояли в этом вот самом уголке пространства на похоронах. Народу было немного: родные, военкоматские, несколько незнакомых, да, в общем, и все; они втроем жались тогда друг к другу на стылом ветру ранней весны – Боцман, Баврин и Мишка. Прозрачная апрельская геометрия подчеркивала внезапно образовавшуюся пустоту: как будто из-под них из-под каждого вдруг резко выбили одну ножку. «Чертовый преферанс. Черви начинают и выигрывают», – хрипло сказал Боцман с какой-то мерцающей между ангелом и бесом улыбочкой, когда стукнули первые комья земли.
Навещали Лехмана в его отдельном от них одиночестве – не так чтобы слишком часто, обыкновенно раз-другой в год: на Троицу, на день рождения, когда тепло; первый раз собрались сюда втроем, после – уже вдвоем, потом два года – четырнадцатый, пятнадцатый – Баврин приезжал один. Листки воспоминаний мелькали перед ним.
По молодости лет, конечно, поминали, не без этого. Протасов разливал из фляжки по пластиковым стаканчикам. Наклонишь край, чуть плеснув в землю усопшему. Остальное сам, в один большой глоток, где в глубине нутра – горячая вспышка и слезы на глазах. «За тебя, брат!» – вслух, конечно, не говоришь такого, неловко, а внутри повторяешь который раз, который год.
– Так и хочется отчего-то ему сказать: «Ну, будь здоров!» – как-то пошутил Баврин, еще не до конца разморщившись от горечи.
– А у меня все какие-то «косточки русские» в голове толкутся, – ответил Протасов.
– Ну, косточки-то действительно русские.
– Такие же, в общем, как и любые другие. – Протасов достал тризненную свою фляжку из сумки и кивком указал на бавринский стаканчик. – Как и любые другие… Знаешь, пришло сейчас в голову. То, что здесь… там, – кивком указал вниз, – какое это имеет отношение? Ведь, по сути дела, он лежит где угодно, в любой могиле.
– Как это – где угодно?
– Ну вот так. Он ведь лежит там, куда мы к нему пришли.
Было уже подобное, было. Спорили и в прежние года на том же месте, что и сейчас, о духе и прахе.
– Ну уж нет! – горячился Протасов. – С похожим успехом можно сказать, что горстка невесомого пепла – это второй том «Мертвых душ». Это совершеннейшая чушь! Ничего подобного.
– Миш, но как раз этот пепел и был вторым томом – до одной таинственной февральской ночи тысяча восемьсот пятьдесят второго года.
– Нет. Нет, Митя, нет! Тысячу раз нет! Пепел был бумагой, лишь бумагой. Листами, на которых записаны «Мертвые души». Только и всего. Вот и здесь в земле, в двух метрах под нами – такая же бывшая бумага, понимаешь?
– Да ведь не существует же ничего отдельно. Бумага и почерк вместе – «Мертвые души». Нельзя их разделить, нет почерка без бумаги!..
И так вот – снова, снова и снова.
Следующим пунктом на их поминальном маршруте был Боцман. Тремя годами и тремя аллеями дальше.
После Лешкиных похорон Боцман наведывался в их добрый старый Энск совсем редко, раз-другой в год; мотался он в основном между Москвой и Петербургом со своим «Призрачным Флотом» – где-то пел, где-то пил, как-то так в стороне от них жил. Насколько Баврину помнилось, они один только раз за те три года в городе и встретились – и то по воле случая, на улице столкнулись; перемолвились ни о чем серьезном за пешеходным переходом, договорились то ли списаться, то ли созвониться. И о том, что Боцмана больше нет, узнали они с Мишкой из десятых рук. Погиб он нелепо: здесь, дома, гулял ночью с девушкой в мутной какой-то компании, где знакомых им было полтора человека; забрались на стройку – и Костя полез там подшофе на башенный кран – отчего вообще? зачем? – и то ли сорвался сверху, то ли… До той ночи он всегда был другом Боцманом; после нее – осталась одна вот эта плита с официальным его ФИОм, начертанным позолоченным курсивом: Кораблев Константин Ильич. И из четырех мушкетеров, гардемаринов, кто там еще был у них, остались двое – Мишка-Портос и Митя Баврин.
Обо всем об этом Баврин рассказал сыну у могилы Кости Кораблева.
– Ты их еще любишь, обоих, да? – спросил Егорка.
– Так же, как и всегда.
– Ничего не поменялось, что их больше нет?
– Нет. – Баврин на секунду задумался, забавно закусив губы. – Когда я их люблю, их не «нет», понимаешь? Когда мы говорим о них, они живы.
– Ну все, повеяли романтизмы с идеализмами, – буркнул Протасов, замахал ладонью, изображая, как разгоняет в воздухе ароматы.
– А что такого, дядь Миша?.. – любопытно спросил Егорка.
Баврин, хоть и раздосадованный протасовской бестактностью, промолчал, не стал ввязываться в полемику. И место было не то, и диспозиция, и спорить с товарищем при сыне ему не хотелось. О, сколько уж их было за всю историю, этих обсуждений, раздоров, дискуссий в минувшие годы! Неизменны на свете четыре вещи: пирамиды в египетской пустыне, встающее на востоке солнце, Волга, впадающая в теплое море, и Баврин с Протасовым в неизбежном споре. Иногда казалось, что два мнения – Мишино и Митино – априори установлены противуположными. По совершенно любому – реальному или вымышленному – вопросу. Они сталкивались и спорили, упираясь друг в друга силой и непреклонным своим упрямством. Чтобы оставить след, ручке надо во что-то упираться; не начертишь же ни единого слова на подвешенном в воздухе листке бумаги – разве не так? – в нередкие минуты благодушия Протасов любил подвести подобный теоретический фундамент под их крепкую, твердую, несокрушимую противуположность.
Где-то здесь же и она покоилась – их давняя дивная юность; под невидимым надгробием в виде раскрытой, недочитанной, брошенной корешком вверх книги. И порядка слов в этой книге не было никакого. Пролистывая наугад, что обнаружит в ней любопытный? – Вот видишь, Ниночка Воробьева, в девичестве Сперанская, длиннокосая однокурсница, совершенная мечта их неумелой влюбленности, долгие страницы их неловких попыток завоевать ее благосклонность, – и вот она проходит мимо них, в эту минуту остолбеневших, проходит через сквер и мимо фонтана куда-то в собственную историю об руку с русоволосым, белозубым красавцем-кавалергардом – и удаляется из будущего и судьбы. Или вот Протасов, стоя за столиком в кафетерии, рассказывает возлюбленному другу сюжет очередной – какой уже по счету? – главы «Четырнадцати блистательных сражений». И это опять, да, русские, и опять – что ты будешь делать – поражение, отступление, горечь.
– Что? Ну опять русские, конечно, и что? – Мишка бесится от бавринской усмешки.
– Да ничего. Ты же просто из всеобщей человеческой истории отбираешь, говорил. А получается, отбираются только наши – сколько там, из десяти уже семь? Восемь?
– Ну во-первых, из всей, как ты говоришь…
– Эй, это ты говоришь! – взмахнув рукой, еще с улыбкой перебивает Баврин.
– Ладно, ладно, как не ты – как я говорю, из всей человеческой истории разве что история Франции, может быть, где-то вровень с нашей встанет… и то, пожалуй, лишь на цыпочки привстав. Это во-первых. А во-вторых, что я скажу – родины много не бывает. А в-третьих, самые сильные военные истории – это истории о поражениях. О знаменитых и почти забытых. Смотри, «Слово о полку Игореве», или операция в Могадишо, или Аустерлиц, или Четырнадцатое декабря; осажденная и обреченная крепость – Илион, Севастополь, Брест… В общем, слушай.
И он рассказывает. Палящее солнце лета двенадцатого года, начало августа. Первая и Вторая русские армии Барклая и Багратиона соединились у Смоленска. Наполеон, так и не сумев навязать противнику генеральное сражение и разгромить армии раздельно, остановился со Старой гвардией в Витебске, войска же его, как сообщает разведка, разбросаны на большой территории севернее, восточнее и южнее города. В русских армейских верхах и в сферах повыше витает смелая идея: быстро выдвинув основные силы из Смоленска, разбить французов порознь, начав со стоящей под Рудней кавалерии Мюрата. Сам Барклай считает эту идею авантюрной, высказываясь за то, чтобы продолжить отступление, но и главнокомандующий бывает вынужден под общим давлением изменить свои планы – и объединенная армия начинает марш на Рудню. Однако уже на марше вдруг поступает известие, что решительный удар направлен в пустоту: французов в Рудне больше нет! Наполеон, гений маневра, упредив замысел противника, собирает свои корпуса в единый кулак и предпринимает обходной марш-бросок – с целью обойти левый фланг русской армии и, отрезав ее от Москвы, от снабжения и коммуникаций, навязать генеральное сражение в неудобной позиции с перевернутым фронтом. Корпуса Мюрата, Нея, Даву, Богарне, Груши переправляются через Днепр и тяжелой, неотвратимой тучей стремительно идут на Смоленск через Красный.
Чтобы прикрыть левый фланг армии, Барклай перед выступлением оставил в Красном, в пяти десятках верст от Смоленска, двадцать седьмую пехотную дивизию генерала Неверовского. Дивизия эта, сформированная из рекрутов менее года назад, еще не имела боевого опыта. Кроме всего прочего, в Красном под командованием Неверовского стояли лишь три полка из шести: Симбирский пехотный, сорок девятый и пятидесятый егерские полки с полутора десятками орудий, – усиленные полком харьковских драгун и казаками. Общее число русских сил под Красным составляло менее семи тысяч человек.
Наутро второго августа Неверовский обнаружил перед собой три кавалерийских корпуса Мюрата, поддержанные французской пехотной дивизией из корпуса маршала Нея. Французы решительным ударом выбили оставленный в городке отряд егерей и казаков, которые, опасаясь окружения, отошли в предместья к основным силам дивизии. Неверовский выстроил свои полки за оврагом, десять орудий расположил на левом фланге, прикрыв их Харьковским драгунским полком. Пятидесятый егерский полк Назимова с двумя орудиями он отправил по дороге к Смоленску, чтобы подготовить оборонительные позиции за небольшой речушкой. После полудня французская кавалерия атаковала и обратила в бегство драгун и казаков, вслед за которыми рассеялась батарейная рота дивизии. Неверовский остался с двумя пехотными полками – против многократно сильнейшего неприятеля.
В эти минуты он, имея перед собою французскую пехоту и обходящий его позицию поток кавалерии Мюрата, принимает решение отступать к Смоленску. Полки выстраиваются в два каре и начинают движение. «Ребята! Не для срама, но для славы угодно было судьбе поставить нас здесь, – обращается генерал к не нюхавшим прежде пороху недавним рекрутам. – Помни каждый крепко, чему учили. Никакой кавалерии вас не победить! Только твердо держите строй и стреляйте метко, не торопясь!» Так, держа строй, Неверовский и начал отход к Смоленску. Раз за разом накатывала на каре лава французской конницы – раз за разом, остановленные метким огнем, валы ее откатывались обратно. Пехоте помогало то, что дорога, по которой отступала дивизия, была обрыта рвами и обсажена деревьями – это мешало Мюрату организовать атаку широким фронтом. Кроме того, французов подвело отсутствие сильной артиллерии, которая могла бы картечью расстроить русские каре. Несколько часов подряд пехота Неверовского прокладывала путь в море французской кавалерии, хладнокровно отражая второй, третий, четвертый десяток атак. Десять верст из пятнадцати было пройдено, когда дорога вывела к деревне. Закончились рвы и придорожный лесок, оставались последние пять верст – по открытой местности. Генерал приказал оставить обреченный заслон, который был отрезан французами и погиб, выкупив собою у смерти отходящие батальоны. Уже в сумерках Неверовский приблизился к позициям, где закрепились отправленный им ранее вперед егерский полк с двумя орудиями, отступившие драгуны и казаки. Спасительная поддержка артиллерии и надвигающаяся темнота остановили атаки французов; Мюрат отошел – и потрепанная, обессиленная, потерявшая полторы тысячи солдат, но не разгромленная дивизия смогла остановиться на отдых.
Современники отметили сражение второго августа как хрестоматийный пример действий каре хорошо обученной, храбро и грамотно управляемой пехоты против неприятельской кавалерии. «Неверовский отступал, как лев», – написал граф де Сегюр. Маршал Мюрат, сколь лихо, столь и безуспешно пытавшийся раздавить своей кавалерийской лавиной горстку храбрецов, сказал: «Никогда не видел я большего мужества со стороны неприятеля». Багратион докладывал в реляции Александру Первому: «Нельзя довольно похвалить храбрость и твердость, с какой дивизия, совершенно новая, дралась против чрезмерно превосходных сил неприятельских. Можно даже сказать, что примера такой храбрости ни в какой армии показать нельзя». Адъютант генерала Ермолова Павел Граббе записал: «День второго августа принадлежит Неверовскому. Он внес его в историю».
Назавтра, третьего числа, полки двадцать седьмой пехотной подошли к Смоленску. Денис Давыдов, бывший в тот день свидетелем вступления дивизии в город, запечатлел эти минуты так: «Я помню, какими глазами мы увидели ее, подходившую к нам в облаках пыли и дыма, покрытую потом трудов и кровью чести. И каждый штык ея горел лучом бессмертия!»
Затем они навестили родителей Баврина, Егоркиных бабушку с дедом. На скорую руку все втроем прибрались внутри оградки, посидели – молча. Баврин смотрел на простое лицо былого друга и думал, что вот, слово, произносимое нами, сделано оно артикуляцией и гортанью из невесомого воздуха; но иные слова оказываются крепче и тверже железа и камня. И воздух их, воздух той горечи, памяти, обиды долговечнее и камня, и металла, и пластика.
Затем, еще заглянув ненадолго совсем далеко – уже к его, а не Егора, деду и бабушке, они так же вместе пошли сквозь праздничную толпу и обратно к остановке; Егорка увлеченно рассказывал дяде Мише о школьных своих делах и заботах, трудах и днях, о репетиторах и секциях. Протасов, внимательно слушавший и изредка разбавлявший Егоркины речи метким то замечанием, то примечанием, перехватил темнеющий взгляд Баврина-старшего, улыбнулся:
– Ладно тебе, столько не виделись… Где еще поболтать о жизни, как не на кладбище?
Они вышли за ворота, сели в автобус. В город было ехать свободнее, возвращались и прощались быстро. Странной какой-то обернулась та встреча: внезапно случилась, легко оборвалась. Мертвецы остались на своих неизменных местах – кто в земле, кто в памяти, кто в забвении; но вот переменились ли те, кто от них вернулся? – живцы, как смехом назвал их на обратном пути Протасов.
Глава 8
Все эти люди
«Энский наблюдатель». 3 марта, 08:15.
УЧИТЕЛЯ-ИСТОРИКА ВТОРОЙ ГОРОДСКОЙ ГИМНАЗИИ ОБВИНЯЮТ В ЭКСТРЕМИЗМЕ И ОПРАВДАНИИ НАЦИЗМА
Следственный комитет предъявил обвинения по статье 282 Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды» бывшему учителю истории Второй гимназии Михаилу П. Поводом стали посты в социальных сетях и блоге 42-летнего педагога. Следователи также инкриминируют ему деяния, ответственность за которые предусмотрена статьей 354.1 «Реабилитация нацизма», с заявлениями о чем обратились родители сразу нескольких учеников гимназии. Вчера по ходатайству следствия суд принял решение об избрании мерой пресечения для бывшего историка заключение под стражу.
Алиненок
А что, нормально!! Нет слов просто!! Пусть там в Башне еще разберутся, кто его вообще наших детей учить допустил!!!
Ротмистр
В моей семье воевали два деда и бабушка. Вернулись домой с медалями и орденами. (Невеликими, скажу, орденами, но каждый из них был заслужен кровью.) Старший брат деда и два брата другой бабушки не вернулись, и могил нет – только желтый клочок извещения-похоронки от каждого остался. Если бы не война – были бы и у них свои семьи, а у меня было бы больше двоюродных и троюродных. Но их нет. В семье жены были те, кто пережил – и кто не пережил – оккупацию. И наши двое сыновей знают об этом все – и знают с нашей стороны. И они расскажут об этом своим детям – тоже с нашей стороны. Да, можно было бы говорить, что с той стороны войны сражались такие же живые люди, со своими семьями, мечтами, идеями, трагедиями, что не все из них – убийцы и каратели, что они были просто солдатами, офицерами, с такими же понятиями о присяге и долге, и оказались в условиях, где они должны быть верными своей присяге, исполнять свой долг и приказы. Можно бы сказать. Но! Нельзя забывать при всей этой регуманизации врага, что война шла не где-то на территории третьей страны, не за геополитические «интересы» – как в Афганистане или в Сирии, или в русско-турецкую, в русско-японскую, в финскую, или даже в Первую мировую, – война шла на нашей земле и за саму нашу землю, в прямом смысле за существование наших дедов и прадедов, их семей, их детей и детей их детей – то есть за нас с вами! В эту войну была вовлечена не только армия и военная промышленность. Вся жизнь огромной страны в те четыре года была страшной войной и стоянием насмерть. Не стрелки «красных» и «синих» вонзались друг в друга на оперативных картах, а живые люди, миллионы (можем ли мы сейчас вообразить себе такие масштабы?) людей рвали жилы и готовы были умереть за свой дом и свое право жить в нем – и умирали. Для советского народа это была не война на победу, а война на выживание. Казалось бы, прошло семь с половиной десятилетий, какое отношение имеет та давняя война к нам сегодняшним? А ровно то же отношение, которое имеют к нам наши деды и бабушки. Они – часть нас, и значит, она – часть нас. Так что и Господь бы с ним, с личным экстремизмом этого гражданина (посты-репосты; тем более что всякое нынче с подобными делами бывает), это его частные загибы и отдельный, в общем, разговор. Но обсуждать с детьми и как-то оправдывать нелюдей, которые приходили убить твою семью и разграбить твой дом, – вот это за пределами человеческого понимания!
