Белый пароход
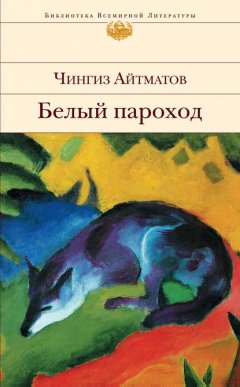
1
У него были две сказки. Одна своя, о которой никто не знал. Другая та, которую рассказывал дед. Потом не осталось ни одной. Об этом речь.
В тот год ему исполнилось семь лет, шел восьмой. Сначала был куплен портфель. Черный дерматиновый портфель с блестящим металлическим замочком-защелкой, проскальзывающим под скобу. С накладным кармашком для мелочей. Словом, необыкновенный самый обыкновенный школьный портфель. С этого, пожалуй, все и началось.
Дед купил его в заезжей автолавке. Автолавка, объезжая с товарами скотоводов в горах, заглядывала иной раз и к ним на лесной кордон, в Сан-Ташскую падь.
Отсюда, от кордона, по ущельям и склонам поднимался в верховья заповедный горный лес. На кордоне всего три семьи. Но все же время от времени автолавка наведывалась и к лесникам.
Единственный мальчишка на все три двора, он всегда первым замечал автолавку.
– Едет! – кричал он, подбегая к дверям и окошкам. – Машина-магазин едет!
Колесная дорога пробивалась сюда с побережья Иссык-Куля, все время ущельем, берегом реки, все время по камням и ухабам. Не очень просто было ездить по такой дороге. Дойдя до Караульной горы, она поднималась со дна теснины на откос и оттуда долго спускалась по крутому и голому склону ко дворам лесников. Караульная гора совсем рядом – летом почти каждый день мальчик бегал туда смотреть в бинокль на озеро. И там, на дороге, всегда все видно как на ладони – и пеший, и конный, и, конечно, машина.
В тот раз – а это случилось жарким летом – мальчик купался в своей запруде и отсюда увидел, как запылила по откосу машина. Запруда была на краю речной отмели, на галечнике. Ее соорудил дед из камней. Если бы не эта запруда, кто знает, может быть, мальчика давно уже не было бы в живых. И, как говорила бабка, река давно бы уже перемыла его кости и вынесла бы их прямо в Иссык-Куль, и разглядывали бы их там рыбы и всякая водяная тварь. И никто не стал бы его искать и по нем убиваться – потому что нечего лезть в воду и потому что не больно кому он нужен. Пока что этого не случилось. А случись, кто знает, – бабка, может, и вправду не кинулась бы спасать. Еще был бы он ей родным, а то ведь, она говорит, чужой. А чужой – всегда чужой, сколько его ни корми, сколько за ним ни ходи. Чужой… А что, если он не хочет быть чужим? И почему именно он должен считаться чужим? Может быть, не он, а сама бабка чужая?
Но об этом – потом, и о запруде дедовой тоже потом…
Так вот, завидел он тогда автолавку, она спускалась с горы, а за ней по дороге пыль клубилась следом. И так он обрадовался, точно знал, что будет ему куплен портфель. Он тотчас выскочил из воды, быстро натянул на тощие бедра штаны и, сам мокрый еще, посиневший – вода в реке холодная, – побежал по тропе ко двору, чтобы первым возвестить приезд автолавки. Мальчик быстро бежал, перепрыгивая через кустики и обегая валуны, если не по силам было их перескочить, нигде не задержался ни на секунду – ни возле высоких трав, ни возле камней, хотя знал, что были они вовсе не простые. Они могли обидеться и даже подставить ножку. «Машина-магазин приехала. Я приду потом», – бросил он на ходу «Лежащему верблюду» – так он назвал рыжий, горбатый гранит, по грудь ушедший в землю. Обычно мальчик не проходил мимо, не похлопав своего «Верблюда» по горбу. Хлопал он его по-хозяйски, как дед своего куцехвостого мерина, – так, небрежно, походя: ты, мол, обожди, а я отлучусь тут по делу. Был у него валун «Седло» – наполовину белый, наполовину черный, пегий камень с седловинкой, где можно было посидеть верхом, как на коне. Был еще камень «Волк» – очень похожий на волка, бурый, с сединой, с мощным загривком и тяжелым надлобьем. К нему он подбирался ползком и прицеливался. Но самый любимый камень – это «Танк», несокрушимая глыба у самой реки на подмытом берегу. Так и жди, кинется «Танк» с берега и пойдет, и забурлит река, закипит белыми бурунами. Танки в кино ведь так и ходят: с берега в воду – и пошел… Мальчик редко видел фильмы и потому крепко запоминал виденное. Дед иногда возил внука в кино на совхозную племферму в соседнее урочище за горой. Потому и появился на берегу «Танк», готовый всегда ринуться через реку. Были еще и другие – «вредные» или «добрые» камни, и даже «хитрые» и «глупые».
Среди растений тоже – «любимые», «смелые», «боязливые», «злые» и всякие другие. Колючий бодяк, например, – главный враг. Мальчик рубился с ним десятки раз на дню. Но конца этой войне не видно было – бодяк все рос и умножался. А вот полевые вьюнки, хотя они тоже сорные, – самые умные и веселые цветы. Лучше всех встречают они утром солнце. Другие травы ничего не понимают – что утро, что вечер, им все равно. А вьюнки, только пригреют лучи, открывают глаза, смеются. Сначала один глаз, потом второй, и потом один за другим распускаются на вьюнках все закрутки цветов. Белые, светло-голубые, сиреневые, разные… И если сидеть возле них совсем тихо, то кажется, что они, проснувшись, неслышно шепчутся о чем-то. Муравьи – и те это знают. Утром они бегают по вьюнкам, жмурятся на солнышке и слушают, о чем говорят цветы между собой. Может быть, сны рассказывают?
Днем, обычно в полдень, мальчик любил забираться в заросли стеблистых ширалджинов. Ширалджины высокие, цветов на них нет, а пахучие, растут они островками, собираются кучей, не подпуская близко другие травы. Ширалджины – верные друзья. Особенно если обида какая-нибудь и хочется плакать, чтобы никто не видел, в ширалджинах лучше всего укрыться. Пахнут они, как сосновый лес на опушке. Горячо и тихо в ширалджинах. И главное – они не заслоняют неба. Надо лечь на спину и смотреть в небо. Сначала сквозь слезы почти ничего не различить. А потом приплывут облака и будут выделывать наверху все, что ты задумаешь. Облака знают, что тебе не очень хорошо, что хочется тебе уйти куда-нибудь или улететь, чтобы никто тебя не нашел и чтобы все потом вздыхали и ахали – исчез, мол, мальчишка, где мы теперь его найдем?.. И чтобы этого не случилось, чтобы ты никуда не исчезал, чтобы ты тихо лежал и любовался облаками, облака будут превращаться во все, чего ты ни захочешь. Из одних и тех же облаков получаются самые различные штуки. Надо только уметь узнавать, что изображают облака.
А в ширалджинах тихо, и они не заслоняют небо. Вот такие они, ширалджины, пахнущие горячими соснами…
И еще разные разности знал он о травах. К серебристым ковылям, что росли на пойменном лугу, он относился снисходительно. Они чудаки – ковыли! Ветреные головы. Их мягкие, шелковистые метелки без ветра жить не могут. Только и ждут – куда дунет, туда они и клонятся. И кланяются все как один, весь луг, как по команде. А если дождь пойдет или гроза начнется, не знают ковыли, куда им приткнуться. Мечутся, падают, прижимаются к земле. Были бы ноги, убежали бы, наверное, куда глаза глядят… Но это они притворяются. Утихнет гроза, и снова легкомысленные ковыли на ветру – куда ветер, туда и они…
Один, без друзей, мальчишка жил в кругу тех нехитрых вещей, которые его обступали, и разве лишь автолавка могла заставить его позабыть обо всем и стремглав бежать к ней. Что уж там говорить, автолавка – это тебе не камни и не травы какие-то. Чего там только нет, в автолавке!
Когда мальчик добежал до дому, автолавка уже подъезжала ко двору, сзади домов. Дома на кордоне стояли лицом к реке, надворье переходило в пологий спуск прямо к берегу, а на той стороне реки, сразу от размытого яра, круто восходил лес по горам, так что подъезд к кордону был один – сзади домов. Не добеги мальчик вовремя, никто и не знал бы, что автолавка уже здесь.
Мужчин в тот час никого не было, все разошлись еще с утра. Женщины занимались домашними делами. Но тут он пронзительно закричал, подбегая к раскрытым дверям:
– Приехала! Машина-магазин приехала!
Женщины всполошились. Кинулись искать припрятанные деньги. И выскочили, обгоняя одна другую. Бабка – и та его похвалила:
– Вот он у нас какой глазастый!
Мальчик почувствовал себя польщенным, точно сам привел автолавку. Он был счастлив оттого, что принес им эту новость, оттого, что вместе с ними ринулся на задворье, оттого, что вместе с ними толкался у открытой дверцы автофургона. Но здесь женщины сразу забыли о нем. Им было не до него. Товары разные – глаза разбегались. Женщин было всего три: бабка, тетка Бекей – сестра его матери, жена самого главного человека на кордоне, объездчика Орозкула, – и жена подсобного рабочего Сейдахмата – молодая Гульджамал со своей девочкой на руках. Всего три женщины. Но так суетились они, так перебирали и ворошили товары, что продавцу автолавки пришлось потребовать, чтобы они соблюдали очередь и не тараторили все разом.
Однако его слова не очень-то подействовали на женщин. Сначала они хватали все подряд, потом стали выбирать, потом возвращать отобранное. Откладывали, примеряли, спорили, сомневались, десятки раз расспрашивали об одном и том же. Одно им не нравилось, другое было дорого, у третьего цвет не тот… Мальчик стоял в стороне. Ему стало скучно. Исчезло ожидание чего-то необыкновенного, исчезла та радость, которую он испытал, когда увидел на горе автолавку. Автолавка вдруг превратилась в обычную машину, набитую кучей разного хлама.
Продавец нахмурился: не видно было, чтобы эти бабы собирались хоть что-нибудь купить. Зачем он ехал сюда, в такую даль, по горам?
Так оно и получилось. Женщины стали отступать, пыл их умерился, они как бы даже устали. Начали почему-то оправдываться – то ли друг перед другом, то ли перед продавцом. Бабка первая пожаловалась, что денег нет. А денег нет в руках – товар не возьмешь. Тетка Бекей не решалась на крупную покупку без мужа. Тетка Бекей – самая несчастная среди всех женщин на свете, потому что у нее нет детей, за это и бьет ее спьяну Орозкул, потому и дед страдает, ведь тетка Бекей его, дедова, дочь. Тетка Бекей взяла кое-что по мелочи и две бутылки водки. И зря, и напрасно – самой же хуже будет. Бабка не удержалась.
– Что ж ты беду на свою голову сама кличешь? – зашипела она, чтобы продавец ее не услышал.
– Сама знаю, – коротко отрезала тетка Бекей.
– Ну и дура, – еще тише, но со злорадством прошептала бабка. Не будь продавца, как бы она сейчас отчитала тетку Бекей. Ух, они и ругаются же!..
Выручила молодая Гульджамал. Она принялась объяснять продавцу, что ее Сейдахмат собирается скоро в город, в городе деньги нужны будут, потому не может она раскошелиться.
Вот так они потолкались возле автолавки, купили товара «на грош», так сказал продавец, и разошлись по домам. Ну разве это торговля? Плюнув вслед ушедшим бабам, продавец принялся собирать разворошенные товары, чтобы сесть за руль и уехать. Тут он заметил мальчишку.
– Ты чего, ушастый? – спросил он. У мальчишки были оттопыренные уши, тонкая шея и большая, круглая голова. – Купить хочешь? Так побыстрей, а то закрою. Деньги есть?
Продавец спрашивал так, просто от нечего делать, но мальчишка ответил уважительно:
– Нет, дядя, денег нет, – и помотал головой.
– А я думаю, есть, – с притворным недоверием протянул продавец. – Вы ведь здесь все богачи, только прикидываетесь бедняками. А в кармане у тебя что, разве не деньги?
– Нет, дядя, – по-прежнему искренне и серьезно ответил мальчик и вывернул драный карман. (Второй карман был наглухо зашит.)
– Значит, просыпались твои деньги. Поищи там, где бегал. Найдешь.
Они помолчали.
– Ты чей будешь? – снова стал расспрашивать продавец. – Старика Момуна, что ли?
Мальчик кивнул в ответ.
– Внуком ему доводишься?
– Да. – Мальчик опять кивнул.
– А мать где?
Мальчик ничего не сказал. Ему не хотелось об этом говорить.
– Совсем она не подает о себе вестей, твоя мать. Не знаешь сам, что ли?
– Не знаю.
– А отец? Тоже не знаешь?
Мальчик молчал.
– Что ж это ты, друг, ничего не знаешь? – шутливо попрекнул его продавец. – Ну, ладно, коли так. Держи. – Он достал горсть конфет. – И будь здоров.
Мальчик застеснялся.
– Бери, бери. Не задерживай. Мне ехать пора.
Мальчик положил конфеты в карман и собрался было бежать за машиной, чтобы проводить автолавку на дорогу. Он кликнул Балтека, страшно ленивого, лохматого пса. Орозкул все грозился пристрелить его – зачем, мол, держать такую собаку. Да дед все упрашивал повременить: надо, мол, завести овчарку, а Балтека увезти куда-нибудь и оставить. Балтеку дела не было ни до чего – сытый спал, голодный вечно подлизывался к кому-нибудь, к своим и чужим без разбора, лишь бы кинули чего-нибудь. Вот такой он был, пес Балтек. Но иной раз от скуки бегал за машинами. Правда, недалеко. Только разгонится, потом вдруг повернется и потрусит домой. Ненадежная собака. Но все же бежать с собакой в сто раз лучше, чем без собаки. Какая ни есть – все-таки собака…
Потихоньку, чтобы не увидел продавец, мальчик подбросил Балтеку одну конфетку. «Смотри, – предупредил он пса. – Долго будем бежать». Балтек повизгивал, хвостом повиливал – ждал еще. Но мальчик не решился кинуть еще конфету. Можно ведь обидеть человека, не для собаки же дал он целую пригоршню.
И тут как раз дед появился. Старик ездил на пасеку, а с пасеки не видно, что делается за домами. И вот получилось, что подоспел дед вовремя, еще не уехала автолавка. Случай. Иначе не было бы у внука портфеля. Повезло в тот день мальчишке.
Старика Момуна, которого многомудрые люди прозвали Расторопным Момуном, знали все в округе, и он знал всех. Прозвище такое Момун заслужил неизменной приветливостью ко всем, кого он хоть мало-мальски знал, своей готовностью всегда что-то сделать для любого, любому услужить. И, однако, усердие его никем не ценилось, как не ценилось бы золото, если бы вдруг его стали раздавать бесплатно. Никто не относился к Момуну с тем уважением, каким пользуются люди его возраста. С ним обходились запросто. Случалось, на великих поминках какого-нибудь знатного старца из племени бугу – а Момун был родом бугинец, очень гордился этим и не пропускал никогда поминок своих соплеменников – ему поручали резать скот, встречать почетных гостей и помогать им сходить с седла, подавать чай, а то и дрова колоть, воду носить. Разве мало хлопот на больших поминках, где столько гостей с разных сторон? Все, что ни поручали Момуну, делал он быстро и легко и главное – не отлынивал, как другие. Аильные молодайки, которым надо было принять и накормить эту огромную орду гостей, глядя, как управлялся Момун с работой, говорили:
– Что бы мы делали, если бы не Расторопный Момун!
И получалось, что старик, приехавший со своим внуком издалека, оказывался в роли подручного джигита-самоварщика. Кто другой на месте Момуна лопнул бы от оскорбления. А Момуну хоть бы что!
И никто не удивлялся, что старый Расторопный Момун прислуживает гостям – на то он и есть всю жизнь Расторопный Момун. Сам виноват, что он Расторопный Момун. И если кто-нибудь из посторонних высказывал удивление, почему, мол, ты, старый человек, на побегушках у женщин, разве перевелись в этом аиле молодые парни, – Момун отвечал: «Покойный был моим братом. (Всех бугинцев он считал братьями. Но не в меньшей мере они приходились «братьями» и другим гостям.) Кто же должен работать на его поминках, если не я? На то мы, бугинцы, и в родстве от самой прародительницы нашей – Рогатой матери-оленихи. А она, пречудная мать-олениха, завещала нам дружбу и в жизни, и в памяти…»
Вот такой он был, Расторопный Момун!
И старый, и малый были с ним на «ты», над ним можно было подшутить – старик безобидный; с ним можно было и не считаться – старик безответный. Не зря, говорят, люди не прощают тому, кто не умеет заставить уважать себя. А он не умел.
Он многое умел в жизни. Плотничал, шорничал, скирдоправом был: когда был еще помоложе, такие в колхозе скирды ставил, что жалко было их разбирать зимой: дождь стекал со скирды, как с гуся, а снег крышей двускатной ложился. В войну трудармейцем в Магнитогорске заводские стены клал, стахановцем величали. Вернулся, дома срубил на кордоне, лесом занимался. Хотя и числился подсобным рабочим, за лесом-то следил он, а Орозкул, зять его, большей частью по гостям разъезжал. Разве когда начальство нагрянет – тут уж Орозкул сам и лес покажет, и охоту устроит, тут уж он был хозяином. За скотом Момун ходил, и пасеку он держал. Всю жизнь с утра до вечера в работе, в хлопотах прожил Момун, а заставить уважать себя не научился.
Да и наружность Момуна была вовсе не аксакальская. Ни степенности, ни важности, ни суровости. Добряк он был, и с первого взгляда разгадывалось в нем это неблагодарное свойство человеческое. Во все времена учат таких: «Не будь добрым, будь злым! Вот тебе, вот тебе! Будь злым», – а он, на беду свою, остается неисправимо добрым. Лицо его было улыбчивое и морщинистое-морщинистое, а глаза вечно вопрошали: «Что тебе? Ты хочешь, чтобы я сделал для тебя что-то? Так я сейчас, ты только скажи, в чем твоя нужда».
Нос мягкий, утиный, будто совсем без хряща. Да и ростом небольшой, шустренький старичок, как подросток.
На что борода – и та не удалась. Посмешище одно. На голом подбородке две-три волосинки рыжеватые – вот и вся борода.
То ли дело – видишь вдруг, едет по дороге осанистый старик, а борода как сноп, в просторной шубе с широким мерлушковым отворотом, в дорогой шапке, да еще при добром коне, и седло посеребренное, – чем не мудрец, чем не пророк, такому и поклониться не зазорно, такому почет везде! А Момун уродился всего лишь Расторопным Момуном. Пожалуй, единственное преимущество его состояло в том, что он не боялся уронить себя в чьих-то глазах. (Не так сел, не то сказал, не так ответил, не так улыбнулся, не так, не так, не то…) В этом смысле Момун, сам того не подозревая, был на редкость счастливым человеком. Многие люди умирают не столько от болезней, сколько от неуемной, снедающей их вечной страсти – выдать себя за большее, чем они есть. (Кому не хочется слыть умным, достойным, красивым и к тому же грозным, справедливым, решительным?)
А Момун был не таким. Он был чудаком, и относились к нему как к чудаку.
Одним можно было сильно обидеть Момуна: позабыть пригласить его на совет родственников по устройству чьих-либо поминок… Тут уж он крепко обижался и серьезно переживал обиду, но не оттого, что обошли его, – на советах он все равно ничего не решал, только присутствовал, – а оттого, что нарушалось исполнение древнего долга.
Были у Момуна свои беды и горести, от которых он страдал, от которых он плакал по ночам. Посторонние об этом почти ничего не знали. А свои люди знали.
Когда увидел Момун внука возле автолавки, сразу понял, что мальчик чем-то огорчен. Но поскольку продавец приезжий человек, то вначале старик обратился к нему. Быстро соскочил с седла, протянул сразу обе руки продавцу.
– Ассалам-алейкум, большой купец! – сказал он полушутя, полусерьезно. – В благополучии ли прибыл твой караван, удачно ли идет твоя торговля? – Весь сияя, Момун тряс руку продавца. – Сколько воды утекло, как не виделись! Добро пожаловать!
Продавец, снисходительно посмеиваясь над его речью и неказистым видом – все те же расхоженные кирзовые сапоги, холщовые штаны, сшитые старухой, потрепанный пиджачок, побуревшая от дождей и солнца войлочная шляпа, – отвечал Момуну:
– Караван в целости. Только вот получается – купец к вам, а вы от купца по лесам да по долам. И женам наказываете держать копейку, как душу перед смертью. Тут хоть завали товарами, не раскошелится никто.
– Не взыщи, дорогой, – смущенно извинялся Момун. – Знали бы, что приедешь, не разъезжались бы. А что денег нет, так ведь на нет и суда нет. Вот продадим осенью картошку…
– Сказывай! – перебил его продавец. – Знаю я вас, баев вонючих. Сидите в горах, земли, сена сколько хочешь. Леса кругом – за три дня не объедешь. Скот держишь? Пасеку держишь? А копейку отдать – жметесь. Купи вот шелковое одеяло, швейная машинка осталась одна…
– Ей-богу, нет таких денег, – оправдывался Момун.
– Так уж я и поверю. Скаредничаешь, старик, деньгу копишь. А куда?
– Ей-богу, нет, клянусь Рогатой матерью-оленихой!
– Ну, возьми вельвета, штаны новые сошьешь.
– Взял бы, клянусь Рогатой матерью-оленихой…
– Э-э, да что с тобой толковать! – махнул рукой продавец. – Зря приехал. А Орозкул где?
– С утра еще подался, кажется, в Аксай. Дела у чабанов.
– Гостит, стало быть, – понимающе уточнил продавец.
Наступила неловкая пауза.
– Да ты не обижайся, милый, – снова заговорил Момун. – Осенью, бог даст, продадим картошку…
– До осени далеко.
– Ну, коли так, не обессудь. Ради бога, зайди, чаю попьешь.
– Не за тем я приехал, – отказался продавец.
Он стал закрывать дверцу фургона и тут-то и сказал, глянув на внука, который стоял подле старика уже наготове, держа за ухо собаку, чтобы бежать с ней за машиной:
– Ну, купи хотя бы портфель. Мальчишке-то в школу пора, должно быть? Сколько ему?
Момун сразу ухватился за эту идею: хоть что-то он да купит у настырного автолавочника, внуку действительно нужен портфель, нынешней осенью ему в школу.
– А верно ведь, – засуетился Момун, – я и не подумал. Как же, семь, восьмой уже. Иди-ка сюда, – позвал он внука.
Дед порылся в карманах, достал припрятанную пятерку.
Давно она, наверно, была у него, слежалась уже.
– Держи, ушастый. – Продавец лукаво подмигнул мальчику и вручил ему портфель. – Теперь учись. А не осилишь грамоту, останешься с дедом навек в горах.
– Осилит! Он у меня смышленый, – отозвался Момун, пересчитывая сдачу. Потом глянул на внука, неловко державшего новенький портфель, прижал его к себе. – Вот и добро. Пойдешь осенью в школу, – негромко сказал он. Твердая, увесистая ладонь деда мягко прикрыла голову мальчика.
И тот почувствовал, как вдруг сильно сдавило горло, и остро ощутил худобу деда, привычный запах его одежды. Сухим сеном и потом работящего человека пахло от него. Верный, надежный, родной, быть может, единственный на свете человек, который души в мальчике не чаял, был таким вот простецким, чудаковатым стариком, которого умники прозвали Расторопным Момуном… Ну и что ж? Какой ни есть, а хорошо, что все-таки есть свой дед.
Мальчик сам не подозревал, что радость его будет такой большой. До сих пор он не думал о школе. До сих пор он только видел детей, идущих в школу, – там, за горами, в иссык-кульских селах, куда они с дедом ездили на поминки знатных бугинских стариков. А с этой минуты мальчик не расставался с портфелем. Ликуя и хвалясь, он обежал тотчас всех жителей кордона. Сначала показал бабке – вот, мол, дед купил! – потом тетке Бекей – она тоже порадовалась портфелю и похвалила самого мальчика.
Редко когда тетка Бекей бывает в добром настроении. Чаще – мрачная и раздраженная – она не замечает своего племянника. Ей не до него. У нее свои беды. Бабка говорит: были бы у ней дети, совсем другой женщиной была бы она. И Орозкул, муж ее, тоже был бы другим человеком. Тогда и дед Момун был бы другим человеком, а не таким, какой он есть. Хотя у него были две дочери – тетка Бекей да еще мать мальчика, младшая дочь, – а все равно плохо, плохо, когда нет своих детей; еще хуже, когда у детей нет детей. Так говорит бабка. Пойми ее…
После тетки Бекей мальчик забежал показать покупку молодой Гульджамал и ее дочке. А отсюда пустился на сенокос к Сейдахмату. Опять бежал мимо рыжего камня «Верблюд», и опять не было времени похлопать его по горбу, мимо «Седла», мимо «Волка» и «Танка», а дальше все по берегу, по тропе, через облепиховый кустарник, потом по длинному прокосу на лугу он добежал до Сейдахмата.
Сейдахмат сегодня здесь был один. Дед давно уже выкосил свою делянку, заодно и делянку Орозкула. И сено уже свезли они – бабка с теткой Бекей сгребали, Момун накладывал, а он помогал деду, подтаскивал сено к телеге. Сложили возле коровника две скирды. Дед их так аккуратно свершил, что никакие дожди не затекут. Гладкие, как гребнем очесанные скирды. Каждый год так. Орозкул сено не косит, все на тестя валит – начальник как-никак. «Захочу, – говорит, – в два счета повыгоняю вас с работы». Это он на деда и Сейдахмата. И то по пьяному делу. Деда ему не прогнать. Кто будет тогда работать? Попробуй без деда! В лесу работы много, особенно осенью. Дед говорит: «Лес не отара овец, не разбредется. Но присмотру за ним не меньше. Потому как пожар случится или с гор паводок ударит – дерево не отскочит, не сойдет с места, погибнет, где стоит. Но на то лесник, чтобы дерево не пропадало». А Сейдахмата Орозкул не прогонит, потому что Сейдахмат смирный. Ни во что не вмешивается, не спорит. Но хотя он парень смирный и здоровый, а ленивый, поспать любит. Потому и прибился в лесничестве. Дед говорит: «Такие парни в совхозе машины гоняют, на тракторах пашут». А Сейдахмат на огороде своем картошку зарастил лебедой. Пришлось Гульджамал с ребенком на руках самой управляться с огородом.
И с началом покоса Сейдахмат затянул. Позавчера дед заругался на него. «Зимой прошлой, – говорит, – не тебя мне жалко стало, а скотину. Оттого поделился сеном. Если опять рассчитываешь на мое стариковское сено, то сразу скажи, я за тебя накошу». Проняло, с утра сегодня махал Сейдахмат косой.
Заслышав за спиной быстрые шаги, Сейдахмат обернулся, утерся рукавом рубашки.
– Ты чего? Зовут меня, что ли?
– Нет. У меня портфель. Вот. Дед купил. Я в школу пойду.
– Из-за этого и прибежал? – Сейдахмат хохотнул. – Дед Момун такой, – повертел он пальцем возле виска, – и ты туда же! А ну, что за портфель? – Он пощелкал замочком, покрутил портфель в руках и вернул, насмешливо покачивая головой. – Постой, – воскликнул он, – в какую же школу ты пойдешь? Где она, твоя школа-то?
– Как в какую? В ферменскую.
– Это в Джелесай ходить? – подивился Сейдахмат. – Так туда через гору километров пять, не меньше.
– Дед сказал, будет на лошади меня возить.
– Каждый день туда-сюда? Чудит старик… Впору ему самому в школу поступать. Посидит с тобой на парте, кончатся уроки – и назад! – Сейдахмат покатывался со смеху. Очень ему смешно стало, когда представил себе, как дед Момун сидит с внуком за школьной партой.
Мальчик озадаченно молчал.
– Да я это так, для смеха! – объяснил Сейдахмат.
Он небольно щелкнул мальчика по носу, надвинул ему на глаза козырек дедовской фуражки. Момун не носил форменную фуражку лесного ведомства, стыдился ее («Что я, начальник какой-нибудь? Я свою киргизскую шапку ни на какую другую не променяю»). И летом на Момуне была допотопная войлочная шляпа, «бывший» ак-колпак – белый кол пак, отороченный черным облезлым сатином по полям, а зимой – тоже допотопный – овчинный тебетей. Зеленую форменную фуражку лесного рабочего он давал носить внуку.
Мальчику не понравилось, что Сейдахмат так насмешливо принял новость. Он хмуро поднял козырек на лоб и, когда Сейдахмат еще раз хотел щелкнуть его по носу, отдернул голову и огрызнулся:
– Не приставай!
– Ох ты, сердитый какой! – усмехнулся Сейдахмат. – Да ты не обижайся. Портфель у тебя что надо! – И потрепал его по плечу. – А теперь валяй. Мне еще косить и косить…
Поплевав на ладони, Сейдахмат снова взялся за косу.
А мальчик бежал домой опять по той же тропе и опять бегом мимо тех же камней. Некогда пока было забавляться с камнями. Портфель вещь серьезная.
Мальчик любил разговаривать сам с собою. Но в этот раз он сказал не себе – портфелю: «Ты не верь ему, дед у меня вовсе не такой. Он совсем не хитрый, и потому над ним смеются. Потому что он совсем не хитрый. Он нас с тобой будет возить в школу. Ты еще не знаешь, где школа? Не так уж далеко. Я тебе покажу. Мы посмотрим на нее в бинокль с Караульной горы. И еще я тебе покажу мой белый пароход. Только сперва мы забежим в сарай. Там у меня спрятан бинокль. Мне бы надо смотреть за теленком, а я каждый раз убегаю смотреть на белый пароход. Теленок у нас уже большой – как потащит, не удержишь его, – а вот взял себе привычку высасывать молоко у коровы. А корова – его мать, и ей не жалко молока. Понимаешь? Матери никогда ничего не жалеют. Это Гульджамал так говорит, у ней своя девочка… Скоро корову будут доить, а потом мы погоним теленка пастись. И тогда мы полезем на Караульную гору и увидим с горы белый пароход. Я ведь с биноклем тоже так разговариваю. Теперь нас будет трое – я, ты и бинокль…»
Так он возвращался домой. Ему очень понравилось разговаривать с портфелем. Он собирался продолжить этот разговор, хотел рассказать о себе, чего еще не знал портфель. Но ему помешали. Сбоку послышался конский топот. Из-за деревьев выехал всадник на сером коне. Это был Орозкул. Он тоже возвращался домой. Серый конь Алабаш, на котором он никому, кроме себя, не разрешал ездить, был под выездным седлом с медными стременами, с нагрудным ремнем со звякающими серебряными подвесками.
Шляпа Орозкула сбилась на затылок, обнажив красный, низко заросший лоб. Его разбирала дрема на жаре. Он спал на ходу. Вельветовый китель, не очень умело сшитый по образцу тех, что носило районное начальство, был расстегнут сверху донизу. Белая рубашка на животе выбилась из-под пояса. Он был сыт и пьян. Совсем еще недавно сидел в гостях, пил кумыс, ел мясо до отвала.
С приходом в горы на летние выпасы окрестные чабаны и табунщики частенько зазывали Орозкула к себе. Были у него старые друзья-приятели. Но зазывали и с расчетом. Орозкул – нужный человек. Особенно для тех, кто строит дом, а сам сидит в горах; стадо не бросишь, не уйдешь, а стройматериалы где сыщешь? И в первую очередь лес? А угодишь Орозкулу – смотришь, из заповедного леса два-три бревна на выбор и увезешь. А нет, так будешь скитаться со стадом в горах и дом твой век будет строиться…
Подремывая в седле, отяжелевший и важный Орозкул ехал, небрежно упираясь носками хромовых сапог в стремена.
Он чуть было не слетел с лошади от неожиданности, когда мальчик побежал ему навстречу, размахивая портфелем:
– Дядя Орозкул, у меня портфель! Я пойду в школу. Вот у меня портфель.
– О, чтоб тебя! – испуганно натягивая поводья, выругался Орозкул.
Он глянул на мальчика красными спросонья, набухшими, пьяными глазами:
– Ты чего, откуда?
– Я домой. У меня портфель, я показывал его Сейдахмату, – упавшим голосом сказал мальчик.
– Ладно, играй, – буркнул Орозкул и, неуверенно покачиваясь в седле, поехал дальше.
Какое ему было дело до этого дурацкого портфеля, до этого брошенного родителями мальчишки, племянника жены, если сам он был так обижен судьбой, если бог не дал ему сына собственного, своей крови, в то время как другим дарит детей щедро, без счета?..
Орозкул засопел и всхлипнул. Жалость и злоба душили его. Жалко ему было, что жизнь пройдет без следа, и разгоралась в нем злоба к бесплодной жене. Это она, проклятая, вот уже сколько лет ходит порожняя…
«Уж я тебе!» – мысленно пригрозил Орозкул, сжимая мясистые кулаки, и сдавленно застонал, чтобы не заплакать в голос. Он знал уже, что приедет и будет бить ее. Так случалось всякий раз, когда Орозкул напивался; этот быкоподобный мужик одуревал от горя и злобы.
Мальчик шел по тропинке следом. Он удивился, когда вдруг впереди Орозкул исчез. А тот, свернув к реке, слез с лошади, бросил поводья и пошел сквозь мокрую траву напролом. Он шел, качаясь и сгибаясь. Он шел, сжимая руками лицо, вобрав голову в плечи. У берега Орозкул опустился на корточки. Пригоршнями хватал воду из реки и плескал себе в лицо.
«Наверно, у него голова разболелась от жары», – решил мальчик, увидев, что делает Орозкул. Он не знал, что Орозкул плакал и никак не мог остановить рыданий. Плакал оттого, что не его сын выбежал ему навстречу, и оттого, что не нашел в себе чего-то нужного, чтобы сказать хоть несколько человеческих слов этому мальчику с портфелем.
2
С макушки Караульной горы открывался вид во все стороны. Лежа на животе, мальчик примерял бинокль к глазам. Это был сильный полевой бинокль. Когда-то премировали деда за долгую службу на кордоне. Старик не любил возиться с биноклем: «У меня свои глаза не хуже». Зато внук его полюбил.
В этот раз он пришел на гору с биноклем и с портфелем.
Вначале предметы прыгали, смещались в круглом оконце, затем вдруг обретали четкость и неподвижность. Это было интересней всего. Мальчик затаивал дыхание, чтобы не нарушать найденный фокус. Потом он переводил взгляд на другую точку – и снова все смещалось. Мальчик снова принимался крутить окуляры.
Отсюда все было видно. И самые высокие снежные вершины, выше которых только небо. Они стояли позади всех гор, над всеми горами и над всей землей. И те горы, что пониже снежных, – лесистые горы, поросшие понизу лиственными чащами, а поверху темным сосновым бором. И горы Кунгеи, обращенные к солнцу; на склонах Кунгеев ничего не росло, кроме травы. И горы еще поменьше, в той стороне, где озеро, – просто голые каменистые увалы. Увалы спускались в долину, а долина смыкалась с озером. В этой же стороне лежали поля, сады, селения… Сквозь зелень посевов уже проступала разводьями желтизна – близилась жатва. Как мыши, бегали по дорогам крошечные автомашины, а за ними вились длинные пыльные хвосты. И на самом дальнем краю земли, куда только достигал взор, за песчаной прибрежной полосой густо синела выпуклая кривизна озера. То был Иссык-Куль. Там вода и небо соприкасались. И дальше ничего не было. Озеро лежало неподвижно, сияющее и пустынное. Лишь чуть заметно шевелилась у берега белая пена прибоя.
Мальчик долго смотрел в эту сторону. «Белый пароход не появился, – сказал он портфелю. – Давай еще раз посмотрим на нашу школу».
Отсюда хорошо видна была вся соседняя лощина за горой. В бинокль можно было разглядеть даже пряжу в руках старушки, сидевшей подле дома, под окном.
Лощина Джелесай была безлесной, лишь кое-где остались после порубок старые одинокие сосны. Когда-то был здесь лес. Теперь стояли рядами скотные дворы под шиферными крышами, виднелись большие черные кучи навоза и соломы. Здесь выращивали племенной молодняк молочной фермы. Тут же, неподалеку от скотных дворов, примостилась куцая улочка – поселок животноводов. Улочка спускалась с пологого пригорка. На самом краю ее стоял маленький дом, нежилой на вид. Это и была школа-четырехлетка. Ребята старших классов уезжали учиться в совхоз, в школу-интернат. А в этой учились малыши.
Мальчик бывал в поселке с дедом у фельдшера, когда болело горло. Теперь он пристально рассматривал в бинокль маленькую школу под бурой черепицей, с одинокой покосившейся трубой, с самодельной надписью на фанерной вывеске: «Мектеп». Он не умел читать, но догадался, что написано именно это слово. В бинокль все было видно до мельчайших, неправдоподобно мелких подробностей. Какие-то слова, нацарапанные по штукатурке стены, подклеенное стекло в оконной шибке, погорбившиеся щербатые доски веранды. Он представил себе, как придет сюда со своим портфелем и шагнет в ту дверь, на которой сейчас висел большой замок. А что там, что будет там, за этой дверью?
Кончив рассматривать школу, мальчик снова направил бинокль на озеро. Но там все было по-прежнему. Белый пароход еще не показывался. Мальчик отвернулся, сел спиной к озеру и стал смотреть вниз, под гору, отложив бинокль в сторону. Внизу, прямо под горой, по дну продолговатой лощины серебрилась бурная, порожистая река. Вместе с рекой вилась берегом дорога, и вместе с рекой дорога скрывалась за поворотом ущелья. Противоположный берег был обрывистый и лесистый. Отсюда и начинался Сан-Ташский заповедный лес, уходящий высоко в горы, под самые снега. Выше всех взбирались сосны. Среди камней и снега топорщились они темными щеточками на гребнях горных цепей.
Мальчик насмешливо рассматривал дома, сараи и пристройки во дворе кордона. Маленькими, утлыми казались они сверху. За кордоном дальше по берегу он различил свои знакомые камни. Все их – «Верблюд», «Волк», «Седло», «Танк» – он впервые разглядел отсюда, с Караульной горы, в бинокль, тогда же дал им названия.
Мальчик озорно улыбнулся, встал и запустил в сторону двора камень. Камень упал тут же, на горе. Мальчик снова сел на место и принялся разглядывать кордон в бинокль. Сначала через большие линзы в меньшие – дома убежали далеко-далеко, превратились в игрушечные коробочки. Валуны стали камешками. А запруда дедовская на речной отмели и вовсе показалась смешной – воробью по колено. Мальчик усмехнулся, покрутил головой и, быстро перевернув бинокль, подвел окуляры. Его любимые валуны, увеличенные до громадных размеров, казалось, уперлись лбами в стекла бинокля. «Верблюд», «Волк», «Седло», «Танк» были такие внушительные: в зазубринах, в трещинах, с пятнами ржавых лишаев по бокам; и главное – действительно очень были похожи на то, что увидел в них мальчик. «Ух ты, «Волк» какой! А «Танк», вот это да!..»
За валунами на отмели была дедова запруда. В бинокль хорошо видно это место у берега. Сюда, на широкую галечную отмель, вода забегала мимоходом с быстрины и, вскипая на перекатах, убегала снова в стремнину. Вода на отмели доходила до колен. Но течение было такое, что поток мог запросто унести в реку такого мальчика, как он. Чтобы не снесло течением, мальчик ухватывался за прибрежный тальник – куст рос на самом краю, одни ветки на суше, другие полоскались в реке – и окунался в воду. Ну что это за купание? Как конь на привязи. Да еще неприятностей сколько, ругани! Бабка выговаривала деду: «Унесет в реку, пусть пеняет на себя – пальцем не шевельну. Больно нужен! Отец, мать бросили. А с меня других забот хватит, сил моих нет».
Что ей скажешь? Старая вроде и верно говорит. Но и парнишку жалко: река ведь рядом, почти у дверей. Как ни стращала старуха, а все равно мальчик лез в воду. Вот тогда и решил Момун соорудить на отмели запруду из камней, чтобы было где мальчишке купаться без опаски.
Сколько каменьев перетаскал старик Момун, выбирая те, что покрупнее, чтобы течением их не укатило! Носил их, прижимая к животу, и, стоя в воде, укладывал один к одному с таким расчетом, чтобы вода свободно втекала между камнями и так же свободно вытекала. Смешной, тощий, с реденькой своей бороденкой, в мокрых, облипших на теле штанах, целый день возился он с этой запрудой. А вечером лежал пластом, кашлял, и поясницу ему было не разогнуть. Вот тут уж бабка разошлась вовсю: «Малый дурак – он и есть малый, а что про старого дурака сказать? Какого ты черта надрывался? Кормишь, поишь, так чего еще? Всякой блажи потакаешь. Ох, не доведет это до добра!..»
Как бы то ни было, а запруда на отмели получилась отличная. Теперь мальчик купался не боясь. Ухватываясь за ветку, слезал с берега и бросался в поток. И непременно с открытыми глазами. С открытыми потому, что рыбы в воде плавают с открытыми глазами. Была у него такая странная мечта: он хотел превратиться в рыбу. И уплыть.
Глядя сейчас в бинокль на запруду, мальчик представил себе, как он сбрасывает рубашку, штаны и, голый, поеживаясь, лезет в воду. Вода в горных реках всегда холодная, дух занимает, но потом привыкаешь. Представил себе, как, держась за ветку тальника, бросается в поток вниз лицом. Как с шумом смыкается вода над головой, как жгуче струится под животом, по спине, по ногам. Глохнут внешние звуки под водой, и в ушах остается лишь журчанье. И он, тараща глаза, старательно смотрит на все то, что можно увидеть под водой. Глаза щиплет, глазам больно, но он горделиво улыбается себе и даже язык показывает в воде. Это он бабке. Пусть знает, вовсе и не утонет он, и вовсе ничего не боится. Потом он выпускает ветку из рук, и вода тащит его, волочит до тех пор, пока он не упрется ногами в камни запруды. Тут и дыхание кончается. Он разом выскакивает из воды, вылезает на берег и снова бежит к тальниковому кусту. И так много раз. Хоть сто раз в день готов был купаться в дедовой запруде. До тех пор, пока в конце концов не превратится в рыбу. А ему обязательно, во что бы то ни стало хотелось стать рыбой…
Разглядывая берег реки, мальчик перевел бинокль на свой двор. Куры, индюшки с индюшатами, топор, прислоненный к чурбаку, дымящий самовар и разные разности на подворье оказались такими невероятно большими, так близко они находились, что мальчик невольно протянул к ним руку. И тут, к ужасу своему, он увидел в бинокль увеличенного до слоновых размеров бурого теленка, спокойно жующего развешанное на веревке белье. Теленок жмурил от удовольствия глаза, слюни стекали с губ – так ему хорошо было в полную пасть жевать бабкино платье.
– Ах ты, дурак! – Мальчик привстал с биноклем и замахал рукой. – А ну, прочь! Слышишь, убирайся прочь! Балтек, Балтек! (Пес в объективе лежал себе преспокойно под домом.) Куси, куси его! – в отчаянье приказывал он собаке.
Но Балтек и ухом не повел. Он лежал себе как ни в чем не бывало.
В эту минуту из дома вышла бабка. Увидев, что творится, старуха всплеснула руками. Схватила метлу и кинулась к теленку. Теленок побежал, бабка за ним. Не сводя с нее бинокля, мальчик присел, чтобы не видно было его на горе. Отогнав теленка, старуха с руганью пошла к дому, задыхаясь от гнева и быстрой ходьбы. Мальчик видел ее так, как если бы был рядом с ней и даже ближе, чем рядом. Он держал ее в объективе крупным планом, как в кино, когда отдельно показывают лицо человека. Он видел ее желтые глаза, сузившиеся от ярости. Он видел, как сплошь покраснело ее морщинистое, в тяжелых складках лицо; как в кино, когда исчезнет вдруг звук, бабкины губы в бинокле быстро и беззвучно шевелились, обнажая щербатые, редкие зубы. Что выкрикивала старуха – не разобрать было издали, но слова ее мальчику слышались так точно и ясно, как если бы говорила она прямо под ухом. Ух, как она его бранила! Он наизусть знал: «Ну, подожди… Вернешься. Уж я тебе! И на деда не посмотрю. Сколько раз говорила, чтобы выкинул вон эту дурацкую гляделку. Опять убежал на гору. Чтоб провалился он, тот чертов пароход, чтоб он сгорел, чтоб он потонул!..»
Мальчик на горе тяжко вздохнул. Надо же было в такой день, когда купили портфель, когда он уже мечтал, как пойдет в школу, проглядеть телка!..
Старуха не умолкала. Продолжая браниться, она разглядывала свое изжеванное платье. К ней вышла Гульджамал с дочкой. Жалуясь ей, бабка разошлась еще больше. Потрясала кулаками в сторону горы. Ее костлявый темный кулак угрожающе маячил перед окулярами: «Нашел себе забаву. Чтоб провалился он, чертов пароход! Чтоб он сгорел, чтоб он потонул!..»
Самовар на дворе уже кипел. Видно было в бинокль, как из-под крышки выбивались струи пара. Тетка Бекей вышла за самоваром. И тут опять началось. Бабка чуть не в нос совала ей свое изжеванное платье. На, мол, смотри на проделки твоего племянничка!
Тетка Бекей стала успокаивать ее, уговаривать. Мальчик догадывался, что она говорила. Примерно то же, что и прежде: «Успокойся, энеке[1]. Мальчик еще несмышленыш – какой с него спрос. Один он тут, друзей нет. Зачем кричать, зачем страх наводить на ребенка?»
На что бабка, несомненно, отвечала: «Ты мне не указывай. Ты сама попробуй роди, тогда узнаешь, какой спрос с детей. Чего торчит он там, на горе? Телка приарканить ему некогда. Чего он там высматривает? Своих непутевых родителей? Тех, что родили его да разбежались по разным сторонам? Хорошо тебе, бесплодной…»
Даже на таком расстоянии мальчик увидел в бинокль, как мертвенно посерели впалые щеки тетки Бекей, как вся она заколотилась и как – он точно знал, чем должна была отплатить тетка, – она выпалила в лицо мачехе: «А ты сама-то, старая ведьма, сколько сыновей да дочерей вырастила? Ты сама-то кто есть?»
Что тут началось!.. Бабка взвыла от обиды. Гульджамал пыталась примирить женщин, уговаривала, обнимала бабку, хотела увести ее домой, но та распалялась все больше, мечась по двору, как обезумевшая. Тетка Бекей схватила кипящий самовар, расплескивая кипяток, почти бегом унесла его в дом. А бабка устало опустилась на колоду. Рыдая, горько жаловалась она на свою судьбу. Теперь мальчик был позабыт, теперь доставалось самому господу богу и всему белому свету. «Это я-то! Это меня ты спрашиваешь, кто я есть? – возмущалась бабка вслед падчерице. – Да если бы не наказал меня бог, если бы не унес он моих пятерых младенцев, если бы сын мой, один-единственный, не упал восемнадцати лет под пулей на войне, если бы старик, мой ненаглядный Тайгара, не замерз в буране с отарой овец, разве была бы я здесь, среди вас, лесных людей? Да разве я такая, как ты, неродящая? Да разве жила бы я на старости лет с отцом твоим, придурковатым Момуном? За какие грехи-провинности наказал ты меня, распроклятый бог?»
Мальчик отнял бинокль от глаз, печально опустил голову.
– Как мы теперь вернемся домой? – тихо сказал он портфелю. – Это все из-за меня и из-за теленка-дурака. И еще из-за тебя, бинокль. Ты всегда зовешь меня смотреть на белый пароход. Ты тоже виноват.
Мальчик огляделся по сторонам. Кругом горы – скалы, камни, леса. С высоты, с ледников бесшумно падали сверкающие ручьи, и только здесь, внизу, вода будто обретала наконец голос, чтобы вечно, неумолчно шуметь в реке. А горы стояли такие громадные и беспредельные. Мальчишка чувствовал себя в ту минуту очень маленьким, очень одиноким, совсем затерянным. Только он и горы, горы, всюду высокие горы.
Солнце уже склонялось к закату на озерной стороне. Стало не так жарко. На восточных склонах занялись первые, короткие тени. Солнце будет теперь опускаться все ниже, а тени поползут вниз, к подножию гор. В эту пору дня обычно появлялся на Иссык-Куле белый пароход.
Мальчик направил бинокль к самому дальнему видимому месту и затаил дыхание. Вот он! И все забылось сразу – там, впереди, на синей-синей кромке Иссык-Куля появился белый пароход. Выплыл. Вот он! С трубами в ряд, длинный, мощный, красивый. Он плыл, как по струне, ровно и прямо. Мальчик поспешно протер стекла подолом рубашки, еще раз поправил окуляры. Очертания парохода стали еще четче. Теперь можно было заметить, как покачивается он на волнах, как за кормой остается светлый вспененный след. Не отрываясь, мальчик с восхищением смотрел на белый пароход. Была бы на то его воля, он упросил бы белый пароход подплыть поближе, чтобы можно было видеть людей, которые на нем плыли. Но пароход не знал об этом. Он медленно и величественно шел своей дорогой, неведомо откуда и неведомо куда.
Было долго видно, как плывет пароход, и мальчик долго думал о том, как он превратится в рыбу и поплывет по реке к нему, к белому пароходу…
Когда он впервые увидел однажды с Караульной горы белый пароход на синем Иссык-Куле, сердце его так загудело от красоты такой, что он сразу же решил, что его отец – иссык-кульский матрос – плавает именно на этом белом пароходе. И мальчик поверил в это, потому что ему этого очень хотелось.
Он не помнил ни отца, ни матери. Он ни разу не видел их. Никто из них ни разу не навестил его. Но мальчик знал: отец его был матросом на Иссык-Куле, а мать, после того как они разошлись с отцом, оставила сына у деда, а сама уехала в город. Как уехала, так и сгинула. Уехала в далекий город за горами, за озером и еще за горами.
Дед Момун как-то ездил в этот город продавать картошку. Целую неделю пропадал и, вернувшись, рассказывал за чаем тетке Бекей и бабке, что видел свою дочь, то есть его, мальчика, мать. Работала она на какой-то большой фабрике ткачихой. У нее новая семья – две дочери, которых она сдает в детсад и видит только раз в неделю. Живет в большом доме, но в маленькой комнатке, до того маленькой, что повернуться негде. А во дворе никто никого не знает, как на базаре. И все так живут – войдут к себе, и сразу двери на замок. Взаперти постоянно сидят, как в тюрьме. А муж ее будто бы шофер, возит в автобусе народ по улицам. Уходит с четырех утра и допоздна. Тоже работа тяжелая. Дочь, рассказывал он, все плакала, прощения просила. На очереди они на новую квартиру. Когда получат – неизвестно. Но когда получат, заберет сынишку к себе, если муж позволит. И просила старика пока подождать. Дед Момун сказал ей, чтобы она не печалилась. Самое главное, чтобы с мужем в согласии жила, остальное уладится. И насчет сына пусть не убивается. «Пока я жив, мальчишку никому не отдам, а умру – бог его поведет, живой человек найдет свою судьбу…» Слушая старика, тетка Бекей и бабка то и дело вздыхали и даже всплакнули вместе.
Вот тогда как раз, за чаем, и об отце зашла у них речь. Дед прослышал, будто его бывший зять, отец мальчика, все так же матросом служит на каком-то пароходе и что у него тоже новая семья, дети, то ли двое, то ли трое. Живут возле пристани. Будто бы бросил он пить. А жена новая всякий раз выходит с ребятишками на пристань его встречать. «Стало быть, – думал мальчик, – они встречают вот этот, его пароход…»
А пароход плыл, медленно удаляясь. Белый и длинный, он скользил по синей глади озера с дымами из труб и не знал, что к нему плыл мальчик, превратившись в рыбу-мальчика.
Он мечтал превратиться в рыбу так, чтобы все у него было рыбье – тело, хвост, плавники, чешуя – и только голова бы оставалась своя, на тонкой шее, большая, круглая, с оттопыренными ушами, с исцарапанным носом. И глаза такие же, какие были. Конечно, чтобы они при этом были не совсем такие, как есть, а глядели, как рыбьи. Ресницы у мальчика длинные, как у телка, и все время хлопают отчего-то сами по себе. Гульджамал говорит – вот бы ее дочке такие, какой бы она красавицей выросла! А зачем быть красавицей? Или красавцем? Очень нужно! Лично ему красивые глаза ни к чему, ему нужны такие, чтобы под водой глядеть.
Превращение должно было произойти в дедовой запруде. Раз – и он рыба. Затем он сразу перепрыгнул бы из запруды в реку, прямо в бурлящую стремнину, и пошел бы вниз по течению. И дальше так – выпрыгивая и оглядываясь по сторонам; неинтересно ведь плыть только под водой. Он несется по быстрой реке вдоль большого красноглинистого обрыва, через пороги, по бурунам, мимо гор, мимо лесов. Он прощается со своими любимыми валунами: «До свидания, «Лежащий верблюд», до свидания, «Волк», до свидания, «Седло», до свидания, «Танк». А когда будет проплывать мимо кордона, он выпрыгнет из воды, помашет плавником деду: «До свидания, ата, я скоро вернусь». Дед оторопел бы от дива такого и не знал бы, как ему быть. И бабка, и тетка Бекей, и Гульджамал с дочкой – все стояли бы, разинув рты. Где это видано, чтобы голова была человечья, а тело рыбье? А он им машет плавником: «До свидания, я уплываю в Иссык-Куль, к белому пароходу. Там у меня мой папа – матрос». Балтек, наверно, кинется бежать по берегу. Собака ведь никогда такого не видела. И если Балтек решится броситься к нему в воду, он крикнет: «Нельзя, Балтек, нельзя! Утонешь!» – а сам поплывет дальше. Пронырнет под тросами висячего моста, и дальше вдоль прибрежных тугаев, и потом вниз по грохочущему ущелью, и выплывет прямо в Иссык-Куль.
А Иссык-Куль – это целое море. Проплывает он по волнам иссык-кульским, с волны на волну, с волны на волну – и тут навстречу белый пароход. «Здравствуй, белый пароход, это я! – скажет он пароходу. – Это я всегда смотрел на тебя в бинокль». Люди на пароходе удивились бы, сбежались смотреть на чудо. И тогда он скажет отцу своему, матросу: «Здравствуй, папа, я твой сын. Я приплыл к тебе». – «Какой же ты сын? Ты полурыба-получеловек!» – «А ты возьми меня к себе на пароход, и я стану твоим обыкновенным сыном». – «Вот здорово! А ну, попробуем». Отец бросит сеть, выловит его из воды, поднимет на палубу. Тут он превратится в самого себя. А потом, потом…
Потом белый пароход поплывет дальше. Расскажет мальчик отцу про все, что знает, про всю свою жизнь. Про горы, среди которых он живет, про те самые камни, про реку и заповедный лес, про запруду дедову, где он учился плавать, как рыба, с открытыми глазами.
Расскажет, конечно, как ему живется у деда Момуна. Пусть отец не думает, что если прозвали человека Расторопный Момун, так, значит, он плохой. Такого деда нигде нет, самый лучший дедушка. Но он совсем не хитрый, потому все смеются над ним. А дядя Орозкул, так тот и покрикивает на него – на старика! Бывает, и при людях накричит на деда. А дед, вместо того чтобы постоять за себя, все прощает дяде Орозкулу и даже работает за него в лесу, по хозяйству. Да что там работает! Когда дядя Орозкул приезжает пьяный, так, вместо того чтобы плюнуть в его бессовестные глаза, дед подбегает к нему, ссаживает с лошади, отводит в дом, укладывает на кровать, шубой укрывает, чтобы не продрог, чтобы голова у него не болела, а коня расседлывает, чистит и задает ему корм. И все из-за того, что тетка Бекей неродящая. А почему так, папа? Было бы лучше: хочешь – роди, не хочешь – не надо. Деду жалко, когда дядя Орозкул бьет тетку Бекей. Лучше бы он бил самого деда. Так он мучается, когда кричит тетка Бекей. А что он может сделать? Хочет кинуться на выручку дочери, так бабка ему запрещает. «Не лезь, – говорит, – сами разберутся. Чего тебе, старому? Жена не твоя, ну и сиди». – «Так ведь дочь она моя!» А бабка: «А что бы ты делал, если б жил не рядом, дом к дому, а вдалеке? Каждый раз скакал бы верхом разнимать их? И кто бы после этого держал в женах твою дочь!»
Бабка, про которую говорю, – это не та, которая была. Ты ее, папа, наверное, и не знаешь. Это другая бабка. Родная бабушка умерла, когда я был маленький. А потом пришла эта бабка. У нас часто бывает погода непонятная – то ясно, то пасмурно, то дождь да град. Вот и бабка такая, непонятная. То добра, то зла, то совсем никакая. Когда злится – заест. Мы с дедом молчим. Она говорит, что чужого сколько ни корми, сколько ни пои, а добра от него не жди. Так ведь я же, папа, не чужой здесь. Я всегда жил с дедом. Это она чужая, она потом пришла к нам. И стала называть меня чужим.
Зимой у нас снег наваливает мне по шейку. Ох и сугробы наметает! Если в лес, только на сером коне Алабаше и проедешь, он грудью пробивает сугробы. И ветры очень сильные: на ногах не устоишь. Когда на озере волны ходят, когда пароход твой валится с боку на бок – знай, что наш ветер Сан-Таш качает озеро. Дед рассказывал, что очень-очень давно вражеские войска шли, чтобы захватить эту землю. И вот тогда с нашего Сан-Таша такой ветер подул, что враги не усидели в седлах. Послезали с коней, но и пешком идти не могли. Ветер сек им лица в кровь. Тогда они отвернулись от ветра, а ветер гнал их в спины, не давал остановиться и выгнал их с Иссык-Куля, всех до одного. Вот как было. А мы вот живем на этом ветру! От нас он начинается. Всю зиму лес за рекой скрипит, гудит, стонет на ветру. Страшно даже.
Зимой в лесу дел не так много. Зимой безлюдно у нас совсем, не то что летом, когда приходят кочевья. Очень люблю я, когда летом на большом лугу останавливаются на ночь с отарами или табунами. Правда, утром они уходят дальше в горы, но все равно хорошо с ними. Их ребятишки и женщины приезжают на грузовиках. В грузовиках юрты везут и разные вещи. Когда устроятся немного, мы с дедом идем поздороваться. Здороваемся со всеми за руку. И я тоже. Дед говорит, что младший всегда должен первым подавать руку людям. Кто не подает руки, тот не уважает людей. А потом дед говорит, что из семерых людей один может оказаться пророком. Это очень добрый и умный человек. И тот, кто поздоровается с ним за руку, станет счастливым на всю жизнь. А я говорю: если так, то почему этот пророк не скажет, что он пророк, и мы все поздоровались бы с ним за руку. Дед смеется: в том-то и дело, говорит он, что пророк сам не знает, что он пророк, – он простой человек. Только разбойник знает о себе, что он разбойник. Не совсем мне это понятно, но я всегда здороваюсь с людьми, хотя мне бывает немного стыдно.
