Корпорация самозванцев. Теневая экономика и коррупция в сталинском СССР
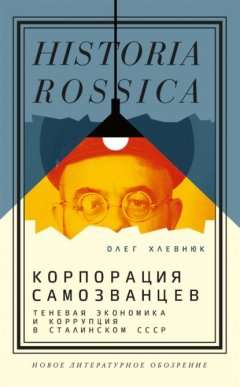
ВВЕДЕНИЕ
Почему Павленко?
В начале 1948 года бывший председатель легальной строительной кооперативной артели Николай Павленко организовал нелегальное предприятие, которое строило шоссейные и железнодорожные ветки для различных государственных ведомств. Используя подложные документы, печати и бланки, Павленко в разное время называл организацию Управлением военного строительства (УВС) № 1 и № 10, которое подчинялось якобы Военному министерству СССР. Фальсифицируя приказы военного ведомства, Павленко присвоил себе звание полковника инженерных войск, а своим помощникам – другие воинские звания. Все они носили военную форму, недостатка которой в стране тогда не наблюдалось.
Предпринимательство под видом военной организации имело ряд преимуществ. Было проще открывать счета в отделениях Госбанка и Промышленного банка СССР – главных советских финансовых институтах. Псевдовоенный фасад помогал заключать подрядные договоры с государственными организациями, получать у заказчиков и периодически присваивать строительную технику и т. д.
Достаточно быстро предприятие Павленко пошло в рост. Создавались новые площадки в различных городах и поселках Украины, Молдавии, Эстонии, России. В общей сложности в 1948–1952 годах корпорация Павленко вела работы в 32 населенных пунктах[1]. Всего за этот период, как утверждалось потом в материалах суда над руководителями организации, были заключены 64 договора на строительство различных объектов на сумму более 38 млн руб.[2] На стройках были заняты сотни рабочих. Кроме того, поддерживая легенду военной организации, Павленко организовал собственную охрану – отряд из нескольких десятков человек, вооруженных стрелковым оружием.
Полученные по договорам деньги в целом были отработаны. Намеченные объекты построены или находились в процессе строительства. Провал организации, как это часто бывает, произошел достаточно случайно. Один из рядовых работников организации, обиженный обсчетом, написал жалобу в Москву. Там, хотя и не сразу, начали проверку, которая привела к неожиданному результату: организация под названием УВС в системе Военного министерства не значится, а является фиктивной.
В ноябре 1952 года, за несколько месяцев до смерти Сталина, Павленко и часть его сотрудников были арестованы. В период ликвидации организации число ее участников, как утверждали следственные органы, достигало свыше 300 человек, из которых около 40–50 входили в вооруженную охрану. При этом были изъяты 21 винтовка и карабин, 9 автоматов, 3 ручных пулемета, 19 пистолетов и револьверов, 5 гранат, более 3 тыс. боевых патронов, 32 грузовые автомашины и 6 легковых, 2 трактора и столько же экскаваторов, 14 фиктивных гербовых печатей и тысячи различных фиктивных бланков, отпечатанных типографским способом[3].
О ходе арестов и следствия информировали высшее руководство страны, включая Сталина. Вопрос рассматривался в Совете министров СССР[4]. Всего на начальном этапе следствия прокуратура располагала картотекой на 1150 человек, так или иначе причастных к деятельности организации Павленко[5].
Длительное следствие по делу УВС началось во времена последних всплесков сталинского террора и продолжилось в условиях относительного ослабления репрессий после смерти Сталина. В результате часть приговоров оказались значительно более мягкими, чем они были бы при Сталине. Кроме того, большое число партийно-государственных чиновников и хозяйственников подверглись наказаниям по партийной линии за утрату «бдительности» и некорыстные связи с преступниками. Кульминацией был закрытый процесс по делу ядра организации во главе с самим Павленко, который проходил в военном трибунале Московского военного округа. Суд начался в ноябре 1954-го, через два года после разгрома организации, и завершился в начале апреля 1955 года. По приговору суда Павленко был расстрелян, а 16 его ближайших соратников получили различные сроки заключения в лагеря[6].
В числе прочего на суде была озвучена не самая значительная, но примечательная деталь из жизни УВС. В случае возникновения проблем члены команды посылали в «штаб» телеграммы, в которых говорилось: «Появились серьезные заболевания». Это означало, что требуется приезд и личное вмешательство Павленко[7]. Суд не сомневался, и совершенно справедливо, что именно Павленко был главной движущей силой и хозяином этой строительной организации. Именно в этом качестве Павленко интересен и историкам. В жизни Павленко, одного из крупнейших теневых предпринимателей сталинской эпохи, отразились многие важные черты большой советской истории и государственно-социалистической реальности.
Однако, как это часто бывает, первыми в очереди «за Павленко» оказались не ученые, а журналисты. В интернете легко найти публицистические статьи, репортажи, видеоролики и документальные фильмы о жизни советского «преступника № 1». Так называют Павленко некоторые авторы – очевидно, с целью привлечь к своим выступлениям внимание публики. С этой же целью в оборот пускаются многочисленные легенды и конспирологические предположения. Например, о причастности к делу Павленко Л. И. Брежнева. Однако кроме очевидного факта, что Павленко действовал в Молдавии в период, когда эту республику возглавлял будущий генеральный секретарь, реальных свидетельств о причастности Брежнева к этому делу нет.
Выступления журналистов сделали свое дело. Павленко превратился в хорошо известного персонажа советской истории. Конечно, о нем вряд ли напишут биографию для серии ЖЗЛ, хотя он был не менее «замечательным» человеком, чем многие персонажи книг этой серии. Однако в статье «Википедии» о селе Новые Соколы Киевской области уже сообщается: «В этом селе родился Николай Павленко». В той же «Википедии» есть средних размеров статья о самом Павленко.
Несмотря на наличие такого контекста, в этой книге я решил не принимать его в расчет. Цель этой работы вовсе не в том, чтобы представить увлекательный детективный сюжет из истории организованной преступности и борьбы с ней, что преимущественно интересует публицистику. Главная задача книги – изучить корпорацию Павленко как часть советской социально-экономической действительности, открывающую многие незаметные и малоисследованные черты общего. Речь идет прежде всего о скрытых сторонах советской повседневности, о теневой экономике и неформальных социальных отношениях и связях. Как будет показано далее, эти явления и процессы вовсе не находились на периферии советской жизни. Они были прочно вплетены в нее.
Историографически эта книга находится на пересечении двух потоков литературы. Первый – исследования советской социальной мимикрии, способов приспособления человека к жизни в условиях тоталитаризма. Второй – история теневой (или, как ее нередко называют, второй) экономики в СССР. Обе эти проблемы не только важны, но и недостаточно изучены. Прежде всего, нам не хватает конкретных фактов и знаний, новых источников. Соответствующая информация лишь в незначительной мере просачивалась в официальные партийно-государственные документы и периодику. Материалы о корпорации Павленко – один из источников, постепенное накопление которых выведет исследование скрытых, но важных тенденций развития советской системы на новый уровень.
Советские самозванцы и социальная мимикрия
Есть все основания причислить Павленко и многих его сотрудников к советским самозванцам. Начиная с военного периода и вплоть до ареста после войны они существовали в нелегальном пространстве, выдавая себя за тех, кем на самом деле не были. Нелегальной и самозваной была и созданная ими организация.
Широко распространенное повсюду в мире, самозванство не обошло и Советское государство. Еще до открытия архивов мы знали о нем благодаря самым известным советским самозванцам – Остапу Бендеру и детям лейтенанта Шмидта, литературным героям Ильфа и Петрова, имевшим некоторые реальные прототипы. Периодически информация о самозванцах появлялась в советской печати в рубрике происшествий и в судебной хронике. Когда приоткрылись архивы, историки, хотя и не ставили перед собой такую специальную задачу, периодически натыкались на новые случаи самозванства и мошенничества. И хотя невозможно сказать, сколько Остапов Бендеров бороздили необъятные просторы СССР, появляется возможность определенной систематизации известных случаев и выведения некоторых общих черт этого явления в контексте советской социальной мимикрии в целом[8].
Советские самозванцы были разными. Среди них были профессиональные мошенники, зарабатывавшие при помощи самозванства свой хлеб и не только. Многие из них напоминали Остапа Бендера, хотя мы, конечно, не знаем, читали ли они роман Ильфа и Петрова и насколько вдохновлялись его героями. Целью этой категории самозванцев было получение быстрых денег путем мошенничества. Трижды судимый до войны Кухтенко в 1943 году выкрал штампы и печать Московской районной инспекции Наркомата топливной промышленности. В различных городах СССР он выдавал себя за члена правительства, уполномоченного СНК СССР и т. д. По фальшивым документам получал большое количество продовольственных карточек, затем продавал их. В 1945 году Кухтенко был арестован и приговорен к расстрелу. В 1944 году некто Сперанский получил в Челябинске значительное количество продуктов по фальшивым документам на имя директора ансамбля песни и пляски Ленинградского фронта под управлением И. Дунаевского[9].
Распространенным приемом самозванцев, особенно в послевоенные годы, была фабрикация «героического» образа. Так, 22-летний А. Рыбальченко в 1945 году на основании поддельных документов объявил себя Героем Советского Союза. Одевшись в военную форму, он ездил по Иркутской области и при поддержке партийных комитетов рассказывал о своих «подвигах». Взамен Рыбальченко получал материальную помощь продуктами и промышленными товарами[10].
Чуть позже этот прием максимально усовершенствовал один из наиболее известных на сегодня послевоенных самозванцев В. Вайсман, арестованный в июне 1947 года. О деятельности Вайсмана НКВД информировал высших руководителей страны, включая Сталина, благодаря чему этот случай попал в поле внимания историков[11]. Как выяснило следствие, 33-летний Вайсман был с детства неоднократно судим за кражи. Бежав в 1944 году из лагеря, он обморозился и лишился обеих ног и кисти руки. Став инвалидом, Вайсман за 20 тыс. руб. купил наградную книжку дважды Героя Советского Союза. Надев на пиджак орденские планки и несколько медалей, вооружившись наградной книжкой героя, Вайсман в 1946–1947 годах действовал по стандартной схеме.
Сначала он втирался в доверие к руководителям местных предприятий и учреждений, получая реальные справки о вымышленной работе на данном предприятии до войны. С этими документами он отправлялся в Москву, где записывался на прием к соответствующим министрам или их заместителям. У этих высоких начальников он просил и получал значительную материальную помощь в денежной и натуральной форме. Всего следствие документально подтвердило выплаты Вайсману более чем в 20 ведомствах. Одно и то же министерство Вайсман мог посетить несколько раз, соблюдая из предосторожности значительный временной интервал. Так, в июне 1946 года по распоряжению министра речного флота СССР Вайсману как «бывшему мотористу Амурского речного пароходства» выплатили 2,3 тыс. руб. (чуть более четырех тогдашних среднемесячных зарплат) и выдали несколько отрезов ткани. Через год в мае 1947 года в том же министерстве Вайсман получил 2 тыс. руб., одежду и обувь.
Несколько тысяч рублей и некоторое количество промтоваров были обычным набором единовременной помощи, которую удавалось приобрести Вайсману. Особенно привлекательными были, конечно, даже не деньги, а дефицитные промышленные товары, имевшие на черном рынке огромную ценность. Следствие выяснило, что только по распоряжению наркома финансов СССР А. Г. Зверева Вайсману как «бывшему шоферу Киевской городской конторы Госбанка» выделили тканей, обуви и других промтоваров на сумму более 20 тыс. руб. Очевидно, что речь шла о государственных ценах, которые были в несколько раз ниже рыночных. В общем, обороты «предприятия» Вайсмана были более чем внушительными.
Еще одна группа самозванцев использовала «улучшенные» и «героические» биографии для повышения своего социального статуса, выгодного трудоустройства и получения различных преимуществ в государственных структурах. Представителем этого направления самозванства был сын «кулака» Степан Подлубный, получивший широкую известность благодаря подробному исследованию его дневника в русле проблематики советской субъективности. Подлубный жил по поддельным документам о пролетарском происхождении и пытался делать карьеру, подчеркнуто демонстрируя преданность Советскому государству[12]. Пример циничного самозванца-мошенника представлял В. Громов, архивное дело которого исследовала и вписала в контекст эпохи Голфо Алексопулос[13]. Осужденный в 1935 году, Громов имел богатую биографию, неоднократно привлекался к уголовной ответственности, избегал наказаний, выдавал себя за сотрудника ОГПУ, бывшего красного партизана, специалиста-инженера и т. д. Громов нанимался на высокооплачиваемую работу в разные организации. В ряде случаев он некоторое время работал в них. В других, получив деньги, – быстро исчезал.
Большее постоянство демонстрировали другие самозванцы, выбравшие путь карьерного роста. С. Месхи выдавал себя за старого большевика, героя Гражданской войны и даже одного из легендарных бакинских комиссаров. Благодаря этому он дослужился до должности директора московского отделения «Интуриста» и в 1935 году попал под суд за сексуальные преступления[14]. Машинист паровоза на Омской железной дороге Егоров при поступлении на работу в конце 1938 года указал в листке по учету кадров, что он дважды награжден орденами Красного Боевого Знамени (за бои у озера Хасан) и Красной Звезды (за «выдающиеся заслуги» в Монголии).
Приняв эти заявления Егорова за чистую монету, администрация железнодорожного депо и другие местные руководители никогда не проверяли наличие у него соответствующих наградных документов и самих орденов, которые он никогда не носил. Самозванство Егорова приносило ему существенные социальные дивиденды. Местные власти, как сообщал прокурор железной дороги в Москву, «стали Егорову создавать авторитет, окружили его особым вниманием, приглашали его как почетного гостя на торжественные заседания и пр.»[15]. Егоров был арестован в мае 1941 года.
В годы войны самозванство приобретало новые черты, нередко было связано с дезертирством из армии или уклонением от призыва. Герой этой книги также впервые использовал методы самозванства именно в военный период, создав свою первую фиктивную военно-строительную часть. В результате Павленко и его сотрудникам фактически удалось ускользнуть из-под контроля военно-мобилизационной системы и пережить войну в сравнительно безопасных условиях в тыловых частях.
В военный период самозванство распространилось как метод дезертирства. Совершив побег из части, 22-летний военнослужащий Гаджиев сфабриковал себе документы военного врача и благодаря им передвигался по разным городам, скорее всего промышляя кражами. Попался на краже чемодана в Баку. В декабре 1942 года был осужден к 10 годам заключения, но вскоре освобожден для направления на фронт[16]. В документах можно найти примеры и более изощренных методов самозванства дезертиров. Так, в июле 1942 года, в критический период поражений, руководство Саратовского обкома партии отправило в ЦК ВКП(б) и Политуправление Красной армии сообщение о разоблачении группы из трех военнослужащих-дезертиров, действовавших по типичному сценарию «героического» самозванства[17]. Ее возглавлял лейтенант Юрьев, представлявшийся по сфабрикованным документам Героем Советского Союза. Сбежав из воинской части по подложным командировочным удостоверениям, эти дезертиры разъезжали по городам Поволжья в роли героев войны. В Пензе, посетив двух секретарей обкома партии, Юрьев был привлечен к участию в серии пропагандистских мероприятий: выступал на собраниях перед рабочими и интеллигенцией, по радио и т. д. Аналогичным образом Юрьев действовал в Куйбышеве, Вольске и Ртищеве, где при поддержке партийных руководителей встречался с населением и курсантами военных училищ. Эта активность сопровождалась банкетами, оказанием материальной помощи «герою». В этом случае самозванство не только обеспечивало средства для существования, но позволяло легализовать дезертирство под видом командировок и участия в военной пропаганде.
Для темы этой книги особый интерес представляет профессиональное самозванство, прикрывающее частное предпринимательство, поскольку именно этот принцип лежал в основе деятельности Павленко. Несколько примеров дают представление об этом явлении.
В январе 1947 года в Ленинграде был осужден к расстрелу Б. М. Баршай, занимавшийся нелегальными торгово-посредническими операциями. Осужденный в 1934 году к 10-летнему сроку за хищения, он быстро нашел применение своим предпринимательским талантам в лагере. Баршай получил должность начальника финансового отдела лагеря и право свободного передвижения, в том числе в длительные командировки в другие города. Воспользовавшись этими возможностями, он приобрел новые документы (паспорт и военный билет) на чужое имя и бежал из лагеря. Работал начальником финансового отдела, коммерческим директором на ряде предприятий Урала. Был вновь арестован за должностные злоупотребления, но, дав согласие сотрудничать с НКВД (похожий эпизод, как мы увидим далее, был и в жизни Павленко), освобожден. В конце войны Баршай, судя по всему, спасаясь от новых обвинений, бежал в Среднюю Азию, а оттуда в Москву. В столице он приобрел новые документы о службе на железной дороге, а также орден Красной Звезды (как утверждал Баршай, за 700 руб.). По купленным командировочным удостоверениям и нарядам на железнодорожный вагон он перевозил из Ленинграда пряжу, полученную при помощи махинаций через кооперативную артель, в Харьков. Там после реализации пряжи вагон загружался новыми товарами, которые доставлялись в Ленинград[18].
В этом ряду можно отметить также схемы некоего Синицына, арестованного осенью 1947 года в Симферополе. Выдавая себя за Героя Советского Союза, он вел частную торговлю. Под прикрытием «героической» легенды Синицын получал в государственных учреждениях грузовой транспорт, на котором выезжал для скупки хлеба в Херсонскую область. Приобретенные таким путем продукты в условиях голода с прибылью продавались на рынке в Симферополе.
При обыске в квартире Синицына была найдена поддельная медаль «Золотая Звезда» и пистолет с боевыми патронами[19]. Нельзя исключить, что сфабрикованное звание героя Синицын использовал и в других, оставшихся неизвестными операциях такого рода. Пока же мы не очень много знаем о самозванцах-предпринимателях. Тем интереснее пример Павленко, свидетельствовавший о возможности длительно и успешно маскировать свою деятельность псевдолегитимным фасадом.
Известные сегодня случаи советского самозванства позволяют лучше понять контекст деятельности организации Павленко. После войны самозванство было тесно связано с военными атрибутами и извлекало преимущества из высокого статуса героев победоносной войны. Наличие в стране многих миллионов бывших фронтовиков, повсеместное распространение военной формы и наград облегчали использование псевдовоенных «героических» легенд.
С легкостью приобретались поддельные документы и награды. В докладной записке НКВД высшему руководству страны по делу Вайсмана, например, говорилось: «В ходе следствия Вайсман показал, что уголовные преступники в случаях надобности имеют возможность купить медали и ордена Союза ССР за определенно установленные цены. При этом он привел пример, что был очевидцем, когда один уголовник купил у майора Советской Армии, возвращавшегося из отпуска, за 800 руб. орден Ленина, но без орденской книжки»[20]. У нас нет оснований преувеличивать масштабы этого явления, но нужно учитывать, что в 1941–1945 годах награжденным было выдано более 13 млн орденов и медалей[21].
Многолетняя активность советских самозванцев-мошенников, следы которой прослеживаются в источниках разных периодов, свидетельствовала и об определенной уязвимости советского аппарата управления. Несмотря на громоздкий и навязчивый официальный дискурс «бдительности», советские чиновники в повседневной жизни нередко руководствовались прямо противоположными принципами безоглядного доверия. Их «доверчивость» могла быть оборотной стороной чрезвычайной бюрократизации и многочисленных ограничительных инструкций, которые затрудняли процессы управления, способствовали выстраиванию параллельных неформальных каналов и методов ведения дел. Как это происходило на практике, позволяют понять конкретные случаи, в том числе деятельность организации Павленко[22].
Хотя государство объявляло самозванцев и мошенников пережитками прошлого, они находили многочисленные ниши для существования в советском настоящем, доказывая, что имеют полное право на принадлежность к новой эпохе. Наиболее яркие примеры самозванства, как тот, что рассматривается в этой книге, были лишь вершиной айсберга. Социальная мимикрия, концентрированным выражением которой выступало самозванство, притворное приспособление к требованиям государства и, при всяком удобном случае, уклонение от них были присущи образу жизни части населения страны.
Конечно, в отличие от активного противодействия (в отдельные периоды оно принимало форму вооруженных выступлений)[23], социальное притворство, уход во внутреннюю эмиграцию и другие практики маскировки во враждебном окружении агентов государства и их пособников не так легко зафиксировать и адекватно оценить. Хорошим примером этих трудностей могут служить историографические дискуссии о формировании так называемой «советской субъективности», о степени искренности приспособления советских граждан к роли «активных строителей социализма», предложенной государством.
Особое внимание в этом случае обращалось на освоение нового советского политизированного языка, которое Стивен Коткин назвал умением «говорить по-большевистски»[24]. В дополнение (а часто в противовес) исследованиям о противодействии государству и о нонконформизме, широкое распространение получили работы об активной и сознательной интериоризации официальных ценностей. Эти концепции встретили как поддержку, так и критику за выборочное и некорректное использование источников и умозрительные трактовки[25]. Для понимания явлений и событий, изучаемых в этой книге, важно отметить наличие среди советского населения «уклончивого большинства, которое просто старалось выжить»[26]. Условием выживания были и социальная мимикрия, и девиантные практики разной интенсивности.
Существование в экстремальных материальных условиях, нередко недоедания и голода, под давлением государственного насилия и террора толкало на путь обмана и преступлений (подчас это было преступлением лишь в советском понимании) даже самых законопослушных и робких людей. Заполняя длинные анкеты и другие документы, от которых зависело трудоустройство и даже свобода, советские граждане нередко конструировали новые биографии, умалчивали о компрометирующих сведениях, меняли фамилии, «забывали» об опасных родственниках и т. д.
Произнося правильные речи или отмалчиваясь на митингах и собраниях, люди воровали (или брали свое?) у государства, платили взятки чиновникам (иначе невозможно было выжить). Добровольно или вынужденно многие соглашались на роль «маяков», которым начальство, также нередко находившееся под давлением, приписывало результаты чужого труда. Не редкостью было использование поддельных документов не только профессиональными самозванцами, но и обычными гражданами, решавшими текущие жизненные проблемы. Как показывают исследования и архивные источники, существовал заметный рынок паспортов, больничных листов, многочисленных справок и разрешающих документов и т. д.[27]
Именно на таком фоне и в тесной связи с ним формировалась и действовала та часть советской экономики, которую принято называть теневой или второй. К ней принадлежала и изучаемая в этой книге строительная организация Павленко.
Агенты теневой экономики
Самозванство Павленко и его сотрудников выступало в конечном счете прикрытием их частной экономической деятельности. Многочисленные исследования историков и экономистов позволяют лучше понять суть и место теневой (второй) экономики в советской системе[28]. Общепризнанным является тезис о неоднородности советской экономики. Несомненно, в своей основе она была государственной и планово-централизованной. В руках государства находилась львиная доля производительных сил, включая формально кооперированное сельское хозяйство. Согласно планам распределялись основные материальные ресурсы и рабочая сила. Императивом советской политики было искоренение или жесткое регулирование негосударственных сегментов хозяйственной жизни. Интересы и намерения государства обеспечивались мощным аппаратом управления и многочисленными карательными органами[29].
Вместе с тем всеобщее огосударствление экономики было причиной ее общей неэффективности. Концентрируя ресурсы общества на развитии приоритетных, прежде всего военных проектов, государство угнетало и разрушало сельское хозяйство и социальную сферу, провоцировало резкое падение уровня жизни и периодические всплески голода. В условиях острых кризисов государство было вынуждено полагаться на частную инициативу крестьян, кустарей, мелких торговцев, действовавших на относительно свободном рынке. Это позволяло смягчить всеобщий дефицит потребительских товаров и угрозы перманентного голода.
Внеплановые регуляторы и практики децентрализации активно действовали даже в крупной государственной экономике. Государственные планы не были результатом научного целеполагания, как это представляла официальная пропаганда, а определялись путем своеобразного административного торга между производителями и руководящими партийно-государственными структурами. Страдая от сверхцентрализации, бюрократизации и разрывов произвольно установленных хозяйственных связей, государственные предприятия нередко находили собственные полулегальные и нелегальные рыночные способы решения хозяйственных проблем. Руководители государственных предприятий действовали одновременно и как чиновники-администраторы, и как предприниматели. Они искали ресурсы на относительно свободном рынке, устанавливали между собой нелегальные хозяйственные связи в обход Госплана, прибегали к припискам и иным способам смягчения давления со стороны государства[30].
В результате советская экономическая система, в том числе в ее наиболее жестко централизованном и принудительном сталинском варианте, включала в себя многочисленные рыночные (квазирыночные) элементы и частное предпринимательство. Эти формально инородные экономические практики можно называть внесистемными: они противоречили намерениям государства. Однако их вполне можно считать системными, поскольку они являлись органической частью советской экономики и играли в ней важную роль.
Как и во многих других случаях, наши знания о скрытых, слабо регулируемых государством социально-экономических процессах имеют отрывочный, несистематизированный характер. Для анализа советской теневой экономики на всем протяжении ее существования не хватает конкретных фактов. Как отмечала много лет назад Джулия Хесслер, «история частного предпринимательства должна рассматриваться в числе наиболее значительных пробелов в изучении советской истории»[31]. С тех пор ситуация изменилась явно недостаточно. Крайне мало работ, позволяющих судить об организации и деятельности конкретных предприятий теневой экономики[32]. Лишь косвенную информацию о предмете содержат публикации, нацеленные на изучение деятельности советских правоохранительных структур в экономической сфере[33]. В целом пока происходит постепенное накопление материалов об отдельных феноменах частного предпринимательства и квазирынка. Только в перспективе это может создать условия для систематического и комплексного исследования проблемы. Шагом в этом направлении является также моя книга.
Вместе с тем имеющаяся литература и архивные источники позволяют охарактеризовать некоторые основные элементы советской второй (полностью теневой или полулегальной) экономики. Именно в этом контексте действовала организация Павленко, и именно в этих рамках ее целесообразно изучать и оценивать.
Прежде всего, важно отметить вынужденное сохранение в советской экономической системе достаточно крупного сектора личных крестьянских хозяйств. Это было существенной уступкой сталинского государства, в принципе нацеленного на полное обобществление сельского хозяйства в рамках колхозов и совхозов. Коллективизация породила страшный голод в начале 1930‐х годов. Личные хозяйства были важной, хотя и негарантированной страховкой от голода.
Несмотря на незначительные размеры каждого личного хозяйства, в совокупности в силу более высокой, чем в колхозах, производительности труда они производили значительную часть продовольствия. Так, по официальным данным, в 1938 году посевные площади личных крестьянских хозяйств составляли около 4,6 % от площадей, находившихся в распоряжении колхозов. Несмотря на это, в 1937 году даже по официальным данным их продукция составляла четверть от всей колхозной продукции (по обобществленному и личному хозяйствам), включая 38,4 % овощей и картофеля и 67,9 % мяса и молока[34].
Эта тенденция сохранялась во время и после войны. По официальным данным, удельный вес личных подсобных хозяйств колхозников в валовой продукции сельского хозяйства страны достиг максимума (20,2 %) в 1946 году, а затем, несколько снизившись под давлением государства, все равно находился на высоком уровне. В 1949–1951 годах он составлял в среднем около 18 %[35]. При этом, как и прежде, приусадебные хозяйства колхозников составляли незначительную часть посевных площадей колхозов – 4,5 % в 1951 году[36]. Однако, используя эти клочки земли, частные хозяйства колхозников оставались важнейшими производителями многих видов сельскохозяйственной продукции, прежде всего животноводческой. Например, в личных хозяйствах колхозников в 1952 году содержалось 45 % всех коров, имевшихся в стране, а в колхозах только 32 %[37].
Логика предпринимательской деятельности толкала крестьян на расширение частных хозяйств сверх ограничений, предусмотренных законом. В деревне, несмотря на контроль и давление со стороны государства, постоянно существовали элементы теневой экономики. Распространение получила нелегальная аренда колхозных земель под частные хозяйства. Крестьяне-арендаторы расплачивались с колхозами определенным количеством произведенной продукции. Такой подрядный способ ведения коллективного хозяйства повышал производительность[38].
Однако государство, прежде всего по идеологическим мотивам и вопреки очевидной экономической логике, считало подобные отношения неприемлемыми. Частные крестьянские хозяйства находились под сильнейшим налоговым прессом. Периодически проводились кампании против «разбазаривания колхозных земель». Они наносили сильные удары по индивидуальным крестьянским хозяйствам и сокращали количество продовольствия в стране[39]. Ограничение частных крестьянских хозяйств было важным фактором вспышек голода и хронических продовольственных трудностей[40].
Существенный дефицит промышленных товаров служил почвой для теневой экономической активности ремесленников, объединенных в структуры промысловой кооперации, а также тех, кто работал индивидуально. Кустари занимались мелким ремонтом, шили одежду и обувь, производили некоторые продукты питания, в частности кондитерские изделия и т. д. Их деятельность жестко регламентировалась государством. Например, одежду и обувь разрешалось шить только на заказ, но не для продажи. В борьбе с такими ограничениями складывалась теневая экономика под крышей промысловой кооперации.
При Сталине в ней действовали так называемые «кустари-подпольщики», которых исследователи считают прообразом «цеховиков» периода позднего социализма. Они лишь формально числились членами промысловой кооперации, используя ее как легальное прикрытие. Такие предприниматели были нацелены на изготовление для рынка дефицитных товаров, в число которых входило тогда большинство предметов повседневного потребления. Для производства нередко привлекались сырье и материалы, похищенные на государственных предприятиях[41].
Как показали исследования в архивах, спрос на изделия и услуги частников особенно сильно вырос в годы войны, когда государство резко сократило свое участие в производстве товаров широкого потребления. Отчасти компенсируя рыночный спрос, мелкие частные предприниматели производили одежду, обувь, некоторые продукты питания. Для республик Средней Азии и Закавказья были характерны частные кафе и гостиницы. Все эти виды мелкого предпринимательства получили столь широкое распространение, что финансовые органы на местах и в центре после войны начали лоббировать их легализацию с целью обложения налогами. Однако эти проекты не получили поддержки высшего руководства страны и были осуждены как политически вредные. Кооперативные структуры и индивидуальные предприниматели подверглись массовым чисткам, включая аресты[42]. Однако нелегальное производство товаров широкого потребления нельзя было искоренить, поскольку оно выполняло важную роль частичного насыщения рынка в советской дефицитной системе.
Как утверждают исследователи, в отличие от 1930‐х годов, когда к уголовной ответственности привлекались в основном кустари-одиночки, в 1940‐х годах наблюдалось укрупнение и усложнение теневых кустарных производств. Часто формировались «организованные группы кустарей-подпольщиков, имеющие орудия производства, использующие наемную рабочую силу». Они сращивались с различными расхитителями, приобретали через них «сырье и материалы, похищенные с государственных предприятий».
Примером такой организации была группа кустарей-сапожников, ликвидированная в Ленинграде в 1951 году. В нее входили сапожники-кустари, работники артелей и складов, снабжавшие их похищенным сырьем, сотрудники комиссионных магазинов и спекулянты, осуществлявшие сбыт произведенной обуви, профессиональные уголовники, обеспечивавшие «безопасность» (как сказали бы мы сейчас, «крышевавшие» его), а также должностные лица контрольно-ревизионного аппарата учреждений ленинградской торговли, которые прикрывали деятельность организации – еще одна «крыша». Всего по делу проходили 23 человека[43].
Значительная часть продукции крестьянских хозяйств, промысловой кооперации и ремесленников-частников попадала на так называемые колхозные рынки, действовавшие на основании свободного ценообразования и не полностью подчиненные централизованному контролю. Эти рынки также были неизбежной уступкой сталинского государства реальностям социально-экономического развития, прежде всего в периоды кризисов[44]. В свою очередь, колхозные рынки были важной основой развития одного из самых многочисленных видов советского частного предпринимательства – торговли. Ликвидация частной торговли в период сталинского скачка в конце 1920‐х – начале 1930‐х годов привела к тому, что государственные магазины не справлялись с рациональным регулированием и без того скудных потоков потребительских товаров. Негибкость и злоупотребления государственной торговли и карточного распределения усугубляли дефицит[45]. В таких условиях частная торговля была загнана в подполье, но не исчезла совсем.
Частные торговцы преимущественно действовали в трех нишах советской экономической системы. Первая – реализация товаров крестьянских хозяйств, промысловых кооперативов и частных ремесленников. Вторая – перепродажа товаров из государственной торговой сети, которая приносила огромные прибыли благодаря значительной разнице цен в государственных магазинах и на свободном рынке. Третья – сбыт продукции, похищенной в государственных предприятиях.
На официальном советском языке деятельность частных торговцев называлась спекуляцией. Спекуляцией занимались две категории граждан страны: самодеятельные торговцы и работники государственной торговли. Огромное количество мелких самодеятельных спекулянтов скупали товары в городских магазинах, прежде всего в крупных и столичных центрах, которые обеспечивались лучше всего. Затем эти товары перепродавались на рынках, в местах несанкционированной торговли или через знакомых. Как правило, мелкие скупщики пользовались услугами работников государственных магазинов, которые за взятки обеспечивали продажу мелких партий товаров вне очереди. Нередко организаторами нелегальных сетей выступали и сами работники торговли. В этом случае государственные магазины, помимо легальной деятельности, выполняли функции перевалочных баз, через которые дефицитные продукты и изделия поступали в нелегальную сеть мелкой торговли[46].
Вместе с тем к середине 1940-x годов на советском черном рынке тоже складывались разветвленные организованные структуры. Их низшую ступень представляли мелкие уличные торговцы – «барышники», «золотари», «мясники» и др., действовавшие на рынках, «толкучках» и «барахолках», у магазинов, ломбардов, вокзалов и т. д. За ними стояли перекупщики-посредники, имеющие связи с другими регионами страны. В Ленинград, например, ввозились продукты питания из Прибалтики, а вывозились промышленные товары в Украину, Сибирь, Поволжье, Молдавию. Руководили этими структурами крупные спекулянты. Они организовывали процесс при помощи вовлеченных в дело работников транспорта, государственных торговых учреждений, карательных органов[47].
Во многих случаях в различных операциях в теневом секторе участвовали также работники государственных предприятий. Страдавшие от недостаточного снабжения в рамках плановой системы распределения ресурсов, они активно пользовались возможностями черного рынка материально-технических ресурсов, на котором заключались сделки полулегального или нелегального характера. Несанкционированные бартерные обмены между предприятиями, которые назывались тогда «товарообменные операции»[48], дополнялись приобретением сырья, материалов, оборудования на нелегальном рынке. В значительной мере эту внеплановую систему снабжения и реализации ресурсов обслуживали специальные агенты («толкачи»). Выполняя роль брокеров, они, с одной стороны, обеспечивали выполнение официальных плановых заказов предприятия. С другой стороны, «толкачи» закупали необходимые ресурсы на нелегальном рынке[49].
В совокупности частное предпринимательство и различные полулегальные и нелегальные операции в государственном секторе составляли вторую советскую экономику. Ее характерными чертами были отсутствие централизованного планирования; относительно свободное передвижение ресурсов на основе товарно-денежных отношений и прямых договоров между производителем и потребителем; широкое использование коррупционных схем для перекачки сырья, продовольствия и промышленных изделий из государственных фондов в структуры второй экономики. Высокий риск преследований со стороны карательных органов способствовал распространению коррупционных методов защиты от репрессий. Соучастниками в частном предпринимательстве были государственные служащие различных структур, включая контрольные, правоохранительные, партийные и советские органы. Широко распространялись взятки[50].
Корпорация Павленко занимала в этой системе свое место. Она отличалась определенными особенностями, но отражала общие черты теневой экономики в сталинском СССР.
Источники для исследования
Для подготовки этой книги принципиальное значение имели источники. Без достаточного количества документов, отражающих самые мелкие детали деятельности Павленко и его корпорации, задуманное исследование микроистории теневого частного предприятия было бы невозможно. Иначе говоря, чтобы сложить этот пазл в удовлетворительном виде, необходимо достаточное количество (пусть и не все) его фрагментов. Как хорошо знают историки, добывать такую конкретную, максимально приближенную к рутинной повседневности информацию совсем не просто. Ее источником являются прежде всего материалы личного происхождения: дневники, воспоминания, письма. Однако такие свидетельства никто из членов УВС не оставил и, судя по всему, не мог оставить.
Дневниково-эпистолярный жанр не был стихией этих людей, не слишком грамотных, но практичных. Не писали о корпорации Павленко (хотя бы в отрицательном ключе) и журналисты, лишив будущих историков еще одного важного источника информации о подробностях и впечатлениях. Вместе с тем истории с плохим концом (или с хорошим, как скажут многочисленные сторонники жесткого государства и «порядка») имеют для историков свои преимущества. Аресты, следствие и суды оставляют после себя длинный шлейф документов. Разбирательство различных государственных структур по делу организации Павленко было долгим и въедливым. В разных архивных фондах отложились справки об УВС, протоколы допросов арестованных и свидетелей, финансово-договорные документы и т. д.
В отличие от сфабрикованных политических дел речь в данном случае шла преимущественно об экономических преступлениях, конкретных и осязаемых. Способствовало относительной объективности следствия и суда также время – переход от сталинской диктатуры к «мягкому» авторитаризму эпохи десталинизации и ХХ съезда. Следователям и судьям теперь не приходилось изобретать несуществующие антисоветские заговоры и шпионские центры, а арестованным и подсудимым – повторять заученные нелепые «признания». Действуя в своих интересах, что-то скрывая, а что-то непомерно выпячивая, обе стороны оперировали реальными фактами, цифрами и документами. Такие источники открывают возможности для интерпретаций и оценок в целом достоверных данных. Все это важно и полезно.
Однако, как известно, историкам документов всегда мало. Тем более когда они знают, что какие-то из архивных материалов существуют, но по разным причинам недоступны. Это не всегда вредит делу, но обязательно вызывает досаду. Не стала исключением и работа над этой книгой. Несмотря на привлечение достаточного, на мой взгляд, комплекса источников, немало из них осталось за бортом.
Прежде всего, нужно отметить, что в первые недели после разгрома УВС следственные действия по делу велись в разных местах, где работала организация Павленко. Только через некоторое время следствие полностью перешло в Москву и сосредоточилось в руках Главной военной прокуратуры. Мне было совершенно точно известно, что соответствующие материалы сохранились в архивах Украины и Молдовы. В этих республиках в конце 1952 – начале 1953 года допрашивались арестованные Павленко и его сотрудники, велось партийное расследование в отношении чиновников, контактировавших с УВС. Благодаря щедрой помощи коллег-историков, о чем будет сказано в разделе «Благодарности» в конце этой книги, мне удалось получить значительный комплекс документов из бывшего партийного архива Молдовы. В нескольких толстых папках собраны протоколы допросов арестованных, справки госбезопасности, свидетельства об обсуждении вопроса в ЦК компартии Молдавии[51]. Однако работа с аналогичными украинскими источниками, к сожалению, была невозможна.
Лишь частичный доступ к материалам следствия был также в Москве. Соответствующее надзорное производство по делу УВС в фонде Прокуратуры СССР[52] содержит ключевые документы, но не весь комплекс следственных документов, закрытых в соответствующем ведомственном архиве. Похожая проблема существует в отношении документов военных трибуналов, решавших судьбу участников организации Павленко и их пособников. Принципиальное значение для исследования имело выявление в фонде Верховного Совета СССР приговора трибунала в отношении руководящего ядра УВС. Эта обширная (более чем на 100 страниц типографского текста) брошюра в сжатом виде содержит основные факты и положения многотомных материалов суда, к которым у исследователей пока нет доступа[53]. На основании текста приговора можно изучать многие подробности деятельности организации Павленко и отдельных ее членов. В этом же деле содержатся несколько пространных ходатайств Павленко, который оспаривал приговор и выдвигал аргументы в свою защиту[54].
Вместе с протоколами допросов в прокуратуре и МГБ, партийными опросами чиновников, погоревших на деле Павленко, такие заявления позволяют услышать своеобразный диалог обвиняемых и обвинителей. Во всех случаях, когда это позволяли источники, я старался реконструировать этот диалог. При этом не нужно, конечно, забывать, что обе стороны – обвиняемые и их обличители – преследовали свои интересы. Первые скрывали многие факты, чтобы смягчить приговор. Вторые подчеркивали и нередко преувеличивали преступный характер деятельности арестованных, чтобы сделать приговор более суровым. Однако в целом выявленные документы предоставляют многочисленные возможности для изучения теневых реалий советской жизни. Сами того не желая, следователи прокуратуры, МГБ и партийного контроля выступали в роли достаточно въедливых «социологов», проводивших «углубленные интервью» с подследственными, свидетелями и подозреваемыми.
Подводя итоги этому короткому обзору, можно сказать, что доступных источников об организации Павленко у нас много, но не так много, как хотелось бы. На самом деле это обычная ситуация для историка. В совокупности московский и молдавский комплексы документов оказались достаточными, чтобы вести исследование и написать эту книгу. Тем более что ее реальная источниковая база не ограничивается судебно-следственными документами. Поскольку задачей книги было изучение организации Павленко в контексте важных тенденций советского социально-экономического развития, большое значение имело обращение к литературе и архивным документам по широкому кругу вопросов. Результаты исследования этих контекстных источников читатель найдет в соответствующих разделах книги.
Глава 1
ПУТЬ К «ДЕЛУ ЖИЗНИ»
Жизнь Павленко, как и всех поколений советских людей, в 1930–1940‐х годах разделилась по рубежу войны: до, во время и после нее. Именно в годы войны Павленко стал руководителем теневой строительной организации, работавшей хотя и реально, но под прикрытием фальшивой военно-строительной легенды. Именно в годы войны он применял и совершенствовал те методы взаимодействия с государственными структурами, которые позволяли ускользать из-под, казалось, тотального контроля, при этом находясь в относительной безопасности и получая прибыль.
Во время войны сформировалась новая социальная идентичность Павленко и его сотрудников. Все они развили не только важные профессиональные качества строителей и дельцов теневой экономики, но и навыки самосохранения и адаптации, использования государственной системы в собственных интересах. Успешность этого сценария жизни была для них очевидна. В документах по делу УВС отсутствует какая-либо информация о потерях в личном составе организации в годы войны. Если они и были, то не затронули ядро группы. Зато плечи Павленко и его сотрудников украшали фальшивые погоны, на груди сверкали ордена и медали, полученные преимущественно при помощи махинаций, а в карманах лежали немалые суммы денег, вырученных за счет манипуляций с трофейным имуществом и спекуляций на черном рынке. Это был весомый багаж, с которым можно было успешно открыть новую страницу послевоенной жизни.
Было бы неверно полагать, однако, что эти превращения произошли с героями книги во время войны с чистого листа. Предвоенная биография Павленко, хотя и очень скупо представленная в имеющихся материалах, демонстрирует многочисленные предпосылки коренных изменений, случившихся с ним в годы войны. Молодой человек из небольшого украинского села, до начала войны он прошел путь, характерный для миллионов его сверстников в крестьянской индустриализирующейся стране. Обладая способностями и амбициями, он, как сын «кулака», оказался заперт в почти неподвижной кабине социальных лифтов.
Новое государство ценило преимущества «правильного» социального происхождения куда больше личных качеств. На годы становления Павленко и его будущих сотрудников пришлось страшное бедствие – голод, унесший несколько миллионов жизней и покалечивший болезнями еще много миллионов выживших. Очень рано Павленко пришлось столкнуться с угрозой репрессий и приобрести специфический опыт взаимодействия с советскими карательными структурами.
Именно в таких условиях Павленко учился активно и цинично относиться к предложенным ему обстоятельствам. Счастливо избежав самой плохой участи – участи террора, уготованной многим миллионам советских граждан, Павленко фактически оказался перед выбором. Он мог влачить жалкое существование задавленного и бесправного советского гражданина, незаметного и нищего настолько, чтобы не вызывать интерес у государства. Но он мог и попытаться избежать такой судьбы, вырваться за ее пределы, несмотря на стигму происхождения, тяготы и жестокость окружавшего мира.
Предпочитая второй сценарий, Павленко освоил необходимые жизненные навыки внутреннего эмигранта, «своего» среди чужих. Как и многие советские граждане, он вел рискованные, но не обязательно проигрышные игры с государством, активно приспосабливался к системе и манипулировал ее слабостями в своих интересах. Так постепенно появился на свет фальшивый «полковник инженерных войск», энергичный владелец теневого частного предприятия, бросивший вызов могущественному сталинскому государству.
До войны
Первые сложности в реконструкции биографии Павленко возникают уже при определении его возраста. С самого начала на допросах Павленко говорил, что по документам родился в 1908 году, а на самом деле – в 1912‐м[55]. Следствие и суд предпочитали, однако, верить документам. Расстрельный приговор в 1955 году он получил как «Павленко Николай Максимович 1908 года рождения»[56]. Однако, обращаясь с просьбой об отмене расстрела, Павленко вновь утверждал: «Мне 43 года, так как рождения 1912 года»[57]. Как и когда в документах Павленко появилось указание на 1908 год рождения и был ли верным 1912 год рождения, сказать трудно.
Другие факты биографии, приведенные Павленко на первых допросах, действительно свидетельствовали в пользу 1912 года. Так, семилетку, по его словам, он окончил в 1927 году. 15 лет – вполне подходящий для окончания школы возраст, 19 лет – уже многовато, хотя и вполне возможно. Мотивы, по которым Павленко настаивал на «настоящем» годе рождения после ареста, более очевидны. Павленко мог скинуть возраст, чтобы сослаться на молодость и незрелость в момент совершения преступлений. «Во время Отечественной войны сбился с правильного пути и не понимал существа лжестроительных организаций», – писал он, например, в ходатайстве о помиловании.
На тех же первых допросах, когда следователи госбезопасности и военной прокуратуры пытались составить представление о личности арестованного, всплыли и другие подробности его ранней биографии. В соответствии с принципами советской юриспруденции, прежде всего нужно было выяснить социальное происхождение обвиняемого. Оно могло иметь критическое значение. За одно и то же преступление гораздо более жестоко наказывались «социально чуждые элементы», бывшие «эксплуататоры» и враги большевиков. Самой значительной группой среди них были зажиточные крестьяне, «кулаки», несколько миллионов которых расстреляли, отправили в лагеря или вместе с семьями в ссылку во время сталинской коллективизации.
Происхождение Павленко с этой точки зрения было двойственным. Он признался (очевидно, понимая, что этот факт все равно станет известным), что родился в селе Новые Соколы Иваньковского района Киевской области в семье зажиточного украинского крестьянина. Семья владела 20 гектарами земли и паровой мельницей, имела рабочий скот и нанимала сезонных рабочих. Мать Николая умерла в 1918 году. Отец и двое старших братьев продолжали вести хозяйство. На первых допросах, рассказывая о своем происхождении и семье, Павленко называл только отца, мать и двоих братьев. Все они к тому времени уже умерли. В конце 1952 года косвенным образом он упомянул также сестру Анну Максимовну[58]. Как будет показано далее, она сыграла определенную роль в жизни Павленко после войны.
Однако в турбулентные 1920‐е годы сестра, как и сам несовершеннолетний Павленко, вряд ли определяла существование семьи. Хозяйством занимались отец и два старших брата. Скорее всего, избегая дискриминации в качестве «кулаков», Максим Павленко разделил имущество со старшим сыном Петром, которому отошла мельница. После смерти Петра примерно в 1926 году, по словам Павленко, мельница перешла к следующему брату Василию. Однако тот в 1927 или 1928 году продал ее и уехал на «строительство промышленных предприятий».
Причины такого шага, хотя о них Павленко и не упоминал, очевидны. Именно в этот период началось свертывание новой экономической политики и усилились репрессии против зажиточных крестьян. Те из них, кто был более предусмотрительным, предпочли «самораскулачиться», лишиться имущества, но сохранить жизнь и свободу, затерявшись на просторах огромной страны. На допросе Павленко показал, что примерно так поступил и его отец, когда коллективизация стала всеобщей: «Отец все свое имущество добровольно передал в колхоз и сам остался работать в колхозе, будучи принят туда». Похоже, что в отличие от многих других зажиточных крестьян Максим Павленко избежал ареста или ссылки и как-то интегрировался в новую колхозную действительность.
Если рассказанное Николаем Павленко на допросах – правда, то Павленко-старший, несомненно, обладал немалой гибкостью, которую унаследовал и его младший сын. Деревню в ходе форсированной и насильственной коллективизации накрыла волна террора и расправ над крестьянами. Помимо заключения в лагеря и расстрелов, в 1930–1931 годах 380 тыс. крестьянских семейств общей численностью более 1,8 млн человек были направлены в специальные поселения в отдаленные районы страны[59]. 200–250 тыс. семей (т. е. около миллиона крестьян), по оценкам историков, не дожидаясь репрессий, бежали в города и на стройки. Еще примерно 400–450 тыс. семей (около 2 млн человек) были выселены по так называемой третьей категории (в пределах своей области) и тоже, потеряв имущество, в большинстве ушли в города и на стройки[60].
На насилие деревня ответила восстаниями. Если за 1926–1927 годы органами ОГПУ было зафиксировано в общей сложности 63 массовых выступления в деревне, за 1929 год – чуть более 1300 (244 тыс. участников)[61], то в 1930 году – 13 754 массовых выступления, в которых принимало участие около 3,4 млн человек[62]. Волнения происходили в основном на почве несогласия вступать в колхозы, а во многих случаях были попыткой защитить «раскулаченных» от арестов и выселения или церкви от закрытия[63]. Многие выступления, как сообщало ОГПУ, проходили «под лозунгами свержения советской власти», руководились «повстанческими центрами», сопровождались «разгоном сельсоветов, попытками расширения территории, охваченной выступлением, вооруженным сопротивлением властям». В ходе таких выступлений наблюдались «занятие основных стратегических пунктов и учреждений, выставление пикетов и заслонов, формирование отрядов или групп вооруженных и т. п.»[64]. Значительная часть крестьянских выступлений (около 30 % в 1930 году) была зафиксирована в Украине.
В общем, Павленко-старший вполне мог пасть жертвой этой гражданской войны, организованной сталинским руководством. Вместе с тем у нас нет оснований не доверять свидетельствам Николая Павленко, что его отца прямые репрессии не затронули. К моменту сплошной коллективизации немолодой уже Максим Павленко вел свое хозяйство один (жена и старший сын умерли, средний и младший, а также, видимо, дочь уехали в города), и оно вряд ли могло быть значительным. Косвенным свидетельством в пользу сравнительно «мирного» врастания Максима Павленко в колхоз служит тот факт, что следствие и суд не стали углублять тему «кулацкого» происхождения Николая Павленко.
На одном из первых допросов сотрудник госбезопасности, как и положено, зафиксировал эту линию: «Следовательно, ваша семья имела кулацкое хозяйство?» Однако вполне удовлетворился объяснениями Павленко: «Хозяйство нашей семьи считалось или кулацким, или зажиточным, я точно не знаю. Сам лично я в хозяйстве систематически не работал, в основном учился»[65]. В дальнейшем во всех документах, вплоть до приговора суда в отношении социального происхождения Павленко, применялась формула «из крестьян-кулаков»[66]. О «раскулачивании» (аресте или депортации) Павленко-старшего, что было бы дополнительным выигрышным обвинением против самого Павленко-младшего, не говорилось. Хотя выявить этот факт было бы несложно.
Скорее всего, соответствовали действительности и слова Павленко о том, что он фактически порвал с семейным хозяйством и переключился на учебу. Вряд ли это был выбор самого молодого Павленко, который в любом случае нуждался в поддержке из дома. Однако, учитывая поведение отца и старших братьев, можно предположить, что они были людьми достаточно гибкими и понимающими веяния времени. Младшему в семье был прямой путь в школу. Как утверждал Павленко, в 1927 году он окончил школу-семилетку. Это было лучшее образование из того, что можно было получить тогда в советской деревне. В Новых Соколах семилетки не было, поэтому пришлось ходить (или переехать?) в соседний район[67].
В 1928 году, как и старший брат, Николай покинул деревню. Первоначально он устроился на строительство автомобильных дорог в Белоруссию. Семилетнее образование в плохо образованной стране было неплохим стартом. Павленко окончил курсы десятников и стал дорожным мастером. В 1930 году он поступил в Минский политехнический институт на автодорожный факультет. Обучался там до начала 1932 года. Причины, по которым бросил институт, Павленко не называл. В публицистических работах о Павленко можно встретить утверждение, что он бежал из института, опасаясь разоблачения «кулацкого» происхождения. Однако не менее убедительно могут выглядеть и другие объяснения. Учитывая темперамент Павленко и его интерес к практическим предприятиям, нетрудно предположить, что учеба тяготила его.
Немаловажным фактором, менявшим жизненные планы многих молодых людей, стал нараставший голод, пик которого пришелся на 1932–1933 годы. Современные оценки прямых жертв голода составляют около 6 млн смертей и даже выше[68]. При этом невозможно, например, подсчитать, сколько людей в результате голода перенесли тяжелейшие заболевания, остались инвалидами и умерли несколько лет спустя после того, как голод превратился в обычные для СССР перманентные продовольственные трудности. Многие крестьяне ринулись из голодающих деревень в более благополучные города и районы.
Власти пытались жестко пресечь эти передвижения, лишая людей последних средств для спасения. В директиве ЦК ВКП(б) и СНК СССР о предотвращении выезда крестьян из Украины и Северного Кавказа, подписанной Сталиным и Молотовым 22 января 1933 года, утверждалось, что эти выезды крестьян за хлебом на самом деле организованы «врагами советской власти, эсерами и агентами Польши с целью агитации „через крестьян“ в северных районах СССР против колхозов и вообще против советской власти». Такая трактовка была обоснованием репрессий против голодающих мигрантов[69]. 25 марта 1933 года руководство ОГПУ докладывало Сталину, что за время с начала операции в январе общее количество задержанного «беглого элемента» составляло 225 тыс. человек, из них были возвращены на места жительства более 196 тыс., а остальные привлечены к судебной ответственности, направлены в лагеря и ссылку и т. д.[70]
Семья Павленко была среди тех, кому удалось избежать худшего. Николай Павленко и его старший брат к тому времени уже уехали в города, где голод был относительно менее жестоким. Их отец, как утверждал Николай, «в 1932 г. или 1933 г. из села выехал к брату Василию и проживал там до своей смерти – января 1943 г.»[71]. Это заявление выглядит вполне правдоподобно. Младший Павленко ушел из института. Студенческий паек был куда меньше, чем снабжение на производстве. Многие в те годы не досиживали положенный срок на студенческой скамье и заполняли рабочие места, тем более что их выбор в стремительно индустриализирующейся стране был значительным. Павленко вернулся к постройке автодорог в Белоруссии, очевидно на должностях низового руководителя.
В начале 1933 года он перебрался из Белоруссии в Воронежскую область. Работал в Липецке прорабом и помощником прораба на строительстве оборонного завода, а затем в Ельце – прорабом и старшим прорабом на реконструкции кожевенного завода. Частая смена рабочих мест была обычным явлением и бичом советской экономики. Ни один директор завода, начальник цеха или строительного участка не знал, сколько людей на следующий день выйдет у него на работу.
Официальная пропаганда клеймила работников, переходивших с предприятия на предприятие, как «летунов», новых деревенских рабочих, зараженных мелкобуржуазным сознанием прошлого. На самом деле в нищей стране люди просто искали лучшие условия труда и жизни, а в голодные годы спасались от смерти. Вполне возможно, переход Павленко на оборонное предприятие тоже был связан с попыткой избежать голода. Однако, похоже, в полной мере она не удалась. В 1934 году Павленко заболел малярией. Многочисленные эпидемии были непременным спутником голода и его отдаленным последствием. Судя по всему, Павленко был одной из жертв этого эха.
После выздоровления в жизни Павленко произошел поворот, имеющий немалое значение для его дальнейшей судьбы. Он перешел на работу в систему промысловой кооперации. В советской экономике кооперация занимала специфическое положение. Как было показано во введении к этой книге, несмотря на явную тенденцию огосударствления кооперации, в ней сохранялись некоторые возможности для экономической самостоятельности и инициативы, правда, в большинстве случаев нелегальной. За фасадом кооперации нередко скрывались частное предпринимательство и различные теневые схемы хозяйственной деятельности. Соответственно, возможности получения относительно высоких доходов были сопряжены здесь с повышенными рисками различных репрессий.
Мы не знаем, в какой степени эти общие тенденции развития кооперации касались Павленко. Сохранившаяся в материалах следствия информация о его довоенной кооперативной карьере имеет общий, преимущественно анкетный характер. Известно, что сначала Павленко работал заведующим участком от промкооперации на строительстве оборонного завода «Новая Тула». Затем, видимо, в составе той же кооперативной организации Павленко перешел на строительство завода синтетического каучука в Тульском районе[72]. Иначе говоря, кооперативная артель, в которой служил Павленко, выполняла строительные работы для государственных предприятий. Это была обычная практика привлечения дополнительных сил на основании договора подряда. В будущем Павленко станет широко пользоваться таким методом, когда организует собственную строительную корпорацию.
Один из довоенных эпизодов карьеры Павленко свидетельствует, что он уже тогда мог быть причастен к теневым кооперативным схемам. Как говорилось в материалах следствия, в 1935 году он «арестовывался прокуратурой Ефремовского района Московской области по Закону от 7 августа 1932 г.». Обстоятельства и причины этого ареста неизвестны. Очевидно, речь шла о каких-то хищениях или иных злоупотреблениях, которые можно было трактовать как хищения государственной собственности. Упомянутый закон «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности» был принят в разгар голода по личной инициативе Сталина. Расхитители были названы в этом документе «врагами народа». Сталин, подчеркивая особое значение этого акта, называл хищения контрреволюционным преступлением[73].
Исходя из такой политической предпосылки, закон предусматривал жесточайшие меры наказания – 10-летнее заключение или расстрел – даже за минимальные хищения, причем в условиях страшного голода, охватившего страну. Массовое осуждение несправедливости этого драконовского решения отразилось в его народном названии – «закон о пяти колосках». Действительно, огромный срок заключения в лагеря или расстрельный приговор получило немало умирающих от голода людей, срезавших на колхозных полях несколько колосьев зерна.
Подобные юридические новации вызывали отторжение не только в народе, но и у части работников прокурорско-судебной системы. Народный комиссар юстиции Н. В. Крыленко говорил об этом на пленуме ЦК ВКП(б) в январе 1933 года:
Иной раз приходится сталкиваться не только с непониманием, но с прямым нежеланием жестко применять этот закон. Один народный судья мне прямо сказал: «У меня рука не поднимается, чтобы на десять лет закатать человека за кражу четырех колес».
Мы сталкиваемся тут с глубоким, впитанным с молоком матери предрассудком и традициями старых форм правовой буржуазной мысли, что этак нельзя, что обязательно судить должно, не исходя из политических указаний партии и правительства, а из соображений «высшей справедливости»[74].
Однако, несмотря на первоначальную решительность, власти вынуждены были признать чрезмерность этой карательной кампании. Уже через несколько месяцев после издания закона от 7 августа началась корректировка практики его применения. В феврале – марте 1933 года были приняты решения о запрещении привлекать к суду на основании закона от 7 августа «лиц, виновных в мелких единичных кражах общественной собственности, или трудящихся, совершивших кражи из нужды, по несознательности и при наличии других смягчающих обстоятельств». Поскольку произвол продолжался, в январе 1936 года Политбюро по инициативе прокуратуры приняло решение проверить приговоры по закону от 7 августа и освободить неправильно осужденных[75]. За полгода было проверено более 115 тыс. дел. Более чем в 91 тыс. случаев применение закона от 7 августа признано неправильным[76].
Павленко попал под удар этого закона на нисходящей фазе его применения. Это, несомненно, могло быть причиной прекращения уголовного дела. Совершенно точно можно утверждать, что Павленко избежал суда и был вскоре освобожден из-под ареста. В документах суда и следствия он проходил как «ранее не судимый»[77]. Сам Павленко в прошении и помиловании писал: «До Отечественной войны я ни разу не был под судом»[78]. Есть информация, что избежать наказания ему позволило согласие на сотрудничество с чекистами. Этот факт сам Павленко в прошении о помиловании изложил так: «В конце 1934 и начале 1935 г. я, работая в городе Туле, заявил о врагах народа и вместе с органами участвовал в раскрытии и задержании»[79].
Зная ситуацию в стране в середине 1930‐х годов, можно с большой долей вероятности предположить, что произошло. После убийства Кирова советский карательный аппарат по указаниям Сталина усилил фабрикацию дел о «террористических организациях». Как обычно в таких случаях, реальными свидетельствами чекисты не располагали. Обвинения держались на самооговоре арестованных, полученных под давлением вплоть до пыток, а также на «показаниях» «штатных свидетелей», готовых подписать любые фальсификации под диктовку НКВД.
Судя по всему, Павленко выступил в качестве такого «свидетеля». Несомненно, для него это был важный опыт корыстного взаимодействия с тоталитарным государством и преодоления моральных барьеров, опыт циничного эгоизма. Однако вряд ли сотрудничество с госбезопасностью продолжалось дольше, чем до начала войны. Иначе, находясь в контакте с чекистами, Павленко не смог бы организовать свои фальшивые организации и заниматься тем, чем он занимался во время и после войны.
В краткосрочной перспективе, однако, сотрудничество с НКВД вполне могло повлиять на карьерный рост Павленко. Во всяком случае, в 1936 году он переехал в Ярославль, став председателем дорожно-строительной артели. В начале 1939 года в составе артели «Клинский транспортник» работал заведующим участком на строительстве аэродрома в Торжке в Московской области (ныне – Тверская). В конце 1939 года на базе участка была создана новая дорожно-строительная артель в городе Ржеве Калининской области под названием «Пландорработ». Артель занималась планировочными земляными дорожно-строительными работами и гужевыми перевозками. Павленко вплоть до начала войны был ее председателем и техническим руководителем.
В последние предвоенные месяцы часть сил артели была переброшена к западным границам для строительства аэродромов. Это был огромный проект, который в числе других оборонных мероприятий лихорадочно развертывался в обстановке нараставшей угрозы войны… Возведение аэродромов в основном базировалось на лагерном принудительном труде. 24 марта 1941 года решением Политбюро строительство и реконструкция 251 аэродрома для Наркомата обороны было поручено НКВД, которому предстояло выделить 400 тыс. заключенных. Наркомат обороны, в свою очередь, формировал 100 строительных батальонов по тысяче человек в каждом[80].
Артель Павленко была лишь незначительной крупицей в этом потоке рабочей силы. Однако сам Павленко приобрел на аэродромном строительстве важный опыт взаимодействия с военными и полезные связи, которые помогли ему в будущем.
«Управление военных работ»
Война изменила судьбу Павленко, как и судьбу сотен миллионов людей во многих странах мира. С первых дней войны Павленко оказался в тех западных районах СССР, которые подверглись первой и сокрушительной атаке нацистов. Как рассказал Павленко на допросе, «начало Отечественной войны застало меня в пути следования в Западную Белоруссию. Однако добраться к месту работы артели я не мог, и из города Барановичи я возвратился в город Минск». Понятно, что Павленко не мог и не хотел рассказывать в подробностях, что реально стояло за вялой фразой «добраться не мог». Другие источники позволяют нам в некоторой степени приблизиться к пониманию хаоса и паники, охвативших в тот период советский Западный фронт. В Москву Сталину шли тяжелые сообщения от руководителей западных регионов, в том числе из Белоруссии, по которой перемещался Павленко[81]. Секретарь Брестского обкома партии писал 25 июня 1941 года:
Вторжение немецких войск на нашу территорию произошло так легко потому, что ни одна часть и соединение не были готовы принять боя, поэтому вынуждены были или в беспорядке отступать или погибнуть… Застигнутые внезапным нападением, командиры растерялись. Можно было наблюдать такую картину, когда тысячи командиров… и бойцов обращались в бегство. Опасно то, что эта паника и дезертирство не прекращаются до последнего времени, а военное руководство не принимает решительных мер.
А вот что телеграфировал секретарь Гомельского обкома 29 июня 1941 года:
Деморализующее поведение очень значительного числа командного состава: уход с фронта командиров под предлогом сопровождения эвакуированных семейств, групповое бегство из части разлагающе действует на население и сеет панику в тылу.
Секретарь Лунинцкого райкома партии передавал в Москву по прямому проводу:
…Сопротивление противнику оказывают отдельные части, а не какая-то организованная армия… В городе (Лунинце Пинской области. – Авт.) полно командиров и красноармейцев из Бреста, Кобрина, не знающих, что им делать, беспрерывно продвигающихся на машинах на восток без всякой команды, так как никакого старшего войскового командира, который мог бы комбинировать действия войск, нет… В Пинске сами в панике подорвали артсклады и нефтебазы и объявили, что их бомбами (разбомбила немецкая авиация. – Авт.), а начальник гарнизона и обком партии сбежали к нам в Лунинец, а потом, разобравшись, что это была просто паника, вернулись в Пинск, но боеприпасы, горючее пропали… Эти факты подрывают доверие населения. Нам показывают какую-то необъяснимую расхлябанность.
В Минске Павленко был сразу же призван в армию. Любой из фигурирующих в его биографии годов рождения, и 1908 и 1912, не давал право на отсрочку. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года предусматривал, что «мобилизации подлежат военнообязанные, родившиеся с 1905 по 1918 год включительно». Как специалиста-строителя Павленко назначили помощником инженера 2‐го стрелкового корпуса, который дислоцировался в Минске. В последующие несколько месяцев Павленко вместе с другими военнослужащими стремительно отступал на восток.
Минск пал уже на седьмой день войны, 28 июня 1941 года. Отступающие части Красной армии несли тяжелые потери и постоянно попадали в окружение. По официальным данным, до конца 1941 года потери составили более 3 млн человек, из них более 2,3 млн пропали без вести или попали в плен[82]. Павленко вместе со своей частью добрался до Вязьмы. Однако 7 октября 1941 года в районе Вязьмы была окружена основная часть Западного и Резервного фронтов, 9 октября – Брянского фронта. Катастрофические потери в Вяземском котле открыли гитлеровцам плохо защищенный путь на Москву.
Павленко повезло. Он избежал пленения и оказался в числе тех остатков разгромленных частей Красной армии, которые переформировывались и вливались в другие подразделения. Павленко направили в распоряжение Военно-строительного управления (ВСУ) Западного фронта, где он работал на строительстве оборонительных рубежей, госпиталей и складов[83].
Судя по всему, свое положение в ВСУ Павленко считал ненадежным. Он ощущал угрозу направления на фронт и поэтому искал способы закрепиться в строительных войсках. Козырем Павленко был опыт работы на объектах авиационного строительства, а также довоенные личные связи с военнослужащими из авиационных строительных частей. Под Вязьмой он встретил знакомых военных, в том числе В. М. Цыплакова, который в будущем сыграет в судьбе Павленко немалую роль.
Цыплаков служил в 12‐м районе авиационного базирования (12 РАБ)[84] и был готов содействовать переходу Павленко в эту часть. Однако для этого требовалось соблюсти определенную бюрократическую процедуру: перевестись в распоряжение отдела аэродромного строительства Западного фронта. Павленко несколько раз обращался с такой просьбой к своим начальникам в военно-строительном управлении, но те требовали официальный запрос от авиаторов. Между тем вновь связаться со своими знакомыми в 12 РАБ в сумятице военных действий Павленко не смог.
Однако Павленко не привык отступать. Новое направление его мыслям придала случайная встреча с сослуживцами по бывшей артели «Пландорработ», в составе которой Павленко до войны участвовал в строительстве аэродромов. Выяснилось, что у одного из них сохранилась печать этой артели. Печати в советской бюрократизированной системе были важным инструментом легализации чего угодно. Павленко заверил этой печатью письмо в одну из московских типографий с просьбой изготовить бланки несуществующей организации – Пландорстроя отдела аэродромного строительства ВВС и подписался под этим письмом как начальник Пландорстроя.
Получив такой бланк (еще один важный элемент советского бюрократизма), Павленко сделал следующий шаг – составил на нем фальшивый запрос своему руководству в военно-строительном управлении Западного фронта об откомандировании в распоряжение отдела аэродромной службы ВВС того же фронта. Запрос сработал. Было получено легальное разрешение на перевод.
Махинации Павленко трудно признать исключительным явлением. Как показывают исследования, разного рода фальшивые документы имели широкое хождение в годы войны. Особенно часто подделывались продовольственные карточки, пропуска на проезд в железнодорожном транспорте, пользовавшиеся спросом у «мешочников», документы об освобождении от службы в армии[85]. Эти явления, широко распространенные в тылу, не обходили и армию. Так, в октябре 1943 года к 10 годам лишения свободы был приговорен сержант Иванов. Для фабрикации документов, позволяющих дезертировать с фронта, он изготовил фиктивную гербовую печать и штамп полка[86].
Легальные бумагами о переводе Павленко к новому месту службы в военно-воздушные силы были хорошим прикрытием для продолжения поисков 12 РАБ и отсутствия по старому месту службы. Однако найти нужную цель в условиях фронтовой жизни первого периода войны было совсем непросто. Прежде всего, для поездок нужен был транспорт, которым Павленко не располагал. Вновь воспользовавшись своими способностями заводить знакомства, Павленко уговорил водителя грузовика сержанта И. И. Щеголева поехать в район города Калинина на розыск аэродромных строителей. С тех пор Щеголев в качестве водителя и члена организации прошел с Павленко долгий путь. В начале 1950‐х годов после разгрома организации Павленко он был обвинен в числе прочего в дезертирстве и хищении из воинской части грузовика[87].
Пока же в марте 1942 года Павленко вместе со Щеголевым отправился на поиски 12 РАБ. Однако они оказались безуспешными. Ситуация для Павленко складывалась неблагоприятно. С одной стороны, он уже выбыл из своей прежней части, с другой – не мог попасть в новую. Это грозило серьезными рисками, прежде всего обвинениями в дезертирстве. И тогда Павленко предпринял решительный авантюрный шаг – в марте 1942 года организовал собственное ложное воинское подразделение. В этом случае вновь пригодилась печать старой артели. Именно ею Павленко скрепил заявление в органы милиции города Калинина о разрешении изготовить новую печать и угловой штамп «участка № 2 Управления военных работ». Себя Павленко начал именовать начальником участка управления военных работ при Калининском фронте, военинженером 3‐го ранга[88]. Вокруг себя он собрал старых сотрудников и знакомых.
Получив эти документы и ядро команды, Павленко в начале 1942 года обратился в фронтовой эвакопункт (ФЭП). Врачу – начальнику эвакопункта он объяснил, что до передислокации имеется свободная команда, которую можно временно использовать на строительных работах. Нетрудно предположить, что начальник эвакопункта принял бригаду квалифицированных строителей с энтузиазмом. Ей было поручено обустройство землянок для фронтовых госпиталей. По подложным документам был открыт счет в Калининской областной конторе Госбанка, через которую поступали деньги, перечисляемые ФЭП за работу[89].
Хотя с юридической точки зрения часть Павленко под названием УВР‐2 была фиктивной, фактически она состояла из реальных людей. Прежде всего, в нее влились старые знакомые Павленко по довоенной артели, а также водитель Щеголев, с которым Павленко ранее разыскивал 12 РАБ. Поскольку организация действовала в интересах вполне легального фронтового эвакопункта, весной 1942 года Павленко сумел установить контакты с Калининским и Клинским районными военкоматами. Через них было легализовано оформление на военную службу ближайших соратников Павленко, мобилизованы новые члены организации. Среди них были как подлежащие призыву в армию, так и военнослужащие, отставшие от своих частей, и дезертиры[90]. Тыловые строительные части имели очевидные преимущества и для тех военнослужащих, которые возвращались в строй после ранения. Так, В. С. Шичков и С. Э. Ковальский, получившие отпуск по ранению, в начале 1942 года, еще до завершения отпуска, предпочли перейти в организацию Павленко[91].
Личный состав команды был поставлен на продовольственное и вещевое снабжение во фронтовом эвакопункте. Помимо грузовой машины Щеголева, команда обзавелась несколькими лошадьми[92].
Оценка этих событий самим Павленко и органами следствия и суда 10 лет спустя была разной. Павленко настаивал, что, несмотря на фиктивный характер, его строительные команды «выполняли оперативные задания командиров боевых частей, которым они были приданы. За успешное выполнение заданий неоднократно имели благодарности от командиров частей и соединений»[93].
Суд исходил из того, что Павленко с марта 1942 года, т. е. после создания УВР‐2, был дезертиром. Дезертирами считались также все члены организации, поскольку сама она была фиктивной. Очевидно, однако, что речь шла о дезертирстве особого рода. Павленко и его команда служили на фронте в составе легальных воинских структур и выполняли реальные строительные работы в интересах Красной армии. Ситуация не изменилась и после того, как осенью 1943 года Павленко все же сумел разыскать 12 РАБ в районе города Тулы и при помощи В. М. Цыплакова договорился о переходе УВР‐2 в оперативное подчинение 12 РАБ.
Почему потребовалось сохранение фиктивной части вместо прямого перехода в 12 РАБ, не вполне ясно. Возможно, у 12 РАБ не было необходимых штатных единиц. Возможно, Павленко и его товарищи опасались разоблачения аферы в случае переформирования. Возможно, они видели преимущества в сохранении определенной автономии своей команды, начальником которой числился Павленко. Численность организации должна была меняться на разных этапах войны. Павленко в своих заявлениях называл цифру 120–180 человек[94]. В приговоре суда говорилось о более чем 200 «участниках преступной организации»[95].
Команда УВР‐2 была зачислена на продовольственное снабжение при 12 РАБ. Оплата за выполненные подрядные работы переводилась на счета в конторах Госбанка. Наряду со старыми сотрудниками в организацию Павленко разными способами продолжали привлекаться новые люди. Часть из них прошли с тяжелыми боями первые годы войны. Так, В. И. Дедковский, числившийся в УВР‐2 помощником командира взвода, служил в действующей армии с ноября 1941 года. Воевал на южных фронтах, был дважды ранен. Проведя восемь месяцев в госпитале после второго ранения, через запасной полк получил назначение в команду Павленко[96]. Каким образом и почему происходило направление военнослужащих в УВР‐2, из документов непонятно. Несомненно, в ряде случаев это был организованный процесс.
Так, родственник Павленко П. Н. Монастырский, который через 10 лет попадет вместе с ним под суд, перешел в УВР‐2 в начале 1943 года через пересыльный пункт после второго ранения[97]. Таким же был путь И. Ф. Лисовского, также командированного в организацию через запасной полк весной 1943 года после тяжелого ранения[98]. Лисовский, скорее всего, был знаком с Павленко или с кем-либо из команды, поскольку призывался в армию из Солнечногорска Московской области, где до войны работала артель Павленко. А. В. Кузнецов и В. И. Зятьков, мобилизованные в армию в самом начале войны в Калинине[99], могли быть известны кому-либо из членов команды Павленко или приняты по земляческому принципу. Они попали в УВР‐2 в начале 1944 года после нескольких ранений.
Подобные примеры показывают, что во время войны в той или иной мере действовали неформальные механизмы перехода военнослужащих из части в часть, особенно в связи с новыми назначениями после ранений. Свою роль в этом процессе могли играть земляческие связи, личные знакомства и родственные отношения. Многие знакомые и родственники, даже если они были на фронте, могли поддерживать связи при помощи переписки. Очевидно, что в организации Павленко в силу ее теневого характера такие неформальные отношения играли особую роль.
При комплектовании УВР‐2 особенно ценились водители, которые переходили в организацию вместе с закрепленными за ними грузовыми автомашинами[100]. Как это могло происходить, из документов неясно. Видимо, в условиях боевых действий было сравнительно легко затеряться, тем более когда речь шла о переходе в новую военную часть. Несложно было приобрести для организации и оружие, недостатка которого в районах боевых действий не ощущалось.
Впрочем, оружия нужно было немного, ведь УВР‐2 работала в тылу. Все члены команды выдавали себя за военнослужащих разных званий. Павленко как командир части носил форму со знаками различия инженер-майора, И. П. Клименко считался начальником финансовой части в звании старшего лейтенанта, на Г. В. Курицына и С. И. Туркина были сфабрикованы документы старшин и т. д. Используя старые связи, Павленко получил за взятки в подмосковной типографии бланки различных документов. Были изготовлены фиктивные командировочные предписания, красноармейские книжки и т. д.
Мы почти ничего не знаем о том, чем конкретно занималась УВР‐2. Следствие и суд эти вопросы не интересовали, поскольку в центре их внимания была не позитивная деятельность организации, а ее преступный характер. Павленко в противовес этому в своих заявлениях всячески подчеркивал достижения команды:
Во время войны лжевоенно-строительная организация занималась строительством наземных сооружений на полевых аэродромах, а в некоторых случаях производила постройку или ремонт таковых. Некоторый период занимались строительством полевых госпиталей. С лета 1944 года команды нашей лжевоенно-строительной организации были в действующей армии, т. е. в составе 4‐й воздушной армии и выполняли задания наравне с инженерными частями этого соединения. В этот период команды выполняли оперативные задания командиров боевых частей, которым они были приданы. За успешное выполнение заданий неоднократно имели благодарности от командиров частей и соединений. Команды всегда находились в непосредственной линии фронта или 15–25 клм., т. к. они занимались подготовкой площадок для боевых самолетов[101].
Некоторое представление о деятельности организации дают документы о представлении к наградам ее отдельных членов. Конечно, нужно учитывать, что суд признал сами награждения фиктивными[102]. Однако некоторую долю правды наградные документы должны были содержать. В представлении к награждению Павленко орденом Красной Звезды, например, говорилось, что с конца 1943 и в 1944 году организация Павленко построила 82 жилых и 5 технических землянок, 6 командных пунктов и 6 столовых и других сооружений, общей стоимостью 600 тыс. руб. Земляночные городки строились на аэродромах. Благодаря этому описанию мы можем понять характер деятельности УВР‐2. В представлении говорилось также, что во время летней наступательной кампании 1944 года работы выполнялись в непосредственной близости от линии фронта, под огнем противника, а в районе Минска подразделение Павленко даже участвовало в боях[103].
Большинство членов команды Павленко, прежде всего ее рядовой состав, конечно, ничего не знали о характере УВР‐2. Внешне эта «часть» вряд ли чем-то выделялась из ряда других подразделений Красной армии, выполнявших аналогичные функции. Помимо организации строительных работ, нужно было решать много других задач материального снабжения. Павленко и в этом случае использовал любые методы. По данным следствия, он и его помощники не ограничивались получением положенных УВР‐2 продовольственных пайков, но стремились незаконными методами пополнить запасы. Например, продовольствие систематически получали по фальшивым аттестатам и командировочным предписаниям в продпунктах различных городов[104]. Похищенные таким путем ресурсы использовались как для дополнительного питания участников организации, так и для обмена на водку, бензин, фураж и частично – для дачи взяток.
Если продовольствие в определенных количествах команда Павленко получала централизованно, то на обмундирование, скорее всего, это не распространялось. Поэтому его искали всеми доступными способами. По версии следствия и суда, в этом случае Павленко и его помощники действовали через двух представителей вещевого и обозного снабжения Наркомата обороны. В течение 1943–1946 годов они за взятки выдавали УВР‐2 наряды на получение формы, нижнего белья, ватных курток и т. д.[105] В своих заявлениях Павленко настаивал на обычном характере таких операций:
«Я не знаю, как можно считать хищение, если в период Отечественной войны получаемое по распоряжению военпредов выбракованное белье, как то: белье, гимнастерки, шаровары, фуфайки, рукавицы, нами полностью стоимость такого оплачивалась тем предприятиям, в которых получалось, т. е. швейным фабрикам, мастерским и т. д.»; «Все вышеуказанное обмундирование шло на личный состав которого было 120–180 чел.»; «Как исключение могла быть одна или две пары проданы или заменены на бензин, запчасти или питание во время командировки»[106].
Суд, однако, настаивал на том, что значительная часть незаконно полученного обмундирования продавалась на рынках по высоким ценам.
Суд предъявлял Павленко и его подельникам обвинения в массовых хищениях и других ресурсов. В 1943 году с колхозных полей Тульской области они неоднократно вывозили сено, которое продавали затем на рынке. В это же время в городе Клине, обманув (подкупив?) сторожа, со склада строительной организации члены УВР‐2 похитили 200 листов шифера. В 1944 году они продали четырех лошадей, угнанных в районе Минска. Летом 1944 года в населенном пункте Березино УВР‐2 досталось большое количество ржи. По указанию Павленко ее переработали на муку и продали на рынке, выручив от продажи крупную сумму денег, и т. д.[107]
Оборотной стороной многочисленных преступлений и махинаций было, несомненно, падение дисциплины в организации. Ее поддержание Павленко, как и многие другие командиры, обеспечивал разными методами. Некоторые из дисциплинарных инцидентов были зафиксированы позже судом и поставлены руководителям УВР‐2 в вину. «Прибегая к различным мерам принуждения, подсудимый Павленко связывал отдельных участников УВР, запирал их в подвалы, погреба и сараи, учинял им допросы», – говорилось в приговоре суда.
Так, летом 1944 года в районе Минска был помещен в сырой блиндаж пьяный участник УВР‐2 Кочкин. Ему удалось бежать. Спасаясь от преследования, Кочкин просил защиту у солдат проходившей мимо воинской части. Возникла перестрелка, в которой один из членов УВР‐2 был убит, а сам Кочкин тяжело ранен. Осенью 1943 года «начальник штаба» УВР‐2 Завада нанес пистолетом удар по голове шоферу за неповиновение[108]. Особый акцент обвинение делало на три бессудных расстрела, произведенные в организации на завершающем этапе войны, о чем будет сказано далее.
Состоявшийся через 10 лет после этих событий трибунал по делу УВС объяснял такие инциденты стремлением Павленко и его ближайших сотрудников «предотвратить возможное разоблачение преступной организации со стороны рядовых участников УВР» и военных властей[109]. Однако вряд ли это было так, по крайней мере в большинстве случаев. Речь шла о рутинном поддержании дисциплины способами, которые были привычны для Павленко, впрочем, как и для многих командиров в армии.
За пределами родины: трофейное имущество и самосуд
Было бы неправильно утверждать, что преступления и насилие были характерны во время войны только для организации Павленко в силу ее изначально преступного характера. Перемещение многих миллионов вооруженных людей, среди которых были и уголовники, досрочно освобожденные из лагерей для отправки на фронт, и несудимые с низким уровнем ответственности, сопровождалось многочисленными эксцессами, часто подогреваемыми массовым употреблением спиртных напитков. Героизм и самоотверженность соседствовали с подлостью и низостью. Чувство долга, сострадание и порядочность – с преступлениями и озлобленностью. Комплексы соответствующих документов недостаточно изучены, прежде всего по причине ограниченной доступности. Имеющиеся источники свидетельствуют о достаточно широком распространении насилия в армии[110]. Такую информацию регулярно получали высшие руководители страны, что свидетельствовало о значимости и широкой распространенности этого явления.
Так, в августе 1943 года управление НКВД Курской области направило Л. П. Берии спецсообщение о бандитской группе в составе 16 РАБ 2‐й Воздушной армии[111]. Для нас эта информация может представлять особый интерес, потому что речь шла о подразделении, аналогичном тому, в которое через несколько месяцев вольется команда Павленко, – 12 РАБ 4‐й Воздушной армии. В спецсообщении говорилось, что командование 16 РАБ в начале августа 1943 года направило в Белгород техника-лейтенанта Липского во главе технического взвода для сбора трофейных автомашин и авиационного имущества. «Вследствие бесконтрольности офицерский состав пьянствовал, а рядовой состав занимался спекуляцией, продавая на рынке изготавливаемые им различные изделия».
В определенный момент Липский дал приказ старшине взвода ограбить трех пожилых учительниц Васильевых, у которых, как считали преступники, было «много ценностей и вещей». Предварительно напоив двух красноармейцев, старшина организовал вместе с ними налет с оружием. Сотрудники НКВД по горячим следам сумели найти похищенные вещи и определить налетчиков. Однако во время допроса в здание городского отдела НКВД ворвались Липский и его сослуживец. Они сделали попытку освободить арестованных и при задержании пытались оказать вооруженное сопротивление.
Эта информация о налете в Белгороде по распоряжению Берии была направлена Сталину. Накапливаясь, такие сигналы вызывали реакцию руководства страны и армии. Так, 30 мая 1944 года заместитель наркома обороны СССР (наркомом обороны был сам Сталин) маршал А. М. Василевский подписал приказ под красноречивым заголовком «О бесчинствах, вооруженных грабежах, кражах у гражданского населения и убийствах, творимых отдельными военнослужащими в прифронтовой полосе, и мероприятиях против них». В нем говорилось о преступлениях военнослужащих и о непринятии командованием «решительных мер» борьбы с ними.
В приказе перечислялись кражи личного имущества граждан, товаров в магазинах, собственности колхозов в западных областях СССР. Руководство Наркомата обороны предписывало усилить контроль над передвижениями военнослужащих, ограничивать командировки, усилить выявление дезертиров и т. д. Дела, связанные с грабежами, кражами, убийствами и другими преступлениями, совершенными военнослужащими, предписывалось «разбирать немедленно и виновных привлекать к суду военного трибунала»[112].
Однако, судя по документам, таких сигналов сверху было недостаточно. Органы НКВД продолжали докладывать высшему руководству страны о преступлениях военнослужащих против гражданского населения. Так, в конце июля 1944 года Берия сообщил Сталину об аресте группы солдат и младших офицеров танковой ремонтной части в Молдавии. Поменяв обмундирование на спиртное и продукты, в состоянии алкогольного опьянения они ограбили несколько крестьян, отобрали у пастуха 12 овец, изнасиловали женщину[113]. В сводке донесений местных органов НКВД о преступлениях военнослужащих в июне – июле 1944 года приводились другие факты такого рода[114].
Аналогичный доклад, направленный Берией Сталину в конце сентября, открывался сообщением об изнасиловании красноармейцами жительницы Крыма. Далее следовали уже привычные примеры грабежей в поездах, вооруженных стычек с милицией и т. д. В Москве несколько военнослужащих совершили вооруженное ограбление базы отдела снабжения авиационного завода, в Харьковской области – сельского магазина, в Воронежской области – колхозного зернохранилища и т. д.[115] Сводки о преступлениях военнослужащих за сентябрь – октябрь и декабрь 1944 года содержали описания грабежей, изнасилований и убийств, совершенных как в глубоком тылу, так и недалеко от фронта на территории СССР[116]. Все это – преступления в отношении советских граждан на советской территории. Ситуация в огромной степени усугубилась, когда армия вышла на чужие земли, особенно в Германию.
С Красной армией путь до Германии прошла и группа Павленко, или, как было написано в приговоре суда, «пробралась» туда «вслед за наступавшими войсками Советской Армии». Организация продолжала выполнять строительные работы в составе 12 РАБ 4‐й Воздушной армии. Помимо этого, по утверждению суда, в 1944–1945 годах на территории Польши и Германии она занималась массовым хищением трофейного имущества: автомашин, тракторов, мотоциклов, радиоприемников, скота, продуктов питания и т. д.
Так, летом 1945 года в городе Шенебек (Германия) на одной из мельниц УВР‐2 было захвачено большое количество ржи, несколько коров, лошадь, пианино и мебель. Значительное количество ржи было перемолото на муку и вывезено в СССР, она была поделена между участниками УВР‐2, расходовалась на питание и частично продавалась. Как утверждал трибунал, по неполным данным, участниками организации на территории Германии было похищено около 80 лошадей, не менее 50 голов крупного рогатого скота, большое количество свиней, около 20 грузовых и легковых автомашин, до 20 тракторов, электромоторы, автотракторные прицепы, значительное количество муки, крупы и сахара[117]. Всего, как утверждалось в приговоре, этого имущества из Германии было распродано на территории Польши и СССР на 1,1 млн руб.[118]
Справедливости ради, в этом случае нужно дать слово обвиняемым, которые представляли ситуацию иначе. В заявлениях о помиловании Павленко писал:
Я не знаю, в чем выражается хищение государственных средств и имущества, или на территории врага, т. е. Германии, в период окончания войны, если было подобрано 10–15 колесных тракторов на резиновом ходу, часть которых вышла из строя во время производства строительных работ, также взято несколько легковых и грузовых автомашин, подобрано 40–50 лошадей, 10–15 коров. Указанное имущество нами не взято на трофейных складах и базах, и на территории Германии находилось сотни голов лошадей, коров, свиней, которые были бесхозными и за отсутствием корма и ухода в некоторых случаях гибли. Спрашивается, каким образом это имущество и вырученные деньги считать хищением, ведь его могло и не быть. Кроме того, указанные средства выданы как пособия уходящим из армии, выдачи денег наличными взамен проездных литеров, оплаты командировочных, тарифа за железнодорожные вагоны, покупку продуктов и бензина… Кроме того, средства расходовались на выдачу пособий, т. к. от государства не могли получать, т. к. в воинских частях на денежном вещевом и некоторых других не состояли. Свиньи, коровы, мука и прочее расходовались на питание личного состава[119].
Трудно сказать, было ли имущество, захваченное командой Павленко, действительно бесхозным или его отобрали у местных жителей. Могло быть и то и другое. Однако, как свидетельствуют многочисленные факты, охота за трофеями в данном конкретном случае была лишь микроскопической частью массового захвата материальных ценностей на территориях врага. Первые признаки осознания серьезности этой проблемы высшим руководством страны появились еще до выхода Красной армии на территории вражеских государств.
Так, 3 августа 1944 года был издан приказ первого заместителя наркома обороны СССР маршала Г. К. Жукова о запрещении награждения автомашинами личного состава Красной армии. В нем говорилось, что «военные советы и командующие фронтов и армий, а также командиры соединений и частей награждают отдельных военнослужащих и граждан легковыми автомашинами из наличного автопарка и военных трофеев Красной Армии». Приказом запрещались такие действия без специального решения правительства в каждом отдельном случае[120]. 26 сентября 1944 года действие этого приказа было распространено также на награждение мотоциклами[121].
Однако по мере продвижения Красной армии на Запад ситуация с трофеями обострялась. 1 декабря 1944 года, в связи с массовым присвоением материальных ценностей на территории Румынии, ГКО СССР принял постановление о незаконном использовании трофейного имущества. В нем говорилось о массовом вывозе материальных ценностей, а также о злоупотреблениях высокопоставленных военных. «Имели место факты, – отмечалось в постановлении, – когда военнослужащие для личных целей вывозили с фронтов трофейную мебель, радиоприемники, музыкальные инструменты и другие вещи даже самолетами».
Сталин проявил к этому документу особый интерес и тщательно отредактировал его. Ряду генералов и руководителей интендантских служб объявили выговоры или сняли с должности. Как указывалось в постановлении, трофейные ресурсы подлежали концентрации в руках государства. Их распределение и транспортировка в тыл должны были осуществляться централизованно по решениям правительства. Постановление, в частности, устанавливало такие нормы отправки личных посылок военнослужащими не более одного раза в месяц: для рядовых и сержантов 5 килограммов, для офицеров – 10, для генералов – 16[122].
Однако, как показали дальнейшие события, во многих случаях такие предписания игнорировались. Для высокопоставленных советских генералов и маршалов, руководителей госбезопасности, для работников наркоматов, приезжавших в Германию в командировки для демонтажа оборудования в счет репараций, и многих других ценности вывозились вагонами[123]. Пример организации Павленко доказывает, что возможности для бесконтрольного и масштабного расхищения ресурсов были не только у высокопоставленных командиров и руководителей. Хотя у обычных военнослужащих не было такого доступа к ценностям (золоту, драгоценностям, антиквариату и т. д.), который имели высокопоставленные руководители на оккупированных территориях.
Помимо присвоения трофейных ценностей, центральным пунктом обвинений против Павленко в период пребывания его организации в Германии было несколько самосудных расстрелов. Согласно версии следствия и суда, основанной на показаниях некоторых подсудимых, речь шла о трех эпизодах. В приговоре трибунала говорилось, что в конце 1944 года, когда УВР‐2 находилась на территории Германии, Павленко при помощи нескольких участников организации «лично расстрелял гражданина Михайлова, незадолго до этого вовлеченного в УВР». Весной 1945 года на территории Германии по указанию Павленко был расстрелян военнопленный немец, которого Павленко забрал в 1944 году из военной комендатуры Минска как специалиста по ремонту автомашин. Вскоре после окончания войны на территории Польши по указанию Павленко был расстрелян шофер Коптев, который перешел в УВР в конце 1944 года вместе с грузовой автомашиной.
Отвергая эти обвинения, Павленко заявлял:
Действительно, весной 1945 г. на территории Германии по моему приказанию за неоднократное насилие и мародерство над населением были расстреляны два военнослужащих, и это я сделал после того, когда узнал, что приказом Верховного Главнокомандующего за эти действия виновные расстреливаются. Я это не делал с целью мести или террора… Также по моему указанию был расстрелян военнопленный немец, который был фашист и скрывался с расположения (из части. – Авт.)[124].
В ответ на такие оправдания Павленко суд в приговоре указал: «Все расстрелы указанных лиц были произведены без какой-либо проверки о якобы непозволительном их поведении среди местного населения»[125]. Эта фраза, призванная доказать вину Павленко, по своей сути была двусмысленной. Получалось, что Павленко обвинялся не в бессудном расстреле (по сути, в убийстве), а в том, что эти в принципе допустимые расстрелы были произведены при отсутствии должных оснований.
Очевидно, такая формула обвинения отражала реальности военного времени, хорошо известные военным юристам из трибунала. Бессудные расстрелы вообще и на фронте в частности получили в годы войны широкое распространение[126]. Легитимность этой меры была подтверждена известными приказами Ставки Верховного Главнокомандования № 270 «Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия» от 16 августа 1941 года[127] и № 227 от 28 июля 1942 года. В последнем, в частности, говорилось: «Паникеры и трусы должны истребляться на месте»[128].
В целом, по оценке О. В. Будницкого, число жертв бессудных расстрелов в армии в годы войны могло быть сопоставимо с численностью казненных по приговорам военных трибуналов, которая составляла 130–150 тыс. человек[129]. Хотя на завершающем этапе войны число самосудов могло снижаться, они оставались серьезной проблемой. Об этом свидетельствовал, например, проект приказа Сталина «О самочинных расстрелах военнослужащих», датированный февралем 1945 года. В документе Военным советам фронтов предлагалось «принять решительные меры к предупреждению и пресечению фактов превышения власти, беззаконий и самоуправства со стороны отдельных командиров и начальников, сурово наказывая виновных». Приводились в нем также многочисленные примеры бессудных расправ[130].
В общем, действия Павленко, который вершил свой суд примерно в то же время, когда готовился приказ Сталина о самочинных расстрелах, не представляли собой чего-либо особенного и чрезвычайного. Хотя личность самого Павленко они, несомненно, характеризуют соответствующим образом.
Суд не стал оспаривать также ссылки Павленко на приказ Сталина о расстрелах за насилие и мародерство над населением. Это удивительно, поскольку на самом деле такой приказ не существовал и суду было легко опровергнуть претензии Павленко на легитимность его действий. Очевидно, что в данном случае Павленко достаточно изобретательно апеллировал к общеизвестным в военной среде фактам массовых бесчинств на территории оккупированной Германии. Реагируя на такие явления, Сталин действительно подписал 20 апреля 1945 года директиву Ставки Верховного Главнокомандования, в которой говорилось:
1. Потребовать от войск изменить отношение к немцам, как к военнопленным, так и к гражданскому населению и обращаться с немцами лучше. Жестокое обращение с немцами вызывает у них боязнь и заставляет их упорно сопротивляться, не сдаваясь в плен. Гражданское население, опасаясь мести, организуется в банды. Такое положение нам не выгодно. Более гуманное отношение к немцам облегчит нам ведение боевых действий на их территории и, несомненно, снизит упорство немцев в обороне.
2. В районах Германии к западу от линии устье р. Одер, р. Одер до Фюрстенберга и далее р. Нейсе (западная) создавать немецкую администрацию, а в городах ставить бургомистров немцев. Рядовых членов национал-социалистской партии, если они лояльно относятся к Красной Армии, не трогать, а задерживать только лидеров, если они не успели удрать.
3. Улучшение отношения к немцам не должно приводить к снижению бдительности и к панибратству с немцами[131].
С большой долей вероятности именно эта директива, широко доведенная до войск, была известна также Павленко и использовалась им для своей защиты. Однако в ней, как видно, речь о каком-либо ужесточении наказаний виновных в насилии в отношении гражданского населения не шла. Тем более о расстрелах. Павленко явно передергивал факты. Однако мотивы его самосудов с большой долей вероятности можно просчитать. На завершающем этапе войны, когда снизился накал боевых действий (и, соответственно, загрузка УВР‐2 строительными работами), а также возросло количество трофейных соблазнов, Павленко было важно удерживать своих подчиненных в определенных дисциплинарных рамках.
Любой скандал грозил повышенным вниманием к организации и непредсказуемыми последствиями. Это же касалось и военнопленного немца-механика, которого Павленко приобрел на советской территории фактически в качестве раба. Его нельзя было без риска задержания просто отпустить на свободу. Его возможное бегство и поимка также грозили расследованием. В общем, как часто бывало во время войны и не только, проблемы решались самым «простым» способом. Павленко было важно закрыть военную страницу своей деятельности и распустить УВР‐2 без конфликтов и разоблачений.
Прибыльная демобилизация
Поскольку УВР‐2 была фиктивной военной организацией, «демобилизовать» ее после завершения войны можно было также только при помощи различных нелегальных схем и ухищрений. Этот процесс растянулся на некоторое время и заключался в решении двух взаимосвязанных задач. Первая – получение денежных средств, необходимых для выплаты «военнослужащим». Вторая – оформление документов о демобилизации.
Для решения первой задачи было необходимо перевезти в СССР и частично превратить в деньги материальные ценности, похищенные в основном в Германии. Эти операции осуществлялись через несколько каналов[132]. Часть имущества при случае вывозилась из Германии для реализации в Польше и СССР небольшими партиями.
Так, в апреле 1945 года в городе Гродно в Западной Белоруссии было продано около десятка швейных машин, доставленных из Германии. В то же время из Германии в Польшу перегнали десяток голов крупного рогатого скота, который был продан за польские злотые и царские золотые монеты. В мае 1945 года в Гродно доставили около 70 лошадей с повозками. В пути следования часть из них продали за польские злотые и золотые монеты. По тому же маршруту из Германии через Польшу в Гродно перегнали несколько десятков голов крупного рогатого скота, часть которого продали полякам. На территории Польши продавали также автомашины, тракторы и другое трофейное имущество.
Полученные в результате этих операций польские злотые нужно было обменять на советские рубли. Это было сделано летом 1945 года в Гродненской областной конторе Госбанка. Для этой цели сфабриковали фиктивные справки на вымышленных офицеров. Здесь также не обошлось без коррупции. Часть злотых обменяли с помощью начальника финансовой части Гродненского военкомата, заплатив ему 5 тыс. руб. По собранным следствием данным, всего было обменено более 330 тыс. польских злотых.
Летом 1945 года была предпринята передислокация основной части организации Павленко и ее имущества из Германии в СССР. С этой целью за взятку получили 25–30 железнодорожных вагонов. Следуя по территории СССР, участники организации реализовали часть германских фондов. Остальные вывезенные из Германии ценности, а также новые, приобретенные разными путями уже в СССР (лесоматериалы, лошади, обмундирование) также были в основном проданы. По данным следствия, только за перепроданное обмундирование Павленко и его сотрудники получили в 1945 году свыше 500 тыс. руб.[133] Всего с мая по сентябрь 1946 года, как утверждалось в приговоре трибунала, организация располагала 3 млн руб.[134]
За счет этого с августа 1945 года Павленко начал проводить демобилизацию своей «части», которая была размещена с помощью военкома Щекинского района Тульской области на территории этого района. Военком получил взятку в виде легкового автомобиля. При демобилизации участники организации получали вполне приличные средства. Сам Павленко, по его признаниям, взял себе около 90 тыс. руб. Видимо, на эти деньги был куплен дом в Калинине, который обошелся Павленко в 70 тыс. руб.[135]
Всего, по версии следствия, между членами организации было разделено 1,5 млн руб. Немало средств ушло на взятки. Помимо денег, участники организации (возможно, не все) получали при демобилизации различные вещи. Так, родственнику Павленко П. Н. Монастырскому помимо 6 тыс. руб. досталось дамское пальто и мотоцикл[136]. Шофер М. Н. Смирнов получил 5 тыс. руб., 100 метров ткани и офицерский шерстяной костюм. В. В. Ермоленко – 5 тыс. руб., два костюма, три пары ватного обмундирования и сапоги. Водитель И. И. Щеголев, помогавший Павленко с самого начала, – 8,5 тыс. руб., корову, пальто, плащ, 30 метров ткани, мешок муки, 20 килограммов сахара, 15 руб. царской золотой монетой. Кроме того, он, говорилось в материалах суда, «присвоил» трофейный мотоцикл[137]. Столь подробное перечисление этих материальных приобретений и сам их состав свидетельствовали о невысоком уровне жизни в стране, где каждое пальто, костюм и сапоги представляли собой значительную ценность.
Распределив материальные ресурсы организации, Павленко решил воспользоваться еще и государственной помощью, которая полагалась демобилизованным военнослужащим, но не членам организации Павленко, которые состояли в вооруженных силах на основании фальшивых документов. В декабре 1945 года на имя Тульского облвоенкома была составлена бумага с просьбой выделить около 30 тыс. руб. для 20 участников организации. Облвоенкомом к тому времени стал бывший военком Щекинского района, который уже получал от Павленко взятку. Так что исход дела был предрешен.
Для ускорения процесса Павленко подарил начальнику финансовой части областного военкомата отрез габардина и поросенка. Через некоторое время таким же путем в Тульском областном военкомате было получено еще около 20 тыс. руб., а потом еще 15 тыс. Благодаря этим операциям областной комиссар приобрел автомобиль, корову, ковер, радиоприемник и продукты питания. Аналогичные операции с получением государственных пособий были проведены при помощи взяток и в ряде других военкоматов. Всего было похищено 150 тыс. руб.[138]
По версии следствия и суда, еще в начале 1945 года Павленко и другие участники организации «установили преступные связи с работниками отдела кадров 4‐й Воздушной армии и при их содействии, путем использования фиктивных документов незаконно получили для участников „УВР“ большое количество орденов и медалей Союза ССР». С этой целью якобы составлялись фиктивные наградные листы с вымышленными заслугами и боевыми подвигами. Всего таким образом было сфабриковано 86 наградных листов и издано семь приказов командования 4‐й Воздушной армии о награждении членов команды Павленко правительственными наградами.
Использовав в качестве образца привезенные подлинные удостоверения о награждении, Павленко заказал в типографии фальшивые бланки. Они заполнялись произвольно на участников организации и других лиц. При содействии все того же военкома Тульской области на основании этих фальшивых документов были получены ордена и медали. Как выяснил суд, всего Павленко и его сообщники получили более 230 орденов и медалей. Эти награды использовали даже в качестве взяток. Так, обосновавшись в Калинине, Павленко «подарил» ордена Красной Звезды директору местной швейной фабрики и военпреду этой фабрики, а также заместителю председателя областной промысловой кооперации[139].
В последующем в ходатайстве о помиловании Павленко слабо пытался оспорить эти обвинения:
Стр. 15 приговора имеет формулировку, что в начале 1945 года установили преступные связи с отделом кадров 4‐й Воздушной Армии. Это в действительности не так, первые награды получили я и много других лиц, когда еще даже не знали, что приказы оформлялись через отдел кадров Армии, т. к. нас представляли к награде командиры дивизий, для которых выполнялись задания, кроме того много лиц получили награды, оформленные через нас, которые имели по два-три ранения, о чем имели справки, которые получали из госпиталей и службу их в строевых частях. Указанное число 230 наград в большинстве случаев являлись медалями «За победу над Германией», «Освобождение Варшавы», «Оборону Москвы» и т. д. В приговоре неправильно фигурирует, что я орденом Красной Звезды был награжден по документам от нашей организации. Это неправда. Представление и заполнение документов к награде этим орденом делало командование, для которого выполняли работы[140].
Можно предположить, конечно, что какая-то часть наград была получена вполне заслуженно теми реальными военнослужащими, которые оказались в составе организации Павленко, ничего не зная о ее истинном характере. Однако по поводу собственного ордена Красной Звезды Павленко кое-что недоговаривал. Орден был получен на основании приказа по 4‐й Воздушной армии от 28 февраля 1945 года. Однако представление о награждении подписал начальник отдела авиационной службы 12‐го района авиационного базирования подполковник В. М. Цыплаков. С Цыплаковым, как мы уже знаем, у Павленко были особые отношения. После разгрома организации Цыплаков также будет осужден по обвинению в получении от Павленко взяток.
Если вопрос о справедливости отдельных награждений в организации Павленко может обсуждаться, то присвоение воинских званий в УВР‐2 было целиком сфальсифицированным. Павленко сам изготовил документы о собственной «демобилизации» в звании инженер-майора и о «демобилизации» своих сотрудников в разных званиях. Во время войны, как уже говорилось, Павленко сам оформлял на своих сотрудников офицерские звания, используя фальшивые документы. Однако провести фальшивую демобилизацию «офицеров» было затруднительно. По этой причине Павленко вначале намеревался «демобилизовать» «офицеров» как «рядовых».
По свидетельству И. П. Клименко, соратники Павленко воспротивились этому. Павленко пришлось оформлять ложные офицерские дела. По ним (видимо, и здесь дело не обходилось без взяток) сотрудники Павленко становились на учет в местных военкоматах и получали военные билеты[141]. Однако приобрести офицерский военный билет в ряде случаев было непросто даже за взятку. Так, остался лишь «старшиной» водитель Щеголев, хотя во время войны он на определенном этапе носил офицерскую форму[142]. Видимо, по этой причине Щеголев, как говорилось выше, получил щедрые отступные в виде денег и товаров. Сам Павленко приобрел военный билет в Солнечногорском районном военкомате, заплатив военкому около 600 руб.[143]
Место в мирной жизни
После демобилизации перед Павленко и его сотрудниками встал вопрос, волновавший десятки миллионов людей в СССР и других странах мира: как жить дальше? Победоносное завершение страшной войны открывало новые перспективы, для каждого свои и не всегда благоприятные. Команда Павленко вернулась в родные края целая и невредимая и даже обеспеченная материально. В среднем 30-летние молодые люди должны были выбрать свое будущее, над которым, впрочем, тяготел предыдущий жизненный опыт. И, как мы увидим дальше, именно привычки и приобретенные на войне навыки сыграли решающую роль.
Демобилизация и устранение угрозы смерти на фронте открывали для Павленко путь к новой жизни – к возвращению к довоенному легальному прошлому. На первый взгляд, именно в этом направлении Павленко и устремился. Он приехал в Калинин, где жила его сестра. Позже на вопрос следователя о недвижимости Павленко сообщил, что в конце 1945 или в начале 1946 года купил дом в Калинине «пополам с сестрой Анной Максимовной»[144]. Очевидно, сестра сыграла какую-то роль в жизни Павленко как единственный близкий родственник, к которому он мог вернуться после окончания войны. Из этих мест была также жена Павленко[145]. Ко времени мобилизации у Павленко был 10-летний ребенок. Второй родился пять лет спустя[146].
Вернувшись в Калинин, Павленко воссоздал кооперативную строительную артель «Пландорстрой», которую возглавлял до войны. Вместе с Павленко в это предприятие вступили около двадцати его старых и вновь приобретенных сотрудников[147]. Вряд ли создание артели было сложной задачей. Артель имела понятное для властей прошлое, в Калинине сохранились какие-то связи. Павленко и его помощники имели хотя и сфальсифицированные, но формально чистые документы и вернулись с фронта с орденами и медалями на груди.
Сам Павленко о двух с половиной годах послевоенной жизни в Калинине на первых допросах говорил скупо: «В 1947 году я за нарушение финансовой дисциплины был уволен с занимаемой должности председателя артели „Пландорстрой“ города Калинина»[148]. Следователей же, судя по всему, вначале не интересовал этот эпизод, так как они были нацелены на разоблачение организации, действовавшей с 1948 года.
Дополнительные детали послевоенной активности команды Павленко появились после того, как из Калининской прокуратуры пришло дело об артели «Пландорстрой». Из него выяснилось, что прокуратура в конце 1947 – начале 1948 года выявила в артели многочисленные нарушения и махинации. Во время ревизии был зафиксирован важный канал проведения спекулятивных операций – денежные расчеты артели «Пландорстрой» с неизвестной военной организацией УВР‐2. Как выяснили контролеры, УВР‐2, которую возглавлял Павленко, получала от государственных организаций различные ресурсы, оплата которых шла по счетам артели «Пландорстрой», председателем организационного бюро которой был тот же Павленко[149]. В дальнейшем следствие вскрыло большое количество незаконных операций артели, что стало одним из пунктов судебного приговора[150].
Выявленные следствием факты позволяют понять, что Павленко изначально создавал «Пландорстрой» в качестве так называемой «лжеартели» для официального прикрытия нелегальных операций. Возможно, артель занималась и строительными работами (сведений об этом нет), однако они явно не входили в круг приоритетов команды Павленко. Сохранив печати и бланки УВР‐2 и создав «Пландорстрой», Павленко и его помощники манипулировали подложными документами этих структур для приобретения в государственных организациях различных ресурсов, которые затем перепродавались на черном рынке.
Условия жизни в СССР всегда благоприятствовали процветанию таких спекуляций. Тотальный дефицит элементарных потребительских ресурсов, продовольствия и промышленных товаров был характерной чертой советской действительности. Значительную часть своих денег советские люди оставляли не в государственных магазинах, а на рынке и у спекулянтов, где по бешеным ценам можно было приобрести все необходимое. Военная разруха только усугубила ситуацию.
В течение нескольких лет государственные предприятия легкой промышленности лишь в минимальном количестве выпускали товары широкого потребления и работали на фронт – шили обмундирование и военную обувь. Еще в ходе войны обозначились признаки голода, пик которого пришелся на 1946–1947 годы. От голода умерли более миллиона человек. Еще около 4 млн человек перенесли различные эпидемические заболевания, вызванные недоеданием. Из них около полумиллиона умерли[151]. Война и голод вызвали рост уголовной преступности, расцвет черного рынка.
Павленко и его команда быстро сориентировались в этой ситуации. Имея богатый опыт присвоения и перепродажи ресурсов, полученный на завершающем этапе войны, в 1946–1947 годах они продолжили подобные операции. Показательными для понимания сути «Пландорстроя» были махинации с военным обмундированием и другой одеждой, вскрытые следствием. Еще на фронте Павленко познакомился с Ф. Спиридоновым, служившим в период войны военпредом управления вещевого снабжения. После войны Спиридонов стал военпредом на Калининской швейной фабрике, изготавливающей обмундирование. С его помощью за взятки Павленко получал большие партии военной формы, белья, ватных курток и другой одежды якобы для нужд УВР‐2. Соответствующие документы оформлялись при помощи фальшивых бланков и печати УВР‐2. Однако фиктивная УВР‐2 не могла проводить расчеты через банковскую систему. В этом случае использовались счета официально существовавшей артели «Пландорстрой».
Судя по всему, такая схема использовалась неоднократно, возможно не без помощи того же Спиридонова. Так, в одной из калининских артелей по поддельной доверенности от УВР‐2 были получены мужское белье, ватные тужурки, обмундирование. В Калининском ателье мод была таким же способом получена тысяча мужских нательных рубах, а через областную сбытовую контору изделий легкой промышленности – 3 тыс. метров ткани. Эти товары, стоившие более чем 100 тыс. руб. по государственным ценам, были перепроданы на рынках Калинина, Клина, Киева и других городов в несколько раз дороже[152]. Даже с учетом больших накладных расходов – взяток, затрат на транспортировку и т. д., организация Павленко получала приличную прибыль.
Помимо ценных промышленных товаров повседневного спроса, артель приобретала (якобы для нужд УВР) и перепродавала и другие ресурсы. В Киев и Николаев было переправлено три вагона сена. Полученных от одной из воинских частей во временное пользование лошадей оформили как купленных «Пландорстроем», присвоив соответствующие суммы. Лошади, полученные во временное пользование артелью в другой воинской части, были проданы колхозам. Одному из колхозов был продан автомобиль, принадлежавший артели, а взамен в артель была сдана приобретенная по дешевке сломанная машина.
Общий объем выявленных операций такого рода следствие оценивало по-разному. На начальном этапе после ареста руководителей организации Павленко хищения оценивались в 350–360 тыс. руб.[153] В судебном приговоре говорилось, что за два года хищения в «Пландорстрое» составляли 200 тыс. руб.[154], сами подсудимые признавались в хищении 70–80 тыс. руб.[155], видимо полагая, что остальные деньги принадлежали им по закону. В любом случае речь шла о значительных суммах, которые вряд ли можно было получить столь же быстро за счет строительных работ.
Подобная деятельность артели «Пландорстрой» продолжалась до тех пор, пока в конце 1947 года не была проведена ее ревизия. Вполне возможно, интерес контрольно-прокурорских органов к артели Павленко был частью общей кампании против частников и кооперативов, которая развертывалась в этот период. Недовольное ростом частного предпринимательства, прежде всего под крышей легальных кооперативных предприятий, руководство СССР решило принять жесткие меры и провести масштабную чистку в этой сфере.
Зимой 1947/48 года Министерство государственного контроля СССР осуществило массовую ревизию предприятий потребительской, промысловой кооперации и кооперации инвалидов. Соответствующие материалы представили Сталину. 14 апреля 1948 года было оформлено постановление «О проникновении частника в кооперацию и предприятия местной промышленности»[156]. Оно придало новый импульс уже начавшейся в 1947 году кампании подавления частника. В 1947 и 1948 годах вдвое по сравнению с 1946 годом и втрое по сравнению с 1945 годом выросло количество приговоров судов по делам о спекуляции[157]. В 1948 году было закрыто более 25 тыс. мелких частных предприятий и «псевдоартелей», около 18 тыс. администраторов кооперативов были осуждены к заключению, а более 5 тыс. уволены[158].
Кампанейский характер чистки кооперации, несомненно, позволял многим частникам и кооператорам ускользнуть из-под удара. Ничего удивительного в этом не было. Так называемое «кампанейское правосудие», одним из проявлений которого была борьба со спекулянтами и «лжеартелями», всегда отличалось выборочным применением репрессий по принципу детской считалки: «кто не спрятался, я не виноват». Жертвы массовых карательных акций сталинского периода попадали в жернова государственной машины выборочно, часто для отчета. Более изворотливые, опытные и предусмотрительные нарушители и преступники знали, как действовать в подобных ситуациях.
К числу последних принадлежали Павленко и его сотрудники. В очередной раз они проявили необходимую изворотливость. Узнав, что материалы ревизии направлены в прокуратуру, команда в декабре 1947 года скрылась из Калинина. Объявленный Калининской прокуратурой в розыск, Павленко чувствовал себя в безопасности. Как отмечалось позже в материалах следствия, «работники прокуратуры Калининской области не проявили должной оперативности в организации розыска преступников по делу артели „Пландорстрой“ и ограничились лишь формальной перепиской по этому вопросу»[159]. Действия прокуроров нетрудно понять. Перегруженные работой, в том числе в рамках очередной кампании против частника, они отчитывались в успехах за счет ареста тех, кто не успел сбежать.
Вполне возможно, ликвидация «Пландорстроя» проходила более плавно и организованно, чем это представляло позже следствие. В 1955 году в ходатайстве о помиловании Павленко отрицал, что он и его помощники бежали из Калинина. Сам он якобы был уволен, а другие взяли расчет по собственному желанию. Павленко утверждал, что из «Пландорстроя» он перешел в систему промкооперации Московской области. Оттуда выехал во Львов по направлению с нового места работы. Во Львове несколько дней жил у своего родственника П. Н. Монастырского, а затем – в гостиницах Львова и Золочева, где и был прописан[160]. Эти утверждения похожи на правду. Для путешествий по стране, а тем более в западные районы, где шли столкновения с местными партизанами, нужны были командировочные документы. Скорее всего, Павленко ими и обзавелся, используя связи в московской промкооперации.
Вместе с Павленко во Львов сразу же уехали и несколько его сотрудников. Позже на допросе Павленко показал, что в выборе нового места жительства он ориентировался на помощь своего родственника Монастырского, который примкнул к Павленко на фронте. Видимо, наличие во Львове своего человека действительно играло немалую роль.
Однако Западная Украина могла привлекать Павленко и по другим причинам. Здесь в Прикарпатском военном округе служил давний знакомый Павленко по фронту, офицер частей аэродромного строительства Цыплаков. В случае необходимости Павленко мог рассчитывать на его помощь. Наконец, этот сравнительно недавно присоединенный к СССР район находился далеко от центра и был охвачен партизанской войной. Условия здесь не вполне стабилизировались и больше подходили для того, чтобы не только ускользнуть от ареста, но и организовать новое дело. А с поиском новых источников для существования Павленко не мог затягивать.
Судя по данным прокуратуры, Павленко должен был уехать из Калинина с приличной суммой денег. Видимо, так и было. Однако деньги эти, скорее всего, пропали. Дело в том, что в декабре 1947 года, в то время, когда Павленко был поглощен атаками ревизоров на его артель, в стране произошло событие глобального характера, затронувшее всех и каждого, но особенно тех, у кого на руках были сколько-нибудь значительные суммы денег. После отсрочек, вызванных разрухой и голодом, была проведена планировавшаяся уже несколько лет денежная реформа. О ее проведении и условиях советские люди узнали, как и положено в таких случаях, неожиданно и в последний момент. Хотя слухи об обмене денег будоражили страну и вызывали ажиотажные закупки товаров уже некоторое время до этого[161].
Ил. 5. Договор УВС с трестом «Западшахтострой» на строительство дорог для Порицких угольных шахт от 1 февраля 1950 года (ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 32. Д. 2283. Л. 34). Это был первый значительный заказ, полученный организацией Павленко (см. главу 2)
В ночь с 14 на 15 декабря страна вступала в жизнь с новыми деньгами, а население лишалось значительной части сбережений. Обмен наличных денег, имевшихся на руках, производился из расчета 10 старых рублей к одному новому. Вклады в сберкассах переоценивались по сложной схеме. До 3 тыс. руб. включительно – один к одному. По вкладам от 3 до 10 тыс. за 3 руб. старых денег давали 2 руб. новых. Вклады свыше 10 тыс. руб. менялись в пропорции два к одному. Хотя реформа больно ударила по всем, в массовых представлениях была очень популярна идея об обмене денег как средстве конфискации добра, неправедно нажитого спекулянтами и расхитителями. Это было верно только отчасти, поскольку зажиточные советские граждане имели преимущественные возможности превратить деньги в материальные ценности. Вместе с тем какую-то часть своих накоплений советские богачи тоже потеряли.
Павленко и его сотрудники могли потерять много. Трудно представить себе, чтобы они хранили деньги в сберегательной кассе. Находясь под проверкой, они вряд ли рискнули бы превратить большие суммы в товары. Поменяв же старые купюры на новые после объявления реформы, они получили бы только 10 % от накоплений. В общем, Павленко вполне мог приехать во Львов с минимальными средствами. Косвенно об этом свидетельствовали показания на допросе родственника Павленко Ю. Б. Константинова, ставшего позже одним из основных участников новой организации: «В начале 1948 года, примерно в апреле месяце меня вызвал из гор. Львова на междугородние переговоры Павленко и обратился ко мне с просьбой, чтобы я ему помог материально, так как он в это время находился во Львове и не имел совершенно денег. Я ему из города Хуст послал 500 рублей. Тогда он проживал во Львовской гостинице „Европа“»[162].
Однако вскоре ситуация изменилась. Павленко от имени фиктивной военно-строительной организации заключил с трестом «Львовуголь» первый договор на строительство дорог на несколько сот тысяч рублей с выплатой 10-процентного аванса. В кармане появились деньги. Когда несколько месяцев спустя Константинов с семьей проезжал через Львов по пути в отпуск, на вокзале его встречал Павленко и передал 200 руб. на подарок своему ребенку. Вместе с Павленко пришел на вокзал Туркин. «Оба они, – по свидетельству Константинова, – были одеты в военную форму инженерных войск»[163]. В жизни Павленко начиналась новая глава, наступал его звездный час.
Глава 2
СОЗДАНИЕ КОРПОРАЦИИ
Долгие годы в мирное и военное время Павленко был занят в легальных и нелегальных организациях, которые выполняли строительные работы на основании подрядных отношений с заказчиками – гражданскими и военными государственными учреждениями. Неудивительно, что, оказавшись в сложном положении после бегства из Калинина, Павленко не нашел ничего лучшего, как воспользоваться своим богатым опытом и создать нелегальную строительную артель под новой вывеской, а затем найти новых заказчиков, как можно более надежных и богатых.
Несколько обстоятельств способствовали успеху этого предприятия. Сам Павленко знал, что и как нужно делать для легализации теневой артели. Он и его сотрудники были энергичны и хорошо знакомы с организацией строительных работ. Что касается потенциальных заказчиков, то их было достаточно. В стране наблюдался дефицит строительных мощностей. Многие предприятия и организации, даже получив централизованные ресурсы, не всегда могли их освоить из‐за недостатка строителей.
Начав с малого, Павленко шаг за шагом продвигался к более амбициозным целям. Заказы, которые он получал, становились все более значительными. Организация разрасталась и вела работы на нескольких строительных площадках одновременно в разных районах страны.
Конечно, это поступательное развитие не было легким. Оно требовало огромных усилий и постоянного внимания Павленко и его сотрудников. Они обзаводились нужными связями, налаживали отношения с многочисленными чиновниками в экономических ведомствах, в местных органах власти и в правоохранительных структурах. Алгоритм ведения дел организации многократно повторялся и превратился в рутину, что обеспечивало ее сравнительно устойчивое положение в течение четырех с половиной лет – с весны 1948‐го до поздней осени 1952 года.
Организация строительства в плановой экономике
Строительство было одной из самых значительных отраслей советской экономики. Довоенная форсированная индустриализация предъявляла повышенный спрос на строителей, возводивших многочисленные предприятия, многие из которых отличались огромными масштабами и сложностью. Массовая эвакуация промышленности в годы войны потребовала дополнительных усилий от строителей. Нужно было в экстремальных условиях восстанавливать работу эвакуированных предприятий в восточных регионах. При этом строились многочисленные новые объекты.
После завершения войны задача восстановления разрушенной страны и ее дальнейшего развития легла в значительной степени на строителей. Объем общих капитальных вложений в строительно-монтажные работы за 1946–1952 годы вырос с 33 до 73 млрд руб., т. е. более чем в два раза[164]. При этом численность рабочих и служащих в строительной отрасли увеличилась с 2,3 млн человек в 1945 году до 4,1 млн в 1950 году и 4,9 млн в 1954 году[165].
Однако эти показатели не охватывали всех работников, занятых на строительных объектах. Например, крупнейшим строительным ведомством в послевоенном СССР было Министерство внутренних дел, распоряжавшееся значительными ресурсами принудительного труда заключенных. В 1952 году силами МВД выполнялось более 10 % общего объема строительно-монтажных работ в стране[166]. На стройках была занята значительная часть из более чем 2,6 млн заключенных, содержавшихся на 1 января 1953 года в лагерях, колониях и тюрьмах[167]. Силами заключенных начиная с 1950 года возводились многочисленные гидротехнические сооружения, названные официальной пропагандой «сталинскими стройками коммунизма»: Волго-Донской, Волго-Балтийский и Туркменский каналы, Куйбышевская и Сталинградская гидроэлектростанции и т. д. Особое место в экономике МВД занимали военно-промышленные объекты, прежде всего стройки атомной промышленности[168].
Приоритетная нацеленность строительной отрасли на крупные объекты, прежде всего в тяжелой и военной промышленности, была характерной чертой советской и особенно сталинской экономической системы. Постоянное расширение фронта строительных работ и наращивание капитальных вложений вели к перегреву экономики. Для освоения денег, выделенных на новые объекты, не хватало рабочей силы и материальных ресурсов. В результате росли объемы незавершенного строительства. На 1 января 1952 года его стоимость достигла 99,2 млрд руб., что составляло около 83 % от общего объема капитальных вложений 1951 года.
Прирост незавершенных работ за 1951 год (14 млрд руб.) был выше прироста общих капитальных вложений за это же время (11,5 млрд руб.). Аналогичная ситуация повторилась в 1952 году. На 1 января 1953 года объем незавершенного строительства увеличился до 112,9 млрд руб.[169] Нередко предприятия получали от государства денежные ресурсы, но не могли их использовать, потому что не имели соответствующих строительных мощностей. Это вызывало недоиспользование и фактическую потерю средств, выделенных из бюджета. На следующий год финансирование не переводилось, более того, оно могло быть сокращено. Это означало, что многие предприятия не получали новые мощности и сталкивались с угрозой невыполнения своих производственных планов.
Особенно большие трудности испытывали отрасли группы «Б» (легкая, пищевая промышленность), сельское хозяйство, социальная сфера, которые обеспечивались строительными ресурсами по остаточному принципу, вслед за приоритетными для государства отраслями тяжелой и военной промышленности. Характерной была ситуация в пищевой промышленности Молдавии, когда туда прибыла организация Павленко в поисках заказов. Министерству пищевой промышленности этой республики в 1952 году было отпущено на строительство 80 млн руб., а освоило оно 57 млн[170]. Помимо плановых работ периодически возникала потребность в экстренном строительстве, которое было невозможно заранее предусмотреть и обеспечить ресурсами. Один из таких случаев применительно к пищевой промышленности Молдавии содержится в мемуарах Л. И. Брежнева, возглавлявшего эту республику в начале 1950‐х годов, когда там появился Павленко:
Расскажу, для примера, как мы с Кириллом Ивановичем Цурканом, тогдашним министром пищевой промышленности, спасали урожай винограда. В тот год виноград уродился на славу. Приходит ко мне Цуркан:
– Что делать, Леонид Ильич? Аврал! Тары, наличных емкостей по всей Молдавии вдвое меньше, чем нужно под такой урожай, – сусло некуда сливать.
По правде говоря, ночь не спал, все прикидывал, что предпринять. Не нашли другого выхода, как отправить нашего министра в Москву – просить цистерны. Штук двести нам тогда выделили. Но их еще надо было привезти, а время не ждет… В конце концов комиссия предложила такой план действий. В засушливых районах Молдавии крестьяне имеют во дворе цементированный колодец для сбора дождевой воды. Подумали: если эти колодцы нужным образом обработать – сгодятся. На будущее надо, конечно, закладывать большие новые емкости, а пока и эти могут выручить. Уполномоченные нашего пищепрома тотчас разъехались но районам – искать колодцы, заключать с колхозниками договоры на хранение государственного виноматериала[171].
В общем, не приходится удивляться, что молдавские руководители охотно откликнулись на возможность заключить с Павленко договоры подряда на строительные работы, для ведения которых в республике не хватало собственных сил.
Поиски подрядчиков, которые могли выполнить запланированные, но не обеспеченные соответствующими строительными мощностями государственные планы, являлись распространенным способом преодоления трудностей. Более того, перевод строительной отрасли с хозяйственного способа ведения работ на подрядный с середины 1930‐х годов рассматривался как магистральный путь создания современной строительной отрасли, повышения качества и производительности труда в этой сфере экономики.
Разница между этими двумя методами ведения строительства заключалась в следующем. При хозяйственном способе работы выполнялись собственными силами застройщика. Иначе говоря, ведомство само строило предприятия, которые затем использовало. Это означало, что каждый раз создавалась строительная организация для решения каждой конкретной задачи. Результаты такого хозяйственного способа были оценены в постановлении ЦК ВКП(б) и СНК СССР «Об улучшении строительного дела и об удешевлении строительства» от 11 февраля 1936 года:
…В организации строительного дела преобладают полукустарные методы, при которых каждая стройка заново обзаводится механизмами и подсобными предприятиями, заново вербует и обучает кадры строителей, а по окончании строительства созданная материально-техническая база и строительные кадры в большинстве случаев распыляются, вместо того, чтобы стать основой развития строительной индустрии, опирающейся на передовую технику и постоянные строительные кадры[172].
Для преодоления этих системных пороков и был выдвинут лозунг перехода на подрядные отношения:
Основой упорядочения строительного дела и удешевления строительства является переход от кустарщины и партизанщины в строительном деле на путь крупной строительной индустрии. Для этого необходимо перейти к выполнению строительных работ подрядным способом, то есть постоянно действующими подрядными строительными организациями, обладающими собственной материально-технической базой (механизмами, транспортом, оборотными средствами, жилым фондом и т. д.) и постоянными кадрами строителей и опирающимися в своей работе на крупное промышленное производство строительных деталей, полуфабрикатов и конструкций[173].
Вместо строительных подразделений на предприятиях создавались строительные тресты. В результате реализации этого курса удельный вес строительно-монтажных работ, выполненных подрядными организациями, вырос с 25 % в 1933 году до 81 % в 1952 году[174]. Этот рост был поступательным и неуклонным.
Конечно, в целом подрядные строительные организации оставались государственными и действовали в рамках государственного плана. Первоначально они создавались в составе промышленных наркоматов. В 1939 году на волне разукрупнения наркоматов был создан специальный Наркомат по строительству СССР, в который передавались все подрядные организации. Строительство шахт и предприятий нефтяной и энергетической промышленности производилось хозяйственным способом соответствующими промышленными наркоматами при помощи их собственных строительных организаций.
В январе 1946 года на базе Наркомстроя и других структур были образованы три строительных наркомата (с марта 1946 года наркоматы были переименованы в министерства): по строительству военных и промышленных предприятий, по строительству предприятий тяжелой промышленности и по строительству топливных предприятий. В конце 1948 года последнее из перечисленных министерств было ликвидировано и вошло в состав нового Министерства угольной промышленности СССР[175].
Именно со структурами Министерства угольной промышленности, которое самостоятельно занималось строительством своих объектов, заключала самые значительные договоры организация Павленко.
Таким образом, большинство подрядных строительных организаций входили в состав министерств и действовали в соответствии с утвержденными государственными планами. Это означало, что они были прикреплены к определенным заказчикам, а заказчики к ним. Вместе с тем подрядный способ потенциально расширял возможности для развития ограниченного квазирынка строительных работ. Пока имеющиеся исследования не позволяют понять, в какой мере строители могли действовать самостоятельно, в частности, искать оптимальные для себя контракты. Однако, как будет показано далее, такая практика существовала. На ее основе была построена вся деятельность организации Павленко, но не только.
Документы свидетельствуют о распространении свободных подрядных отношений, например в подразделениях Министерства вооруженных сил, от имени которого якобы действовал Павленко. Военные строительные части использовались не только на собственных объектах, но и в гражданских организациях. Причем нередко не вполне законно, на основании личных договоренностей предприятий с отдельными командирами. В одном из приказов министра вооруженных сил говорилось:
Материальные ценности и наличные деньги, которые командование воинских частей незаконно получало за выполненные солдатами и сержантами работы, в подавляющем большинстве случаев не учитывались и расходовались бесконтрольно, денежные средства в доход союзного бюджета не сдавались… Практика «отходного промысла»… подрывает государственную и финансовую дисциплину и создает благоприятные условия для разбазаривания и даже хищения государственных средств и материалов[176].
Если бы организация Павленко действительно входила в число реальных воинских частей, это вполне могло быть сказано и о ней.
Скорее всего, хотя этот вопрос требует дальнейшего изучения, больше свободы для маневров было у строительных кооперативных артелей, в которых долго работал Павленко и по образцу которых он создавал свои организации во время и после войны. Несмотря на огосударствление кооперации и пристегивание ее к выполнению централизованных планов, артели сохраняли некоторые возможности для экономической самостоятельности, в частности в выборе клиентов. Многие из них участвовали и в различных схемах теневой экономики. Наличие такого контекста позволяло Павленко создать свою организацию, вполне успешно действовавшую с начала 1948 по конец 1952 года.
Старые схемы в новых условиях: первые заказы
Приехав во Львов, Павленко повторил схему, успешно сработавшую в 1942 году, когда он получил подряд на строительство военных госпиталей. Он вновь использовал печать и штамп участка «Управления военно-строительных работ № 2» и сфабриковал удостоверение на свое имя как начальника этого участка. С фальшивым удостоверением Павленко начал искать государственные хозяйственные организации, которые бы согласились выдать ему подряд на проведение строительных работ.
Задача осложнялась тем, что у Павленко не было ни денег, ни техники, ни материалов. Он мог предложить своим заказчикам только рабочую силу, которую рассчитывал набрать после заключения договора. На такие условия соглашались далеко не все организации. Как рассказал Павленко на допросе, свой выбор он остановил на предприятиях угольной промышленности, поскольку в других организациях «не имелось своей техники, в частности автотранспорта и механизмов для производства строительства»[177].
В конце февраля 1948 года Павленко удалось заключить договор на строительство дорог с трестом «Львовместуголь». Контракт был значительным – 1,5 млн руб., однако он не состоялся, поскольку тресту не открыли финансирование. Несмотря на неудачу, Павленко продолжал поиски в том же направлении и вел переговоры с начальником отдела капитального строительства (ОКС) треста «Львовуголь». Павленко предложил предоставить подряд на дорожно-строительные работы, пообещав выделить специалистов и рабочих-дорожников. Начальник ОКС, несомненно испытывавший дефицит строителей, согласился. Как объяснил Павленко на следствии, «ко времени когда я обратился к начальнику ОКС у меня ни специалистов, ни рабочих еще не было, но я легко мог их набрать при согласии треста заключить со мной договор»[178].
В марте 1948 года соглашение было достигнуто. Павленко заключил договор с Золочевским шахтоуправлением на производство дорожно-строительных работ на 350–400 тыс. руб.[179] Договор от имени шахтоуправления подписал его начальник, а санкционировал управляющий трестом «Львовуголь» Л. Плятченко. Павленко от имени своей организации, названной Управлением военного строительства (УВС), обязался построить булыжную автодорогу к группе шахт, а Золочевское шахтоуправление финансировало работы, выдав 10-процентный аванс, и предоставляло дефицитные транспорт, строительную технику и горюче-смазочные материалы, спецодежду и постельные принадлежности[180]. В Золочевском отделении Госбанка, опять же с помощью поддельных документов, был открыт счет для организации. На него поступали, а затем снимались деньги заказчика.
Заключив договор, Павленко вызвал к себе сотрудников, с которыми работал во время войны и в Калинине. С их помощью была создана организация и наняты, по словам Павленко, 60–70 рабочих[181]. Постоянно преувеличивавший цифры Константинов говорил на допросах о 150 рабочих[182]. Вся команда перебралась в Золочевский район, где был организован «штаб» УВС. В июне – сентябре 1948 года с тем же шахтоуправлением были подписаны еще четыре договора более чем на миллион рублей[183].
Как несколько лет спустя выяснило следствие, важным условием деятельности Павленко с самого начала были взятки и услуги, которые он оказывал различным чиновникам. Взятку, по утверждению арестованных, на начальном этапе создания организации получили управляющий трестом «Львовуголь», управляющие Золочевским отделением Госбанка и межобластной Львовской конторой Промбанка[184]. Взрывчатка, которой пользовались для карьерных работ, была получена за вознаграждение у знакомых Павленко в воинской части[185]. Для начальника Золочевского шахтоуправления Павленко устраивал застолья[186]. Через председателя Золочевского райсовета была проведена мобилизация трудоспособного населения и гужевого транспорта двух сельских советов в порядке трудгужповинности[187].
Привлеченные к повинности крестьяне фактически бесплатно работали на объекте Павленко. Вместе с тем очевидно, что организация Павленко справлялась со своими обязательствами. Иначе руководители угольной промышленности не рискнули бы вступить с ней в договорные отношения даже за взятки. Действительно, осенью 1948 года строительство дорог для Золочевского шахтоуправления было успешно завершено.
Одновременно началось расширение фронта работ за счет новых заказов. В 1948 году был заключен первый договор с Кременецким шахтоуправлением; затем с июня 1948 по ноябрь 1949 года последовало еще пять договоров. По стоимости в общей сложности они были чуть меньше, чем договоры в Золочевском районе. Вместе с репутацией добросовестного подрядчика УВС получило от того же треста «Львовуголь» новый заказ – два договора на строительство автодороги и мостов к Коломыйским шахтам[188]
