Вдали от обезумевшей толпы. В краю лесов
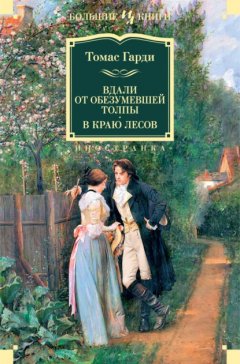
© Е. Н. Бирукова (наследник), перевод, 1970
© М. П. Богословская (наследники), перевод, 1970
© М. Д. Литвинова (наследник), перевод, 1973
© А. Я. Сергеев (наследник), перевод, 1973
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022
Издательство Иностранка®
Вдали от обезумевшей толпы
Вступление
Готовя эту книгу к новому изданию, я вспомнил, что именно в главах романа «Вдали от обезумевшей толпы», в то время как он выходил ежемесячно в одном из популярных журналов, я впервые рискнул упомянуть слово «Уэссекс», заимствовав его со страниц древней истории Англии, и придать ему фиктивное значение якобы существующего ныне названия местности, входившей некогда в древнее англосаксонское королевство. Задуманная мною серия романов в большей степени связана местом действия, и для того, чтобы сохранить это впечатление единства, требовалось дать какое-то определенное представление о территории. Поскольку я видел, что площади какого-нибудь одного графства недостаточно для задуманного мною широкого полотна, и мне по некоторым соображениям не хотелось давать вымышленных имен, я откопал это старинное название. Местность, охватываемая им, известна довольно смутно, и даже весьма образованные люди нередко спрашивали меня: где это, собственно, находится? Однако и читающая публика, и печать отнеслись вполне благожелательно к моему причудливому плану и охотно признали допущенный мною анахронизм, позволявший вообразить себе обитаемый Уэссекс, существующий при королеве Виктории; Уэссекс сегодняшнего дня, с железными дорогами, почтой, сельскохозяйственными машинами, общественными домами призрения, серными спичками, землепашцами, умеющими читать и писать, и казенными детскими школами. Но я полагаю, что не ошибусь, если скажу, что до того, как этот современный Уэссекс на месте теперешних графств появился в моей повести в 1874 году, его никогда не было и в помине ни в литературе, ни в разговорах. И, встретив такое выражение, как «уэссекский пахарь» или «уэссекский обычай», всякий подумал бы, что речь идет о давних временах – эпохе не позже норманнских завоеваний.
Мне не приходило в голову, что применение этого слова в изложении современных событий выйдет за пределы моей хроники. Но оно было очень скоро подхвачено, первым применил его ныне уже не существующий журнал «Экзаминер», который в своем выпуске от 15 июля 1876 года озаглавил одну из своих статей: «Уэссекский пахарь», причем статья была посвящена не сельскому хозяйству англосаксов, а современному положению крестьян в юго-западных графствах.
С тех пор это название, которое я приурочивал к вехам и ландшафтам наполовину существующего, наполовину выдуманного края, все больше и больше входило в обиход, как подлинное обозначение некоторых наших провинций. И постепенно мой вымышленный край обрел черты вполне реальной местности, куда люди могут поехать, снять себе дом, писать оттуда в газеты. Но я прошу моих добрых и склонных к фантазиям читателей не тешить себя этой мыслью и не верить, что жители викторианского Уэссекса существуют где-либо помимо этих книг, которые подробно рассказывают об их жизни, разговорах и нравах.
Более того: тому, кто попытался бы разыскать в какой-то существующей ныне местности селение по имени Уэзербери, где происходит большая часть действий, описанных в моей хронике, вряд ли удалось бы это сделать собственными силами; хотя еще сравнительно недавно, когда писалась эта повесть, можно было без труда найти близко соответствующие описанию приметы местности и черты действующих лиц. По редкой счастливой случайности еще сохранилась нетронутой описанная мною церковь и несколько старых домов. Но старинная солодовня – достопримечательность прихода – снесена уже двадцать лет тому назад, и большинство домиков с соломенными крышами и слуховыми окнами разделили ту же участь. Прекрасный старинный дом героини перенесен в моей повести по крайней мере на милю от того места, где он действительно находится, но, если не считать этого, он и по сию пору, и при солнечном и при лунном свете, выглядит точь-в-точь так, как он описан. Игра в бары, которая совсем недавно чуть ли не круглый год велась с неослабеваемым азартом перед обветшалой хлебной биржей, теперь, насколько мне известно, совсем не в чести у современных ребят. Гадание по Библии с ключом, письма на Валентинов день, чему придавалось такое важное значение, ужин по окончании стрижки овец, длинные балахоны стригачей, празднества после уборки хлеба – все это исчезло вместе со старыми домами, а вместе с этим исчезли и посиделки с выпивкой, которые так любила старая деревня. Коренной причиной всех этих перемен было совершившееся недавно постепенное вытеснение постоянного класса местных жителей, поддерживавших местные традиции и обычаи, и замена их сезонными рабочими, переходящими с места на место. Это оборвало течение истории местного края, ибо необходимое условие для сохранения преданий, фольклора, тесных взаимоотношений и своеобразных типов, характерных для этой среды, – это крепкая привязанность к почве, к одному месту, где родятся, растут и сменяются одно поколение за другим.
Т. Г.
1895–1902
Глава I
Портрет фермера Оука. Происшествие
Когда фермер Оук улыбался, губы у него так расплывались, что углы рта оказывались где-то возле ушей, а глаза становились узенькими щелками и вокруг них проступали морщинки, которые разбегались во все стороны, словно лучи на детском рисунке, изображающем восход солнца.
Звали его Габриэль, и в будние дни это был рассудительный молодой человек, одетый как полагается, державшийся спокойно и просто, словом, во всех отношениях вполне положительная личность. По воскресеньям это был человек несколько неопределенных взглядов, склонный к медлительности и скованный в движениях своей праздничной одеждой и зонтом, словом, человек, сознающий себя частью того обширного срединного слоя ни во что не вмешивающихся лаодикеян, который отделяет благочестивых прихожан от пьянствующих низов прихода; скажем так, он ходил в церковь, по посреди службы, задолго до Символа веры уже начинал позевывать, а когда дело доходило до проповеди, он, вместо того чтобы внимать ей, раздумывал о том, что у него нынче будет на обед. Ну а если характеризовать его, исходя из общественного мнения, то можно сказать так: когда его друзья и судители бывали не в духе, они говорили, что он никудышный человек; когда они бывали навеселе, он становился «славным парнем», а в тех случаях, когда они были ни то, ни другое, он слыл у них ни черным, ни белым, а чем-то средним, или, как говорится, – серединка на половинку.
Так как будничных дней в жизни фермера Оука было в шесть раз больше, чем воскресных, то все, кто видел его изо дня в день в обычной рабочей одежде, не представляли его себе иначе, как в этом естественном для него, затрапезном виде. Он всегда ходил в войлочной шляпе с низкой тульей, примятой и раздавшейся книзу, потому что в сильный ветер он нахлобучивал ее на самый лоб, и в теплой куртке, наподобие душегрейки доктора Джонсона. Его нижние конечности были облачены в толстые кожаные гетры и исполинских размеров башмаки, в которых каждой ноге предоставлялось просторное помещение такого добротного устройства, что обутый подобным образом мог целый день простоять в воде и не почувствовать этого; создатель этих башмаков, человек совестливый, все погрешности крóя старался возместить беспредельностью размера и прочностью.
Мистер Оук всегда носил при себе серебряные часы, по форме и назначению карманные, но по размеру скорее напоминавшие небольшой будильник. Этот механический прибор, будучи на несколько лет старше деда фермера Оука, отличался тем, что он либо спешил, либо останавливался. Кроме того, его маленькая часовая стрелка время от времени соскальзывала, и, таким образом, если даже минуты отмечались с безошибочной точностью, никогда нельзя было быть уверенным, к какому они относятся часу. Со свойством своих часов останавливаться Оук боролся постукиваньем и встряхиваньем, а от каких-либо дурных последствий двух других недостатков спасался тем, что постоянно проверял время по солнцу, по звездам или же, прильнув лицом к окну своих соседей, старался разглядеть на зеленом циферблате их стенных часов местонахождение часовой стрелки. Следует еще заметить, что карман, в котором Оук носил часы, был чрезвычайно труднодостижим, ибо он помещался в самой верхней части пояса его штанов, пристегнутого высоко под жилетом; поэтому, чтобы достать часы, Оук вынужден был откинуться всем туловищем в сторону, и когда, весь мучительно сморщившись, так что лицо и губы превращались у него в сплошной коричневато-красный комок, он наконец ухватывал цепочку и вытаскивал часы, это было похоже на то, как тащат ведро из колодца.
Но если бы какой-нибудь наблюдательный человек встретил его в то декабрьское утро – солнечное и на редкость мягкое, – когда он шагал по одному из своих загонов, возможно, у него сложилось бы иное представление о Габриэле Оуке. Лицо этого вполне взрослого мужчины еще сохранило совсем юношескую мягкость и свежесть красок, и даже что-то мальчишеское нет-нет да и проскальзывало в его чертах. Его рослая, широкоплечая фигура, несомненно, привлекала бы внимание, если бы он только держал себя с подобающей внушительностью. Но у некоторых людей, как у горожан, так и у крестьян, их манера держать себя зависит не столько от их костяка и мускулов, сколько от их душевного склада. Они не показывают себя во весь рост, и от этого на самом деле кажутся меньше. Фермер Оук по какой-то застенчивой скромности, которая пристала бы разве что невинной девице, казалось, постоянно был одержим мыслью, что ему не положено занимать много места, и поэтому он старался не привлекать к себе внимания и ходил не то что сутулясь, а слегка втянув голову в плечи. Это могло бы считаться недостатком у человека, который стремится произвести впечатление, полагаясь на свою внешность больше, чем на уменье держать себя, но фермер Оук отнюдь не притязал на это.
Он только что достиг того возраста, когда люди, говоря о нем, перестали предпосылать слову «человек» обязательную приставку «молодой». Он вступил в счастливейшую пору в жизни мужчины; и ум и чувства его были четко разделены: он уже миновал то время, когда по молодости лет чувства у юноши вторгаются в разум и заставляют его подчиняться их внезапному побуждению, но для него еще не настала пора, когда под влиянием жены и семьи чувства снова завладевают разумом и порождают предвзятость. Короче говоря, ему было двадцать восемь лет, и он был неженат.
Поле, по которому он шагал в это утро, раскинулось по косогору одного из увалов холма, носившего название Норкомбский холм. Через отрог этого холма пролегала дорога из Эмминстера в Чок-Ньютон. Взглянув мимоходом поверх изгороди, Оук увидал спускающуюся по дороге нарядную рессорную повозку, выкрашенную в желтый цвет с пестрым узором; повозку везла пара лошадей, а возчик шагал рядом с кнутом в руке, который он держал опустив вниз. Повозка была нагружена домашним скарбом, цветочными горшками с комнатными растениями, а поверх всего этого сидела молодая привлекательная женщина. Габриэль едва успел охватить взглядом это зрелище, как вдруг повозка остановилась почти против его изгороди.
– Задок потеряли, мисс, – сказал возчик.
– Так это я, верно, и слышала, как он упал, – отозвалась девушка не то чтобы тихим, но скорее мягким голосом. – Я слышала, что-то стукнуло, когда мы поднимались в гору, да мне не пришло в голову, что это задок.
– Пойду погляжу.
– Ступайте, – сказала она.
Умные лошадки стояли спокойно, и шаги возчика, удаляясь, вскоре затихли вдали.
Девушка сидела не двигаясь на груде домашнего скарба, среди перевернутых вверх ногами столов и стульев, прислонясь к громоздившемуся за ее спиной дубовому ларю и живописно обрамленная спереди горшками с геранью, миртами, кактусами и клеткой с канарейкой, – все это, вероятно, было снято с окон только что покинутого дома. Тут же была и кошка в плетеной корзинке с крышкой, которая была задвинута не до конца; кошка, жмурясь, выглядывала из корзинки и провожала умильным взглядом порхавших кругом птичек.
Хорошенькая девушка некоторое время сидела, спокойно откинувшись, и в тишине слышно было только порханье канарейки, перепрыгивающей с жердочки на жердочку в своей клетке. Затем девушка внимательно поглядела куда-то вниз; не на кошку и не на канарейку, а на какой-то продолговатый сверток в бумаге, лежавший между корзинкой и клеткой. На секунду она оглянулась посмотреть, не идет ли возчик. Его еще не было видно, и взгляд ее снова устремился к свертку: по-видимому, мысли ее были поглощены тем, что в нем находилось. Наконец она протянула руку за свертком, переложила его к себе на колени и развернула; это оказалось маленькое висячее зеркало, она поднесла его к лицу и стала пристально себя разглядывать, потом вдруг разомкнула губы и улыбнулась.
Это было чудесное утро; в ярком солнечном свете ее бордовый жакет казался огненно-красным, и мягкие блики скользили по ее оживленному лицу и темным волосам. Мирты, герань, кактусы, громоздившиеся вокруг нее, были зелены и свежи, и в это безлиственное время года они придавали всему – и лошадям, и повозке, и домашнему скарбу, и девушке – какое-то особенное, весеннее очарование. Что это ей вздумалось вдруг пококетничать, когда кругом не было ни души и никто не мог наблюдать за ней, кроме воробьев, дроздов да этого фермера, о присутствии которого она не подозревала, – кто знает; была ли эта улыбка деланой, не началось ли все с того, что ей захотелось попробовать свои силы в этом искусстве, – сказать трудно, но, несомненно, потом улыбка стала естественной. Девушка даже слегка покраснела и, глядя на себя в зеркало, еще больше залилась краской.
То, что все это происходило не в обычной обстановке в часы одевания, в спальне, когда глядятся в зеркало по необходимости, а в повозке под открытым небом, сообщало этому праздному занятию характер новизны, которой оно, в сущности, не обладало. Получилась прелестная картинка. Обычная женская слабость выглянула украдкой на свет и вдруг заиграла на солнце каким-то неожиданным своеобразием. Глядя на эту сцену, Габриэль Оук, как ни великодушно он был настроен, не мог не прийти к довольно-таки циническому умозаключению: ей вовсе не было надобности смотреться в зеркало. Она не поправила на себе шляпу, не пригладила волосы, не провела рукой по лицу и не сделала ни одного жеста, который позволил бы догадаться, почему, собственно, ей понадобилось смотреться в зеркало. Она просто созерцала себя как достойное произведение природы, создавшей такой прекрасный экземпляр женского пола, и, должно быть, ей представилось некое отдаленное, но вполне вероятное будущее, когда вокруг нее будут разыгрываться драмы с участием мужчин – и они все у ее ног. Тут, верно, и появилась эта улыбка, – она уже видела себя покорительницей сердец. Конечно, все это было не больше чем предположение; и, во всяком случае, все движения ее были так непосредственны, что усмотреть в них какую-то преднамеренность было бы весьма опрометчиво. На дороге послышались шаги возвращающегося возчика. Она завернула зеркало в бумагу и положила сверток на прежнее место.
Когда повозка двинулась дальше, Габриэль покинул свой наблюдательный пункт и, спустившись на дорогу, пошел следом за повозкой к заставе у подножия холма, где объект его наблюдений вынужден был остановиться для оплаты дорожных сборов. Еще не дойдя до заставы, шагах в двадцати он услышал громкие пререканья. Люди с повозки спорили со сторожем у заставы из-за двух пенсов.
– Племянница хозяйки, вон она сидит на возу, говорит, что достаточно с тебя и того, что я дал, сквалыга ты этакий, больше она платить не будет! – кричал возчик.
– Очень хорошо, тогда, значит, племянница хозяйки дальше не поедет, – отвечал сторож, закрывая ворота.
Оук, приблизившись к спорщикам, молча переводил взгляд с одного на другого и размышлял. Два пенса казались ему сейчас чем-то совершенно ничтожным. Три пенса – это уже были деньги, урвать три пенса из дневного заработка это чувствительный урон, есть из-за чего поторговаться; но два пенса…
– Вот получите, – сказал он, выходя вперед и протягивая сторожу двухпенсовик, – пропустите эту молодую женщину.
И он поднял на нее глаза, а она в этот миг, услышав его слова, поглядела вниз.
Лицо Габриэля в общих чертах представляло собой до такой степени нечто среднее между прекрасным ликом апостола Иоанна и безобразным Иудой Искариотом, какими они были изображены на потускневшем витраже церкви в ее приходе, что глазу не на чем было задержаться. Оно не привлекало к себе внимания, ибо ничем не выделялось. К такому же заключению пришла, по-видимому, и темноволосая девушка в красном жакете, потому что она только бегло скользнула по нему взглядом и приказала возчику трогать. Может быть, этот взгляд и был изъявлением благодарности Габриэлю, но она не сказала ему спасибо, да, скорей всего, и не чувствовала никакой благодарности, потому что, заплатив за ее проезд, он тем самым заставил ее сдаться в споре, а какая женщина будет признательна за такого рода услугу?
Сторож проводил взглядом удалявшуюся повозку.
– А красивая девушка, – заметил он, поворачиваясь к Оуку.
– И у нее есть свои недостатки, – сказал Габриэль.
– Верно, фермер.
– И самый большой – это тот, что всегда за ними водится.
– Морочить добрых людей? Что правда, то правда.
– Да нет, совсем не то.
– А что же тогда?
Габриэль, может быть слегка уязвленный равнодушием миловидной путницы, поглядел через плечо на изгородь, из-за которой он только что наблюдал пантомиму с зеркалом, и сказал:
– Суетность, вот что.
Глава II
Ночь. Отара. Бытовая картинка. Еще бытовая картинка
Это был канун Фомина дня, самого короткого дня в году. Время было около полуночи… Отчаянный ветер дул с севера из-за того самого холма, где всего несколько дней тому назад, в ясное солнечное утро, Оук наблюдал желтую повозку и сидевшую в ней путницу.
Норкомбский холм недалеко от пустоши Толлердаун принадлежал к норкомбским земельным угодьям, которые сдавались в аренду под овечьи выгоны, и путнику, идущему мимо этого холма, невольно приходило на ум, что эта ровная округлость, пожалуй, одно из самых несокрушимых образований земной толщи, какое только можно встретить на земном шаре. Эта ничем не примечательная выпуклость из песка и мела, похожая на обыкновенную шишку, вздувшуюся на поверхности земли, уцелела бы, вероятно, при любом катаклизме, который сокрушил бы гораздо более высокие горы и мощные гранитные скалы.
На северном склоне холма была когда-то заповедная буковая роща, которая давно уже пришла в запустенье и превратилась в дикую чащу: кроны ее верхних деревьев поднимались над гребнем косматой дугой, словно взлохмаченная грива. Сейчас эти верхние деревья защищали южный склон от бешеных порывов ветра, который с яростью врывался в рощу, с ревом проносился по ней, круша все на своем пути, и, захлебнувшись на гребне, нет-нет да и перехлестывал через него с жалобным стоном. Сухие листья в канаве вдруг точно вскипали на ветру; иногда вихрю удавалось выхватить и унести несколько листьев, и он гонял их по траве и кружил в воздухе. Эта масса палой сухой листвы изредка пополнялась только что упавшими листьями, которым до сих пор, до половины зимы, удалось удержаться на ветвях, и теперь, отрываясь, они падали, звучно постукивая о стволы.
Между этим наполовину лесистым, наполовину обнаженным холмом и туманным, недвижным горизонтом, над которым он смутно громоздился, лежала непроницаемая пелена бездонной мглы, но по шуму, доносившемуся оттуда, можно было догадаться, что и там, за этой мглой, творится примерно то же, что и здесь. Чахлая трава, кое-где покрывавшая холм, страдала от натисков ветра не только различной силы, но и различного характера; он то обрушивался на нее и валил на землю, то раскидывал и греб, как граблями, то приминал и приглаживал, как щеткой. Человек, очутившийся на этом холме, невольно остановился бы послушать жалобные голоса деревьев, которые, словно в церковном хоре, вторили и отвечали друг другу, подхватывая то справа, то слева горестные стенанья и вопли, а придорожные кусты с подветренной стороны и еще какие-то темные тени не сразу откликались им чуть слышным всхлипываньем, а затем ветер в стремительном порыве перекидывался на южный склон и все стихало.
Небо было ясное – на редкость ясное, и мерцанье звезд казалось трепетаньем единой плоти, в которой бьется один общий пульс. Полярная звезда стояла прямо над тем местом, откуда дул ветер, а Большая Медведица с вечера успела повернуться вокруг нее ковшом к востоку и теперь находилась под прямым углом к меридиану. Различие в цвете звезд, о котором в Англии знают скорее по книжкам и редко кто наблюдал воочию, сейчас было явственно видно. Царственно сверкающий Сириус резал глаз своим стальным блеском, звезда, известная под названием Капеллы, была желтая, Альдебаран и Бетельгейзе горели огненно-красным.
Для человека, который в такую ясную ночь стоит один на вершине холма, вращение Земли с запада на восток становится почти ощутимым. Вызывается ли это ощущение величественным движением звезд, которые, плывя по небосводу, оставляют позади разные земные вехи, – а это, если постоять спокойно, начинаешь замечать через несколько минут, – или, может быть, безграничным пространством, открывающимся с вершины холма, или ветром, или просто одиночеством, – чем бы оно ни вызывалось, это очень явственное ощущение, и оно длится – ты чувствуешь, как плывешь вместе с землей. Поэзия движения… Как много у нас говорят об этом, но, чтобы ощутить ее во всей полноте, надо взойти ночью на вершину холма и, исполнившись сначала сознанием разительного отличия от остальной массы цивилизованного человечества, мирно почивающего в этот час и не интересующегося подобными вылазками, созерцать спокойно и длительно собственное величавое движение среди светил. После такого ночного странствия, когда человек отрешается от привычного образа мыслей и представлений, иные так воспаряют духом, что чувствуют себя уже готовыми для вечности.
Внезапно какие-то неожиданные звуки прокатились по холму и понеслись в небо. Они отличались четкостью, несвойственной ветру, и связностью, какой не бывает в природе. Это были звуки флейты фермера Оука.
Мелодия не плыла по воздуху, не лилась свободно, ее как будто что-то теснило, и едва только она устремлялась ввысь и вдаль, как тут же и обрывалась. Она доносилась со стороны какого-то небольшого темного выступа под изгородью, окружавшей буковую рощу, – это была пастушеская хижина, но сейчас в темноте человек непосвященный никак бы не мог догадаться, что здесь такое громоздится и зачем.
В общем, это имело вид маленького Ноева ковчега на маленьком Арарате, в том трафаретном изображении, какое вошло в традицию у игрушечных мастеров, а благодаря этому отложилось и в нашем представлении в том же неизменном виде, в каком оно запомнилось в детстве и сохранилось на всю жизнь вместе с другими неизгладимыми ранними впечатлениями. Хижина стояла на небольших колесах, так что пол ее примерно на фут возвышался над землей. Такие пастушеские хижины вывозятся на пастбище, когда овцам приходит пора ягниться, чтобы у пастуха был приют на время его вынужденного ночного бдения.
Габриэля только с недавних пор стали величать фермером Оуком. За последний год, благодаря своему необыкновенному усердию и никогда не изменяющей ему бодрости, он наконец добился того, что мог позволить себе снять в аренду небольшую овечью ферму, куда входил Норкомбский холм, и обзавестись двумя сотнями овец. До этого он некоторое время служил управителем в усадьбе, а раньше был простым пастухом: еще совсем мальчишкой, когда отец его жил в работниках у богатых сквайров, он помогал ему ходить за гуртами овец, и так оно и шло до тех пор, пока старый Габриэль не почил вечным сном.
Попытка заняться фермерством не в качестве батрака, а на правах хозяина, своими силами, в одиночку, да еще выплачивать при этом долг за овец, была, разумеется, рискованным делом, и Габриэль Оук прекрасно сознавал это. Первое, о чем надо было позаботиться для успешного продвижения по новой для него стезе, это сохранить приплод, а так как во всем, что касается овец, Габриэль разбирался лучше всякого другого, он не решился доверить их кому-либо в это время года, опасаясь, как бы они не попали в чьи-нибудь нерадивые или неумелые руки.
Ветер по-прежнему ломился в хижину, но игра на флейте прекратилась. Внезапно в стене хижины вырезался освещенный прямоугольник и в нем фигура фермера Оука. В руке у него был фонарь; он вышел и закрыл за собой дверь; в течение примерно двадцати минут он возился на ближнем участке выгона, свет его фонаря то появлялся, то пропадал, мелькая то там, то тут, и фигура Оука то выступала на свету, то исчезала в темноте, в зависимости от того, стоял ли он позади фонаря или заслонял его собой.
Движения Оука, хотя они и отличались какой-то спокойной силой, были медлительны, и их неторопливость вполне соответствовала его занятию. Поскольку соответствие – основа всего прекрасного, нельзя было не признать, что в этих уверенных движениях, когда он, то наклоняясь, то выпрямляясь, прохаживался среди своих овец, была какая-то своеобразная грация. И хотя в случае надобности он мог действовать и соображать с такой же молниеносной быстротой, какая более свойственна горожанам, ибо у них это вошло в привычку, – сила, отличавшая его нравственно, физически и духовно, пребывала в состоянии покоя и, как правило, ничего, или почти ничего, не выигрывала от скорости.
Приглядевшись внимательно к окружающей местности, можно было даже и при слабом свете звезд обнаружить, с какой тщательностью этот, в сущности говоря, голый склон был приспособлен фермером Оуком для того важного дела, на которое он возлагал надежды в эту зиму. Кругом, там и сям, виднелись прочно вбитые в землю плетеные загородки, перекрытые соломой, а под ними и между ними копошились белые комочки ягнят. Звон овечьих бубенчиков, стихший в отсутствие Оука, теперь возобновился, но в нем не было звонкости, звук был скорее мягкий, заглушенный густой шерстью, разросшейся вокруг бубенцов. Он продолжался до тех пор, пока Оук не покинул стадо. Он вернулся в хижину, неся на руках только что родившегося ягненка, представлявшего собой четыре длинных ноги, достаточно длинных для взрослой овцы, и соединявшей их тоненькой мездры, вся совокупность коей составляла примерно половину всех четырех ног вместе взятых, и это было все, из чего состояло сейчас туловище животного.
Оук положил этот маленький живой комочек на охапку сена перед небольшой печкой, на которой сейчас кипело в кастрюльке молоко, задул фонарь, снял пальцами нагар, – хижину освещала свеча, вставленная в скрученную на конце, спускавшуюся с потолка проволоку.
В этом очень тесном жилище половину места занимало довольно твердое ложе из наваленных один на другой холщовых мешков из-под зерна; фермер Оук растянулся на нем, развязал свой шерстяной галстук и закрыл глаза. Не прошло и нескольких секунд – другой человек, непривычный к физическому труду, еще только примеривался бы, на какой ему бок повернуться, – как фермер уже спал.
Заманчиво и уютно выглядела сейчас внутри маленькая хижина; красный отблеск углей, тлеющих в печке, и пламя свечи, отражавшееся веселыми бликами на всем, куда доставал ее свет, придавали какой-то праздничный вид даже посуде и инструментам. В углу стоял посох, а вдоль стен и на полке выстроились бутылки и жестянки со всякими средствами, необходимыми для ухода за овцами, для их лечения и оперирования. Главными из этих средств были спирт, скипидар, деготь, магнезия, имбирь и касторовое масло. На угловой полке лежали хлеб, сало, сыр, стояла кружка для пива или сидра, а в углу под полкой – фляжка, из которой, видимо, и наливали в кружку. Тут же, рядом со съестными припасами, лежала флейта, которая скрашивала своим пеньем томительные часы бодрствования одинокого фермера. Хижина проветривалась посредством двух круглых отверстий, похожих на иллюминаторы с деревянными задвижками.
Пригревшись у печки, ягненок зашевелился и заблеял, и этот звук, едва коснувшись слуха Габриэля, мгновенно вошел в его сознание, как нечто ожидаемое. Он моментально проснулся и, очнувшись с такой же легкостью, с какой он незадолго до этого погрузился в крепчайший сон, взглянул на часы, обнаружил, что часовая стрелка опять соскользнула, надел шляпу и, взяв ягненка на руки, вышел с ним в темноту. Положив малыша к матери, он отошел на несколько шагов и, остановившись, стал внимательно оглядывать небо, чтобы определить по положению звезд, который сейчас может быть час.
Сириус и Альдебаран, повернувшись к беспокойным Плеядам, уже прошли половину своего пути по небу Южного полушария, а между ними висел Орион, и это пышное созвездие, казалось, никогда не пылало так ярко, как сейчас, когда оно словно повисло над горизонтом. Кастор и Поллукс мирно светились на самом меридиане, а сумрачный, полый квадрат Пегаса тихонько поворачивался на северо-восток; далеко за лесом, словно лампа, висящая среди обнаженных деревьев, поблескивала Вега, а кресло Кассиопеи стояло, чуть покачиваясь, на верхних ветвях.
– Время час, – определил Габриэль.
У него нередко бывали минуты, когда он живо чувствовал, что в жизни, которая выпала ему на долю, есть своя прелесть, и вот сейчас, покончив со своими наблюдениями, он продолжал стоять и смотреть на небо, но уже не как на полезный механизм, а с восхищением, как на прекрасное произведение искусства. С минуту он стоял словно потрясенный полной отчужденностью этой живущей своей жизнью бездны, или, вернее, ее непричастностью ко всему людскому, ибо на всем пространстве, которое она обнимала, не было ни видно и ни слышно ни души. Люди с их распрями, заботами, радостями как будто и не существовали, и казалось, на всем погруженном во мрак полушарии Земли не было ни одного земного существа, кроме него; можно было подумать, что они все на другой, солнечной стороне.
Так он стоял, поглощенный своими мыслями, глядя прямо перед собой в необъятную даль, и прошло некоторое время, прежде чем он с удивлением обнаружил, что светящаяся точка совсем низко на небе по ту сторону букового леса, которую он принимал за звезду, вовсе не звезда, а свет от огня, горевшего где-то совсем рядом.
Бывает иной раз, очутится человек где-нибудь совсем один ночью, и ему становится жутко, и он ждет и надеется, что вот-вот кто-нибудь появится вблизи. Но еще более трудное испытание для нервов – это обнаружить около себя чье-то таинственное присутствие, когда все ваши чувства, и восприятия, и память, и чутье, и сопоставления, и доводы, и догадки, и умозаключения, и все доказательства, которыми располагает логика, – все вселяет в вас полную уверенность, что вы в полнейшем уединении.
Фермер Оук вошел в рощу и, пробравшись меж густо разросшимися нижними ветвями, очутился на противоположной, наветренной стороне холма. Какой-то темный бугор выступал под откосом, и он вспомнил, что где-то здесь, в выбоине холма, стоял сарай, сколоченный из просмоленных досок, прибитых спереди к столбам и покрытых крышей, которая сзади приходилась вровень с землей. Сквозь щели в крыше и в стене просачивались узенькие полоски света, и это слившееся в одну точку, мерцающее из-за деревьев сияние и обмануло его. Оук подошел поближе и, нагнувшись над крышей, заглянул в щель, – в нее было хорошо видно все помещение сарая.
Там находились две женщины и две коровы. Возле одной из коров стояло ведро с пойлом из отрубей, от которого поднимался пар. Одна из женщин была более чем пожилого возраста; ее товарка показалась Оуку молоденькой, привлекательной, но он не мог судить о ее внешности, потому что ему было видно ее только сверху, иначе говоря, он созерцал ее с высоты птичьего полета, подобно тому как мильтоновский Сатана впервые созерцал Рай. На ней не было ни чепца, ни шляпы, она куталась в широкий плащ, накинутый прямо на голову.
– Ну, пора, идем-ка домой, – сказала старшая и, упершись руками в бока, огляделась по сторонам, словно проверяя, все ли в порядке. – Я думаю Дэзи теперь обошлась. Уж как я перепугалась, до смерти! Весь сон пропал. Ну, ничего, кажется, мы ее выходили.
Молодая девушка, у которой, едва только наступало молчанье, наверно, слипались глаза, сладко зевнула, не разжимая губ, и Габриэль, заразившись от нее, тоже сочувственно зевнул.
– Как бы я хотела, чтобы у нас было побольше денег, чтобы можно было держать работника и он бы со всем этим возился, – сказала она.
– Но так как у нас их мало, – возразила другая, – хочешь не хочешь, а приходится возиться самим, и ты должна мне помогать, если ты у меня останешься.
– А шляпка моя, наверно, пропала, – промолвила девушка. – Должно быть, за изгородь унесло. И ветер-то совсем слабый был, и вот надо же – сорвал.
Корова, стоявшая неподвижно, была девонской породы, плотно обтянутая гладкой блестящей шкурой такого ровного медно-красного цвета, без единого пятнышка на всей поверхности от головы до хвоста, что казалось, ее целиком окунули в медную краску; спина у нее была длинная и совершенно плоская. Другая корова была пестрая, в серых и белых пятнах. Возле нее Оук только теперь заметил маленького теленка, не старше одного дня; он тупо уставился на женщин и, видимо, еще не освоил свой аппарат зрения, ибо то и дело поворачивался к фонарю, который он, должно быть, принимал за луну, – с тех пор как он появился на свет, прошло еще так мало времени, что унаследованный им инстинкт еще не выправился опытом. Люцине, богине родов, было много забот последнее время и с овцами и с коровами на Норкомбском холме.
– Я думаю, не послать ли нам за овсяной мукой, – сказала пожилая женщина, – отруби уже все вышли.
– Ладно, тетя, я сама съезжу за ней, как только рассветет.
– Но у нас нет такого седла, дамского-то.
– А я могу и на мужском, вы за меня не бойтесь.
Слушая этот разговор, Оук сделал было еще попытку разглядеть черты молодой девушки, его разбирало любопытство, но все его усилия были тщетны, ибо голова ее была покрыта плащом, и, кроме плаща, ему сверху ничего не было видно; тогда он попытался представить ее себе воображением. Даже в тех случаях, когда объект наших наблюдений находится прямо перед нами, на уровне наших глаз и ничто не мешает нам его видеть, мы придаем ему те краски и те черты, какие нам самим хочется в нем видеть. Если бы Габриэлю с самого начала удалось увидеть ее лицо, оно показалось бы ему красивым или не очень, в зависимости от того, нуждалась ли его душа в кумире или ею уже завладел кто-то. А так как с некоторых пор душе его явно чего-то недоставало и нечем было заполнить пустоту, томившую ее, то вполне естественно, что сейчас, когда воображению его был предоставлен полный простор, он нарисовал ее себе ангелом красоты.
И надо же, чтобы в эту самую минуту, – такие удивительные совпадения охотно подстраивает природа, точь-в-точь как любящая мать, которая среди своих непрестанных хлопот нет-нет да и пошутит с детьми, – девушка откинула плащ, и ее черные косы упали на красную жакетку. Оук тотчас же узнал в ней утреннюю героиню из желтой повозки с цветами и зеркалом, – словом, ту самую молодую женщину, которая задолжала ему два пенса.
Они положили теленка к матери, взяли фонарь и, выйдя из сарая, пошли по тропинке вниз с холма, и свет от фонаря, скользя по склону, становился все бледнее и бледнее, пока не превратился в чуть заметное пятнышко. Габриэль Оук зашагал обратно, к своему стаду.
Глава III
Девушка на лошади. Разговор
Медленно пробуждался день. На земле даже его пробуждение всякий раз вызывает к жизни новые чаяния, и фермер Оук, едва рассвело, снова направился к роще, хотя никакой причины к этому, кроме ночной сцены, которую он наблюдал там, не было. Погруженный в задумчивость, он бродил среди деревьев, как вдруг до него донесся стук копыт и у подошвы холма на тропинке, ведущей вверх мимо сарая с коровами, показалась пегая лошадка с сидящей на ней верхом девушкой. Это была та самая девушка, которую он видел ночью. Габриэль тотчас же вспомнил про шляпку, которую с нее сорвало ветром; может быть, она приехала искать ее. Он поспешно заглянул в канаву и, пройдя вдоль нее шагов десять, увидел шляпку среди вороха листьев. Габриэль поднял ее и вернулся к себе в хижину. Здесь он примостился у своего круглого оконца и стал наблюдать за приближающейся всадницей.
Поднявшись на холм, она сначала огляделась по сторонам, потом заглянула за изгородь. Габриэль совсем было уже собрался выйти ей навстречу и возвратить потерянную собственность, но тут она неожиданно выкинула нечто такое, что он просто остолбенел и забыл о своем намерении.
Тропинка, миновав сарай, углублялась в рощу. Это была совсем узенькая пешеходная тропинка, отнюдь не для езды; ветви деревьев сходились над ней невысоко от земли, ну разве что на высоте каких-нибудь семи футов, так что проехать здесь верхом нечего было и думать. На девушке было обыкновенное платье, не совсем подходящее для верховой езды; подъехав к роще, она быстро огляделась по сторонам, словно желая убедиться, что кругом нет ни души, ловко откинулась назад, так что голова ее очутилась у самого хвоста, и, глядя в небо, уперлась ногами в шею лошади. Все это совершилось в одно мгновенье – она просто скользнула стремительно, как зимородок, бесшумно, как сокол. Габриэль даже не успел уловить ее движений. Рослая сухощавая лошадка, видимо, привыкла к такому обращению и невозмутимо продолжала трусить легкой рысцой. Так они и проехали под сводом деревьев.
Наездница, видимо, чувствовала себя как дома на спине лошади, в любой ее точке от головы до хвоста, и когда чаща деревьев осталась позади и надобность в такой необычной позе миновала, она попробовала принять другую, более удобную. Седло было не дамское, и усесться прочно, извернувшись лежа, на гладкой, скользкой коже оказалось не так-то просто. Тогда она вскочила, выпрямившись, как молодое деревцо, и, убедившись, что кругом никого нет, уселась, правда, не совсем так, как подобало сидеть женщине, но, во всяком случае, так, как подобало сидеть в этом седле, и вскоре скрылась из глаз, свернув к мельнице.
Оуку все это показалось несколько диковинным и очень забавным; он повесил шляпу в хижине и отправился снова к своим овцам. Примерно через час девушка проехала обратно, сидя теперь вполне благопристойно рядом с привязанным к седлу мешком с отрубями. У сарая ее встретил мальчик с ведром в руке. Она бросила ему поводья и спрыгнула с лошади. Мальчик увел лошадь, оставив ей ведро для молока. Вскоре из сарая послышались мерно перемежающиеся то звонкие, то глухо всхлипывающие звуки – там доили корову. Габриэль взял потерянную шляпку и вышел к тропинке, по которой девушка должна была пройти, чтобы спуститься с холма. Она вышла, неся в одной руке ведро на уровне колена и вытянув для равновесия другую, левую руку, которая, высунувшись из рукава, заставила Оука невольно пожалеть, что дело происходит не летом, когда она была бы открыта вся целиком. Сейчас на лице девушки было написано такое удовлетворение и торжество, как если бы она всем своим видом заявляла, что ее существование на белом свете должно радовать всех; и это дерзкое допущение даже не казалось вызывающим, потому что всякий, глядя на нее, чувствовал, что так оно, в сущности, и есть. Так необычная выразительность, которая в речах посредственности показалась бы смешной, усиливает власть гения и придает внушительность его слову. В глазах девушки мелькнуло удивление, когда физиономия Габриэля вынырнула перед ней, словно луна из-за ограды.
Сложившийся в представлении фермера неясный очаровательный облик, сейчас, когда он очутился лицом к лицу с живой натурой, не то чтобы проиграл от сравнения, а скорее как-то изменился. Начать с того, что он ошибся в росте. Она казалась высокой, но ведро было маленькое, а изгородь низкая, поэтому, делая скидку на это невольное сопоставление, следовало признать, что рост ее не превышал того, какой считается самым хорошим у женщин. Черты лица у нее были правильные, строгие. Ценители красоты, изъездившие вдоль и поперек нашу страну, справедливо замечали, что у англичанок классическая красота лица редко соединяется с такой же совершенной фигурой; строгие, точеные черты чаще бывают крупными и в большинстве случаев не соответствуют росту и сложению, а изящная, пропорциональная фигурка обычно сочетается с неправильными чертами лица. Не возводя нашу молочницу в нимфы, скажем просто, что здесь все критические замечания отпадали сами собой и любому критику доставило бы несомненное удовольствие созерцать такое совершенство пропорций. Округлые очертания стана позволяли предположить красивые плечи и грудь, но с тех пор как она перестала быть ребенком, их никто не видел. Если бы ее нарядили в платье с низким вырезом, она бы бросилась сломя голову куда-нибудь в кусты. А она была далеко не из застенчивых. Просто она инстинктивно проводила черту между доступным и запретным для чужого взгляда, и черта эта была несколько выше, чем у горожанок. Как только она поймала устремленный на нее взгляд Оука, мысли ее, естественно, последовали за его взглядом к собственному лицу и фигуре. Будь это откровенное самолюбование, оно показалось бы тщеславием, а если бы она постаралась его скрыть, она проявила бы несвойственную ей высокомерную сдержанность. В деревне девичьи лица чувствительны к пламенным взорам мужчин. Она поспешно провела рукой по щекам, как если бы Габриэль и впрямь коснулся их розовой кожи, и в ее непринужденных движениях появилась какая-то неуловимая застенчивость. Но краска вспыхнула на щеках мужчины, а она не покраснела.
– Я нашел шляпку, – вымолвил Оук.
– Это моя, – сказала она и, стараясь держать себя как подобает, подавила желание расхохотаться и только улыбнулась. – Она нынче ночью у меня улетела.
– В час ночи?
– Да, верно. – Она явно удивилась. – А вы откуда знаете?
– Я был тут.
– Вы фермер Оук? Не правда ли?
– Да, похоже, что так. Я здесь совсем недавно.
– И большая у вас ферма? – поинтересовалась она, обводя взглядом склон холма и откидывая со лба волосы. Они были черные, густые, но сейчас солнце, которое взошло всего час тому назад, брызнуло на них своими лучами и позолотило волнистые прядки.
– Да нет, небольшая. Так около сотни будет. – Местные жители, говоря о ферме, опускают по старинке слово «акр».
– Нынче утром мне так нужна была моя шляпка, – продолжала она. – Я ездила на мельницу.
– Да я знаю.
– Откуда вы знаете?
– Я вас видел.
– Где? – спросила она, застыв на месте и уже предчувствуя ответ.
– Да вот здесь, когда вы ехали через рощу и потом спускались с холма, – отвечал фермер Оук весьма многозначительным тоном, относящимся к тому, что само собой невольно возникло перед его взглядом, устремленным на терявшуюся вдали тропинку, и тут он перевел глаза на свою собеседницу.
Но едва только он взглянул на нее, как сразу отвел взгляд, и с такой поспешностью, как если бы его уличили в воровстве. Когда девушка вспомнила свои акробатические номера во время езды через рощу, ее сначала кинуло в дрожь, а потом всю с ног до головы обдало жаром. Вот когда можно было увидеть, как способна покраснеть женщина, которой отнюдь не свойственно краснеть. На лице ее не осталось ни следа белизны. Она вся покрылась краской до корней волос, и краска эта все густела, постепенно переходя от девичьего румянца через все оттенки Розы Прованса до Алой Тосканы, пока не стала совсем густо-пунцовой. Оук из деликатности отвернулся.
Человек великодушный, он заставлял себя смотреть в сторону, думая, скоро ли она овладеет собой настолько, что ему можно будет позволить себе снова глядеть на нее. Вдруг ему послышался словно шелест листа, подхваченного ветром, он взглянул, а ее уже и след простыл.
Габриэль, представляя собой поистине трагикомическое зрелище, вернулся к своей работе.
Прошло пять дней и пять вечеров. Девушка аккуратно приходила доить здоровую корову и ухаживать за больной, но ни разу не позволила себе хотя бы бросить взгляд в сторону Оука. Он глубоко оскорбил ее своей бестактностью, и дело было не в том, что он видел то, что ему не полагалось, – это случилось не по его вине, – а в том, что он нашел нужным сказать ей об этом. Ибо как нет греха, если нет запрета, так нет и неприличия, если нет чужих глаз; а теперь выходило, что из-за подглядывания Габриэля (а ведь она этого не знала) ее поведение оказалось непристойным. Габриэль страшно огорчался своим промахом, и все это только сильнее разжигало вспыхнувшее в нем чувство.
Но, может статься, знакомство на том бы и кончилось и он мало-помалу перестал бы о ней думать, если бы в конце той же недели не случилось одно происшествие. В этот день после полудня сильно похолодало; к вечеру ударил мороз, словно он только и ждал темноты, чтобы незаметно захватить все в свои оковы. В деревне в такую стужу в хижинах от дыхания спящих индевеют простыни, а в хорошем городском доме с толстыми стенами у сидящих перед камином бежит холодок по спине, хотя в лицо так и пышет жаром. В этот вечер много маленьких пташек укрылось голодными на ночь среди оголенных ветвей.
Незадолго до того часа, когда девушка обычно приходила доить, Оук, как всегда, занял свой наблюдательный пост над сараем. Сильно прозябнув, он подбросил овцам, которые собирались ягниться, еще по охапке соломы и вернулся в хижину, чтобы подложить дров в печурку. Ветер так и садил из-под дверцы, и, чтобы защититься от него, он повернул свой домик на колесах в другую сторону. Тогда ветер ворвался в отдушины – их было две, одна против другой в боковых стенах. Габриэль хорошо знал, что одна из них должна быть непременно открыта, если в хижине топится печь и затворена дверь; открывалась обычно та, в которую меньше дуло. Он задвинул отдушину с наветренной стороны и хотел было открыть другую, но решил на минутку присесть и подождать, чтобы в хижине немножко обогрелось. Он сел.
У него заболела голова, это было нечто совершенно непривычное для него, и он подумал, что, должно быть, сказывается усталость, – последние ночи ему приходилось вставать к овцам и он спал урывками. Он сказал себе, что сейчас встанет, откроет отдушину и завалится спать. Но он свалился и заснул, прежде чем успел что-либо сделать.
Сколько времени он пробыл без сознания, для него так и осталось неизвестным. В первый момент, когда он очнулся, ему показалось, что с ним происходит что-то странное. Собака выла, голова у него разламывалась от боли, кто-то тряс его за плечи, чьи-то руки развязывали его шейный платок. Открыв глаза, он с удивлением обнаружил, что сумерки уже сменились темнотой. Возле него сидела та самая девушка с необыкновенно пленительными губками и ослепительными зубами. Более того, и это было самое удивительное – голова его лежала у нее на коленях, причем лицо и шея у него были противно мокрые, а ее пальцы расстегивали его ворот.
– Что случилось? – растерянно вымолвил Оук.
Она, по-видимому, обрадовалась, но не настолько, чтобы тут же и рассмеяться.
– Теперь можно сказать, ничего, раз вы не умерли, – ответила она. – Надо только удивляться, что вы не задохлись насмерть в этой своей хижине.
– А, хижина! – пробормотал Габриэль. – Десять фунтов я заплатил за эту хижину. Но я ее продам и буду укрываться в плетеном шалаше и спать на соломе, как в старину делали. Вот только на днях она чуть было не сыграла со мной такую же штуку! – И Габриэль для убедительности стукнул кулаком об пол.
– Вряд ли тут можно винить хижину, – возразила она таким тоном, что сразу можно было сказать, что эта девушка представляет собой редкое исключение – она додумывает до конца свою мысль, прежде чем начать фразу, и не подыскивает слова, чтобы ее выразить. – Надо было самому соображать и не поступать так неосмотрительно, не задвигать обе отдушины.
– Да, оно конечно, – рассеянно отозвался Оук.
Он старался проникнуться этим ощущением ее близости – вот он лежит головой на ее платье, – поймать, удержать этот миг, пока он не отошел в прошлое. Ему хотелось поделиться с ней своими переживаниями: но пытаться передать это неизъяснимое чувство грубыми средствами речи было бы все равно что пытаться донести аромат в неводе. И Оук молчал.
Она помогла ему сесть, и он принялся вытирать лицо и шею, отряхиваясь, как Самсон, пробующий свою силу.
– Как мне благодарить вас? – вымолвил он наконец прочувствованно, и присущий ему коричневатый румянец проступил на его лице.
– Ну что за глупости, – ответила она, улыбнувшись, и, не переставая улыбаться, посмотрела на Габриэля, как бы заранее подсмеиваясь над тем, что он сейчас скажет.
– Как это вы меня нашли?
– Я слышу, ваша собака воет и скребется в дверь, а я как раз шла доить (ваше счастье – у Дэзи уже кончается молоко и, может быть, это последние дни, что я хожу сюда). Как только она увидела меня, она бросилась ко мне и ухватила меня за подол. Я пошла за ней и первым делом посмотрела, не закрыты ли отдушины в хижине. У моего дяди точно такая же хижина, и я слышала, как он предупреждал своего пастуха не ложиться спать, не проверив отдушины, и всегда оставлять одну открытой. Я открыла дверь, вижу – вы лежите как мертвый. Я побрызгала на вас молоком, потому что воды не было, мне даже в голову не пришло, что молоко теплое и никакого от него толку нет!
– А может быть, я так бы и умер, если бы не вы! – чуть слышно произнес Габриэль, словно обращаясь к самому себе, а не к ней.
– Ну нет! – возразила девушка. Она явно предпочитала менее трагический исход. После того как спасешь человека от смерти, невольно разговор с ним приходится поддерживать на высоте такого героического поступка – а ей этого совсем не хотелось.
– Я так думаю, что вы спасли мне жизнь, мисс… не знаю, как вас звать… Имя вашей тетушки мне известно, а ваше нет.
– А я не скажу, как меня зовут, – не скажу. Да оно, пожалуй, и ни к чему, вряд ли вам придется иметь когда-нибудь со мной дело.
– А мне бы все-таки хотелось узнать.
– Можете спросить у моей тетушки, она вам скажет.
– Меня зовут Габриэль Оук.
– А меня по-другому. Вы, видно, очень довольны своим именем, что так охотно называете себя – Габриэль Оук.
– Так, видите ли, оно у меня одно на всю жизнь, и как-никак приходится им пользоваться.
– А мне мое имя не нравится, оно кажется мне каким-то чудны`м.
– Я думаю, вам недолго сменить его на другое.
– Упаси боже! А вы, верно, любите делать разные предположения о незнакомых вам людях, Габриэль Оук?
– Простите, мисс, если я что не так сказал, а я-то думал вам угодить. Да где же мне с вами тягаться, я не могу так складно свои мысли словами передать. У меня к этому никогда способности не было. А все-таки я благодарю вас от души. Позвольте пожать вашу руку.
Сбитая с толку этой старомодной учтивостью и серьезностью, какую Оук придал их шутливому разговору, она секунду поколебалась.
– Хорошо, – помолчав, сказала она и, поджав губы, с видом неприступной скромницы протянула ему руку. Он подержал ее в своей одно мгновенье и, боясь обнаружить свои чувства, едва прикоснулся к ее пальцам с нерешительностью робкого человека.
– Как жаль, – вырвалось у него тут же.
– О чем это вы жалеете?
– Что я так скоро выпустил вашу руку.
– Можете получить ее еще раз, если вам так хочется. Вот она. – И она снова протянула ему руку.
На этот раз Оук держал ее дольше, сказать правду, даже удивительно долго.
– Какая мягкая, – сказал он, – а ведь сейчас зима, и не потрескалась, не загрубела!
– Ну теперь, пожалуй, довольно, – заявила она, но не отдернула руки. – Мне кажется, вам хочется поцеловать ее? Пожалуйста, целуйте, если хотите.
– У меня этого и в мыслях не было, – простодушно отвечал Габриэль. – Но я очень…
– Нет, этого не будет! – Она вырвала руку.
Габриэль почувствовал, что он опять оплошал.
– А ну узнайте, как меня зовут, – задорно крикнула она и исчезла.
Глава IV
Габриэль решается. Визит. Ошибка
Единственный вид превосходства в женщине, с которым способен мириться соперничающий пол, это превосходство, не заявляющее о себе; но иногда превосходство, которое дает себя чувствовать, может нравиться покоренному мужчине, если оно сулит ему надежды завладеть им.
Эта хорошенькая бойкая девушка скоро совсем пленила ум и сердце молодого фермера. Ведь любовь – чрезвычайно жестокий ростовщик (расчет на громадную духовную прибыль – вот на чем зиждется подлинное чувство, когда происходит обмен сердец; точно так же и в других, более низменных сделках обе стороны рассчитывают на хороший барыш – денежный либо телесный), поэтому каждое утро, когда Оук взвешивал свои шансы, его чувства подвергались таким же колебаниям, как денежный курс на бирже. Он каждый день ждал появления девушки совсем так же, как его пес в часы кормежки дожидался своей похлебки. Пораженный однажды этим унизительным сходством, Оук перестал смотреть на собаку. Но он продолжал свои наблюдения из-за изгороди и каждый день караулил приход девушки, и с каждым днем чувство его возрастало. На нее это не оказывало ни малейшего действия. Пока у Оука еще не было никаких определенных намерений, он не знал, как заговорить с ней о том, что переполняло его сердце; он был не мастер сочинять любовные фразы, у которых конец не отличается от начала, и не способен на пылкие излияния, которые полны
- Неистовства и воплей исступленных,
- Лишенных смысла, —
и он не говорил ничего.
Порасспросив соседей, он узнал, что девушку зовут Батшеба Эвердин и что дней через шесть-семь корова перестанет доиться. Он со страхом ждал восьмого дня.
И наконец восьмой день наступил. Корова перестала давать молоко до конца года, и Батшеба Эвердин больше не появлялась на холме. Габриэль дошел до такого состояния, какого он некоторое время тому назад не мог себе даже и представить. Если прежде он любил насвистывать за работой, теперь он то и дело твердил имя Батшебы; он стал отдавать предпочтение черным волосам, хотя с детства ему всегда нравились каштановые. Он бродил в одиночестве и так сторонился людей, что его мало-помалу просто перестали замечать.
Любовь – это зреющая сила, заложенная в преходящей слабости. Брак превращает ослепление в выносливость, и сила этой выносливости должна быть – и, к счастью, нередко и бывает – соразмерна степени одурения, на смену которому она приходит; Оук начал все чаще задумываться над этим и наконец сказал себе: «Или она будет моей женой, или, клянусь Богом, я совсем пропаду».
Последнее время он тщетно ломал себе голову, выискивая предлог, который бы позволил ему пойти к тетушке Батшебы, в ее коттедж.
Наконец ему представился удобный случай – у него пала овца и от нее остался ягненок. В один погожий день, который глядел по-летнему, а знобил по-зимнему, ясным январским утром, когда людям, настроенным радостно, глядя на голубые просветы и серебрящиеся на солнце края облаков, казалось, что все небо вот-вот станет синим, Оук положил ягненка в добротную кошелку для воскресных покупок и пошел через пастбище к дому миссис Херст, тетушки Батшебы; его пес Джорджи бежал за ним следом с сильно озабоченным видом, – казалось, он был явно встревожен тем серьезным оборотом, какой с некоторых пор начали принимать их пастушеские дела.
Сколько раз, поглядывая на голубой дымок, вьющийся из трубы ее дома, Габриэль предавался странным мечтам. Глядя на него вечерами, он представлял себе его путь от конца к началу и мысленно следовал за ним по трубе к очагу, а там возле очага сидела Батшеба в том самом платье, в котором она приходила на холм; ибо Батшеба представлялась ему не иначе как в этом платье, и его чувство распространялось на него, как и на все, что было связано с ней. На этой ранней стадии любви ее платье казалось ему неотделимой частью милого целого, имя которому было Батшеба.
Он постарался одеться прилично случаю, а чтобы произвести впечатление изящной небрежности, отобрал кое-что от парадной одежды, которую он надевал в ненастные праздничные дни, а кое-что от выходного костюма, в котором в хорошую погоду ездил на кэстербриджский рынок. Он старательно вычистил мелом свою серебряную цепочку для часов, вдел новые шнурки в башмаки, предварительно осмотрев все медные колечки для шнуровки, исходил всю буковую рощу, забрался в самую ее чащу в поисках подходящего сука, из которого он на обратном пути смастерил себе новую палку; затем он достал из своего платяного сундука новый носовой платок, облачился в светлый жилет с пестрым узором из тоненьких веточек, сплошь покрытых цветами, напоминающими красотой розу и лилию, но без их недостатков; извел на свои сухие рыжеватые вихрастые, курчавые волосы всю имевшуюся у него помаду, добившись того, что они приобрели наконец совершенно новый, роскошно сверкающий цвет – нечто среднее между гуано и романцементом – и плотно пристали к его голове, как кожура к ядру у мускатного ореха или морские водоросли к гладкому камню после отлива.
Кругом коттеджа стояла тишина, которую нарушало только громкое чириканье воробьев, собравшихся кучкой под навесом кровли, – можно было подумать, что для этого маленького сборища на крыше сплетни и пересуды не менее излюбленное занятие, чем и для всех сборищ, происходящих под крышами.
Судьба, по всем признакам, неблагоприятствовала Оуку; первое, что он увидел, подойдя к дому, не предвещало ничего доброго: у самой калитки их встретила кошка, которая, выгнув горбом спину с вздыбленной шерстью, злобно ощерилась на Джорджи. Пес не обратил на нее ни малейшего внимания, ибо он достиг того возраста, когда с откровенным цинизмом предпочитал щадить себя и не лаять попусту, – и, сказать правду, он никогда не лаял даже на овец, разве только когда требовалось призвать их к порядку, и тогда он делал это с совершенно невозмутимым видом, как бы подчиняясь необходимости выполнить эту неприятную обязанность – время от времени припугивать их, для их же блага. Из-за лавровых кустов, куда бросилась кошка, раздался голос:
– Бедная киска! Противный, злой пес хотел растерзать тебя? Да? Ах ты, моя бедняжечка!
– Простите, – сказал Оук, обернувшись на голос, – Джорджи шел позади меня, смирный, как овечка.
И вдруг, он даже не успел договорить, сердце у него екнуло – чей это был голос и кому он отвечает. Никто не появился. И из-за кустов послышались удалявшиеся шаги.
Габриэль остановился в раздумье, он думал так сосредоточенно, что от усилия на лбу у него проступили морщины. Когда исход свиданья сулит человеку какую-то важную перемену в жизни – к лучшему или к худшему, – всякая непредвиденность, когда он идет на это свиданье, всякое отступление от того, к чему он готовился, действует на него обескураживающе. Он направился к крыльцу несколько озадаченный. Его представление о том, как все это произойдет, с самого начала сильно расходилось с действительностью.
Тетушка Батшебы была дома.
– Не будете ли вы так добры сказать мисс Эвердин, что некто очень желал бы побеседовать с нею, – обратился к ней Оук.
(Сказать о себе «некто» и не назвать себя – отнюдь не свидетельствует о дурном воспитании в деревне, нет, это проистекает из такого исключительного чувства скромности, о каком люди городские с их визитными карточками и докладываниями даже и понятия не имеют.)
Батшебы не было дома. Ясно, это был ее голос.
– Заходите, прошу вас, мистер Оук.
– Благодарствую, – отвечал Габриэль, проходя вслед за хозяйкой к камину. – Я вот принес ягненочка мисс Эвердин; я так подумал, может, ей будет приятно его выходить; молодые девушки любят с малышами возиться.
– Что ж, может, она и рада будет, – задумчиво отвечала миссис Херст, – но ведь она ко мне только погостить приехала. Да вы подождите минутку, она вот-вот вернется.
– Что ж, я подожду, – сказал Габриэль, усаживаясь. – Признаться, миссис Херст, я вовсе не из-за ягненка пришел. Я, знаете, хотел спросить ее, не пойдет ли она за меня замуж?
– Нет, правда?
– Да. Потому как, если она согласна, я хоть сейчас рад был бы на ней жениться. Вы вот, должно быть, знаете, не ухаживает ли за ней какой-нибудь другой молодой человек.
– Дайте-ка хоть подумать, – отвечала миссис Херст, тыкая кочергой в угли без всякой надобности. – Ну, да уж что там, ясное дело, молодых людей около нее хватает. Сами понимаете, фермер Оук, девчонка хорошенькая и образование отличное получила, одно время она даже в гувернантки собиралась поступить, да вот нрав у нее уж больно строптивый. Ну конечно, у себя в доме я ее молодых людей не встречала, они сюда не показываются, но женскую натуру сразу видать, я думаю, их у нее добрая дюжина.
– Плохо мое дело, – промолвил фермер Оук, грустно уставившись на трещину в каменном полу. – Я, конечно, человек незаметный, прямо скажу, только на то и надеялся, что я первым буду… Ну, стало быть, нечего мне и дожидаться, я ведь только за тем и пришел. Уж вы простите меня, миссис Херст, я, пожалуй, пойду.
Габриэль успел пройти шагов двести по склону холма, когда сзади до него донесся крик: «Эй, эй!» – причем голос был гораздо тоньше и пронзительней, чем можно обычно услышать на пастбище. Он обернулся и увидел, что за ним бежит какая-то девушка и размахивает над головой белым платком.
Он остановился. Бегущая фигура быстро приближалась. Это была Батшеба Эвердин. Габриэль вспыхнул, а у нее щеки так и пылали, но не от волнения, как потом выяснилось, а от бега.
– Фермер Оук, я… – вымолвила она, с трудом переводя дух, и остановилась перед ним, полуотвернувшись, прижав руку к боку и глядя в сторону.
– Я только что был у вас, – сказал Габриэль, не дождавшись, пока она договорит.
– Да, я знаю, – отвечала она, дыша часто и прерывисто, как пойманная малиновка, а лицо у нее было все влажное и красное, точно лепестки пиона, пока на нем не обсохла роса. – Я не знала, что вы пришли сделать мне предложение, а то бы я не задержалась в саду. Я побежала за вами, сказать вам, что тетя напрасно вас отослала и отсоветовала ухаживать за мной.
Габриэль просиял.
– Уж вы простите, дорогая, что вам пришлось бежать так быстро, чтобы нагнать меня, – сказал он с чувством бесконечной признательности за ее благосклонность. – Обождите немножко, отдышитесь.
– Это неверно, что тетя сказала вам, будто у меня уже есть молодой человек, – продолжала Батшеба. – У меня нет никакого поклонника и никогда не было, мне стало очень досадно, что она внушила вам, будто у меня их много!
– Как я рад слышать это, вот уж рад, – сказал фермер Оук, расплываясь до ушей в блаженной улыбке и вспыхивая от радости. Он протянул руку к ее руке, которую она, отдышавшись, отняла от бока и теперь грациозно прижимала к груди, чтобы унять частые биения сердца.
Но как только он схватил ее за руку, она тут же отдернула ее, рука, как угорь, выскользнула из его пальцев и спряталась за спину.
– У меня славная маленькая, доходная ферма, – сказал Габриэль уже далеко не с той уверенностью, с какой он схватил ее руку.
– Да, я знаю, у вас ферма.
– Один человек одолжил мне денег, чтобы я мог обзавестись всем, чем надо, но я скоро выплачу свой долг, и, хоть я человек маленький, все-таки я кой-чего добился с годами. – Габриэль так выразительно подчеркнул это «кой-чего», что ясно было, что он только из скромности не сказал «очень многого». – Когда мы поженимся, – продолжал он, – я ручаюсь, что буду работать вдвое больше, чем сейчас.
Он шагнул к ней и снова протянул руку. Батшеба нагнала его на краю луга, где рос невысокий куст остролиста, сейчас сплошь усыпанный красными ягодами. Видя, что его рука грозит поймать ее, если не обнять, Батшеба скользнула за куст.
– Что вы, фермер Оук, – сказала она, глядя на него поверх куста удивленно округлившимися глазами. – Я вовсе не говорила, что собираюсь за вас замуж.
– Вот так так! – упавшим голосом протянул Оук. – Бежать за человеком вдогонку только за тем, чтобы сказать, что он вам не нужен…
– Я только хотела сказать, – с жаром произнесла она, тут же начиная сознавать, в какое дурацкое положение она себя поставила, – что меня еще никто не называл своей милой, ни один человек, а не то что дюжина, как наговорила тетя. Я даже подумать не могу, чтобы на меня кто-то смотрел как на свою собственность, хотя, может, когда-нибудь это и случится. Да разве я побежала бы за вами, если бы я хотела за вас замуж? Ну, знаете, это была бы такая распущенность! Но догнать человека и сказать, что ему наговорили неправду, в этом ведь нет ничего дурного.
– Нет, нет, ничего дурного.
Но иной раз, сказав что-нибудь не думая, человек переступает меру своего великодушия, – и Оук, охватив мысленно все происшедшее, добавил чуть слышно:
– Впрочем, я не уверен, что в этом не было ничего дурного.
– Но, право же, когда я пустилась за вами вдогонку, я даже и подумать не успела, хочу я замуж или нет, – ведь вы бы уже перевалили через холм.
– А что, если вы подумаете, – сказал Габриэль, снова оживая. – Подумайте минутку-другую. Я подожду, а, мисс Эвердин, пойдете вы за меня замуж? Скажите «да», Батшеба. Я люблю вас так, что и сказать не могу…
– Попробую подумать, – отвечала она уже далеко не так уверенно, – боюсь только, что я не способна думать под открытым небом, мысли так и разбегаются.
– А вы попробуйте представить себе.
– Тогда дайте мне время. – И Батшеба, отвернувшись от Габриэля, задумчиво уставилась вдаль.
– Я все сделаю, чтобы вы были счастливы, – убеждал он, обращаясь через куст остролиста к ее затылку. – Через год-другой у вас будет пианино, – жены фермеров теперь стали обзаводиться пианино, а я буду разучивать за вами на флейте, чтобы играть вместе по вечерам.
– Да, это мне нравится…
– А для поездок на рынок мы купим за десять фунтов маленькую двуколку, и у нас будут красивые цветы и птицы – всякие там куры и петухи. Я хочу сказать, потому как они полезные, – увещевал Габриэль, прибегая то к поэзии, то к прозе.
– И это мне очень нравится…
– И парниковая рама для огурцов, как у настоящих джентльменов и леди.
– М-да.
– А когда нас обвенчают, мы дадим объявление в газету, знаете, в отделе бракосочетаний.
– Вот это будет замечательно!
– А потом пойдут детки, и от каждого такая радость! А вечером у камина, стоит вам поднять глаза – и я тут возле вас, и стоит мне только поднять глаза – и вы тут со мной.
– Нет, нет, постойте и не говорите таких неприличных вещей!
Батшеба нахмурилась и некоторое время стояла молча. Он смотрел на красные ягоды, отделявшие ее от него, смотрел и смотрел на них не отрываясь, и так долго, что эти ягоды на всю жизнь остались для него символом объяснения в любви. Наконец Батшеба решительно повернулась к нему.
– Нет, – сказала она. – Ничего не получается. Не пойду я за вас замуж.
– А вы попробуйте.
– Да я уж и так пробовала представить себе, пока думала; в каком-то смысле, правда, конечно, очень заманчиво выйти замуж: обо мне будут говорить, и, конечно, все будут считать, что я ловко вас обошла, а я буду торжествовать и все такое. Но вот муж…
– Что муж?
– Он всегда будет рядом, как вы говорите… стоит только поднять глаза – и он тут…
– Ну конечно, он будет тут… то есть я, значит.
– Так вот в этом-то все и дело. Я хочу сказать, что я не прочь побыть невестой на свадьбе, только чтобы потом не было мужа. Ну а раз уж нельзя просто так, чтобы покрасоваться, я еще повременю, во всяком случае пока еще мне не хочется выходить замуж.
– Но ведь это просто слушать страшно, что вы говорите.
Обиженная таким критическим отношением к ее чистосердечному признанию, Батшеба отвернулась с видом оскорбленного достоинства.
– Клянусь чем хотите, честное слово, я даже не могу себе представить, как только молодая девушка может говорить подобные глупости! – вскричал Оук. – Батшеба, милая, – жалобно продолжал он, – не будьте такой. – И Оук глубоко вздохнул от всего сердца, так что даже ветер пронесся в воздухе, словно вздохнула сосновая роща. – Ну почему бы вам не пойти за меня, – умолял он, пытаясь приблизиться к ней сбоку, из-за куста.
– Не могу, – ответила она и попятилась.
– Но почему же? – повторял он, уже отчаявшись достичь ее и не двигаясь с места, но глядя на нее поверх куста.
– Потому что я не люблю вас.
– Да… но…
Она подавила зевок, чуть заметно, так, чтобы это не показалось невежливым.
– Я не люблю вас, – повторила она.
– А я люблю вас, и если я вам не противен, что ж…
– О, мистер Оук! Какое благородство! Вы же сами потом стали бы презирать меня.
– Никогда! – вскричал Оук с таким жаром, что, казалось, вслед за этим вырвавшимся у него словом он сейчас и сам бросится прямо через куст в ее объятия. – Всю жизнь теперь – это уж я наверняка знаю, всю жизнь я буду любить вас, томиться по вас и желать вас, пока не умру. – В голосе его слышалось глубокое волнение, и его большие загорелые руки заметно дрожали.
– Конечно, ужасно нехорошо ответить отказом на такое чувство, – промолвила не без огорчения Батшеба, беспомощно оглядываясь по сторонам, словно ища выхода из этого морального затруднения. – Как я теперь раскаиваюсь, что побежала за вами! – Но, по-видимому, она была не склонна долго огорчаться, и лицо ее приняло лукавое выражение. – Ничего у нас с вами не получится, мистер Оук, – заключила она. – Мне нужен такой человек, который мог бы меня укротить, очень уж я своенравна, а я знаю, вы на это не способны.
Оук стоял, опустив глаза и уставившись в землю, словно давая понять, что он не намерен вступать в бесполезные пререкания.
– Вы, мистер Оук, – снова заговорила она каким-то необыкновенно рассудительным и не допускающим возражений тоном, – в лучшем положении, чем я. У меня нет ни гроша за душой, я живу у тети, просто чтобы не пропасть с голоду. Я, конечно, образованнее вас. И я вас нисколечко не люблю. Вот вам все, что касается меня. Ну а что касается вас, – вы только что обзавелись фермой, вам, по здравому смыслу, если уж вы задумаете жениться (что вам, конечно, сейчас ни в коем случае не следует делать), надо жениться на женщине с деньгами, которая могла бы вложить капитал в вашу ферму, сделать ее гораздо более доходной, чем она сейчас.
Габриэль смотрел на нее с нескрываемым восхищением и даже с некоторым изумлением.
– Так ведь это как раз то, о чем я сам думал, – простодушно признался он.
Габриэль обладал некоторым излишеством христианских добродетелей, – его смирение и избыток честности сильно вредили ему в глазах Батшебы. Она, по-видимому, никак не ожидала такого признания.
– Тогда зачем же вы приходите беспокоить меня зря? – вскричала она чуть ли не с возмущением, и щеки ее вспыхнули, и алая краска разлилась по всему лицу.
– Да вот не могу поступать так, как, казалось бы…
– Нужно?
– Нет, разумно.
– Ну вот вы и признались теперь, мистер Оук! – воскликнула она еще более заносчиво, презрительно качая головой. – И вы думаете, после этого я могла бы выйти за вас замуж? Ну уж нет.
– Неправильно вы все толкуете! – не выдержав, вспылил Габриэль. – Оттого только, что я чистосердечно открылся вам, какие у меня были мысли, а они у всякого были бы на моем месте, вы вдруг почему-то кипятитесь, вон, даже все лицо заполыхало, и накидываетесь на меня. И то, что вы для меня не пара, – тоже вздор! Разговариваете вы, как настоящая леди, все это замечают, и ваш дядюшка в Уэзербери, слыхать, крупный фермер, такой, что мне за ним никогда не угнаться. Разрешите мне прийти к вам в гости вечером, или, может быть, пойдемте погулять в воскресенье. Я вовсе не настаиваю, чтобы вы так сразу решили, если вы колеблетесь.
– Нет, нет, не могу. И не уговаривайте меня больше. Я вас не люблю и… это было бы смешно, – сказала она и засмеялась.
Кому приятно, чтобы его подымали на смех и потешались над его чувствами!
– Хорошо, – сказал Оук твердо и с таким видом, как будто для него теперь не осталось ничего другого, как только дни и ночи черпать утешение в Екклезиасте. – Больше я вас просить не буду.
Глава V
Батшеба уехала. Пастушеская трагедия
Когда до Габриэля дошли слухи, что Батшеба Эвердин уехала из здешних мест, это известие оказало на него такое действие, какое, наверно, показалось бы неожиданным всякому, кому не случалось наблюдать – чем с большим жаром мы от чего-либо отрекаемся, тем менее действенно и бесповоротно наше отреченье.
Многим пришлось испытать на себе, что дорога, которой можно уйти от любви, гораздо трудней той, что ведет к ней. Иной человек, запутавшись, вступает в брак, рассматривая это как способ полегче выпутаться, но и этот способ, как мы знаем, не всегда помогает. Исчезновение Батшебы предоставляло Оуку счастливую возможность воспользоваться способом разлуки, который для людей некоего определенного склада оказывается как нельзя более действенным, а других побуждает идеализировать отсутствующий предмет любви, в особенности тех, чье чувство, – казалось бы, спокойное, ровное, – пустило глубоко прочные, невидимые ростки. Оук принадлежал к разряду уравновешенных людей и чувствовал, что его тайное влечение к Батшебе теперь, когда она уехала, разгорается еще сильнее – вот и все. Дружественные отношения с ее теткой были пресечены в самом зародыше его неудачным сватовством, и все, что Оук знал о Батшебе, доходило до него стороной. Говорили, что она уехала в селение Уэзербери, в двадцати милях отсюда, но уехала ли она погостить или навсегда, Оук так и не мог дознаться.
У Габриэля были две собаки. Старший пес Джорджи, с черным, как деготь, кончиком носа, выступавшим из узенькой каемки голой розоватой кожи, был лохматый пес с длинной шерстью, цвет которой, переходя от пятна к пятну, в общем сливался в белый с грифельно-серым; но с годами серый цвет в верхних слоях шерсти выцвел и вылинял от солнца и дождя и стал красновато-бурым, как если бы синяя краска, входящая в состав серого, поблекла, как индиго на некоторых картинах Тернера. Что же касается шерсти, то в самой своей сущности первоначально это был волос, но от долгого общения с овцами он, мало-помалу свалявшись, превратился в шерсть весьма невысокого качества и прочности. Этот пес принадлежал раньше пастуху очень распущенного и буйного нрава, поэтому Джорджи так хорошо различал все нюансы разных замысловатых ругательств и проклятий, что ни один самый сварливый старик во всей округе не мог бы с ним в этом сравниться. Долгий опыт научил его так точно определять разницу между окриком: «Сюда!» и «А, ччерт, сюда!» – что, бросаясь со своего места позади стада на зов хозяина, он безошибочно набирал ту скорость, какая требовалась в том или ином случае, дабы избежать взбучки. Хотя теперь он уже был старый, тем не менее это был умный пес, заслуживающий доверия.
Молодой пес, сын Джорджи, должно быть, вышел в мать, потому что между ним и Джорджи что-то не замечалось сходства. Он учился ходить за стадом, чтобы потом остаться при нем на месте Джорджи, когда тот умрет. Но пока что он еле усвоил только самые основные правила и до сих пор никак не мог постичь одной непреодолимой трудности – научиться различать, когда делаешь очень хорошо, а когда слишком хорошо. Это был такой старательный и бестолковый пес (у него еще не было собственного имени, и он с одинаковой готовностью откликался на любой приветливый оклик), что, когда его посылали подогнать стадо, он так ревностно брался за дело, что с радостью прогнал бы отару через все графство, если бы его не отзывали или если бы не пример старого Джорджи, который показывал ему, что пора остановиться.
На этом мы пока расстанемся с собаками. На дальнем краю Норкомбского холма была меловая яма, откуда окрестные крестьяне из поколения в поколение доставали мел для своих полей. Яма с двух сторон была обнесена загородками, которые, не смыкаясь концами, возвышались над ней в виде буквы «V». Узкий промежуток между ними над самым обрывом был закрыт мостками из досок.
Однажды после ночного обхода, вернувшись к себе домой и полагая, что его помощь не потребуется в загоне до утра, фермер Оук вышел на порог покликать, как всегда, собак, чтобы закрыть их на ночь в сарае. На зов прибежал только старый Джорджи; другой нигде не было видно, ни в доме, ни за плетнем, ни на огороде. Тут Габриэль вспомнил, что он оставил обеих собак на холме, предоставив им на съедение павшего ягненка (пища, которая им обычно не разрешалась, а только в тех случаях, когда запасы подходили к концу), и, решив, что молодой пес еще не разделался с ужином, вошел в хижину и с наслаждением растянулся на своем ложе – роскошь, которую за последнее время он позволял себе только по воскресеньям.
Перед рассветом его разбудила какая-то странная перемена в доносившихся до него привычных звуках. Для пастуха звон овечьих бубенцов, так же как тиканье часов для других людей, это звук, с которым он до такой степени свыкся, что перестает замечать его, пока он не прорвется или не нарушится внезапно каким-то необычным изменением того знакомого мерного позвякивания, которое, даже если его едва слышно, говорит издалека привычному слуху, что в загоне все благополучно. В глубокой тишине пробуждающегося утра звуки, доносившиеся до Габриэля, отличались необычной частотой и стремительностью. Такой непохожий на обыденный звон бывает в двух случаях: когда стадо выгоняют на корм, овцы, рассыпаясь по пастбищу, начинают поспешно щипать, и от их бубенцов стоит частый перемежающийся звон; или когда стадо бросается бежать, тогда бубенцы звенят непрерывно и стремительно. Оук, с его опытным ухом, сразу распознал, что это звон бегущего опрометью стада.
Он вскочил и, напяливая на ходу куртку, ринулся в предрассветный туман, через дорогу к склону холма. Овцы-матки помещались отдельно от овец, которым еще предстояло ягниться, и этих последних в гурте Габриэля было двести голов. Их нигде не было видно. Пятьдесят маток с ягнятами, укрытые в дальнем конце загона, так и лежали там, но все остальные, – а они-то и составляли основную массу гурта, – точно куда-то сгинули. Габриэль стал кликать их во всю мочь обычным пастушеским кликом:
– Оо-э! Оо-э!
Ни одного ответного блеянья. Он подошел к изгороди и увидел, что она в одном месте повалена и вокруг следы овец. Его очень удивило, что овцам в зимнее время приспичило вылезать из загона, но он тут же объяснил это их пристрастием к плющу, который в изобилии рос в буковой роще, и пошел через пролом. В роще их не было. И он снова стал кликать, и дальние холмы и долины откликались эхом, как тем мореплавателям, которые кликали пропавшего Гиласа у Мизийских берегов; но овец не было. Он пробрался сквозь чащу деревьев и пошел по гребню холма.
На дальнем конце гребня, на самой вершине, там, где края загородок, о которых говорилось выше, расступались над меловым обрывом, он увидел своего пса; он стоял, четко выделяясь на посветлевшем небе, темный, неподвижный, словно Наполеон на острове Св. Елены.
Страшная догадка осенила Оука. Весь как-то сразу ослабев, он медленно приблизился; в дощатом настиле зияла дыра и кругом везде были следы овец. Пес подошел и лизнул ему руку, всем своим видом явно давая понять, что он ждет особой награды за свою замечательную службу. Оук заглянул в яму. Мертвые и подыхающие овцы лежали на дне – груда искалеченных овец, две сотни, а поскольку все это были суягные овцы – выходило не две, а по меньшей мере вдвое больше.
Оук был на редкость отзывчивый человек; сказать по правде, его отзывчивость нередко оказывалась препятствием для кое-каких стратегических замыслов, ибо стоило ему задумать что-нибудь, она брала над ним верх, и все его хитроумные планы рушились. Он всегда огорчался тем, что его стаду написано на роду стать бараниной, что для каждого пастуха наступает день, когда он становится гнусным предателем своих беззащитных овец. И сейчас его прежде всего охватило чувство жалости к этим безвременно погибшим кротким овечкам и их неродившимся ягнятам.
И лишь потом это бедствие предстало перед ним с другой стороны. Овцы не были застрахованы, все его сбережения, накопленные лишениями и трудом, пошли прахом; рухнули – и уж верно, навсегда – все его надежды выбиться в независимые фермеры. Столько усилий, терпенья и усердия стоили Габриэлю эти годы его жизни с восемнадцати до двадцати восьми лет, чтобы достичь теперешнего положения, что сейчас он как будто весь выдохся. Он прислонился к загородке и закрыл лицо руками.
Но остолбенение не длится вечно, и фермер Оук опамятовался и пришел в себя. И что удивительно и как нельзя более характерно для него – первые слова, вырвавшиеся у него, были словами благодарности.
– Благодарю тебя, Боже, что я не женат! Каково бы ей теперь пришлось в бедности, которая ждет меня.
Он поднял голову и, задумавшись над тем, что ему теперь делать, безучастно глядел прямо перед собой. По ту сторону ямы лежал небольшой овальный пруд, а над ним висел тонкий серп месяца, доживавшего последние минуты, – утренняя звезда уже наступала на него слева. Пруд мерцал тускло, как глаз покойника, но кругом уже все пробудилось к жизни, задул ветер, заколыхал, растянул, не дробя, абрис месяца, а звезду разметал по воде фосфорическими искрами. Все это Оук видел и запомнил.
Насколько можно было установить, как все это произошло, по-видимому, бедный пес, по-прежнему пребывавший в уверенности, что его держат для того, чтобы гонять овец, и, следовательно, чем больше их гонять, тем лучше, поужинав павшим ягненком и почувствовав после этого прилив энергии и бодрости, поднял овец и погнал их к изгороди. Напуганные животные прорвались через ограду на верхнее пастбище; пес погнал их наперерез вверх по склону и пригнал к обрыву, где они всем гуртом сбились у мостков; подгнившие доски не выдержали, и все стадо рухнуло в яму. Сын Джорджи сделал свое дело так основательно, что его сочли чересчур исполнительным, чтобы оставить в живых, и в полдень того же дня жизнь его трагически окончилась. Еще один пример грустной участи, которая частенько выпадает на долю собак и прочих философов, пытающихся доходить в своих рассуждениях до логического конца и поступать с неуклонной последовательностью в мире, где все держится главным образом на компромиссах.
Овец для своей фермы Габриэль приобрел у торговца, который, положившись на его добрую репутацию и степенный вид, поверил их ему в долг с начислением процентов до тех пор, пока он не выплатит все до конца. Оук подсчитал, что стоимости уцелевших овец, инвентаря и имущества, составлявшего его личную собственность, хватит только на то, чтобы погасить долг, после чего он будет волен располагать собой и кроме того, что на нем надето, у него не останется ровно ничего.
Глава VI
Ярмарка. Путешествие. Пожар
Прошло два месяца. Стоял февральский день, день, когда по издавна укоренившемуся обычаю в Кэстербридже состоится ежегодная ярмарка найма – фермеры нанимают себе работников. На одном конце улицы теснилось двести – триста человек здоровых, горластых мужиков, – они пришли сюда попытать счастья; все это были люди одного склада, для которых труд это всего-навсего привычная необходимость преодолевать земное тяготение, а высшее блаженство – когда эта необходимость отпадает. Тут были возчики и обозники, которых можно было сразу узнать по обмотанной вокруг шляпы бечеве от кнута, кровельщики с нацепленными на шляпы пучками плетеной соломы, пастухи с изогнутыми узловатыми посохами в руках, так что нанимателю с первого взгляда было ясно, кто какого рода работы ищет.
В этой толпе заметно выделялся один молодой человек атлетического сложения. Он отличался от других каким-то неуловимым, но настолько явным превосходством, что стоявшие поблизости загорелые парни один за другим осведомлялись у него насчет работы, обращаясь к нему, как к фермеру, с почтительным «сэр». Он отвечал всем одно и то же:
– Я сам ищу места управителя на ферме. Не слышали ли, кому нужно?
Габриэль побледнел за это время. Взгляд у него стал более задумчивым и в выражении лица появилось что-то грустное. Он прошел через горнило несчастий, которые дали ему больше, чем отняли. Он опустился со скромных высот своего пастушеского процветания в бездну самой унизительной нищеты, но он обрел незыблемое спокойствие, какого никогда не знал раньше, и то равнодушие к собственной судьбе, которое одного делает подлецом, а другого, напротив, духовно растит и возвышает. Итак, унижение способствовало его возвышению, а утрата оказалась выигрышем.
В этот день утром кавалерийский полк, стоявший здесь, снимался с постоя и сержант-вербовщик с отрядом солдат гарцевал по всему городу, зазывая новобранцев. По мере того как день подходил к концу и близился вечер, а Габриэля все так никто и не нанимал, он стал жалеть, что не записался в солдаты и упустил случай отправиться в дальние края служить отечеству. Он устал топтаться без толку по рыночной площади, а так как ему, в сущности, было все равно, на какую бы его ни взяли работу, он решил попробовать наняться не управителем, а работником.
Похоже было, что всем фермерам требовались пастухи. А для Габриэля ходить за стадом было привычным делом. Он повернул с площади на какую-то глухую улочку, а оттуда в еще более глухой переулок и вошел в кузницу.
– Сколько вам надо времени сделать крюк для посоха?
– Двадцать минут.
– А что это будет стоить?
– Два шиллинга.
Габриэль сел на скамью. Ему сделали крюк и даже дали палку в придачу.
Затем он отправился в лавку готового платья, хозяин которой был свой человек в округе. Так как почти все свои деньги Габриэль отдал за крюк, он решил попытаться обменять свое пальто на холщовую пастушескую блузу, что и сделал.
После того как этот обмен совершился, он вернулся на рынок и стал на краю тротуара, с посохом в руке, как пастух. И надо же, чтобы теперь, когда он преобразился в пастуха, спрос только и был что на управителей. Все же сначала один, потом еще два-три фермера приметили его; одни за другим они подходили к нему и всякий раз следовал примерно такой разговор:
– А ты откуда?
– Из Норкомба.
– Не ближний конец.
– Пятнадцать миль.
– У кого последнее время работал? На чьей ферме?
– На своей собственной.
Этот ответ всякий раз неизменно оказывал такое же действие, как слух о холере. Осведомлявшийся фермер пятился и поспешно отходил, с сомнением покачивая головой. Габриэль, подобно своему псу, был слишком хорош, чтобы на него можно было положиться; так дальше этого разговора дело и не шло. Куда вернее ухватиться за первую подвернувшуюся возможность и поступить сообразно, чем иметь наготове заранее обдуманный план и выжидать, когда представится случай осуществить его. Габриэль теперь жалел, что связал себя отличительными знаками пастуха, – не будь этого, он мог бы подрядиться на любую работу, выбрав из того, на что был спрос.
Уже смеркалось. Какие-то гуляки насвистывали и распевали возле хлебной биржи. Габриэль стоял, засунув руки в карманы своей пастушеской блузы, и пальцы его машинально нащупали флейту, которую он переложил туда. Вот тут-то и представлялся случай проявить мудрость, приобретенную столь дорогой ценой.
Он достал флейту и заиграл песенку «Ярмарочный плут», да так задорно, как если бы это играл человек, не испытавший в жизни никаких огорчений. Оук умел извлекать из своей флейты истинно аркадские звуки, и сейчас знакомая мелодия радовала его самого не меньше, чем столпившихся кругом зевак. Он играл с увлечением и за полчаса собрал пенсами изрядную сумму, которая для неимущего человека представляла собой маленький капитал.
Порасспросив людей, он узнал, что на другой день такая же ярмарка найма будет в Шоттсфорде.
– А далеко ли до Шоттсфорда?
– Миль десять от Уэзербери.
«Уэзербери! Куда уехала Батшеба тому назад два месяца!» Это известие вдруг словно озарило все кругом, как если бы ночь превратилась в ясный день.
– А сколько отсюда до Уэзербери?
– Миль пять, шесть.
Батшеба, наверно, уже давно уехала из Уэзербери, и все же для Оука это место обладало такой притягательной силой, что он только потому и решил попытать счастья на Шоттсфордской ярмарке, что это было неподалеку от Уэзербери. Да и народ в Уэзербери такой, что посмотреть любопытно. Если верить молве, так других таких смельчаков, удачливых, озорных и веселых, во всем графстве не сыщешь. Оук решил, что ему по пути в Шоттсфорд можно будет переночевать в Уэзербери, и, не долго думая, свернул на проселочную дорогу, которая, как ему сказали, вела прямо к этому селению.
Дорога шла через заливные луга, по которым там и сям бежали ручьи; вода в них, подернутая рябью, струилась посредине бороздой и набегала складками по краям, а там, где течение убыстрялось, на поверхности выступали клочья белой пены, которые, невозмутимо покачиваясь, спокойно скользили по воде. Затем дорога пошла вверх, мертвые сухие листья взметались и кружили, подхваченные ветром, и со стуком падали на землю; маленькие птахи в изгородях шелестели перышками, устраиваясь поудобнее на ночь, и замирали, когда Оук проходил мимо, а если он останавливался поглядеть на них, они снимались с места и улетали.
Путь его лежал через Иелберийский лес, где глухари и фазаны уже садились на ночлег и слышались надтреснутые «ку-юк, ку-юк» фазана-самца и захлебывающееся посвистывание курочек.
Он прошел всего три или четыре мили, а кругом, куда ни кинь глаз, уже все окуталось черной густой мглой. Когда он спустился с Иелберийского холма, он с трудом различил в двух шагах от себя крытую телегу, стоявшую под большим деревом на обочине дороги.
Приблизившись, он увидел, что телега без лошади и кругом ни души. По-видимому, телегу оставили здесь на ночь, потому что, кроме растрепанной вязанки сена на дне, в ней больше ничего не было. Габриэль уселся на дышло и стал раздумывать, как ему поступить. Он рассчитал, что прошел больше половины пути, а так как он с раннего утра был на ногах, его сейчас сильно прельщало растянуться на сене в телеге, вместо того чтобы тащиться в Уэзербери и там платить за ночлег.
Он доел последний оставшийся у него ломоть хлеба с мясом, запил несколькими глотками сидра из бутылки, которую он предусмотрительно взял с собой, и залез в покинутую телегу. Разворошив часть сена, он улегся на него, а остальным, насколько удалось нащупать в темноте, накрылся с головой, как одеялом, и почувствовал себя так уютно, как никогда в жизни.
Конечно, для такого человека, как Оук, склонного гораздо больше других копаться в самом себе, трудно было отделаться от горьких мыслей в теперешнем его положении. Итак, размышляя о своих любовных и пастушеских горестях, он вскоре уснул, ибо пастухи, как и моряки, наделены исключительным даром – они могут вызвать к себе бога сна, а не дожидаться, когда он соизволит сойти.
Оук не имел представления, сколько времени он спал, когда, вдруг проснувшись, обнаружил, что телега движется. Она катила по дороге с очень большой скоростью для безрессорного экипажа, и Оук проснулся с неприятным ощущением барабанного боя в висках, оттого что голова его колотилась о дно телеги. Тут он услышал голоса, доносившиеся с передка телеги. В полном недоумении (которое у человека преуспевающего, наверно, перешло бы в испуг, – нет лучшего лекарства от страха, чем несчастье) Габриэль осторожно выглянул из-под сена, и первое, что он увидел, были звезды у него над головой. Большая Медведица уже почти стояла под прямым углом к Полярной звезде, из чего он заключил, что время близится к девяти, – значит он проспал два часа. Это маленькое астрономическое вычисление не стоило ему никаких усилий, он произвел его, стараясь бесшумно повернуться, чтобы по мере возможности выяснить, к кому это он попал в руки.
Впереди смутно виднелись две фигуры, сидевшие, свесив ноги, на облучке; один из сидящих правил. Габриэль сразу догадался, что это хозяин телеги, возчик, и что оба они, должно быть, как и он, возвращаются с ярмарки в Кэстербридже.
Между ними шел разговор, и Габриэль услышал его продолжение.
– Так-то оно так, ничего не скажешь, пригожая, ладная бабенка. Да ведь это что, видимость одна, поглядеть приятно, а вот нрав у них, у этих пригожих, – не приведи бог, вот уж гордыня сатанинская.
– М-да, похоже, что так, похоже, что так, Билли Смолбери.
Это произнес сильно дребезжащий голос. Таким он, по-видимому, был от природы, но это присущее ему свойство усиливалось тряской и толчками телеги, действие коих явно отражалось на голосовых связках говорившего. А говорил тот, который держал вожжи.
– Так про нее все и говорят – спесивая бабенка!
– Ну, ежели так, я на нее и глаз не смогу поднять. Где уж мне, упаси бог, – кхе-кхе-кхе! Я человек робкий!
– М-да, уж так-то собой кичится! Говорят, всякий раз на ночь, перед тем как спать лечь, в зеркало смотрится, чтобы чепчик как следовает надеть.
– А сама незамужняя! Надо же!
– А еще говорят, на фортепианах играет! Любой церковный мотив на такой лад разделает, что за самую тебе разудалую песню сойдет, слушаешь – душа радуется.
– Ну и ну! Выходит, нам с тобой повезло, я ровно как воспрял духом! А платит она как?
– Вот уж этого я не знаю, мистер Пурграс.
У Габриэля, прислушивающегося к этому разговору, нет-нет да и мелькала дикая мысль, не о Батшебе ли это идет речь. Конечно, допустить всерьез такое предположение не было никаких оснований, потому что хотя они и ехали в сторону Уэзербери, но, возможно, путь их лежал дальше, да и женщина, о которой они говорили, была явно хозяйкой какой-то усадьбы. Они как будто уже подъезжали к Уэзербери, и, чтобы не пугать зря увлекшихся разговором спутников, Габриэль незаметно соскочил с телеги. Он направился к проходу в изгороди и, подойдя ближе, обнаружил, что это ворота и они закрыты; он уселся на перекладину и стал раздумывать – идти ли ему в деревню искать дешевого ночлега или устроиться еще дешевле где-нибудь вот тут, под скирдой или под копной сена. Грохот и скрип телеги замерли где-то вдали. Оук уже совсем было собрался идти, как вдруг заметил налево от себя, так примерно в полумиле, какой-то необыкновенный свет. Он пригляделся – свет у него на глазах заполыхал ярче. Что-то горело.
Взобравшись снова на перекладину ворот, Габриэль спрыгнул на ту сторону и очутился на вспаханном поле; он бросился бегом наперерез, прямо на свет. Зарево, пока он бежал, выросло вдвое – и оттого, что огонь разгорался, и оттого, что он теперь был совсем близко от него; в ярко полыхающем свете впереди отчетливо выступили высокие стога и скирды. Горело на гумне.
Желто-багровый отсвет – отсвет пламени за безлиственной оголенной оградой озарил усталое лицо Оука, и сплетающиеся тени голых колючих веток заплясали узором по его блузе и гетрам, а металлический крюк его пастушеской клюки засверкал серебром. Он остановился у изгороди перевести дух. На гумне как будто не было ни души.
Пламя вырывалось из длинной скирды соломы, уже настолько сгоревшей, что спасти ее нечего было и думать. Скирда горит совсем не так, как дом. Когда ветер загоняет пламя внутрь, воспламенившаяся часть мгновенно исчезает без следа, как тающий сахар, и не видно, куда кинулся огонь. Однако плотно сложенная скирда сена или пшеницы может некоторое время противостоять огню, – если она загорелась снаружи, ему не сразу удается проникнуть внутрь. Но здесь перед Габриэлем была кое-как сложенная, рыхлая скирда, в которую языки пламени ныряли с молниеносной быстротой. Часть ее с наветренной стороны, обуглившаяся и раскаленная докрасна, то вспыхивала, то затухала, словно курящаяся сигара. Потом вдруг свисавший сверху ворох соломы обрушился вниз с шипящим свистом; языки пламени вытянулись, охватили его и загудели спокойно, без треска. Клубы дыма поползли сзади, словно плывущие облака, а скрытые погребальные костры пылали под ними, пронизывая полупрозрачную пелену желтым сверкающим светом.
Растерзанные пучки соломы с краю скирды корчились, опаленные жаром, и скручивались, словно свившиеся узлом красные черви, и над ними маячили какие-то свирепые рожи, то словно выкатывался сверкающий глаз, то огненный язык высовывался изо рта, или ощеривались какие-то дьявольские пасти, и из них время от времени, словно птицы из гнезда, выпархивали искры.
Как только Габриэль понял, что дело серьезнее, чем ему показалось сначала, он перестал быть просто зрителем. В какой-то момент клуб дыма, подхваченный ветром, отнесло в сторону, и в прорвавшейся пелене Оук увидел прямо против горящей скирды скирду с пшеницей, а за нею еще целый ряд других, – может статься, весь урожай фермы; он-то думал, что эта скирда соломы стоит особняком, а оказывается, тут целый склад зерна и скирда за скирдой рядами по всему двору.
Габриэль перемахнул через ограду и тут обнаружил, что он не один. Первый человек, попавшийся ему на глаза, носился впопыхах взад и вперед с таким очумелым видом, как если бы мысли его намного обогнали тело и никак не могли подтянуть его за собой так, чтобы оно поспевало за ними.
– Горим, горим! Добрые люди! Огонь, ох, наделает делов, добрый хозяин, плохой слуга, то бишь плохой слуга, добрый хозяин! Эй, Марк Кларк, сюда, сюда! И ты, Билли Смолбери, эй, Мэриен Мони! Джан Когген, Мэтью, сюда!
Позади вопившего человека появились в дыму другие фигуры, и тени их прыгали вверх и вниз, подчиняясь не столько движениям своих хозяев, сколько взмывающим языкам пламени. Габриэль теперь видел, что он не только не один, но что здесь куча народу. Это сборище людей, принадлежавших к тому классу, который выражает свои мысли посредством чувств, а чувства проявляет смятением, уже порывалось что-то делать, но пока что без всякого толку.
– Прикройте тягу под пшеничной скирдой! – крикнул Габриэль суетившимся возле него людям.
Скирда пшеницы стояла на каменных подскирдниках, и желтые языки пламени от горящей соломы уже резвились между ними и прядали внутрь. А стоило только огню забраться под скирду – все пропало.
– Накиньте скорее брезент!
Притащили брезент и завесили им, как занавеской, продух между подскирдниками. Языки пламени тотчас перестали прядать под скирду, а взмыли кверху.
– Станьте здесь с ведром воды и поливайте брезент, чтобы мокрый был, – командовал Габриэль.
Огненные языки, загнанные вверх, уже начали лизать углы огромного навеса, покрывавшего скирду.
– Лестницу сюда, – крикнул он.
– Лестница у той скирды стояла, сгорела дотла, – отозвался из дыма кто-то, похожий на призрак.
Оук ухватил комли снопов и, оттянув их так, чтобы можно было поглубже засунуть ногу, полез наверх, цепляясь своей клюкой. Взобравшись на навес, он уселся верхом на стыке и принялся сбивать клюкой налетавшие туда огненные хлопья, не переставая кричать в то же время, чтобы ему принесли большой сук, лестницу и воды.
Билли Смолбери – один из тех, кто ехал в телеге, – разыскал и притащил лестницу, и Марк Кларк взобрался по ней и уселся рядом с Оуком. Там, наверху, можно было прямо задохнуться от дыма, и Марк Кларк, малый проворный, втащил наверх поданное ему ведро воды, плеснул Оуку в лицо и обрызгал его всего с головы до ног, а тот продолжал сметать горящие хлопья, теперь уже обеими руками, размахивая длинной буковой веткой и клюкой.
Толпившиеся внизу люди все так же суетились, стараясь что-то сделать, чтобы потушить пожар, но по-прежнему без всякого толку. Суетящиеся фигуры, окрашенные в кирпичный цвет, отбрасывали резко очерченные, причудливо меняющиеся тени.
В стороне, за самой большой скирдой, куда почти не проникал свет пламени, стояла лошадка, на которой сидела в седле молодая женщина. Тут же рядом стояла другая женщина. Обе они, по-видимому, нарочно держались подальше от огня, чтобы не пугать лошадь.
– Это пастух, – сказала женщина, стоявшая возле всадницы. – Ну да, пастух. Поглядите, как блестит его крюк, когда он бьет по скирде. А вон блузу-то его, бог ты мой, уже в двух местах прожгло. Молодой, красивый пастух, мэм.
– Чей же это пастух? – звонким голосом спросила всадница.
– Не знаю, мэм.
– Но кто-нибудь, наверно, знает?
– Никто не знает, уж я спрашивала. Говорят, не здешний, чужой.
Молодая женщина выехала из-за скирды и с беспокойством огляделась по сторонам.
– Ты как думаешь, рига не может загореться? – спросила она.
– Джан Когген, как по-вашему, рига не может загореться? – переспросила другая женщина стоявшего поблизости человека.
– Теперь-то уж нет, я думаю, можно не опасаться. Вот ежели бы та скирда загорелась, тогда и риге не уцелеть… А так бы оно и было бы, коли б не этот молодой пастух, вон он сидит на той самой скирде и молотит своими длинными ручищами, ровно твоя мельница.
– И как ловко орудует, – сказала всадница, глядя на Габриэля через свою плотную шерстяную вуаль. – Я бы хотела, чтобы он остался у нас пастухом. Кто-нибудь из вас знает, как его зовут?
– Кто ж его знает, никто его здесь никогда не видел.
Укрощенный огонь начал затихать, и Габриэль, убедившись, что ему больше нет надобности восседать на своем высоком посту, собрался слезать.
– Мэриен, – сказала молодая всадница, – ступай туда, он сейчас слезет, и скажи, что фермер хочет поблагодарить его за то, что он нас выручил.
Мэриен подошла к скирде как раз в тот момент, когда Оук сошел с лестницы. Она передала ему, что ей было поручено.
– А где ваш хозяин, фермер? – осведомился Габриэль, оживившись при мысли, что для него может найтись работа.
– Не хозяин, а хозяйка, пастух.
– Женщина – фермер!
– Да и еще какой богатый фермер! – подхватил кто-то из стоящих рядом. – Недавно в наши края приехала откуда-то издалека. Дядюшка у ней внезапно скончался, вот ей его ферма и досталась. Старик деньги полпинтами мерил, так кружками и считал, а она теперь, говорят, со всеми кэстербриджскими банками дела ведет. Ей в кинь-монету можно не как нам, грошами, а золотыми играть.
– Вон она там, на лошади, лицо черным покрывалом с дырочками закрыто, – сказала Мэриен.
Оук, весь грязный, черный, сплошь облепленный копотью, в прожженной, дырявой, промокшей насквозь блузе, с обугленным и укоротившимся по крайней мере дюймов на пять, на шесть пастушьим посохом, смиренно, – тяжкие превратности судьбы сделали его смиренным, – приблизился к маленькой женской фигурке, сидевшей на лошади. Он почтительно, но вместе с тем молодцевато приподнял шляпу и, остановившись у самых ее ног, спросил нерешительным голосом:
– Не требуется ли вам пастух, мэм?
Она подняла шерстяную вуаль, закрывавшую ее лицо, и уставилась на него круглыми от изумления глазами.
Габриэль и его жестокая милая, Батшеба Эвердин, очутились лицом к лицу.
Батшеба молчала, а он повторил машинально упавшим, растерянным голосом:
– Не требуется ли вам пастух, мэм?
Глава VII
Так они встретились. Боязливая девушка
Батшеба отъехала в тень. Она и сама не знала – смешно ей, что они вот так встретились, или скорее неприятно, – уж очень все это неловко получилось. В ней шевелилось как будто и чувство жалости, а вместе с тем что-то похожее на чувство торжества: вот он в каком положении, а я… Она не испытывала никакого замешательства, а то, что Габриэль признался ей в любви в Норкомбе, она вспомнила только сейчас, когда, увидев его, подумала, что вот ведь она совершенно забыла об этом.
– Да, – тихо промолвила она, повернув к нему с важным видом слегка зарумянившееся лицо. – Мне нужен пастух. Но…
– Вот он как раз то, что надо, мэм, – веско заявил один из сельчан.
Убежденность действует убедительно.
– Да, да, верно, – решительно поддержал второй.
– Самый подходящий человек, – с воодушевлением подтвердил третий.
– Лучше не найти, – с жаром подхватил четвертый.
– В таком случае скажите ему, чтобы он поговорил с управителем, – распорядилась Батшеба.
И все стало на свое место и свелось к делу. Чтобы придать этой встрече подобающую ей романтическую окраску, требовались более подходящие условия – летний вечер, уединенность.
Габриэлю помогли разыскать управителя, и они отошли с ним в сторонку потолковать, и все время, пока у них шел этот предварительный разговор, Габриэль старался унять трепыхание в груди, вызванное неожиданным открытием, что эта неведомая ночная богиня Астарта, о которой он слышал такие странные речи, оказывается, не кто иной, как хорошо знакомая ему, обожаемая Венера.
Огонь унялся.
– После такой неурочной работы я предлагаю вам всем немножко подкрепиться, – сказала Батшеба. – Заходите в дом.
– Оно конечно, мисс, неплохо бы перекусить да выпить, – отозвался один за всех, – да только нам куда вольготнее было бы посидеть в солодовне Уоррена, ежели бы вы нам туда чего-нибудь прислали.
Батшеба повернула лошадь и скрылась в темноте. Крестьяне гурьбой двинулись в поселок, и у скирды остались только Оук с управителем.
– Ну вот, как будто и все, стало быть, мы уговорились, – сказал наконец управитель. – Я пошел домой. Доброй ночи, пастух.
– А вы не могли бы меня на жилье устроить? – попросил Габриэль.
– Вот уж чего не могу, того не могу, – отвечал управитель, стараясь поскорей увильнуть от Оука точь-в-точь как благочестивый прихожанин от блюда с доброхотными даяниями, когда он не собирается ничего давать. – Ступайте прямо по дороге, уткнетесь в солодовню Уоррена, они туда все сейчас угощаться пошли; там, верно, вам что-нибудь укажут. Доброй ночи, пастух.
Управитель, который, по-видимому, сильно страшился возлюбить ближнего, как самого себя, зашагал вверх по склону холма, а Оук направился в селение. Он все еще никак не мог опомниться от этой встречи с Батшебой. Он радовался, что будет жить поблизости от нее, и в то же время был совершенно ошеломлен тем, как быстро такая молоденькая, неопытная норкомбская девушка превратилась в невозмутимую властную женщину. Впрочем, некоторым женщинам только недостает случая, чтобы показать себя во весь рост.
Тут Габриэлю пришлось оторваться от своих мыслей, чтобы не сбиться с дороги, – перед ним было кладбище, и он пошел по тропинке вдоль ограды, где росли громадные старые деревья. Тропинка поросла густой травой, которая даже и сейчас, в заморозки, заглушала его шаги. Поравнявшись с дуплистым деревом, которое даже среди всех этих старых великанов казалось патриархом, Габриэль увидел, что за ним кто-то стоит. Он продолжал идти, не останавливаясь, но случайно наподдал ногой камень, и тот откатился со стуком. Фигура, стоявшая неподвижно, вздрогнула и попыталась принять небрежно-беспечный вид.
Это была очень тоненькая девушка, в легкой не по сезону одежде.
– Добрый вечер, – приветливо сказал Габриэль.
– Добрый вечер, – ответила девушка.
Голос оказался необычайно пленительным, низкого, бархатного тона. Такие голоса любят описывать в романах, но в жизни их редко услышишь.
– Будьте так добры, скажите, пожалуйста, попаду ли я этой дорогой в солодовню Уоррена? – спросил Габриэль, которому действительно нужно было узнать, туда ли он идет, но, кстати, хотелось еще раз услышать этот мелодичный голос.
– Вы правильно идете. Вон она там, внизу под горой. А вы не знаете… – Девушка на секунду замялась. – Вы не знаете, до какого часа открыта харчевня «Оленья голова»?
По-видимому, приветливость Габриэля подкупила ее, так же как его подкупил ее голос.
– Я не знаю, где эта «Оленья голова», никогда про нее не слышал. А вы хотите попасть туда сегодня же?
– Да. – Девушка опять замялась.
В сущности, продолжать разговор не было необходимости, но из какого-то смутного желания скрыть свое смятение, спрятаться за ничего не значащей фразой ей явно хотелось еще что-то добавить, – так поступают простодушные люди, когда им приходится действовать тайком.
– Вы сами не из Уэзербери? – робко спросила она.
– Нет. Я новый пастух, только что прибыл.
– Пастух? Вот не сказала бы, вас можно за фермера принять.
– Нет, всего-навсего пастух, – с мрачной решительностью отрезал Габриэль, и мысли его невольно устремились к прошлому. Он опустил глаза, и взгляд его упал на ноги стоявшей перед ним девушки, и тут только он увидел узелок, лежавший на земле. Она, вероятно, заметила, что взгляд его задержался на нем, и пролепетала робким, просительным тоном:
– Вы никому из здешних не скажете, что видели меня тут, не скажете, правда, ну хотя бы день или два?
– Конечно, не скажу, если вы не хотите.
– Спасибо вам большое, – сказала она. – Я бедная девушка, и я не хочу, чтобы обо мне люди судачили. – Она замолчала и поежилась.
– В такой холодный вечер вам следовало бы одеться потеплей. Я вам советую, идите-ка вы домой.
– О нет, нет. Пожалуйста, я вас прошу, идите своей дорогой и оставьте меня здесь одну. Большое вам спасибо за то, что вы так сказали.
– Хорошо, я пойду, – сказал он и прибавил нерешительно: – Раз вы сейчас в таком трудном положении, может, вы не откажетесь принять от меня вот этот пустяк? Тут всего-навсего шиллинг, все, что я могу уделить.
– Да, не откажусь, – с глубокой признательностью ответила незнакомка.
И протянула руку. Габриэль протянул свою. И в тот момент, когда она, коснувшись его руки, повернула свою ладонью вверх, Габриэль, взяв ее руку в темноте, чтобы положить монету, нечаянно нащупал ее пульс. Он бился с трагической напряженностью. Ему нередко случалось нащупывать такой учащенный, жесткий, прерывистый пульс у своих овец, когда пес загонял их до изнеможения. Это говорило о чрезмерном расходовании жизненной энергии и сил, а их, судя по хрупкому сложению девушки, было у нее и так слишком мало.
– Что с вами такое?
– Ничего.
– Что-то, должно быть, есть?
– Нет, нет, нет. Пожалуйста, не проговоритесь, что видели меня.
– Хорошо, буду молчать. Доброй вам ночи.
– Доброй ночи.
Девушка осталась стоять не двигаясь, прислонясь к дереву, а Габриэль пошел вниз по тропинке к селению Уэзербери, или Нижней Запруде, как его здесь называли. У него было такое чувство, как будто он соприкоснулся вплотную с каким-то безысходным горем, когда рука этого маленького, хрупкого существа легла в его руку. Но на то и разум, чтобы не поддаваться минутным впечатлениям, и Габриэль постарался забыть об этой встрече.
Глава VIII
Солодовня. Погуторили. Новости
Солодовня Уоррена была со всех сторон обнесена старой стеной, густо поросшей плющом, и хотя в этот поздний час от самого дома мало что было видно, его темные резкие очертания, отчетливо выступавшие на вечернем небе, достаточно красноречиво изобличали его назначение и свойства. Покатая соломенная крыша, свисавшая бахромой над стенами, сходилась в середине углом, увенчанным небольшим деревянным куполом наподобие фонаря и обнесенным со всех четырех сторон решетчатыми навесами, из-под которых, медленно расплываясь в ночном воздухе, струился пар. Окон в доме спереди не было, и только через маленький, заделанный толстым стеклом квадратик над входной дверью пробивались полосы красноватого света, которые тянулись через двор и ложились на увитую плющом стену. Изнутри доносились голоса.
Оук долго шарил рукой по двери, как ослепший Елима-волхв. Наконец он нащупал кожаный ремешок и потянул за него; деревянная щеколда откинулась, и дверь распахнулась.
Внутри помещение было освещено только красным жаром сушильной печи, свет которой струился низко над полом, словно свет заходящего солнца, и отбрасывал вверх колеблющиеся искаженные тени сидящих людей. Каменные плиты пола стерлись от времени, от входной двери к печи протопталась дорожка, а кругом образовались углубления и впадины. У одной стены стояла длинная скамья из неструганого дуба, закруглявшаяся с обеих сторон, а в глубине, в углу, узкая кровать, накрытая одеялом, где спал, а частенько полеживал и днем хозяин-солодовник.
Старик-хозяин сидел сейчас прямо против огня; белые как снег волосы и длинная белая борода, закрывавшая его согбенное туловище, казалось, разрослись на нем, как мох или лишайник на старой безлиственной яблоне. На нем были штаны, подвернутые до колен, и башмаки на шнурках; он сидел, уставившись в огонь.
Воздух, пропитанный сладким запахом свежего солода, ударил Габриэлю в нос. Разговор (говорили, по-видимому, о возможной причине пожара) сразу прекратился, и все до одного уставились на него оценивающим, критическим взором, при этом так сильно наморщив лоб и сощурившись, как если бы от него исходил ослепительный свет, слишком яркий для глаз.
После того как процесс обозревания завершился, несколько голосов глубокомысленно протянуло:
– А ведь это, надо быть, новый пастух, не иначе, он самый.
– А мы слышим – то ли щеколду шарят, то ли лист сухой занесло, шуршит, – сказал кто-то. – Входи, пастух, добро пожаловать, мы все тебе рады, хоть и не знаем, как тебя звать.
– Меня, добрые люди, зовут Габриэль Оук.
Услышав это, старик-солодовник, сидевший возле сушильни, медленно повернулся – так поворачивается старый заржавленный кран.
– Не внук ли Гэба Оука из Норкомба? Нет, быть не может!
Это восклицание не следовало понимать буквально, всем было ясно, что оно выражало крайнюю степень изумления.
– Мой отец и дед оба носили имя Габриэль, – невозмутимо ответил пастух.
– То-то мне там на скирде показалось, будто лицо знакомое. А как ты сюда-то попал, где ты живешь, пастух?
– Да вот думаю здесь обосноваться, – отвечал Оук.
– Ведь я твоего деда с да-авних лет знал, – продолжал солодовник, и казалось, слова у него теперь вылетали сами собой, словно от толчка, сила которого еще продолжала действовать.
– Вот как!
– И бабку твою знал.
– И ее тоже?
– И отца твоего, когда он еще мальчонкой был. Да вон мой сынок Джекоб, они с твоим отцом неразлучные дружки были, равно как кровные братья, а, Джекоб?
– Верно, – отозвался сынок, молодой человек лет этак шестидесяти пяти, с наполовину голым черепом и единственным зубом, который торчал слева в верхней челюсти ближе к середине и так заносчиво выдавался вперед, что его можно было заметить издали, как верстовой столб на дороге. – Только это они с Джо больше водились. А вот мой сын Уильям, должно быть, знавал и вас самого. Верно я говорю, Билли, ну когда еще ты был в Норкомбе?
– Не я, а Эндрью, – отвечал сын Джекоба Билли, малютка лет сорока, с густой растительностью на лице, уже кое-где подернутой сединой, которому природа отпустила веселый дух, но заключила его в унылую оболочку.
– Мне помнится, жил у нас в деревне человек по имени Эндрью, я тогда еще совсем мальчишкой был, – сказал Габриэль.
– Ну да вот и сам я ездил туда недавно с младшенькой моей дочкой Лидди, на крестины внука, – продолжал Билли, – там-то мы вашу семью и вспоминали, как раз это на самое Сретение было, в тот день, когда самым захудалым беднякам из приходских сборов лепту раздают; потому я тот день и запомнил, что все они в ризнице толклись, вот тут и об ихней семье разговор зашел.
– Иди-ка сюда, пастух, выпей с нами, глотни раз-другой, промочи глотку, хоть напиток и не бог весть какой, – сказал солодовник, отводя от углей красные, как киноварь, глаза, слезящиеся и воспаленные оттого, что они на протяжении стольких лет глядели в огонь. – Подай-ка «прости-господи», Джекоб. Да погляди, горяча ли брага.
Джекоб наклонился к «прости-господи» – большому глиняному сосуду, стоявшему в золе. Это была кружка, напоминавшая бочонок, с ручками с обеих сторон, обгоревшая и потрескавшаяся от жара и вся обросшая снаружи какой-то инородной коркой, особенно в углублениях ручек, витки которых, закруглявшиеся внутрь, должно быть, уже много лет не выглядывали на свет божий из-под толстого слоя золы, слипшейся от пролитой браги и припекшейся. Но для всякого разумного ценителя браги кружка от этого ничуть не теряла своих достоинств, ибо по краям и внутри она была совершенно чистая. Причины, по которым сей сосуд в Уэзербери и его округе получил название «прости-господи», не совсем выяснены. Очень может быть, что его размеры заставляют самого завзятого бражника невольно устыдиться, когда он одним духом опоражнивает его до дна.
Джекоб, которому приказано было проверить, достаточно ли согрелась брага, невозмутимо опустил в кружку указательный палец в качестве термометра и, объявив, что температура, надо быть, в самый раз, поднял сосуд и из вежливости попытался смахнуть с него золу полой своей блузы – ибо Габриэль Оук был не свой, а чужой, пришлый человек.
– Достань чистую кружку пастуху, – приказал солодовник.
– Да нет, что вы, зачем же, – сказал Габриэль укоряющим и вместе с тем предупредительным тоном. – Я чистого сору не гнушаюсь, коли знаю, что это за сор. – Он взял кружку обеими руками и, отхлебнув из нее, так что уровень в ней опустился примерно на дюйм с лишним, передал ее, как полагалось, сидящему рядом. – Да чтобы я позволил себе утруждать добрых людей мытьем посуды, когда у них и без того дела хватает, – продолжал он, несколько задохшись оттого, что у него перехватило дух, как это всегда бывает, когда хлебнешь из такого внушительного сосуда.
– Вот это правильный человек, сразу видно, – сказал Джекоб.
– Верно, верно, ничего другого не скажешь, – подхватил бойкий молодой человек по имени Марк Кларк, веселый, обходительный парень, с которым всякому, кому ни привелось встретиться, значило тут же и познакомиться, а коли уж познакомиться, значит выпить, а выпить – значит, увы, заплатить за него.
– А вот на-ка, бери пожевать хлеба с салом, это нам, пастух, хозяйка прислала. Брага-то, она лучше идет, ежели ее закусить чем. Да только ты смотри не больно разжевывай, потому как я это сало, когда нес, дорогой обронил, и оно малость в песке вывалялось. Ну, да это чистая грязь, как ты, пастух, верно сказал, мы знаем, что это за грязь, а ты, похоже, человек непривередливый.
– Вот уж нисколько, правда, – дружелюбно подтвердил Оук.
– Ты только не сжимай зубы-то вплотную, оно и не будет хрустеть. Диво дивное, как человек ко всему приспособиться может.
– И я, милый человек, такого же мнения держусь, – отозвался Оук.
– Сразу видать, внук своего деда, – сказал солодовник. – Он тоже непривередливый, понимающий был человек.
– Пей, Генри Фрей, пей, – великодушно поощрял Джан Когген, человек, придерживавшийся в отношении напитков принципов Сен-Симона: делить на всех и делить поровну; он видел, что сосуд, медленно двигавшийся по кругу, уже приближается к нему.
Генри, который до сих пор задумчиво глядел прямо перед собой, не заставил себя просить. Это был человек более чем пожилого возраста, с вскинутыми высоко на лоб бровями, любивший разглагольствовать о том, что в мире все идет не по закону; доказывая это своим слушателям, он вперял многострадальный взор мимо них в этот самый мир и давал волю своему воображению. Он всегда подписывался «Генери» и с жаром настаивал, что так оно и дóлжно писать, а если случайно зашедший школьный учитель говорил, что второе «е» лишнее и давно уже вышло из употребления, что так только в старину писали, то получал в ответ, что Ге-не-ри – это имя, коим его нарекли при крещении, и что он не намерен от него отрекаться, и тон, которым это говорилось, ясно давал понять, что орфографические расхождения – это такое дело, которое каждый волен решать по-своему.
Мистер Джан Когген, передавший Генери сосуд с брагой, толстощекий, румяный человек с плутовато подмигивающими глазками, вот уже двадцать лет был неизменным участником бесчисленных брачных церемоний, совершавшихся в Уэзербери и прочих близлежащих приходах, и его имя как шафера и главного свидетеля в графе брачных записей красовалось во всех церковных книгах; он очень часто подвизался также в роли почетного крестного, в особенности на таких крестинах, где можно было смачно пошутить.
– Пей, Марк Кларк, пей, в бочке хватит браги, – говорил Джан.
– Я выпить никогда не откажусь, вино – наш целитель, только им и лечимся, – отвечал Марк Кларк; они с Джаном Коггеном были одного поля ягоды, хотя он на двадцать лет был моложе Джана; Марк никогда не упускал случая выудить из собеседника что-нибудь такое, над чем можно было посмеяться, чтобы потом поднести это в компании.
– А вы что же, Джозеф Пурграс, даже и не пригубили еще, – обратился мистер Когген к скромному человеку, застенчиво мнущемуся сзади, и протянул ему кружку.
– Ну и стеснительный же ты человек! – сказал Джекоб Смолбери. – А правда про тебя говорят, будто ты все никак глаз не решишься поднять на нашу молодую хозяйку, а, Джозеф?
Все уставились на Джозефа Пурграса сочувственно-укоризненным взглядом.
– Н-нет, я на нее еще ни разу взглянуть не посмел, – промямлил Джозеф, смущенно улыбаясь, и при этом весь как-то съежился, словно устыдившись того, что он обращает на себя внимание. – А вот как-то я ей на глаза попался, так меня всего в краску вогнало: стою, глаз не подыму и краснею.
– Бедняга! – сказал мистер Кларк.
– Чудно все же природа наделяет: ведь мужчина, – заметил Джан Когген.
– Да, – продолжал Джозеф Пурграс, испытывая приятное удовлетворение оттого, что его недостаток – застенчивость, от которой он так страдал, оказался чем-то достойным обсуждения, – краснею и краснею, что ни дальше, то больше, и так все время, пока она говорила со мной, я только и делал, что краснел.
– Верю, верю, Джозеф Пурграс; мы все знаем, какой вы стеснительный.
– Совсем это негоже для мужчины, несчастный ты человек, – сказал солодовник. – И ведь это у тебя уже давно.
– Да, с тех пор, как я себя помню. И матушка моя уж так-то за меня огорчалась, чего только не делала. И все без толку.
– А ты сам-то, Джозеф Пурграс, пробовал ну хоть почаще на людях бывать, чтобы как-нибудь от этого избавиться?
– Все пробовал, и с разными людьми компанию водил. Как-то раз, помню, меня на ярмарку в Гринхилл затащили, и попал я в этакий расписной балаган, там тебе и цирк, и карусель, и целая орава мамзелей в одних юбчонках стоймя на конях скачет; ну и все равно я этим не вылечился. А потом пристроили меня посыльным в женском кегельбане в Кэстербридже, как раз позади трактира «Портной». Вот уж, можно сказать, нечестивое было место. Диво дивное, чего я там только не нагляделся, – с утра до ночи, бывало, толчешься среди этого похабства, а все без пользы; ничего у меня от этого не прошло, – как было, так и осталось. Это у нас в семье издавна такая напасть, от отца к сыну, так из рода в род и передается. Что ж поделаешь, и на том надо Бога благодарить, что на мне дальше не пошло, а не то могло бы быть и еще хуже.
– И то правда, – согласился Джекоб Смолбери, задумываясь всерьез и над этой стороной вопроса. – Тут есть над чем призадуматься, конечно, на тебе это могло бы сказаться еще и похуже. Но и так тоже, Джозеф, что ни говори, большая это для тебя помеха. Ну вот вы скажите, пастух, почему это оно так – что для женщины хорошо, то для него, для бедняги, ну как для всякого мужчины, никуда не годится, черт знает что получается?
– Да, да, – сказал Габриэль, отрываясь от своих размышлений. – Разумеется, для мужчины это большая помеха.
– Ну а он к тому же и трусоват малость, – заметил Джан Когген. – С ним однажды такой случай был: заработался он допоздна в Иелбери, и пришлось ему ворочаться в потемках; ну уж как это оно там вышло, может, и хватил лишнее в дорогу, только, стало быть, шел он Иелберийским долом, да и заплутался в лесу. Было такое дело, мистер Пурграс?
– Нет, нет, ну стоит ли про это рассказывать! – жалобно взмолился стеснительный человек, пытаясь скрыть свое смущение насильственным смешком.
– Заплутался и никак на дорогу не выйдет, – невозмутимо продолжал мистер Когген, всем своим видом давая понять, что правдивое повествование, подобно времени, идет своим чередом и никого не щадит. – Зашел куда-то в самую чащу, а уже совсем ночь, ни зги не видно, ну он со страху и завопил: «Помогите! Заблудился! Заблудился!» – а тут сова как заухает, слыхал, пастух, как сова кличет – «охо, хо!» – (Габриэль кивнул). – Ну а Джозеф тут уж совсем оробел, ему с перепугу чудится – «кто? кто?». Он и говорит: «Джозеф Пурграс из Уэзербери, сэр!»
– Ну нет, это уж ни на что не похоже… неправда! – вскричал робкий Джозеф, вдруг сразу превращаясь в отчаянного смельчака. – Не говорил я «Джозеф из Уэзербери, сэр», клянусь, не говорил! Нет, нет, коли уж рассказывать, так рассказывать по-честному; не говорил я этой птице «сэр», потому как прекрасно понимал, что никто из господ, ни один порядочный человек не станет ночью по лесу шататься. Я только сказал «Джозеф Пурграс из Уэзербери», вот, слово в слово, и, кабы это не под праздник было и не угости меня лесник Дэй хмельной настойкой, конечно, я бы так не сказал… Ну счастье мое, что я только страхом отделался.
Вопрос о том, кто из них ближе к правде, компания обошла молчанием, и Джан глубокомысленно продолжал:
– А уж насчет страха ты, Джозеф, и всегда-то был пуглив. Помнишь, как ты тогда на загоне в воротах застрял?
– Помню, – отвечал Джозеф с таким видом, что бывает, мол, и со скромным человеком такое, что лучше не вспоминать.
– Да, и это тоже как будто ночью случилось. Ворота на загоне никак у него не открывались. Он толкает, а они ни взад ни вперед, ну он со страху и решил, что это дьявольские козни, и бух на колени.
– Да, – подхватил Джозеф, расхрабрившись от тепла, от браги и от желания самому рассказать этот удивительный случай. – Как же! Я прямо так и обмер весь, упал на колени и стал читать «Отче наш», а потом тут же «Верую» и все десять заповедей подряд. А ворота все так и не открываются. Я вспомнил «Дорогие возлюбленные братья», начал читать, а сам думаю: это четвертое, последнее, – все, что я знаю из Святого Писания, а если уж и это не поможет, ну тогда мне конец. И вот, значит, дошел я до слов «повторяют за мной», поднялся с колен, толкаю ворота, а они тут же открылись разом, сами собой, как всегда. Вот, люди добрые, как оно было.
Все сидели молча, задумавшись над тем, что само собой надлежало заключить из этого рассказа, и глаза всех были устремлены в зольник, раскаленный, как пустыня под полуденным тропическим солнцем. И глаза у всех были сосредоточенно прищурены то ли от пылающего жара, то ли от непостижимости того, что заключалось в услышанном ими рассказе.
Габриэль первым прервал молчание:
– А живется-то вам здесь ничего? Ладите вы с вашей хозяйкой, как она с работниками?
Сердце Габриэля сладко заныло в груди, когда он так, словно невзначай, завел разговор о самом заветном и дорогом для него предмете.
– А мы, правду сказать, мало что про нее знаем, ровно как бы и ничего. Она всего несколько дней, как к нам показалась. Дядюшка ее занемог сильно, вызвали к нему самого что ни на есть знаменитого доктора; но и он уж ничего сделать не мог. А теперь она, слышно, сама хочет фермой заправлять.
– Так оно, похоже, и будет, – подтвердил Джан Когген. – Семья-то хорошая! Мне так думается, у них лучше, чем у кого другого, работать. Дядюшка у нее уж такой справедливый был человек. А жил один, неженатый, вы, может, о нем слыхали, пастух?
– Нет, не слыхал.
– Я когда-то частенько в его доме бывал: первая моя жена Чарлотт у него на сыроварне работала, а я к ней тогда сватался. Душевный был человек фермер Эвердин. Ну конечно, он про меня знал, какой я семьи и что за мной ничего худого не водится, и мне разрешалось приходить к ней в гости и угощаться пивом сколько душе угодно, только не уносить с собой, ну, сами понимаете, сверх того, что в меня влезет.
– Понимаем, понимаем, Джан Когген! Как не понимать!
– А уж пиво было – ввек не забуду. Ну конечно, я старался уважить хозяина, отплатить ему за его доброту и со всем усердием оказывал честь его пиву, не то что какой-нибудь невежа, который за радушие непочтением платит – пригубит да отставит.
– Верно, мистер Когген, так не годится поступать, – поддакнул Марк Кларк.
– А потому, перед тем как туда идти, я, бывало, наемся рыбы соленой так, что у меня все нутро жжет, вся глотка пересохнет, а в сухую глотку пиво само так и льется. Ух! Душа радуется! Вот были времена! Райская жизнь! Да, сладко я пивал в этом доме! Помнишь, Джекоб? Ты ведь туда со мной хаживал?
– Как же, помню, помню. А еще мы с тобой, помнишь, в Духов день в «Оленьей голове» пили. Ох и здорово же мы тогда насосались!
– Было дело. Но ведь питье питью рознь, а вот ежели по-благородному пить, без греха, так чтобы нечистый тебе с каждым словом на язык не подвертывался, нигде мне так хорошо не пилось, как на кухне у фермера Эвердина. Там не то что чертыхнуться, слова бранного обронить не смели, даже когда все уж до того допивались, что всяк не помнил, что городил; а ведь тут-то тебя бес за язык и тянет, в самый бы раз душу отвести!
– Верно, – подтвердил солодовник, – природа – она своего требует; выругаешься, и словно на душе легче; стало быть, надобность такая, без этого на свете не проживешь.
– Но Чарлотт ничего такого не допускала, – продолжал Когген, – упаси бог, чтобы при ней помянуть всуе… ах, бедная Чарлотт, кто знает, посчастливилось ли ей на том свете, попала ли ее душенька в рай! Не больно-то ей в жизни везло, и там, может, не тот жребий выпал, и мается она, горемычная, в преисподней.
– А кто из вас знал родителей мисс Эвердин, ее отца и мать? – осведомился пастух, которому приходилось делать некоторые усилия, чтобы удержать разговор вокруг интересующего его объекта.
– Я знал их мало-мало, – отозвался Джекоб Смолбери, – только они оба городские были, здесь не жили. Давно уже оба померли. Ты-то их помнишь, отец, что они были за люди?
– Да он-то так себе, неприметный был, не ахти какой, – сказал солодовник, – а она видная собой. Он так за ней и ходил, сам не свой, покуда не поженились.
– Да и женатый тоже, – вмешался Джан Когген, – сказывали, как начнет целовать, целует, целует без конца, оторваться не может.
– Да, и женатый он страх как гордился женой.
– Да, да, – подхватил Когген. – Рассказывают, будто он на нее просто наглядеться не мог, и ночью-то раза три встанет, свечу зажжет и любуется.
– Этакая беспредельная любовь! А мне думается, такой на свете не бывает! – пробормотал Джозеф Пурграс, который, высказывая свои суждения, предпочитал выражаться обобщенно.
– Нет, почему же, бывает, – сказал Габриэль.
– Да, так оно у них, похоже, и было, – продолжал солодовник. – Я-то хорошо знал их обоих. Он ничего мужик был, звали его Леви Эвердин. Мужик-то – это я зря сказал, просто обмолвился, он не из крестьян был, классом повыше, модный портной, и деньжищ у него хватало. И два, не то три раза он прогорал, так о нем все и говорили – известный банкрот, – далеко о нем слава шла.
– А я-то думал, он из простых был, – сказал Джозеф.
– Ни-ни, нет. Банкрот. Как же, кучу он денег задолжал серебром да золотом.
Тут солодовник задохнулся, и, пока он переводил дух, мистер Когген, задумчиво следивший за свалившимся в золу угольком, покосился одним глазом на компанию, подмигнул и подхватил рассказ:
– Так вот, представьте себе, трудно даже и поверить, этот самый человек, родитель нашей мисс Эвердин, оказался потом очень непостоянным и еще как изменял своей жене. И сам на себя досадовал, не хотел огорчать жену, а ничего с собой поделать не мог. Так-то уж ей бедняга был предан и любил ее всей душой, а вот поди же, не мог удержаться. Он как-то раз мне сам в этом признался, и уж так он себя горько корил. «Знаешь, Когген, говорит, лучше и красивей моей жены на свете нет, но вот то, что она моя законная супруга и на веки вечные ко мне прилеплена, от этого меня, грешного, на сторону и тянет, и никак я с собой совладать не могу». Но потом он как будто от этого вылечился, а знаете чем? Вот как вечером запрут они свою мастерскую и останутся вдвоем, он ей тут же велит кольцо обручальное снять и зовет ее прежним девичьим именем и сам себе представляет, будто она не жена ему, а возлюбленная. И как, значит, он себе это внушил, что он с ней не в супружестве, а в прелюбодействе живет, с тех пор у них все опять по-прежнему пошло, друг на друга глядят не надышатся.
– И надо же, такой нечестивый способ, – пробормотал Джозеф Пурграс. – Счастье великое, что милостивое Провидение его от соблазна удержало! Могло бы быть хуже. Так и пошел бы по торной дорожке, глядь, и вовсе в беззаконие впал, в полное бесстыдство!
– Тут дело такое, – вмешался Билли Смолбери. – Сам человек про себя понимал, что не след ему так поступать, а тянет его, и ничего он супротив этого поделать не может.
– А потом уж он совсем исправился, а под старость и вовсе в благочестие впал. Верно, Джон? Говорят, будто он еще раз, наново к вере приобщился, весь обряд над собой повторил, потом во время богослужения так громко выкрикивал «аминь», что его громче, чем причетника, слышно было. И еще пристрастился он душеспасительные стишки с надгробных плит списывать. И церковный сбор собирал, с блюдом ходил, когда «Свете тихий» пели, и всех ребят внебрачных у бедняков крестил; а дома у него на столе всегда церковная кружка стояла, – как кто зайдет, он тут же с него и цапнет. А мальчишек приютских, ежели они в церкви расшалятся, бывало, так за уши оттаскает, что они еле на ногах стоят; да и много он всяких милосердных дел делал, как подобает благочестивому христианину.
– Да уж он к тому времени ни о чем, кроме божеского, и не помышлял, – сказал Билли Смолбери. – Как-то раз пастор Сэрдли встретился с ним и говорит ему: «Доброе утро, мистер Эвердин, денек-то какой сегодня хороший выдался!» А он ему в ответ: «Аминь», – потому как увидел пастора, уж ни о чем другом, кроме божественного, и думать не может. Истинным христианином стал.
– А дочка ихняя в ту пору совсем неказистая была, – заметил Генери Фрей. – Кто бы подумал, что она этакой красоткой станет?
– Вот коли бы и нрав у нее такой же приятный был.
– Да, хорошо бы, коли так. Только делами-то на ферме, оно видно, управитель будет ворочать, да и нами, грешными, тоже. Э-эх! – И Генери, уставившись в золу, усмехнулся иронически и ехидно.
– Вот уж этот на христианина так же похож, как черт в клобуке на монаха, – многозначительно прибавил Марк Кларк.
– Да, он такой, – сказал Генери, давая понять, что тут, собственно, зубоскалить нечего. – Мне думается, этот человек без обмана не может: что в будни, что в воскресенье – соврет без зазрения совести.
– Вот так так! Что вы говорите? – удивился Габриэль.
– А то и говорим, что есть! – отвечал саркастически настроенный Генери, оглядывая честную компанию с многозначительным смешком, из которого само собой явствовало, что уж в чем в чем, а в житейских невзгодах никто так, как он, разобраться не может. – Всякие на свете люди бывают, есть похуже, есть получше, но уж этот – не приведи бог…
Габриэль подумал, не пора ли перевести разговор на что-нибудь другое.
– А вам, должно быть, очень много лет, друг-солодовник, коли и сыновья у вас уже в летах? – обратился он к солодовнику.
– Папаша у нас такой престарелый, что уж и не помнит, сколько ему лет, правда, папаша? – сказал Джекоб. – А уж до чего согнулся за последнее время, – продолжал он, окидывая взглядом отцовскую фигуру, сгорбленную несколько больше, чем он сам. – Вот уж, как говорится, в три погибели согнулся.
– Согнутые-то, они дольше живут, – явно недовольный, мрачно огрызнулся солодовник.
– А что бы вам, папаша, пастуху про себя, про вашу жизнь рассказать, должно, ему любопытно послушать – правда, пастух?
– Еще как! – с такой поспешностью отозвался Габриэль, как будто он с давних пор только и мечтал об этом. – Нет, правда, сколько же вам может быть лет, друг-солодовник?
Солодовник неторопливо откашлялся для пущей торжественности и, устремив взгляд в самую глубину зольника, заговорил с такой необыкновенной медлительностью, какая оправдывается только в тех случаях, когда слушатели, предвкушая услышать что-то исключительно важное, готовы простить рассказчику любые чудачества, лишь бы он рассказал все до конца.
– Вот уж не припомню, в каком я году родился, но ежели покопаться в памяти да вспомнить места, где я жил, может, оно к тому и придет. В Верхних Запрудах, вон там (он кивнул на север), я жил сызмальства до одиннадцати годов, потом семь лет в Кингсбери жил (он кивнул на восток), там я на солодовника и научился. Оттуда подался в Норкомб и там двадцать два года в солодовне работал и еще двадцать два года брюкву копал да хлеб убирал. Тебя, верно, и в помине не было, мастер Оук, а я уж этот Норкомб как свои пять знал. – (Оук предупредительно улыбнулся, чтобы показать, что он охотно этому верит.) – Потом четыре года солодовничал в Дерновере и четыре года брюкву копал; потом до четырнадцати раз по одиннадцати месяцев на мельничном пруду в Сен-Джуде работал – (кивок на северо-северо-запад). – Старик Туилс не хотел нанимать меня больше чем на одиннадцать месяцев, чтобы я, чего доброго, не свалился на попечение прихода, ежели я, не дай бог, калекой стану. Потом еще три года в Меллстоке работал и вот здесь, почитай, тридцать один год на Сретение будет. Сколько же оно всего выходит?
– Сто семнадцать, – хихикнул другой такой же древний старичок, который до сих пор сидел незаметно в уголке и не подавал голоса, но, как видно, хорошо считал в уме.
– Ну вот, стало быть, столько мне и лет.
– Ну что вы, папаша! – сказал Джекоб. – Брюкву вы сажали да копали летом, а солод зимой варили в те же годы, а вы их по два раза считаете.
– Уймись ты! Что ж я, по-твоему, леты и вовсе не жил? Ну что ты молчишь? Ты, верно, скоро уж скажешь, какие там его годы, и говорить-то не стоит.
– Ну этого уж никто не скажет, – попытался успокоить его Габриэль.
– Вы, солодовник, самый долголетний старик, – таким же успокаивающим и вместе с тем непререкаемым тоном заявил Джан Когген. – Все это знают, и что вам от природы этакое замечательное здоровье и могучесть даны, что вы столькие годы на свете живете, правда, добрые люди?
Успокоившийся солодовник смягчился и даже не без некоторого великодушия снисходительно пошутил над своим долголетием, сказав, что кружка, из которой они пили, еще на три года постарше его.
И когда все потянулись разглядывать кружку, у Габриэля Оука, из кармана его блузы, высунулся кончик флейты, и Генери Фрей воскликнул:
– Так это, значит, вас я видел, пастух, в Кэстербридже, вы дули в этакую большую свирель?
– Меня, – слегка покраснев, подтвердил Габриэль. – Беда со мной большая стряслась, люди добрые, туго мне пришлось, вот нужда и заставила. Не всегда я таким бедняком был.
– Ничего, голубчик! – сказал Марк Кларк. – Не стоит расстраиваться, плюньте. Когда-нибудь и ваше время придет. А вот ежели бы вы нам поиграли, мы были бы вам премного обязаны. Только, может, вы очень устали?
– Уж я, поди, с самого Рождества ни тебе трубы, ни барабана не слышал, – посетовал Джан Когген. – А правда, сыграйте нам, мастер Оук.
– Отчего ж не сыграть, – сказал Габриэль, вытаскивая и свинчивая флейту. – Инструмент-то у меня не бог весть какой. Но я с удовольствием, уж как сумею, так и сыграю.
И Оук заиграл «Ярмарочного плута», и повторил три раза эту веселую мелодию, и под конец так воодушевился, что в задорных местах поводил плечами, раскачиваясь всем туловищем и отбивая такт ногой.
– Здорово это у него получается – мастер он на флейте свистеть, – заметил недавно женившийся молодой парень, личность настолько непримечательная, что его знали только как мужа Сьюзен Толл. – У меня бы нипочем так не получилось, уменья нет.
– Толковый человек, с головой; вот уж, можно сказать, нам повезло, что такой пастух у нас будет, – сказал, понизив голос, Джозеф Пурграс. – Надо Бога благодарить, что он никаких срамных песен не играет, а все такие веселые да приятные; потому как для Бога все едино, он мог бы его не таким, какой он есть, сотворить, а мерзким, распутным человеком, нечестивцем. Ведь вот оно что! Нам за своих жен и дочерей радоваться должно, Бога благодарить.
– Да, да, вот именно, надо Бога благодарить! – решительно умозаключил Марк Кларк, нимало не смущаясь тем, что из всего сказанного Джозефом до него дошло от силы два-три слова.
– Да, – продолжал Джозеф, чувствуя себя чуть ли не пророком, – ибо времена пришли такие, что зло процветает и обмануться можно в любом человеке, будь он приличный с виду, в белой крахмальной рубашке, начисто выбрит или какой-нибудь бродяга в лохмотьях, промышляющий у заставы.
– А я теперь ваше лицо припоминаю, пастух, – промолвил Генери Фрей, приглядываясь затуманенным взором к Габриэлю, который начал играть что-то новое. – Только вы в свою флейту задули, я тут же и признал, – значит, вы и есть тот самый человек, который в Кэстербридже играл, вот и губы у вас так же были выпячены, и глаза, как у удавленника, вытаращены, точь-в-точь как сейчас.
– А ведь и впрямь обидно, что человек, когда на флейте играет, выглядит этаким пугалом, – заметил мистер Марк Кларк, также окидывая критическим оком лицо Габриэля, который в это время, весь напружившись, со страшной гримасой, подергивая головой и плечами, наяривал хоровую песенку из «Тетушки Дэрдин».
- Тут были Молли, и Бэт, и Долли, и Кэт,
- И замарашка Нэлл!
– Уж вы не обижайтесь на парня, что он, такой грубиян, про вашу наружность судит, – тихонько сказал Габриэлю Джозеф Пурграс.
– Да нет, что вы, – улыбнулся Оук.
– Потому как от природы, – умильно-подкупающим тоном продолжал Джозеф, – вы, пастух, очень красивый мужчина.
– Да, да, верно, – подхватила компания.
– Очень вам благодарен, – со скромной учтивостью благовоспитанного молодого человека сказал Оук и тут же решил про себя, что ни за что никогда не будет играть при Батшебе, проявляя в этом решении такую осмотрительность, какую могла бы проявить разве что сама породившая ее богиня мудрости Минерва.
– А вот когда мы с женой венчались в норкомбской церкви, – внезапно вступая в разговор, сказал старик-солодовник, явно недовольный тем, что речь идет не о нем, – так о нас такая молва шла, что красивее нас парочки в округе нет, так все и говорили.
– И здорово же ты с тех пор изменился, дед-солодовник, – раздался чей-то голос, проникнутый такой искренней убежденностью, с какой человек высказывается о чем-то само собой разумеющемся, очевидном. Голос принадлежал старику, сидевшему сзади, который то и дело старался ввернуть какое-нибудь ядовитое словцо и, присоединяясь иногда к общему смеху, пытался хихиканьем скрыть свое раздражение и зависть.
– Да нет, вовсе нет, – возразил Габриэль.
– Вы уж больше не играйте, пастух, – взмолился муж Сьюзен Толл, молодой, недавно женившийся парень, который до этого только один раз и открыл рот. – Мне надо идти, а когда музыка играет, меня точно проволока держит. А если я уйду да подумаю дорогой, что здесь музыка играет, а меня нет, я совсем расстроюсь.
– А чего ты так торопишься, Лейбен? – спросил Когген. – Ты, бывало, всегда чуть ли не последним уходил.
– Ну сами понимаете, братцы, я недавно женился, ну так оно вроде как моя обязанность… сами понимаете. – Малый от смущения замялся.
– Новый хозяин – новый порядок, как оно в пословице говорится, так, что ли? – подмигнул Когген.
– Ха-ха! Да так оно и выходит, – смеясь, подхватил муж Сьюзен Толл, всем своим видом давая понять, что он все такой же, как был, и нисколько на шутки не сердится.
За ним вскоре ушел и Генери Фрей. А затем Габриэль с Джаном Коггеном, который предложил ему у себя жилье. Но не прошло и нескольких минут – остальные тоже поднялись и уже собирались расходиться, – как вдруг в солодовню ворвался запыхавшийся Генери Фрей.
Зловеще помавая перстом, он вперил многоречивый взор куда-то в пространство и случайно наткнулся на физиономию Джозефа Пурграса.
– Ох, что случилось, что случилось, Генери? – отшатываясь, простонал Джозеф.
– Что там еще такое, Генери? – спросили в один голос Джекоб и Марк Кларк.
– Управитель-то, Пенниуэйс, что я говорил, говорил ведь…
– А что, на месте поймали, хапнул что?
– Ну да, хапнул. Говорят, мисс Эвердин после того, как вернулась домой, малость погодя опять вышла, как всегда, на ночь поглядеть, все ли в порядке, и видит: он по лестнице из амбара крадется с полным мешком ячменя. Она в него, как кошка, вцепилась, – она ведь такая, бедовая, – ну это, конечно, промеж нас?
– Ясное дело, промеж нас, Генери.
– Как она на него накинулась, он, значит, и сознался, что пять мешков из амбара вынес. Это после того, как она ему обещала, что в суд на него не подаст. Ну, она тут же его взашей и выгнала. А теперь спрашивается, кто же у нас управителем будет?
Это был такой важный вопрос, что Генери вынужден был приложиться к большой кружке, что он и сделал, да так основательно, что не отрывался до тех пор, пока у нее не обозначилось дно. Не успел он поставить ее на стол, как вбежал муж Сьюзен Толл, тоже едва переводя дух.
– Слышали вы, что у нас в приходе-то говорят?
– Это насчет управителя Пенниуэйса?
– Да нет, кроме того!
– Кроме? Нет, ничего не слыхали, – ответили все хором и так впились глазами в Лейбена, словно стараясь выхватить слова у него изо рта.
– Ну и ночь выдалась, ужас-то какой! – бормотал Джозеф Пурграс, судорожно всплескивая руками. – Недаром у меня в левом ухе такой звон стоял, ну ровно как набат, и потом я еще сороку видел, сама по себе одна скакала.
– Фанни Робин нигде найти не могут, младшую служанку мисс Эвердин. Они там, в доме-то, уже часа два тому назад запереться на ночь хотели, глядь, а ее нет. Ну они и не знают, что делать, как спать-то ложиться, как же она тогда в дом попадет. Так-то они, может, и не тревожились бы, да она последнее время сама не своя ходила, и Мэриен боится, как бы она, бедняжка, над собой чего не учинила.
– А что, как она сгорела! – вырвалось из запекшихся уст Джозефа Пурграса.
– Нет, верно, утопилась! – сказал Толл.
– А может, отцовской бритвой того… – живо представив себе все подробности, высказался Билл Смолбери.
– Так вот, мисс Эвердин и желает поговорить с кем-нибудь из нас, пока мы еще не разошлись. Тут эта история с управителем, а теперь еще и с этой девчонкой, хозяйка прямо сама не своя.
Все потянулись гурьбой вверх по тропинке к фермерскому дому, кроме старика-солодовника, которого никакие события – ни грозы, ни гром, ни пожар, – ничто не могло вытащить из его норы. Звуки шагов уже замерли вдали, а он все так же сидел на своем месте, уставившись, как всегда, в печь красными, воспаленными глазами.
Из окна спальной высоко над стоящими внизу высунулись голова и плечи Батшебы, окутанные чем-то белым и словно реющие в воздухе.
– Есть тут среди вас кто-нибудь из моих людей? – с беспокойством спросила она.
– Да, мэм, несколько человек своих, – отвечал муж Сьюзен Толл.
– Завтра утром пусть кто-нибудь из вас, два-три человека, пойдет по окрестным деревням и поспрошает, не видел ли кто девушки, похожей на Фанни Робин. Сделайте это так, чтобы не заводить толков. Пока еще нет причин бить тревогу. По всей вероятности, она ушла из дома, когда все мы были на пожаре.
– Прошу прощенья, мэм, – сказал Джекоб Смолбери, – а может, у нее дружок завелся, не ухаживал ли за ней кто-нибудь из молодых парней нашего прихода?
– Не знаю, – отвечала Батшеба.
– Да не слыхать было ничего такого, – раздалось несколько голосов.
– Нет, не похоже, – помолчав, сказала Батшеба. – Будь у нее кавалер, он бы, наверно, показался здесь, в доме, если это порядочный парень. Но вот что мне кажется странным, – и это-то меня и беспокоит, – Мэриен видела, как она выходила из дому раздетая, в обычном своем будничном платье и даже без чепца.
– А вы думаете, мэм, уж вы простите мою простоту, – продолжал Джекоб, – что молодая женщина вряд ли пойдет на свиданье с милым, не приодевшись как следует? – И, видимо порывшись в своей памяти и вспомнив кое-что из своего личного опыта, добавил: – Оно, конечно, верно, не пойдет.
– А мне кажется, у нее был с собой какой-то узелок, только я не очень-то приглядывалась, – послышался голос из соседнего окна, по-видимому голос Мэриен. – Но у нее в нашем приходе нет кавалера. Ее милый в Кэстербридже живет, мне помнится, он из солдат.
– А ты знаешь, как его зовут? – спросила Батшеба.
– Нет, не знаю; она от нас скрывалась.
– Может, если бы мне съездить в Кэстербридж, в казармы, я и мог бы что разузнать, – предложил Уильям Смолбери.
– Отлично, если она до завтра не вернется, поезжайте туда и постарайтесь отыскать этого человека и поговорить с ним. Я чувствую себя за нее в ответе, потому что у нее нет ни родных, ни друзей. Надеюсь, что она не попала в беду из-за какого-нибудь вертопраха… А тут еще эта грязная история с управителем… ну, об этом я сейчас не буду говорить… – У Батшебы было столько причин для беспокойства, что, по-видимому, ей не хотелось сейчас разбираться ни в одной из них. – Сделайте так, как я вам сказала, – распорядилась она, закрывая окно.
– Сделаем, сделаем. Будьте покойны, хозяйка, – отозвались они, уходя.
Этой ночью в доме Коггена Габриэль Оук, плотно сомкнув веки, предавался игре воображения, и оно так и бурлило, унося его, словно быстро бегущее течение реки под плотным покровом льда. Ночь всегда была для него теперь заветным временем, потому что ночью он особенно живо представлял себе Батшебу, и сейчас, в эти медленно текущие часы, в темноте, он с нежностью вглядывался в ее образ. Редко когда муки бессонницы искупаются радостями воображения, но, наверно, в эту ночь так оно было с Габриэлем, потому что счастье видеть ее стерло на первых порах в его сознании великую разницу между «видеть» и «обладать».
И он уже обдумывал, как он привезет сюда из Норкомба свое скромное имущество и книги «Лучший спутник молодого человека», «Верный путеводитель коновала», «Ветеринар», «Потерянный Рай», «Путь паломника», «Робинзон Крузо», «Словарь» Эша и «Арифметику» Уокингема, – словом, всю свою библиотеку. И хоть это был ограниченный круг чтения, он читал так вдумчиво и внимательно, что извлекал из этих книг больше пользы, чем иные баловни судьбы из заставленных до потолка книжных полок.
Глава IX
Усадьба. Посетитель. Полупризнание
Жилище новообретенной хозяйки Оука, Батшебы Эвердин, представляло собой при свете дня старое обомшелое здание в стиле Раннего Ренессанса, а по его пропорциям можно было сразу сказать, что это был некогда жилой господский дом с прилегающим к нему небольшим поместьем, которое, как это часто бывает, давно перестало существовать как самостоятельное владение, растворившись в обширных земельных угодьях отсутствующего владельца, объединивших несколько таких скромных усадеб.
Массивные каменные пилястры с каннелюрами украшали его фасад, трубы над щипцовыми крышами выступали круглыми или коническими башенками, а украшенные веночками арки, заканчивающиеся шпилями, и прочие архитектурные детали еще сохраняли следы своего готического происхождения. Мягкий коричневый мох, словно выцветший бархат, стелился по черепичным крышам, а из-под кровель низких строений, прилегавших к дому, торчали пучки очитка. Усыпанная песком дорожка, ведущая от крыльца к дороге, на которую выходил дом, тоже вся заросла мохом, только здесь он был другой разновидности – серебристо-зеленый, а полоска светло-коричневого песка, шага в полтора шириной, виднелась только посредине. И это, и какая-то сонная тишина, царившая здесь, тогда как другая сторона дома, в полную противоположность фасаду, кипела оживлением, невольно наводило на мысль, что жизненный центр дома, с тех пор как дом обратился в жилище фермера, переместился с одной стороны на другую, повернувшись вокруг своей оси. Коммерция и промышленность сплошь и рядом подвергают таким перемещениям, калечат и безжалостно парализуют не только отдельные здания, но и целые ансамбли – улицы и даже города, которые в своем первоначальном виде были задуманы строителем именно так, а не иначе, для того чтобы радовать взор.
Оживленные голоса раздавались в это утро в верхних комнатах, куда вела лестница из мореного дуба с перилами на массивных столбах, выточенных и отделанных в чопорной манере минувшего века; сами перила были добротные, прочные, словно перила моста, а ступени лестницы все время изворачивались винтом, словно человек, который силится заглянуть себе через плечо. Поднявшись наверх, вы сразу обнаруживали крайнюю неровность пола, он то вздыбливался горбом, то проваливался глубокой ложбиной, а сейчас, когда с него только что сняли ковры, на досках видны были бесчисленные узоры червоточины. Всякий раз как открывалась или закрывалась какая-нибудь дверь, все окна отзывались звоном стекол; от быстрой ходьбы или двиганья мебели весь дом начинало трясти, и каждый ваш шаг сопровождался скрипом, который следовал за вами повсюду, как призрак, преследующий по пятам.
В комнате, откуда раздавались голоса, Батшеба и ее служанка и товарка Лидди Смолбери сидели на полу и отбирали бумаги, книги и пузырьки из кучи всякого хлама, сваленного тут же – выпотрошенного из кладовых и чуланов покойного хозяина.
Лидди, правнучка солодовника, была почти ровесницей Батшебы, а ее лицо как нельзя лучше подошло бы для какой-нибудь рекламы с изображением веселой английской деревенской девушки. Красота, которой, может быть, в смысле строгости линий недоставало ее чертам, щедро возмещалась богатством красок; сейчас, в этот зимний день, нежнейший румянец на мягкой округлости щек вызывал в памяти картины Терборха и Герарда Доу, и, как на портретах этих великих колористов, это лицо обладало своей привлекательностью, хотя оно отнюдь не отличалось идеальной красотой.
Лидди была очень переимчива по натуре, но далеко не такая бойкая, как Батшеба, иногда она даже обнаруживала некоторую степенность, может быть в какой-то мере и свойственную ей, но более чем наполовину усвоенную для приличия, из чувства долга.
В полуоткрытую дверь слышно было, как скребут пол, и время от времени в поле зрения появлялась поденщица Мэриен Мони с круглой, как диск, физиономией, сморщенной не столько от возраста, сколько от усердного недоуменного разглядывания разных отдаленных предметов. Стоило только вспомнить о ней, и невольно хотелось улыбнуться, а когда вы пытались ее изобразить, вы представляли себе румяное печеное яблоко.
– Перестаньте-ка на минуту скрести, – сказала Батшеба через дверь. – Мне что-то послышалось.
Мэриен застыла со щеткой в руках.
Теперь уже совершенно ясно слышен был конский топот, приближающийся к дому со стороны фасада; топот замедлился, по стуку подков слышно было, как кто-то въехал в ворота и – это уже было совсем ни на что не похоже – прямо по замшелой дорожке подъехал к самому крыльцу. В дверь постучали кончиком хлыста или палкой.
– Какая наглость! – громким шепотом сказала Лидди. – Подъехать на лошади к самому крыльцу? Что, он не мог остановиться у ворот? Господи боже, да это какой-то джентльмен. Я вижу край его шляпы.
– Помолчи! – сказала Батшеба.
Лидди продолжала выражать явное беспокойство, но уже не устно, а всем своим видом.
– Почему миссис Когген не идет открыть? – продолжала Батшеба.
Тра-та-та! – забарабанили настойчиво в дубовую входную дверь.
– Мэриен! Подите вы! – умоляюще сказала Батшеба, взволнованная предчувствием всяких романтических возможностей.
– О, мэм! Вы только посмотрите на меня!
Батшеба скользнула взглядом по Мэриен и ничего не ответила.
– Лидди, пойди открой, – сказала она.
Лидди вскинула высоко вверх перепачканные выше локтей руки, все в пыли от хлама, который они разбирали, и умоляюще посмотрела на хозяйку.
– Ну вот, миссис Когген пошла! – промолвила Батшеба, и, так как она уже несколько секунд сидела затаив дыхание, вздох облегчения вырвался из ее стесненной груди.
Дверь отворили, и чей-то низкий голос спросил:
– Мисс Эвердин дома?
– Сейчас узнаю, сэр, – ответила миссис Когген и через минуту появилась в комнате. – Ну надо же, как назло, всегда со мной так получается, – сказала, входя, миссис Когген, очень здоровая на вид особа, у которой тембр голоса менялся в зависимости от характера речи и переживаемых ощущений. Миссис Когген умела месить оладьи и орудовать шваброй с чисто математической точностью, – она вошла, потрясая руками, облепленными тестом и свалявшейся в клейстер мукой. – Только я начну взбивать пудинг и руки у меня по локти в муке, вот тут, мисс, обязательно что-нибудь да случится, или нос у меня зачешется, так что удержу нет, умри, а почесать должна, или кто-нибудь постучится. Мистер Болдвуд спрашивает, может ли он повидать мисс Эвердин.
Платье для женщины – это часть ее самое, и всякий беспорядок в одежде – это то же, что телесный изъян, рана или ушиб.
– Не могу же я принять его в таком виде, – сказала Батшеба. – Ну что делать?
На фермах в Уэзербери еще не вошла в обычай вежливая форма отказа – хозяев нет дома, – поэтому Лидди предложила:
– Скажите, что вы вся перепачкались, глядеть страшно, и поэтому не можете к нему выйти.
– Да, так прямо и можно сказать, – окинув ее критическим взглядом, подтвердила миссис Когген.
– Скажите, что я не могу его принять – и все.
Миссис Когген сошла вниз и передала ответ так, как ей было поручено, но, не удержавшись, добавила по собственному почину:
– Мисс протирает бутылки, сэр, вся выгваздалась, глядеть страшно, вот почему она и не может.
– Ну хорошо, – с полным равнодушием произнес низкий голос. – Я только хотел спросить, слышно ли что-нибудь о Фанни Робин?
– Ничего, сэр, но вот, может, нынче вечером услышим. Уильям Смолбери отправился в Кэстербридж, где, говорят, ее дружок проживает, другие тоже по всей округе спрашивают.
Вслед за этими словами послышался стук копыт, он тут же затих в отдалении, и дверь захлопнулась.
– Кто это такой – мистер Болдвуд? – спросила Батшеба.
– Джентльмен-арендатор в Малом Уэзербери.
– Женатый?
– Нет, мисс.
– Сколько ему лет?
– Лет сорок, наверно, красивый такой, только суровый с виду, а богатый.
– Надо же, эта уборка! Вечно у меня какие-то оказии, не одно, так другое! – жалобно сказала Батшеба. – А почему он справлялся о Фанни?
– Да потому, что она сиротой росла и никого у нее близких не было, он ее и в школу отдал, а потом к вашему дяде пристроил. Так-то он очень добрый человек, но только – не дай бог!
– А что такое?
– Для женщины – безнадежное дело! Уж как только его не обхаживали – все девушки из нашей округи, из благородных семей и простые! Джейн Паркинс два месяца за ним, как тень, по пятам ходила, и обе мисс Тэйлорс год целый по нем убивались, а дочка фермера Айвиса сколько слез по нем пролила, двадцать фунтов стерлингов ради него на наряды ухлопала; и все зря, все равно как если бы она эти деньги просто в окно выбросила!
Тут снизу по лестнице взбежал какой-то карапуз и подошел к ним. Это был малыш кого-то из Коггенов, а эта фамилия, так же как и Смолбери, не менее распространена в здешней округе, чем Эвон и Дервент среди английских рек. Он всегда бежал к своим друзьям поделиться всем, что бы с ним ни случилось, – показать, как у него шатается зуб, или как он порезал палец, что в его глазах, разумеется, возвышало его над всеми другими мальчишками, с которыми ничего не произошло; и, конечно, он ждал, что ему скажут «бедный мальчик!», да так, чтобы в этом слышалось и сочувствие и похвала.
– А у меня есть пенни, – протянул нараспев юный Когген.
– Вот как? А кто тебе его дал, Тедди? – спросила Лидди.
– Ми-и-стер Бо-олд-вуд! Он дал мне пенни за то, что я открыл ему ворота.
– А что он тебе сказал?
– Он сказал: «Куда ты спешишь, мальчуган?» – а я сказал – в дом мисс Эвердин, вот куда; а он сказал: «Она почтенная женщина, мисс Эвердин?» – а я сказал: да.
– Вот противный мальчишка! Зачем же ты так сказал?
– А он дал мне пенни!
– Как у нас все сегодня нескладно получается! – недовольным тоном сказала Батшеба, когда малыш убежал. – Ступайте, Мэриен, или кончайте мыть пол, или займитесь чем-нибудь. Вам в ваши годы следовало бы быть замужем, жить своим домом, а не торчать у меня здесь.
– Ваша правда, мисс. Но ведь вот дело-то какое – сватались ко мне все бедняки, а я нос воротила, а чуть побогаче на меня и глядеть не хотели, вот я и осталась одна-одинешенька, как перст.
– А вам делали когда-нибудь предложение, мисс? – набравшись смелости, спросила Лидди, когда они остались одни. – Уж верно, от женихов отбою не было?
Батшеба молчала и, казалось, была не склонна отвечать, но соблазн похвастаться – и ведь она действительно имела на это право – был слишком силен для ее девичьего тщеславия, и она не удержалась, несмотря на то что была страшно раздосадована тем, что ее только что выставили старухой.
– Один человек когда-то очень добивался моей руки, – сказала она небрежным тоном многоопытной женщины, и в памяти ее возник прежний Габриэль Оук, когда он еще был фермером.
– Как это должно быть приятно! – воскликнула Лидди, ясно показывая всем своим видом, что она представляет себе, как это все было. – А вы ему отказали?
– Он был неподходящая для меня партия.
– Вот счастье-то, когда можно позволить себе отказать, ведь как оно в большинстве-то у девушек бывает – рады-радешеньки, кто бы ни подвернулся, спасибо скажут. Я даже представляю себе, как вы его отставили: «Нет, сэр, вы мне не ровня! Почище вашего меня добиваются, не вам чета!» Ведь вы в него не были влюблены, мисс?
– Не-ет! Но он мне немножко нравился.
– И сейчас нравится?
– Ну конечно нет. Что это там, чьи-то шаги?
Лидди вскочила и подбежала к окну, выходившему на задний двор, над которым сейчас уже сгущалась серая мгла надвигающихся сумерек. Изогнутая петлей вереница двигавшихся друг за другом крестьян приближалась к черному ходу. Эта медленно ползущая цепь, состоящая из отдельных звеньев, двигалась в едином целеустремлении, подобно тем удивительным морским животным, известным под названием сальповой колонии, которые, отличаясь друг от друга строением, движутся, подчиняясь единому импульсу, общему для всей колонии. Одни были в своих обычных белых холщовых блузах, другие в белесовато-коричневых из ряднины, заштопанной на груди, на спине, на рукавах, на плечах. Несколько женщин в деревянных башмаках, наподобие калош, замыкали шествие.
– Орда на нас целая идет, – прижавшись носом к стеклу, сказала Лидди.
– Очень хорошо. Мэриен, ступайте вниз и задержите их в кухне, пока я пойду переодеться, а потом проводите их ко мне в зал.
Глава X
Хозяйка и батраки
Полчаса спустя тщательно одетая Батшеба вошла в сопровождении Лидди в парадную дверь старинного зала, где в дальнем конце все ее батраки уже сидели на длинной скамье и низкой без спинки лавке. Батшеба села за стол, открыла учетную книгу и, взяв в руку перо, положила возле себя брезентовую сумку с деньгами, вытряхнув из нее сначала небольшую кучку монет. Лидди устроилась тут же рядом и принялась шить; время от времени она отрывалась от шитья и поглядывала по сторонам или с видом своего человека в доме, пользующегося особыми правами, брала в руки монету из кучки, лежавшей на столе, и внимательно разглядывала ее, причем на лице ее в это время было ясно написано, что она смотрит на нее исключительно как на произведение искусства, а ни в коем случае не как на деньги, которые ей хотелось бы иметь.
– Прежде чем начать, – сказала Батшеба, – я хочу с вами поговорить о двух делах. Первое, это то, что управитель уволен за воровство и что я решила теперь обойтись без управителя, буду управлять фермой сама, своим умом и руками.
Со скамьи довольно внятно донеслось изумленное «ого!».
– Второе вот что: узнали вы что-нибудь о Фанни?
– Ничего, мэм.
– А сделано что-нибудь, чтобы узнать?
– Я встретил фермера Болдвуда, – сказал Джекоб Смолбери, – и мы вместе с двумя его людьми обшарили дно Ньюмилского пруда, но ничего не нашли.
– А новый пастух справлялся в «Оленьей голове» в Иелбери, думали, может, она там на постоялом дворе, но никто ее там не видел, – сказал Лейбен Толл.
– А Уильям Смолбери не ездил в Кэстербридж?
– Поехал, мэм, только он еще не вернулся. Часам к шести обещал быть назад.
– Сейчас без четверти шесть, – сказала Батшеба, взглянув на свои часики. – Значит, он вот-вот должен вернуться. Ну а тем временем, – она заглянула в учетную книгу, – Джозеф Пурграс здесь?
– Да, сэр, то есть, мэм, я хотел сказать, – отозвался Джозеф. – Я самый и есть Пурграс.
– Кто вы такой?
– Да никто, по совести сказать, а как люди скажут – не знаю, ну им виднее.
– Что вы делаете на ферме?
– Вожу всякие грузы, сэр, а во время посева гоняю грачей да воробьев, а еще помогаю свиней колоть.
– Сколько вам причитается?
– Девять шиллингов девять пенсов, сэр, простите, мэм, да еще полпенса взамен того негожего, что я в прошлый раз получил.
– Правильно, и вот вам еще десять шиллингов в придачу, подарок от новой хозяйки.
Батшеба слегка покраснела оттого, что ей было немножко неловко проявлять щедрость на людях, а Генери Фрей, тихонько подобравшийся поближе, выразил откровенное удивление, подняв брови и растопырив пальцы.
– Сколько вам причитается – вы, там в углу, как вас зовут? – продолжала Батшеба.
– Мэтью Мун, мэм, – отозвалась какая-то странная фигура в блузе, которая висела на ней, как на вешалке; фигура поднялась со скамьи и направилась к столу, ступая не как все люди носками вперед, а выворачивая их чуть ли не колесом то совсем внутрь, то наоборот, как придется.
– Мэтью Марк, вы сказали? Говорите же, я не собираюсь вас обижать, – ласково добавила юная фермерша.
– Мэтью Мун, мэм, – поправил Генери Фрей сзади, из-за самого ее стула.
– Мэтью Мун, – повторила про себя Батшеба, пробегая блестящими глазами список в книге. – Десять шиллингов два с половиной пенса, правильно тут подсчитано?
– Да, мисс, – чуть слышно пролепетал Мэтью, голос его был похож на шорох сухих листьев, тронутых ветром.
– Вот, и еще десять шиллингов. Следующий, Эндрью Рэнди, вы, кажется, только что поступили к нам. Почему вы ушли с вашего последнего места?
– Пр-пр-про-шш-шу, ммэм, пр-прр-прр-прош-шш…
– Он заика, мэм, – понизив голос, пояснил Генери Фрей, – его уволили, потому как он только тогда внятно говорит, когда ругается, вот он, значит, своего фермера в таком виде и отделал, сказал ему, что он, мол, сам себе хозяин. Он, мэм, ругаться может не хуже нас с вами, а говорить так, чтобы не спотыкаясь, – это у него никак не выходит.
– Эндрью Рэнди, вот то, что вам причитается, – ладно, благодарить кончите послезавтра.
– Миллер Смирная… о, да тут еще другая, Трезвая – обе женщины, надо полагать?
– Да, мэм, мы тут, – в один голос пронзительно выкрикнули обе.
– Что вы делаете на ферме?
– Мусор собираем, снопы вяжем, кур да петухов с огородов кышкышкаем, почву для ваших цветочков колом рыхлим.
– Гм… Понятно. Как они, ничего эти женщины? – тихо спросила она у Генери Фрея.
– Ох, не спрашивайте, мэм! Непутевые бабенки, потаскушки обе, каких свет не видал! – захлебывающимся шепотом сказал Генери.
– Сядьте.
– Это вы кому, мэм?
– Сядьте.
Джозеф Пурграс сзади на скамье даже передернулся весь, и во рту у него пересохло от страха, как бы чего не вышло, когда он услышал краткое приказание Батшебы и увидел, как Генери, съежившись, отошел и сел в углу.
– Теперь следующий. Лейбен Толл, вы остаетесь работать у меня?
– Мне все одно, у вас или у кого другого, мэм, лишь бы платили хорошо, – ответил молодожен.
– Верно, человеку жить надо! – раздалось с того конца зала, куда только что, громко постукивая деревянными подошвами, вошла какая-то женщина.
– Кто эта женщина? – спросила Батшеба.
– Я его законная супруга, – вызывающе отвечал тот же голос.
Обладательница этого голоса выдавала себя за двадцатипятилетнюю, выглядела на тридцать, знакомые утверждали, что ей тридцать пять, а на самом деле ей было все сорок. Эта женщина никогда не позволяла себе, как некоторые иные молодые жены, выказывать на людях супружескую нежность, быть может потому, что у нее этого и в заводе не было.
– Ах так, – сказала Батшеба. – Ну что же, Лейбен, остаетесь вы у меня или нет?
– Останется, мэм, – снова раздался пронзительный голос законной супруги Лейбена.
– Я думаю, он может и сам за себя говорить?
– Что вы, мэм! Сущая пешка! – отвечала супруга. – Так-то, может, и ничего, да только дурак дураком.
– Хе-хе-хе! – захихикал молодожен, весь перекорежившись от усилия показать, что он ничуть не обижен таким отзывом, потому что, подобно парламентскому кандидату во время избирательной кампании, он с неизменным благодушием переносил любую взбучку.
Так, один за другим, были вызваны все остальные.
– Ну, кажется, я покончила с вами, – сказала Батшеба, захлопывая книгу и откидывая со лба выбившуюся прядку волос. – Что, Уильям Смолбери вернулся?
– Нет, мэм.
– Новому пастуху нужно подпаска дать, – подал голос Генери Фрей, снова стараясь попасть в приближенные и подвигаясь бочком к стулу Батшебы.
– Да, конечно. А кого ему можно дать?
– Каин Болл очень хороший малый, – сказал Генери, – а пастух Оук не посетует, что ему еще лет мало, – добавил он, с извиняющейся улыбкой повернувшись к только вошедшему пастуху, который остановился у двери, сложив на груди руки.
– Нет, я против этого не возражаю, – сказал Габриэль.
– Как это ему такое имя дали, Каин? – спросила Батшеба.
– Видите ли, мэм, мать его бедная женщина была, неученая. Святое Писание плохо знала, вот, стало быть, и ошиблась, когда крестила, думала – это Авель Каина убил, ну и назвала его Каином. Священник-то ее поправил, да уж поздно; из книги церковной никак нельзя ничего вычеркнуть. Конечно, это несчастье для мальчика.
– Действительно, несчастье.
– Ну да уж мы стараемся смягчить. Зовем его Кэйни. А мать его, бедная вдова, уж так горевала, все глаза себе выплакала. Отец с матерью у нее совсем нехристи были, ни в церковь, ни в школу ее не посылали, вот так оно и выходит, мэм, родителевы грехи на детях сказываются.
Тут мистер Фрей придал своей физиономии то умеренно меланхолическое выражение, кое приличествует иметь соболезнующему, когда несчастье, о котором идет речь, не задевает кого-нибудь из его близких.
– Так, очень хорошо, пусть Кэйни Болл будет подпаском. А вы свои обязанности знаете, вам все ясно, – я к вам обращаюсь, Габриэль Оук?
– Да, все ясно, благодарю вас, мисс Эвердин, – отвечал Оук, не отходя от двери. – Если я чего-нибудь не буду знать, я спрошу.
Он был совершенно ошеломлен ее удивительным хладнокровием. Конечно, никому, кто не знал этого раньше, никогда бы и в голову не пришло, что Оук и эта красивая женщина, перед которой он сейчас почтительно стоял, могли быть когда-то знакомыми. Но, возможно, эта ее манера держаться была неизбежным следствием ее восхождения по общественной лестнице, которое привело ее из деревенской хижины в усадебный дом с крупным владеньем.
Примеры этого можно найти и повыше. Когда Юпитер со своим семейством (в творениях позднейших поэтов) переселялся из своего тесного жилища на вершине Олимпа в небесную высь, его речи соответственно становились значительно более сдержанными и надменными.
За дверью в передней послышались размеренные, грузные и в силу этого не слишком торопливые шаги.
Все хором:
– Вот и Билли Смолбери вернулся из Кэстербриджа.
– Ну, что вы узнали? – спросила Батшеба, после того как Уильям, дойдя до середины зала, достал из шляпы носовой платок и тщательно вытер себе лоб от бровей до самой макушки.
– Я бы раньше вернулся, мисс, да вот непогода, – сказал он, тяжело потопывая сначала одной, потом другой ногой; тут все уставились ему на ноги и увидели, что сапоги его облеплены снегом.
– Давно собирался, высыпал-таки? – сказал Генери.
– Ну что же насчет Фанни? – спросила Батшеба.
– Так вот, мэм, ежели так без обиняков прямо сказать, сбежала она с солдатами.
– Не может быть, такая скромная девушка, как Фанни!
– Я вам сейчас все как есть доложу. Я в Кэстербридже прямо в казармы подался, вот они мне там и сказали, что одиннадцатый драгунский полк недавно с постоя снялся, а на его место другие войска пришли. А одиннадцатый на прошлой неделе на Мелчестер выступил, а там, может, и еще куда дальше двинут. Приказ-то им от начальства нежданно-негаданно пришел, – ну так уж оно, видно, положено, как тать в нощи, – они, говорят, и опомниться не успели, мигом снялись да и выступили. Говорят, мимо нас шли.
Габриэль слушал с интересом.
– Я видел, как они уходили, – сказал он.
– Да, – продолжал Уильям, – говорят, они там по главной улице этак лихо гарцевали, да еще с музыкой, и какой: «Покинул я девчонку». Все высыпали глазеть. А уж трубачи-то старались, и барабан так гудел, что, говорят, все нутро у людей переворачивалось, а девицы ихние да собутыльники в трактире на постоялом дворе, говорят, глаз не осушая, плакали.
– Но ведь они же не на войну ушли?
– Нет, мэм, но их отправили на место тех, кого, может, и на войну послали, а уж оно там одно с другим во как близко связано. Тут я, стало быть, про себя и решил, что Фаннин дружок не иначе как в том самом полку, а она, значит, за ним и ушла. Вот, мэм, все как по писаному и выходит.
– А вы его фамилию узнали?
– Нет, мэм, никто не знает. Похоже, он не просто солдат.
Габриэль помалкивал, задумавшись, у него на этот счет были кое-какие сомнения.
– Ну, во всяком случае, сегодня мы вряд ли что-нибудь еще узнаем, – заключила Батшеба. – Но так или иначе, пусть кто-нибудь из вас сбегает сейчас же к фермеру Болдвуду и расскажет ему то, что мы здесь слышали.
Она поднялась, но прежде, чем уйти, обратилась к собравшимся с маленькой речью; она произнесла ее с большим достоинством, а ее черное платье придавало ей солидность и внушительность, которой отнюдь не отличался ее язык.
– Так вот знайте, теперь у вас вместо хозяина будет хозяйка. Я еще сама не знаю ни своих сил, ни способностей в фермерском деле, но я буду стараться, как могу, и если вы будете хорошо мне служить, так же буду служить вам и я. А если среди вас есть еще мошенники и плуты (надеюсь, что нет), пусть не думают, что, если я женщина, так я не разберу, что хорошо, что плохо.
(Все). Нет, мэм.
(Лидди). Замечательно сказано.
– Вы еще не успеете глаза открыть, а я уже буду на ногах, я буду на поле, прежде чем вы подыметесь, вы только на поле выйдете, а я уже позавтракаю. Смотрите, я еще вас всех удивлю.
(Все). Да, мэм.
– Ну а пока до свиданья.
(Все). До свиданья, мэм.
Вслед за этим маленькая законодательница вышла из-за стола и направилась к выходу, шурша по полу шлейфом своего черного шелкового платья и волоча за собой приставшие к нему соломинки.
Лидди, проникнувшись подобающей случаю важностью, шествовала за ней следом несколько менее величественно, но, во всяком случае, явно подражая ей. Дверь за ними захлопнулась.
Глава XI
У казарм. Снег. Свидание
В этот снежный вечер, несколькими часами позже, унылая окраина маленького городка и военного постоя в нескольких милях к северу от Уэзербери представляла собой самое безотрадное зрелище, если только можно назвать зрелищем нечто состоящее главным образом из мглы.
В такой вечер самый веселый человек может загрустить, и ни ему самому, ни другим это не покажется странным; в такой вечер у людей восприимчивых любовь превращается в беспокойство, надежда в сомнение, а вера слабеет и становится смутной надеждой; в такой вечер воспоминания о прошлом не будят сожаления об упущенных возможностях, не бередят честолюбия, а ожидание будущего не воодушевляет к действию.
Перед нами проезжая дорога, проложенная по берегу речки, налево по ту сторону речки высокая каменная стена, по правую сторону дороги голая равнина, луга, перемежающиеся болотами, а вдали на горизонте волнистая гряда гор.
В такой местности переход от одного времени года к другому не бросается в глаза, как где-нибудь в лесу. Однако для человека наблюдательного он не менее явствен. Различие в том, что перемены, совершающиеся на глазах, не столь привычны и обыденны, как появление и опадание листвы. Многое происходит совсем не так незаметно и постепенно, как казалось бы естественным для этой погруженной в спячку равнины или топи. Каждый шаг приближающейся зимы отпечатывался здесь явно и резко – попрятались змеи, потемнели, потеряли свои веера папоротники, наполнились водой бочаги, поползли туманы, ссохлась и побурела трава, гнилушки рассыпались в пыль, и все затянуло снегом.
Этой кульминационной стадии равнина достигла сегодня вечером, и в первый раз за эту зиму все ее неровности обрели расплывчатую, лишенную очертаний форму, она ничего не напоминала, ни о чем не свидетельствовала и не имела никаких отличительных признаков, кроме того, что казалось последним пределом чего-то другого – нижним слоем снеговой выси. Из этого необозримого хаоса мятущихся хлопьев на равнину каждое мгновение накидывалась новая пелена, и от этого она с каждым мгновеньем становилась все более обнаженной. Огромный, затянутый мглою купол неба, нависший необыкновенно низко, казался осевшим сводом громадной темной пещеры, продолжающим оседать все ниже и ниже; и вас невольно охватывал страх, что эта снежная подкладка неба и снежная пелена, окутывающая землю, скоро сомкнутся в одну сплошную массу и между ними не останется никакого воздушного пространства.
Налево от дороги тянулась какая-то плоская полоса – речка, за ней выступало что-то отвесное – стена, и то и другое было окутано мраком. И все это, сливаясь, создавало впечатление общей массы. Если можно было представить себе что-нибудь темнее неба – это была стена, а если могло быть что-нибудь угрюмее этой стены – это была река, бегущая под ней. Смутно вырисовывающийся верх здания там и сям прорезался клиньями и зубцами труб, а на фасаде, в верхней его части, слабо обозначались продолговатые прямоугольники окон. Внизу, вплоть до самой воды, лежала ровная мгла без выступов и просветов.
Какое-то непостижимое чередование глухих ударов, озадачивающих своим мерным однообразием, с трудом пробивая пушистую мглу, слышалось в заснеженном воздухе. Это башенные часы где-то совсем рядом били десять. Они были на открытом воздухе, и колокол на несколько дюймов занесло снегом, так что он на время лишился голоса.
Снегопад теперь понемногу утихал. Уже не двадцать хлопьев падало сразу, а десять, и вскоре на место десяти ложилась одна снежинка. Спустя некоторое время на краю дороги, у самой воды, появилась какая-то фигура.
По ее очертаниям, если приглядеться в темноте, видно было только, что она маленькая. Вот и все, что можно было различить, но, по-видимому, это все-таки была человеческая фигура.
Она двигалась медленно, но без каких-либо особых усилий, потому что снега под ногами, хотя он и выпал внезапно, было не так много. Она двигалась, произнося вслух:
– Раз, два, три, четыре, пять.
После каждого слова маленькая фигурка делала несколько шагов. Теперь уже можно было догадаться, что она считала окна наверху, в высившейся перед ней стене. Пять обозначало пятое окно с краю.
Здесь фигурка остановилась и вдруг сделалась чуть ли не вдвое меньше. Она наклонилась. И вот комок снега полетел через реку к пятому окну. Он шлепнулся о стену несколькими ярдами ниже намеченной цели. Бросать снегом в окно – это, несомненно, была мужская затея, приведенная в исполнение женщиной. Ни один мужчина, если он когда-то в детстве подстерегал птичку, зайца или белку, не мог бы так по-дурацки швырять в цель.
Затем последовала еще попытка, и еще, и еще, пока мало-помалу вся стена не покрылась приставшими комьями снега. Наконец один комок попал в пятое окно.
Речка, если поглядеть на нее днем, была из тех глубоких, спокойных речек с ровным течением, которое, если что-либо замедляло его бег, сейчас же старалось преодолеть препятствие, образуя маленький водоворот. Сейчас, кроме тихого журчанья и всплескивания одного из этих невидимых водоворотиков, не слышно было ничего, никакого ответа на сигнал, если не считать долетавших откуда-то слабых звуков, которые грустно настроенный человек уподобил бы стонам, веселый – смеху, на самом же деле это просто вода хлюпала обо что-то вдали.
Еще комок снега ударился в стекло.
Затем послышался стук открывающегося окна, после чего оттуда раздался возглас:
– Кто это?
Голос был мужской, нисколько не удивленный.
Высокая стена была стеной казармы, а поскольку к бракам в армии относились снисходительно, то, по всей вероятности, свиданья и сообщения через реку были делом обычным.
– Это сержант Трой? – дрожащим голосом спросила чуть видная тень на снегу.
Это существо было так похоже на тень, а тот, наверху, до такой степени слился с самим зданием, что казалось, стена ведет разговор со снегом.
– Да, – осторожно ответили сверху из темноты. – А кто вы, как вас зовут, девушка?
– О Фрэнк, разве ты не узнаешь меня? – отвечала тень. – Я твоя жена, Фанни Робин.
– Фанни! – воскликнула стена в полном изумлении.
– Да, – пролепетала девушка, едва переводя дух от волнения. Было что-то такое в ее голосе, что не вязалось с представлением о жене, и по его манере говорить трудно было предположить, что это муж. Разговор продолжался.
– Как ты добралась сюда?
– Я спросила, которое окно твое. Не сердись на меня.
– Я не ждал тебя сегодня вечером. По правде сказать, мне и в голову не приходило, что ты можешь прийти. Это просто чудо, что ты меня разыскала. Я завтра дежурю.
– Ты же сам сказал, чтобы я пришла.
– Да я просто так сказал, что ты можешь прийти.
– Я так и поняла, что могу прийти. Но ведь ты рад видеть меня, Фрэнк?
– О да, конечно.
– Ты можешь сойти ко мне?
– Нет, дорогая Фанн, никак не могу. Уже вечерний сигнал давно протрубили, ворота закрыты, а увольнительного пропуска у меня нет. Мы здесь все равно как в тюрьме до завтрашнего утра.
– Значит, я тебя до тех пор не увижу? – Голос ее дрогнул, в нем слышалось глубокое отчаяние.
– Как же ты добралась сюда из Уэзербери?
– Часть пути я шла пешком, кое-где меня подвезли.
– Вот удивительно.
– Да, я и сама себе удивляюсь. Фрэнк, когда это будет?
– Что?
– То, что ты обещал.
– Я что-то не помню.
– Нет, ты помнишь! Не говори так. Если бы ты знал, как мне тяжело. Ты заставляешь меня говорить о том, о чем ты должен был бы заговорить первый.
– Ну, не все ли равно, скажи ты.
– Ах, неужели мне придется… Фрэнк, ты… когда мы с тобой поженимся, Фрэнк?
– А, вот о чем. Ну знаешь, ты сначала должна позаботиться о свадебном платье.
– У меня есть деньги. Это будет по церковному оглашению или по свидетельству?
– Я думаю, по оглашению.
– А мы с тобой в разных приходах.
– Разве? Ну и что же?
– Я живу в приходе Святой Марии, а у вас тут другой приход. Значит, огласить должны и там и тут.
– Это такой закон?
– Да. Ах, Фрэнк, я боюсь, ты считаешь меня назойливой. Умоляю тебя, дорогой Фрэнк, не думай этого, я так тебя люблю. И ты столько раз говорил, что женишься на мне… а я… я…
– Ну не плачь, что ты! Вот это уж совсем глупо. Раз я говорил – значит так оно и будет.
– Так, значит, я могу подать на оглашение у себя в приходе, а ты подашь у себя?
– Да.
– Завтра?
– Нет, не завтра. Мы сделаем это через несколько дней.
– У тебя есть разрешение от начальства?
– Нет, пока еще нет.
– Ах, ну как же так. Ты ведь мне сам говорил, что ты его вот-вот получишь, еще когда вы стояли в Кэстербридже.
– Дело в том, что я просто забыл спросить. Я ведь не думал, что ты придешь, для меня это такая неожиданность.
– Да, да, правда. Я знаю, это нехорошо, что я тебя так донимаю. Я сейчас уйду. А ты придешь ко мне завтра на Норс-стрит, дом миссис Туилс, правда? Мне не хочется приходить к вам в казармы. Тут столько гулящих женщин, и меня за такую посчитают.
– Может статься… Я приду к тебе, дорогая. Спокойной ночи.
– Спокойной ночи, Фрэнк, спокойной ночи!
И снова послышался шум закрывающегося окна. Маленький комочек двинулся в темноту, а когда он уже почти миновал казарму, за стеной послышались приглушенные возгласы:
– Ого, сержант, ого-го! – Затем тут же протестующий голос, и все это потонуло в захлебывающемся, сдавленном хохоте, который уже трудно было отличить от тихого журчанья и всплесков маленьких водоворотов на реке.
Глава XII
Фермеры. Правило. Исключение
Первым наглядным доказательством решения Батшебы фермерствовать самолично, а не через доверенных лиц, было ее появление на хлебном рынке в Кэстербридже в ближайший ярмарочный день.
Низкое, просторное помещение, крытое бревнами, опирающимися на массивные столбы, недавно получившее почетное наименование Хлебной биржи, было битком набито возбужденно спорящими мужчинами, которые, сойдясь по двое, по трое, горячо убеждали один другого, причем говоривший, глядя куда-то вбок и прищурив один глаз, искоса, украдкой следил за лицом слушающего. У большинства из них в руках был свежесрезанный ясеневый сук, то ли для того, чтобы опираться при ходьбе, то ли для того, чтобы тыкать им в свиней, овец или спины зевак, словом, во все, что мешало им по дороге сюда и в силу этого заслуживало подобного обращения. Во время беседы каждый проделывал со своим суком различные упражнения: то закидывал его за спину и, подсунув концы под руки, сгибал дугой, или, держа обеими руками за концы, придавал ему форму лука, или гнул изо всей силы об пол, а то поспешно засовывал под мышку, когда приходилось пускать в ход обе руки, чтобы высыпать на ладонь горсть зерна из мешка с образцами, тут же после оценки швырнуть эту горсть на пол – обстоятельство, хорошо известное нескольким расторопным городским курам, которые незаметно пробирались сюда и в ожидании предвкушаемого угощения зорко косились по сторонам, вытянув шеи.
Среди этих дюжих фермеров скользила женская фигурка – одна-единственная женщина во всем помещении. Она была изящно и даже нарядно одета. Она двигалась между ними, словно легкая коляска между грузными телегами, голос ее рядом с их голосами казался нежным пением рядом с грубыми окриками, ее присутствие среди них ощущалось, как свежее дуновение ветра между пышущими жаром печами. Чтобы занять здесь такое же положение, как и все, требовалось проявить некоторую твердость характера, значительно большую, чем представляла себе Батшеба, потому что в первый момент, когда она только что появилась здесь, все разговоры и споры прекратились, все головы повернулись к ней и застыли, уставившись на нее изумленным взглядом.
Среди этой толпы фермеров Батшеба знала разве что двух-трех человек, и она прежде всего подошла к ним. Но раз уж она вознамерилась показать себя деловой женщиной, то надо было вступать в деловые отношения, независимо от того, знакома она с кем-то или нет, и, собрав все свое мужество, она стала обращаться и к другим, к людям, о которых она только слышала. У нее тоже были с собой мешочки с образцами зерна, и постепенно она тоже наловчилась высыпать зерно из мешочка на свою узкую ладонь и ловко, по-кэстербриджски, подносила его собеседнику для осмотра.
Что-то неуловимое в очертаниях ее полураскрытых алых губ, обнажавших ровный ряд верхних зубов, и в приподнятых уголках рта, когда она, вызывающе закинув голову, спорила с каким-нибудь рослым фермером, говорило о том, что в этом маленьком существе таятся богатые возможности, которые могут ввергнуть ее в рискованные любовные авантюры, и что у нее хватит смелости пуститься в них очертя голову. Но в глазах ее была какая-то мягкость, неизменная мягкость, и не будь они такие темные, может быть, взгляд ее казался бы слегка затуманенным; на самом же деле он был остро-пронизывающим, а это мягкое выражение делало его бесхитростно-чистым.
Может показаться удивительным, что эта цветущая, полная сил и задора молодая женщина всегда позволяла своим собеседникам высказать свои соображения до конца, прежде чем выдвигать свои. Когда возникали споры о ценах, она твердо стояла на своей цене, как оно и подобает торговцу, и по свойственной всем женщинам манере настойчиво сбивала цену конкурента. Но твердость ее была не без покладистости, и этим она отличалась от упрямства, а в ее манере сбивать цену было что-то наивное, что никак не вязалось со скаредностью.
Фермеры, с которыми она не вела дел (а их было значительное большинство), спрашивали один у другого – кто это такая? И в ответ слышали:
– Племянница фермера Эвердина; унаследовала от него ферму в Верхнем Уэзербери; выгнала управителя и заявила, что всем будет заправлять сама.
И тогда тот, кто спрашивал, с сомнением качал головой.
– Да, жаль, конечно, что она такая своевольная, – соглашался собеседник. – Но мы-то здесь, право, должны быть довольны, – она словно солнышко ясное светит в нашем старом сарае. Ну, да такая пригожая девушка, гляди, ее мигом кто-нибудь подцепит.
Было бы не совсем любезно предположить, что самая новизна ее присутствия здесь, в этой необычной для женщины роли, привлекала к ней внимание не меньше, чем ее красота и грация. Как бы там ни было, она возбуждала всеобщее любопытство, и, что бы ни принес ей этот ее субботний дебют как фермеру в смысле продажи и покупки, для Батшебы-женщины он был несомненным триумфом. Впечатление, производимое ею, было настолько сильно, что в нескольких случаях она инстинктивно воздержалась от заключения каких бы то ни было сделок, а проплыла королевой среди этих богов пашни, подобно маленькому Юпитеру в юбке.
Многочисленные свидетельства ее притягательной силы были особенно очевидны благодаря одному поразительному исключению. У женщины на такие вещи как будто глаза на затылке. Батшеба каким-то чутьем, не глядя, сразу обнаружила в этом стаде одну паршивую овцу.
Сначала это ее несколько озадачило. Будь на той или другой стороне явное меньшинство, это было бы вполне естественно. Если бы никто не взглянул на нее, она бы отнеслась к этому с полным равнодушием, – бывали такие случаи. Если бы глазели все, не исключая и этого человека, она приняла бы это как должное, – так оно случалось и раньше. Но в этом единичном исключении было что-то загадочное.
Она мельком отметила некоторые черты внешности этого строптивца. С виду это был джентльмен с резко очерченным римским профилем, смуглым цветом лица, казавшимся бронзовым на солнце. Он держался очень прямо, манеры у него были сдержанные. Но что особенно выделяло его в толпе – это чувство собственного достоинства. По-видимому, он не так давно переступил порог зрелости, за которым внешность мужчины естественно – а женщины с помощью искусственных мер – перестает меняться так примерно на протяжении двенадцати – пятнадцати лет: это возраст от тридцати пяти до пятидесяти, и ему могло быть любое количество лет в этих пределах.
Можно прямо сказать, что женатые сорокалетние мужчины очень охотно и расточительно мечут взоры на любые образцы весьма несовершенной женской красоты, встречающиеся им на пути. Возможно, – как у игроков в вист, играющих не на деньги, а из любви к искусству, – сознание того, что им при любых обстоятельствах не грозит страшная необходимость расплачиваться, весьма повышает их предприимчивость. Батшеба была твердо убеждена, что этот бесчувственный субъект не женат.
Когда торг на бирже кончился, она поспешила к Лидди, поджидавшей ее возле желтого шарабана, в котором они приехали в город. Лидди тут же запрягла лошадку, и они поехали домой. Покупки Батшебы – чай, сахар, свертки с материей – громоздились сзади и всем своим видом – цветом, формой, общими очертаниями и еще чем-то неуловимым – явно показывали, что они являются собственностью этой юной леди-фермерши, а не бакалейщика и суконщика.
– Ну вот я и отмучилась, Лидди. Дальше будет не так трудно, потому что они уже привыкнут видеть меня здесь. Но сегодня было просто ужас как страшно, все равно что стоять под венцом – все так и пялят глаза.
– А я знала, что так будет, – сказала Лидди. – Мужчины такой ужасный народ – им только бы на вас пялиться.
– Но там был один здравомыслящий человек, он даже ни разу не удосужился взглянуть на меня. – Она сообщила это Лидди в такой форме, чтобы у той ни на минуту не могло возникнуть подозрение, что ее хозяйка несколько задета этим. – Он очень недурен собой, – продолжала она, – статный такой, я думаю, ему, должно быть, лет сорок. Ты не знаешь, кто это мог быть?
Лидди не имела представления.
– Ну неужели тебе никто в голову не приходит? – разочарованно промолвила Батшеба.
– Нет, никого такого но припоминаю; да не все ли вам равно, коли он даже и внимания на вас не обратил! Вот если бы он больше других на вас глазел, тогда, конечно, оно было бы важно.
Батшебу разбирало совершенно противоположное чувство, и они молча продолжали путь. Вскоре с ними поравнялась открытая коляска, запряженная прекрасной породистой лошадью.
– Ах! Вот же он! – вскричала Батшеба.
Лидди повернула голову.
– Этот! Так это же фермер Болдвуд! Тот самый, который приходил в тот день и вы еще не могли его принять.
– Ах, фермер Болдвуд, – прошептала Батшеба и подняла на него глаза в тот самый момент, когда он обгонял их. Фермер не повернул головы и, уставившись куда-то вдаль прямо перед собой, проехал вперед с таким безучастным и отсутствующим видом, как если бы Батшеба со всеми ее чарами была пустым местом.
– Интересный мужчина, а как по-твоему? – заметила Батшеба.
– Да, очень. И все так считают, – отозвалась Лидди.
– Странно, почему это он такой замкнутый, ни на кого не смотрит и как будто даже не замечает ничего кругом.
– Говорят – только ведь кто знает, правда ли, – будто он, когда еще совсем молодой да непутевый был, пострадал шибко. Какая-то женщина завлекла его да и бросила.
– Это так только говорят, а мы очень хорошо знаем, женщина никогда не бросит, это мужчины всегда женщин обманывают. Я думаю, он просто от природы такой замкнутый.
– Да, верно, от природы, я тоже так думаю, мисс, не иначе как от природы.
– Но, конечно, это как-то интересней представить себе, что с ним, бедным, так жестоко поступили. Может, это и правда.
– Правда, правда, мисс! Так оно, верно, и было. Чует мое сердце, что так и было.
– Впрочем, нам всем свойственно представлять себе людей в каком-то необыкновенном свете. А может быть, тут всего понемножку, и то и другое: когда-то с ним жестоко поступили и от природы он такой сдержанный.
– О нет, мисс, как может быть и то и другое!
– Да так оно больше похоже на правду.
– А верно, так оно и есть. Я тоже считаю, что это больше похоже на правду. Можете мне поверить, мисс, так оно, должно быть, и есть.
Глава XIII
Гадание по Библии. Письмо-шутка на Валентинов день
Это был канун Валентинова дня, воскресенье тринадцатого февраля. В фермерском доме уже отобедали, и Батшеба, за неимением другого собеседника, позвала к себе посидеть Лидди. Зимой в сумерки, пока еще не были зажжены свечи и закрыты ставни, старый замшелый дом выглядел особенно уныло; самый воздух в нем казался таким же ветхим, как стены. В каждом углу, заставленном мебелью, держалась своя температура, потому что камин в этой половине дома топили поздно, и до тех пор, пока наступивший вечер не скрадывал все громоздкости и недостатки, новое пианино Батшебы, которое в других фамильных летописях уже было старым, казалось особенно скособочившимся на покоробленном полу. Лидди болтала не умолкая, совсем как маленький, неглубокий, но непрестанно журчащий ручеек. Ее присутствие не отягощало ум работой, но не давало ему погрузиться в спячку.
На столе лежала старая Библия in quarto в кожаном переплете.
Лидди, глядя на нее, спросила Батшебу:
– А вы никогда не пробовали, мисс, гадать ключом по Библии о своем суженом?
– Что за глупости, Лидди! Как будто гаданьем что-то можно узнать.
– Что ни говорите, а все-таки в этом что-то есть.
– Чепуха, милочка.
– А знаете, как при этом сердце начинает колотиться! Ну конечно, кто верит, а кто нет; я верю.
– Ну хорошо, давай попробуем! – вскочив с места, вскричала Батшеба, вдруг загоревшись идеей гаданья и нимало не смущаясь тем, что ее служанка Лидди может удивиться такой непоследовательности. – Поди принеси ключ от входной двери.
Лидди пошла за ключом.
– Вот только что сегодня воскресенье, – промолвила она, вернувшись. – Может, это нехорошо.
– Что хорошо в будни, то хорошо и в воскресенье, – заявила ее хозяйка непререкаемым тоном.
Открыли книгу с потемневшими от времени листами; на многих зачитанных страницах текст был совершенно вытерт указательными перстами давнишних читателей, которые, читая по складам, старательно водили пальцем от слова к слову, чтобы не сбиться. Батшеба выбрала текст из Книги Руфи и пробежала глазами священные строки. Они поразили и взволновали ее. Их отвлеченная мудрость дразнила воплощенное сумасбродство. Сумасбродка густо покраснела, но не отступилась и положила ключ на открытую страницу. Выцветшее ржавое пятно на месте, где лег ключ, явно свидетельствовало о том, что старая Библия не первый раз используется для этих целей.
– Ну, теперь смотри и молчи, – сказала Батшеба.
Она медленно произнесла выбранные строки, толкнув книгу; книга сделала полный оборот. Батшеба вспыхнула.
– На кого вы загадали? – с любопытством спросила Лидди.
– Не скажу.
– А вы заметили, мисс, как мистер Болдвуд себя нынче утром в церкви показывал? – продолжала Лидди, ясно давая понять своим вопросом, куда устремлены ее мысли.
– Нет, как я могла заметить, – с полной невозмутимостью отвечала Батшеба.
– Но ведь его место как раз против вашего, мисс.
– Знаю.
– И вы не видели, как он себя вел?
– Ну я же тебе говорю, конечно нет.
Лидди сделала невинное лицо и плотно сжала губы. Это было так неожиданно, что несколько огорошило Батшебу.
– А что же он такое делал? – помолчав, не выдержала она.
– Ни разу за всю службу даже головы не повернул поглядеть на вас.
– А зачем ему глядеть? – сердито покосившись на нее, спросила хозяйка. – Я его об этом не просила.
– Нет, но ведь все на вас обращают внимание, чудно, что он только один не замечает. Вот он такой! Богатый, джентльмен, ни до кого ему дела нет.
Молчание Батшебы давало понять, что у нее на этот счет свое особое мнение, недоступное пониманию Лидди, а не то что ей нечего сказать.
– Боже мой, – внезапно воскликнула она, – а я ведь совсем забыла про эту открытку на Валентинов день, которую я купила вчера.
– Для кого, мисс? – спросила Лидди. – Для фермера Болдвуда?
Это было одно-единственное имя из всех не имевшихся в виду, которое в эту минуту показалось Батшебе наиболее подходящим.
– Да нет. Это для маленького Тедди Коггена. Я обещала ему что-нибудь подарить, вот это будет для него приятный сюрприз. Подвинь-ка сюда мой секретер, Лидди. Я сейчас ее надпишу.
Батшеба достала из секретера ярко размалеванную открытку с тисненым узором, которую она купила в прошлый ярмарочный день в лучшей писчебумажной лавке в Кэстербридже. В середине открытки была маленькая белая вставка, в форме овала, где можно было написать несколько строчек более подходящих адресату и соответствующих случаю, нежели какая-нибудь печатная надпись.
– Вот здесь надо что-нибудь написать, – сказала Батшеба. – Что бы такое придумать?
– Да что-нибудь вроде этого, – живо подсказала Лидди. —
- Алая роза,
- Синий василек,
- Но всех милей гвоздичка,
- Как ты, мой голубок.
– Отлично, так и напишем. Очень подходит для такого бутуза, – сказала Батшеба.
Она написала стишок мелким, но разборчивым почерком, вложила открытку в конверт и окунула перо, чтобы надписать кому.
– А вот было бы смеху послать это старому дураку Болдвуду, то-то бы он удивился! – высоко подняв брови, вскричала неугомонная Лидди, которую так и тянуло вернуться к прежней теме, и она прыснула со смеху, в то же время немножко робея втайне, потому что ведь это был такой почтенный и такой благородный джентльмен.
Батшебе показалось, что эта идея стоит того, чтобы над ней подумать. Болдвуд начинал не на шутку раздражать ее. Этакий непреклонный Даниил в ее царстве, которого ничто не может заставить повернуть голову в ее сторону, когда, казалось бы, так естественно последовать общему примеру и обратить на нее восхищенный взор. Конечно, это непризнание или отступничество, в сущности, не так уж трогало ее, а все-таки было немножко обидно, что самый уважаемый и влиятельный человек во всем приходе не желает ее замечать, и вот такая болтушка, как Лидди, судачит об этом. Поэтому сначала мысль Лидди отнюдь не показалась ей забавной, а скорее раздосадовала ее.
– Нет, этого я не сделаю. Он не поймет, что это шутка.
– Он будет думать и терзаться, что это может значить! – не унималась Лидди.
– Правда, мне не так уж хочется посылать эту открытку Тедди, – задумчиво промолвила Батшеба. – Он иногда бывает просто несносный.
– Бывает, бывает!
– Давай-ка сделаем, как мужчины, – бросим монетку, – со скучающим видом сказала Батшеба. – Выпадет герб – Болдвуд, решетка – Тедди. Нет, нехорошо метать монету в праздник, это уж и впрямь искушать дьявола.
– А вы загадайте на молитвеннике, в этом не может быть греха, мисс.
– Отлично. Если он упадет раскрытый – Болдвуду, закрытый – Тедди. Нет, конечно, он раскроется, когда будет падать. Раскрытый будет Тедди, закрытый – Болдвуду.
Молитвенник взлетел в воздух и, не раскрывшись, упал на стол.
Батшеба, делая вид, что подавляет зевоту, взяла перо и, нимало не задумываясь, невозмутимо написала на конверте имя и адрес Болдвуда.
– Зажги свечу, Лидди. Посмотрим, какую нам выбрать печать. Вот голова единорога – ничего интересного. Это что такое – два голубка, нет, не годится. Надо, чтобы было что-нибудь необыкновенное, правда, Лидди? Вот эта с каким-то девизом, я помню, что-то очень забавное, только сейчас не разберу. Ну что ж, попробуем эту, а если она не подойдет, поищем другую.
И она наложила, как должно, большую красную печать. Потом вгляделась в горячий сургуч, чтобы разобрать слова.
– Замечательно! – воскликнула она, весело подкидывая письмо. – Вот уж это кого хочешь рассмешит, самого пастора, да еще с причетником вместе.
Лидди нагнулась разглядеть печать и прочла: «Женись на мне».
В тот же вечер письмо было отправлено и пришло в кэстербриджскую почтовую контору, где оно вместе со многими другими подверглось надлежащей сортировке, и на следующее утро снова вернулось в Уэзербери.
Так, от нечего делать, легкомысленно и беспечно, совершилось это дело. Любовь как зрелище – это было нечто хорошо знакомое Батшебе; но о любви как о душевном переживании она не имела ни малейшего представления.
Глава XIV
Действие письма. Восход солнца
В сумерки под вечер, в Валентинов день, Болдвуд, как обычно в это время, сел ужинать у пылающего камина. Перед ним на камине стояли часы с мраморной фигурой орла, и между распростертыми крыльями этого орла стояло письмо, присланное Батшебой.
Взгляд холостяка подолгу останавливался на этом письме, пока большая красная печать не отпечаталась у него в глазу кроваво-красным пятном; он ел, запивая из бокала, а слова на печати, которые он, конечно, не мог разобрать отсюда, так и стояли у него перед глазами: «Женись на мне».
Этот дерзкий вызов был подобен некоторым кристаллам, которые, будучи сами по себе бесцветны, принимают окраску окружающей их среды. Здесь, в этой строгой столовой, где ничему легкомысленному не было места, где атмосфера пуританского воскресенья царила всю неделю, это письмо с девизом утратило свою игривость и вместо присущего ему шутливого тона приобрело глубоко торжественную внушительность, проникнувшись ею из всего, что его окружало.
С той самой минуты утром, когда он получил это послание, Болдвуда не покидало странное ощущение, что его размеренная жизнь начинает медленно нарушаться, подчиняясь какому-то сладко волнующему чувству. Пока это было нечто смутно тревожащее, вроде первых плавающих водорослей, обнаруженных Колумбом, – что-то ничтожно малое, приоткрывавшее беспредельные возможности.
Это письмо должно было иметь какие-то побудительные причины. Что это мог быть такой пустяк, о котором и говорить-то не стоило, – этого Болдвуд, конечно, не знал. Ему это даже не приходило в голову. Человеку, одураченному чьим-нибудь поступком, трудно себе представить, что следствие поступка не зависит от того, совершен ли он по внутреннему побуждению или подсказан случайными обстоятельствами, – результат от этого не меняется. Огромное различие между тем, как завязывается цепь событий и как ход этих событий направляется в определенное русло, незаметно для человека, пострадавшего от их исхода.
Когда Болдвуд пошел спать, он взял письмо с собой и воткнул его в раму своего зеркала. Он ощущал его присутствие, даже не глядя на него, даже когда повернулся к нему спиной. Первый раз в жизни с Болдвудом случилось нечто подобное. То же самое ослепление, которое заставляло его воспринимать это письмо как нечто серьезно обоснованное, не позволяло ему даже заподозрить в нем пустую, дерзкую шутку. Он снова поглядел в его сторону. В таинственной темноте ночи перед ним смутно вставал образ незнакомки, приславшей письмо. Чья-то рука, женская рука, водила пером по этой бумаге, где начертано его имя; ее глаза, глаза, которых он не видел, следили за начертанием каждой буквы, а мысли ее в это время устремлялись к нему. Почему она думала о нем? Ее рот, ее губы – а какие они – алые, бледные, полные, сморщенные? – непрестанно изменяли выражение, в то время как перо скользило по бумаге и уголки рта трепетно вздрагивали? А что они выражали?
У этого видения женщины, пишущей письмо, как бы иллюстрирующего написанные слова, не было сколько-нибудь определенного облика. Это была какая-то призрачная тень, что в известной мере соответствовало действительности, так как сама виновница письма спала сейчас крепким сном, не думая ни о любви, ни о каких письмах на свете.
Стоило Болдвуду забыться сном – видение облекалось в какую-то форму и уже переставало быть призраком, а очнувшись, он видел перед собою письмо как бы в подтверждение своего сна.
Ночь была лунная, и луна светила как-то по-особенному. В окно падал отраженный свет, и его бледное сиянье, подобно отблеску сверкающего снега, отсвечивало вверх, причудливо озаряя потолок, отбрасывая неожиданные тени и освещая углы, обычно скрытые в тени.
Содержание письма не так взволновало Болдвуда, как самый факт его получения. Среди ночи ему внезапно пришло в голову, нет ли в конверте чего-нибудь еще, кроме обнаруженный им открытки. Он вскочил с кровати и в призрачном лунном свете схватил письмо, вытащил открытку, судорожно встряхнул конверт, провел пальцем внутри. Нет, больше ничего не было. Он снова, в который раз, пристально уставился на вызывающую красную печать. «Женись на мне», – громко произнес он.
Сдержанный, чопорный фермер снова вложил письмо в конверт и сунул его в раму зеркала. Мимоходом он взглянул на свое отражение и увидел бледное лицо с какими-то неопределенными чертами; увидел плотно сжатые губы, широко раскрытые, блуждающие глаза. Ему стало как-то неприятно и не по себе оттого, что он так взвинчен, и он снова улегся в постель.
Но вот занялся рассвет. Было еще так рано, когда Болдвуд встал и оделся, что, несмотря на ясное, безоблачное небо, все казалось сумрачным, как в хмурый, ненастный день. Он спустился вниз, вышел из дому и пошел направо к калитке, выходившей на поле. Подойдя к изгороди, он остановился и, опершись на нее, огляделся кругом.
Солнце всходило медленно, как всегда в это время года, и небо, почти фиолетовое над головой и свинцовое на севере, было затянуто мглой на востоке, где над заснеженным склоном или пастбищем Верхнего Уэзербери, словно присев отдохнуть на гребне, раскаленная, без лучей, пока еще только одна видимая половина солнца горела как красный шар на белом поду очага. Все вместе скорее походило на закат, как новорожденный младенец на древнего старца.
В обе другие стороны равнина, занесенная снегом, казалась настолько одного цвета с небом, что с первого взгляда нельзя было различить линию горизонта. А в общем и здесь было то же описанное ранее фантастическое перемещение света и тени, какое наблюдается в пейзаже, когда сверкающая яркость, присущая небу, переходит на землю, а темные тени земли – на небо. Низко на западе висела ущербная луна, мутная, желтая с прозеленью, словно потускневшая медь.
Рассеянно глядя по сторонам, Болдвуд машинально отмечал, как крепко схватило ледяной коркой снег на полях, который сейчас, в красном утреннем свете, сверкал, отливая, как мрамор; как там и сям на склоне засохшие пучки трав, скованные ледяными сосульками, поднимались над гладкой бледной скатертью, словно хрупкие изогнутые бокалы старого венецианского стекла, и как следы нескольких птиц, прыгавших, как видно, по рыхлому снегу, так и сохранились до поры до времени, скрепленные льдом. Приглушенный шум легких колес вывел его из задумчивости. Болдвуд обернулся и посмотрел на дорогу. Это была почтовая тележка, расшатанный двухколесный вагончик, который, казалось, вот-вот опрокинется от ветра. Почтарь протянул ему письмо. Болдвуд схватил его и надорвал конверт, полагая, что это еще одно анонимное послание, – у большинства людей представление о вероятности – это просто ощущение, что случившееся должно непременно повториться.
– Мне думается, это письмо не вам, сэр, – сказал почтарь, не успев остановить Болдвуда. – Имени-то на нем нет, но похоже, это вашему пастуху.
Болдвуд спохватился и прочел написанное на конверте:
Новому пастуху
Ферма Уэзерберивозле Кэстербриджа
– Ах, как это я так ошибся! Письмо вовсе не мне. И не моему пастуху, а пастуху мисс Эвердин. Уж вы лучше вручите это сами Габриэлю Оуку и скажите, что я распечатал его по ошибке!
В эту минуту на самом верху склона, на фоне пылающего неба, показалась темная фигура, словно черный обгоревший фитиль в пламени горящей свечи. Фигура двинулась и начала быстро и решительно переходить с места на место, перенося какие-то плоские квадратные предметы, пронизанные солнечными лучами. Следом за нею двигалась маленькая фигурка на четырех ногах.
Высокая фигура был не кто иной, как Габриэль Оук, маленькая – его пес Джорджи; перемещаемые с одного места на другое квадратные предметы – плетеные загородки из прутьев.
– Погодите, – сказал Болдвуд. – Вон он сам на холме. Я передам ему письмо.
Для Болдвуда это было уже не просто письмо, адресованное другому. Это был как нельзя более удобный случай. Он вышел на занесенное снегом поле, и по сосредоточенному выражению его лица видно было, что он что-то задумал.
Габриэль тем временем уже стал спускаться по правому склону холма. И красный солнечный свет брызнул в ту же сторону и уже коснулся видневшейся вдали солодовни Уоррена, куда, по-видимому, и направлялся пастух.
Болдвуд следовал за ним на некотором расстоянии.
Глава XV
Утренняя встреча. Еще одно письмо
Пурпурно-оранжевый свет, разгоравшийся снаружи, не проникал внутрь солодовни, которая, как всегда, была освещена соперничающим с ним светом тех же оттенков, исходившим из сушильной печи.
Солодовник, который спал всего несколько часов не раздеваясь, сидел сейчас возле небольшого столика о трех ножках и завтракал хлебом с копченой грудинкой. Он обходился без всяких тарелок, а отрезал себе ломоть хлеба и, положив его прямо на стол, клал на него кусок грудинки, на грудинку намазывал слой горчицы и все вместе сверху посыпал солью; затем все это нарезалось вертикально, сверху вниз, большим карманным ножом, который всякий раз ударялся лезвием о стол, отрезанный кусок подцеплялся на кончик ножа и отправлялся куда следовало.
Отсутствие зубов у солодовника, по-видимому, не отражалось на его способности перемалывать пищу. Он обходился без них уже столько лет, что перестал ощущать свою беззубость как недостаток, ибо приобрел взамен нечто более удобное – твердые десны. Вот уж поистине можно было сказать, что, хотя солодовник и приближался к могиле, он приближался к ней подобно тому, как гипербола приближается к прямой, – чем ближе он к ней подвигался, тем расстояние между ними убывало все медленнее, так что в конце концов казалось сомнительным, сойдутся ли они когда-нибудь.
В зольнике сушильни пеклась кучка картофеля и кипел горшок с настоем из жженого хлеба, именуемым «кофеем», – даровое угощение для всякого, кто бы ни зашел, ибо солодовня Уоррена, за отсутствием в деревне трактира, была чем-то вроде деревенского клуба.
– А что, правду я говорил, говорил, погожий будет день, – глядь, ночью мороз и ударил.
Речь эта внезапно ворвалась в солодовню из только что открывшейся двери, и Генери Фрей, сбивая на ходу снег, налипший на башмаках, и топая, проследовал к сушильне. Солодовник, по-видимому, нисколько не был удивлен этим громогласным вторжением; здесь при встрече между своими часто обходились безо всяких словесных и прочих церемонных учтивостей, и сам он, пользуясь этой свободой нравов, не торопился вступать в разговор. Он подцепил кусок сыра, наткнув его на кончик ножа, как мясник натыкает на вертел мясо.
На Генери было темное полусуконное пальто, одетое поверх его длинной рабочей блузы, которая внизу, примерно на фут, выглядывала широкой белой каймой; для глаза, свыкшегося с такой манерой одеваться, это сочетание казалось вполне естественным и даже нарядным; во всяком случае, оно было очень удобно.
Мэтью Мун, Джозеф Пурграс и другие конюхи и возчики вошли следом за ним с раскачивающимися в руках фонарями, из чего можно было заключить, что они завернули сюда прямо из конюшен, где они с четырех часов утра возились с лошадьми.
– Ну как она, без управителя-то обходится? – поинтересовался солодовник.
Генери покачал головой с горькой улыбкой, от которой вся кожа у него на лбу собралась складками между бровями.
– Ох и наплачется она, и еще как наплачется, – сказал он. – Бенджи Пенниуэйс был, конечно, негодный управитель, нечестный человек, сущий Иуда Искариот. – Он умолк и покачал головой из стороны в сторону. – Вот уж не думал я, за мое старанье, никак не ждал.
Эти загадочные слова были восприняты всеми как горький вывод из каких-то мрачных рассуждений, которые Генери вел сам с собой, молча покачивая головой; на лице его тем временем сохранялось скорбное выражение отчаяния, словно Генери приберегал его для того, что он еще собирался сказать.
– Развалится все, и нам конец будет, или уж я ничего не понимаю в господских делах! – вырвалось у Марка Кларка.
– Упрямство девичье, вот оно что, ничьих советов слушать не желает. Упрямством да суетностью человек своих самых верных помощников со свету сживает. О господи! Как подумаю об этом, душа надрывается, ну прямо места себе целый день не нахожу.
– Это верно, Генери, я вижу, как ты изводишься, – глубокомысленно подтвердил Джозеф Пурграс, скривив губы в жалостливую усмешку.
– Не всякому мужчине такую Бог голову дал, даром что на ней чепец, – сказал Билли Смолбери, который только что ввалился, неся впереди себя свой единственный зуб. – И за словом в карман не лезет, и умом где надо пораскинет. Что, не правду я говорю?
– Оно, может, и правда, но без управителя… а ведь я-то заслужил это место! – возопил Генери и с видом непризнанного гения скорбно уставился на рабочую блузу Билли Смолбери, словно дразнившую его видением прекрасного, несбывшегося будущего. – Ну что ж, видно, такова судьба. Кому что на роду написано, а Святое Писание – не про нас; ты вот делаешь добро, а награды за свои добрые дела – тебе нет, и не жди, что тебя вознаградят по заслугам, нет, такая уж наша участь, обман один.
– Нет, нет, в этом я с тобой согласиться не могу, – запротестовал Марк Кларк. – Господь Бог – он справедливый хозяин.
– Оно значит, как говорится, по работе и плата, – поддержал Джозеф Пурграс.
В наступившем вслед за этим молчании Генери, словно в антракте, начал тушить фонари, в которых сейчас, при ярком дневном свете, отпала надобность даже и в солодовне с ее единственным крошечным оконцем.
– Дивлюсь я на нее, – промолвил солодовник, – и на кой это фермерше понадобились какие-то там клавикорды, клавесины, пиянины или как их там называют. Лидди говорит, что она себе этакую новую штуку завела.
– Пианину?
– Да. Похоже, стариковские дядюшкины вещи для нее нехороши. Говорят, все новое завела. И тяжелые кресла для солидных, а для молодых, кто потоньше, легкие, плетеные стулья; и часы большие, вроде как башенные, на камин ставить.
– А картин сколько, и все в богатых рамах! И скамьи мягкие, чтобы прилечь где, ежели кто выпьет сильно, – подхватил Марк Кларк, – все-то сплошь конским волосом набитые, и подушки на них с каждого бока, тоже из волоса.
– А еще зеркала для жеманниц да книжки блажные для бесстыжих.
Снаружи послышались громкие, скрипящие шаги; дверь приоткрылась, и кто-то, не входя, крикнул:
– Люди добрые, найдется у вас здесь место ягнят новорожденных притулить?
– Тащи, пастух, найдется, – ответили все хором.
Дверь распахнулась с такой силой, что ударилась о стену и вся сверху донизу содрогнулась от толчка.
На пороге появился Оук, от него так и валил пар; он был в своей рабочей блузе, подпоясанной кожаным ремнем, ноги его до самых лодыжек были обвязаны жгутами соломы для защиты от снега, четыре ягненка, перекинутые через плечи, висели на нем в самых неудобных позах, и весь он казался воплощением здоровья и силы; следом за ним важно выступал пес Джорджи, которого Габриэль успел перевезти из Норкомба.
– Добрый день, пастух Оук, ну как у вас, позвольте спросить, нынешний год ягненье-то идет? – осведомился Джозеф Пурграс.
– Хлопотно очень, – отвечал Оук. – Вот уж две недели, как я по два раза на дню до нитки насквозь промокаю то под снегом, то под дождем. А нынче ночью мы с Кэйни и вовсе глаз не сомкнули.
– А правду говорят, будто двойняшек много?
– Да, я бы сказал, чересчур. Такой в этом году с ягнением ералаш, – коли так и дальше пойдет, боюсь, что оно и к Благовещенью не кончится.
– А прошлый год, помнится, на мясопустное воскресенье уже все кончено было, – заметил Джозеф.
– Давай сюда остальных, Кэйни, – сказал Габриэль, – да беги к маткам. Я мигом приду.
Кэйни Болл, парнишка с веселой рожицей и вечно открытым маленьким, пухлым ртом, вошел, положил на пол двух ягнят и тут же исчез. Оук снял висевших на нем ягнят с неестественной для них высоты, завернул их в сено и положил возле печки.
– Вот жаль, нет у нас здесь шалаша для новорожденных, как был у меня в Норкомбе. А тащить таких, чуть живых, в дом – Божье наказание. Если бы не ваша солодовня, хозяин, ну право, не знал бы, куда деваться в такой мороз. А вы как сами-то себя нынче чувствуете, друг-солодовник?
– Да ничего, не жалуюсь, не болею, вот только разве что не молодею.
– Понятно.
– Да вы присаживайтесь, пастух, – предложил древний служитель солода. – Ну как там в нашем старом Норкомбе, что вы там видели, когда за своим псом ездили? Я бы и сам не прочь повидать родные края; да ведь из тех, кого я знал, верно, души живой не осталось.
– Пожалуй, что так. С тех пор там сильно все изменилось.
– А что, правду говорят, будто заведение Дикки Хилла, деревянный-то дом, где он сидром торговал, совсем снесли?
– Да, давным-давно, и коттедж Дика тоже, что повыше стоял.
– Вот оно как!
– А старую яблоню Томпкинса выкорчевали, ту самую, которая одна две бочки сидра давала.
– Выкорчевали? Ну что ты скажешь! Муторные времена пошли, ох, муторные!
– А помните тот старый колодец, что посреди площади стоял, из него теперь такую чугунную колонку с насосом сделали, а внизу этакий сток с желобом из цельного камня.
– Подумать! Как все меняется, и народ совсем другой пошел, чего только не наглядишься! Да и здесь у нас тоже. Вот они, стало быть, сейчас толковали, какие наша хозяйка-то чудеса творит.
– Что это вы про нее такое судачите? – круто повернувшись к компании, вспылил Оук.
– Да ведь это все наши папаши косточки ей перемывают, горда, дескать, да суетна не в меру. А я говорю, пусть себе вволю потешится! Ну что, в самом деле, с этаким-то личиком – да я бы на ее месте, эх, что говорить, – губки-то, что твои вишенки.
И галантный защитник, Марк Кларк, вытянув собственные губы, издал всем хорошо знакомый аппетитный звук.
– Вот что, Марк, – внушительно сказал Габриэль, – советую вам запомнить: никаких этих ваших балагурств, причмокиваний да сюсюканий я насчет мисс Эвердин не потерплю. Чтобы этого больше не было. Слышите?
– Да я со всем моим удовольствием, мне что, мое дело сторона, – кротко отвечал мистер Кларк.
– Так это вы, значит, здесь прохаживались на ее счет? – повернувшись к Джозефу Пурграсу, грозно спросил Оук.
– Нет, нет, я ни слова, я только всего и сказал: порадуемся, что такая, а не хуже, больше я ничего не говорил, – дрожащим голосом испуганно оправдывался Джозеф и весь даже покраснел от волненья. – А Мэтью только начал…
– Что вы такое говорили, Мэтью Мун? – спросил Оук.
– Я? Да я в жизни червяка не обижу, не то что кого, простого червяка дождевого, – тоже, видимо, струхнув, жалобно сказал Мэтью Мун.
– Однако кто-нибудь да говорил; ну, вот что, други мои. – И Габриэль, этот на редкость спокойный человек, удивительно мягкого и доброго нрава, внезапно с полной наглядностью дал понять, что в случае надобности он может действовать круто и решительно. – Видите этот кулак? – сказал он, и с этими словами он опустил свой кулак, чуть поменьше размером, чем добрый каравай хлеба, на самую середину небольшого стола, за которым сидел солодовник. – Всякий, кто посмеет хулить нашу хозяйку, как только я прослышу об этом… – (тут кулак оторвался от стола и снова опустился со стуком, – так Тор, прежде чем пустить в ход свой молот, примеривает, хорошо ли он бьет), – отведает его у меня, как пить дать, или провалиться мне на этом самом месте.
На всех лицах явно изобразилось, что они отнюдь не желают ему никуда проваливаться, а, напротив, очень жалеют, что побудили его прибегнуть к такой угрозе, и Марк Кларк даже крикнул:
– Правильно, правильно, вот и я то же говорю.
А пес Джорджи, слыша сердитый голос пастуха, поднял голову и, хоть он не все понимал по-английски, грозно заворчал.
– Да полно вам, пастух, зачем же так все близко к сердцу принимать, – промолвил Генери с кротостью и благоволением истинного христианина.
– А мы слышали, пастух, про вас все говорят, уж такой-то добрый да умный человек, – робко сказал Джозеф Пурграс, с опаской выглядывая из-за ложа солодовника, куда он незаметно убрался подальше от греха. – Великое это дело умным быть, – добавил он, сопровождая свои слова жестом, рисующим нечто возвышенное, умственное, а не грубо телесное. – Всякому лестно, правда ведь, добрые люди?
– Еще бы, – подхватил Мэтью Мун и с робким смешком повернулся к Габриэлю, словно желая показать свое дружелюбие.
– Кто это говорит, что я умный? – удивленно сказал Оук.
– Слухом земля полнится, – поспешно ответил Мэтью.
– А мы слышали еще, будто вы время по звездам можете сказать, не хуже чем мы по солнцу да по луне. Это правда, пастух?
– Да, могу немножко, – без всякого энтузиазма подтвердил Оук.
– А еще говорят, будто вы солнечные часы сделать можете и печатными буквами любое имя написать на фургоне либо на повозке, и не хуже, чем на заказной дощечке получается, со всякими загогулинами да разводами. Как это замечательно для вас, что вы такой умный. Вот Джозефу Пурграсу до вас случалось надписывать фургоны фермера Эвердина, так он, бывало, всякий раз путается, не помнит, куда Д, а куда Е повернуть? Ведь правда, Джозеф?
Джозеф ожесточенно затряс головой в подтверждение того, что он действительно никак не может этого запомнить.
– И вот так у него и получалось наоборот, а, Джозеф?
И Мэтью, вынув из-за пояса кнут, начертил ручкой на полу «Джэймс».
– А фермер Джеймс, как увидит свое имя задом наперед вывороченное, так ну браниться, сколько раз он, бывало, тебя ослом обзывал, а, Джозеф?
– Да, было дело, – грустно согласился Джозеф, – только разве моя в том вина, когда эти чертовы буквы никак не запомнятся, куда у них закорючки повернуты, вперед либо назад. А память у меня всегда слабая была.
– Для вас это должно быть особенно чувствительно, Джозеф, потому как на вас и без того такая напасть.
– Что ж, на то воля Провиденья, а я и за то Бога благодарю, что хуже со мной чего не стряслось. А что до нашего пастуха, так я прямо скажу, вот кого следовало хозяйке в управители-то назначить, вы для этого как раз подходящий человек.
– Не скрою, я и сам думал, не назначит ли она меня на это место, – чистосердечно признался Оук. – По правде сказать, я на это надеялся. Но с другой стороны, ежели мисс Эвердин хочется самой у себя управителем быть, это ее право; ее право и меня держать в пастухах. И только. – Оук тяжело вздохнул и, грустно уставившись в раскалившийся зольник, погрузился в какие-то невеселые размышления.
Живительный жар печки начал понемножку согревать почти безжизненных ягнят; они стали блеять и резво зашевелились на сене, по-видимому только сейчас ощутив факт своего появления на свет. Вскоре они уже все блеяли хором; тогда Оук вытащил из печки стоявшую с краю кружку с молоком, достал из кармана своей блузы маленький чайник, налил в него молока и, отделив от этих беспомощных созданий тех, кого не предполагалось вернуть маткам, стал учить их пить из носика, что они тут же с необычайным проворством усвоили.
– Я слышал, будто она даже не позволяет вам брать себе шкуры павших ягнят, – возвращаясь к прежнему разговору, заметил Джозеф Пурграс, следивший за всеми операциями Оука со свойственным ему меланхолическим видом.
– Я их не беру, – коротко ответил Габриэль.
– Ну это уж несправедливо, нет, вовсе несправедливо с вами здесь обходятся, – продолжал Джозеф, надеясь залучить Оука на свою сторону, чтобы и он тоже присоединился к его сетованиям. – Должно быть, она что-то против вас имеет.
– Да нет! – поспешно оборвал его Габриэль и, не удержавшись, вздохнул, конечно не оттого, что ему не доставались шкуры ягнят.
Тут, прежде чем его собеседник успел что-либо возразить, в дверях выросла какая-то тень, и Болдвуд, дружески и покровительственно кивая на ходу направо и налево, вошел в солодовню.
– А, Оук, я так и думал, что вы здесь, – сказал он. – Мне только что встретилась почта, минут десять тому назад, и почтарь сунул мне в руку письмо, а я распечатал его, не поглядев на адрес. По-видимому, это вам. Простите меня, пожалуйста, что так вышло.
– Ничего, мистер Болдвуд, не извольте беспокоиться, – с готовностью отвечал Габриэль. У него на всем свете не было никого, с кем бы он вел переписку, и неоткуда было получить такого письма, которого нельзя было бы показать всему приходу.
Он отошел в сторону и стал читать письмо, написанное незнакомым почерком.
Дорогой друг, не знаю Вашего имени, но надеюсь, что до Вас дойдут эти строки, в которых я премного благодарю Вас за Вашу доброту ко мне в тот вечер, когда я, не подумавши, сбежала из Уэзербери. Возвращаю Вам также деньги, которые задолжала Вам, и прошу простить, что не могу принять их от Вас в дар. Все кончилось счастливо, и я рада, что могу Вам открыться, что я выхожу замуж за молодого человека, который за мной ухаживал; это сержант Трой из драгунского полка, который сейчас квартирует в этом городе. Я знаю, что ему было бы неприятно, если бы я от кого-нибудь приняла что-либо иначе как в долг, потому как это очень достойный и высокопорядочный человек, и даже могу Вам сказать, человек благородного происхождения.
Я буду Вам очень обязана, дорогой друг, если Вы до поры до времени никому не скажете об этом письме. Мы хотим преподнести сюрприз всем в Уэзербери, приехать сюда уже законными супругами. Я даже краснею, говоря об этом почти незнакомому человеку. Сержант родом из Уэзербери. Спасибо Вам еще раз за Вашу доброту.
С самыми искренними пожеланиями
Фанни Робин.
– Вы не заглянули в письмо, мистер Болдвуд? Советую вам прочесть, – сказал Габриэль. – Я знаю, вы интересуетесь судьбой Фанни Робин.
Болдвуд взял письмо и, прочитав его, явно расстроился.
– Ах, Фанни, бедняжка Фанни! Счастливая развязка, то, о чем она так уверенно пишет, еще не наступила и, следовало бы ей об этом знать, может, еще и не наступит. И она даже не дает своего адреса.
– А что это за человек сержант Трой? – спросил Габриэль.
– Гм… Боюсь, что он не из тех людей, на кого при такого рода обстоятельствах действительно можно положиться, – пробормотал фермер, – хотя он смышленый малый и не лишен способностей. Мать его была француженка, гувернантка, и ходили слухи, что покойный лорд Сиверн был с нею в тайной связи. Потом она вышла замуж за бедного здешнего доктора, и вскоре у нее родился ребенок; пока они регулярно получали какие-то деньги, все шло хорошо, но, к несчастью для мальчика, его покровители и друзья умерли; он поступил на службу в контору поверенного в Кэстербридже младшим клерком. Мог бы со временем продвинуться и занять неплохое положение; но он прослужил недолго, дернула его нелегкая записаться в солдаты. Я, знаете ли, очень сомневаюсь, что бедняжке Фанни удастся преподнести нам сюрприз, о котором она здесь пишет, очень сомневаюсь. Ах, глупая девчонка! Глупая!
Дверь снова шумно распахнулась, и в солодовню вбежал совершенно запыхавшийся Кэйни Болл. Из его широко открытого красного рта, похожего на круглый конец раскрашенной детской дудки, дыханье вырывалось с хрипом, к тому же он еще закашлялся, и все лицо у него страшно напружилось и покраснело.
– Что ты, Кэйни, зачем ты всегда летишь сломя голову, так что потом не отдышишься, – строго сказал Оук. – Сколько раз я тебе говорил…
– Ох, я хо-хотел передохнуть, да не в то горло попало, вот, вот и закашлялся. Кха, кха!
– Ну что ты прибежал?
– Я бежал сказать, чтобы вы скорее шли, пастух Оук, – сказал юный подпасок, привалившись к косяку двери всем своим мальчишеским тельцем. – Еще две матки близнят принесли, вот что.
– Ах вот какое дело, – вскричал Оук, вскакивая и сразу выбрасывая из головы все мысли о бедной Фанни. – Ты молодец, Кэйни, что сразу прибежал за мной; не сегодня завтра получишь от меня в награду большой кусок сливового пудинга. Но, прежде чем идти, Кэйни, подай-ка мне сюда горшок со смолой, мы переметим ягнят, и с этим будет покончено.
Оук вытащил из своего необъятного кармана железное клеймо, окунул его в горшок и, приложив по очереди к заду каждого из ягнят, отпечатал на них инициалы властительницы своих дум «Б. Э.», буквы, которые для всех живущих в округе означали, что эти овцы отныне являются собственностью не кого иного, как фермера Батшебы Эвердин.
– Ну, Кэйни, забирай теперь, клади на плечи своих двух, и пошли. До свиданья, мистер Болдвуд.
Пастух взвалил на себя четыре маленьких туловища и шестнадцать ног и исчез, скрывшись за домом, откуда шла тропинка к загону. Ягнята были теперь гладкие, окрепшие, и на них приятно было смотреть, не то что полчаса тому назад, когда они находились в полумертвом состоянии и еще неизвестно было, выживут ли они.
Болдвуд пошел было вслед за пастухом вверх по склону, но по дороге заколебался и повернул назад. Потом, видимо окончательно решившись, снова повернул и вскоре нагнал его. Подойдя к ложбине, где был устроен загон, фермер достал из кармана записную книжку, открыл ее и, держа открытой в руке, подошел к Оуку. Сверху, на самом виду, в книжке лежало письмо Батшебы.
– Вот что я хотел спросить вас, Оук, – сказал он с деланой небрежностью, – не знаете ли вы, чей это почерк?
Оук заглянул в книжку и, весь вспыхнув, сразу ответил:
– Мисс Эвердин.
Он покраснел просто оттого, что произнес вслух Ее имя. Но вдруг у него мелькнуло какое-то смутное подозрение, и сердце у него упало. Письмо, очевидно, было анонимное, иначе зачем бы было спрашивать!
Болдвуд, видя замешательство Оука, почувствовал себя несколько неловко. Люди, легко уязвимые, всегда готовы, чуть что, упрекать себя, вместо того чтобы спокойно разобраться, в чем дело.
– Я ведь без всякого подвоха спросил, – сказал он и тут же с необыкновенной горячностью, в которой было даже что-то нелепое, стал объяснять, что означает шутливое письмо, которое посылают на Валентинов день. – Вы понимаете, ведь на это, собственно, и бьют, чтобы заставить человека узнавать стороной. В этом же вся и штука. – При этом у него было такое напряженное и взволнованное лицо, как если бы он сказал не «штука», а «мука».
Расставшись с Габриэлем, этот одинокий, замкнутый человек вернулся к себе домой завтракать, пристыженный и огорченный тем, что он своими лихорадочными расспросами позволил незнакомому человеку заглянуть в свой внутренний мир. Он снова поставил перед собой письмо, прислонив его к часам на камине, и уселся подумать над тем, как следует все это понимать после того, что он узнал от Габриэля.
Глава XVI
Всех Святых и Всех Усопших
В один из будничных дней, утром, в старой замшелой церкви Всех Святых, в маленьком казарменном городке, о котором говорилось выше, небольшая кучка прихожан, главным образом женщин и девушек, собравшихся перед самым амвоном, поднялась с колен по окончании обедни. Так как проповеди в этот день не было, они уже думали расходиться, как вдруг внимание всех привлекли громкие, молодцеватые шаги. К звуку этих шагов примешивался еще какой-то необычный для церкви звук – бряцание шпор. Все повернули головы к главному проходу. Молодой военный в красной форме кавалериста, с тремя нашивками сержанта на рукаве, шел по проходу к алтарю, стараясь не выдавать своего смущенья, которое тем не менее явно обнаруживалось и в подчеркнуто твердой походке, и в напряженно-решительном выражении, застывшем на его лице.
Щеки его слегка покраснели, когда он проходил под устремленными на него справа и слева любопытными женскими взглядами, но, поднявшись на возвышение, он не замедлил шага и остановился только у самого алтаря. Минуты две он стоял там совсем один.
Наконец священник, служивший обедню и еще не успевший снять с себя облаченья, увидел его и прошел с ним вглубь алтаря. Они о чем-то поговорили шепотом, потом священник поманил причетника, который, в свою очередь, позвал шепотом какую-то пожилую женщину, по-видимому свою жену, и она тоже подошла к алтарю.
– Это свадьба, свадьба, – зашептали, оживившись, прихожанки. – Давайте останемся.
Большинство снова уселись.
Сзади послышался какой-то шум и скрежет, и кое-кто из молодых обернулся. Из западной стены башни с внутренней стороны выдвинулся грибок с фигуркой, под которой висел маленький колокол, – механическая фигурка приводилась в движение тем же часовым механизмом, который заставлял бить большой башенный колокол. Башня отделялась от церкви глухой решеткой, и дверца ее обычно бывала закрыта во время службы, так что движения этого причудливого механизма из церкви не было видно. Но сейчас дверца была открыта, и многие успели увидеть, как выскочившая фигурка дважды ударила по колоколу и снова скрылась, а звонкие удары разнеслись по всей церкви.
Большой колокол пробил половину двенадцатого.
– Где же невеста? – шепотом спрашивали одна у другой прихожанки.
Молодой сержант стоял не двигаясь, словно он и сам окаменел среди окружавших его каменных колонн. Безмолвный, неподвижный, он стоял спиной к прихожанам, повернувшись на юго-восток.
По мере того как проходили минута за минутой и никто не появлялся, все словно застыли в ожидании, и тишина становилась все более ощутимой. Снова раздался железный визг, выскочила механическая фигурка, отбила три четверти и с таким же грохотом исчезла. На этот раз всех это как-то резнуло и многие даже вздрогнули.
– Странно все-таки, куда же это невеста запропастилась? – спросил кто-то громким шепотом.
Томительное ожидание, в котором все пребывали, вскоре стало прорываться в громком покашливании и шарканье ногами. Наконец кто-то захихикал. Но сержант даже не пошевелился. Он стоял, повернувшись лицом на юго-восток, прямой, как колонна, с шапкой в руках.
Минута проходила за минутой. Нервное напряжение среди женщин стало ослабевать, смешки и хихиканье раздавались все чаще. Потом вдруг наступила мертвая тишина. Все замерли в ожидании развязки. Многим, вероятно, случалось наблюдать, как быстро летит время, когда часы отбивают каждую четверть. Трудно было поверить, что механический человечек не сбился со счета, когда он опять с громким хрипеньем выскочил со своим грибком и судорожно ударил четыре раза. И всем показалось, что его уродливая рожица исказилась ехидной усмешкой и что-то злорадное было в его подергиваниях. Затем послышались глухие отдаленные удары колокола – это часы на башне пробили двенадцать. Женщины были потрясены, и теперь уже никто не хихикал.
Священник прошел в ризницу, и причетник исчез. Сержант все еще стоял, не оборачиваясь; все женщины, собравшиеся в церкви, жаждали посмотреть на его лицо, и он, по-видимому, сознавал это. Наконец он повернулся и решительно зашагал к выходу, сжав губы, ни на кого не глядя, словно презирал их всех. Двое сгорбленных, беззубых стариков-нищих переглянулись и хихикнули ему вслед, в сущности вполне безобидно. Но этот старческий смех в стенах церкви прозвучал как-то зловеще.
Перед церковью на выложенной плитами небольшой площади лежали живописные тени от сгрудившихся кругом старинных деревянных домов. Молодой человек, выйдя из церкви, пошел наперерез через площадь и на полдороге встретился с молоденькой женщиной. По ее взволнованному лицу видно было, что она в страшном смятении, но при виде сержанта она остановилась как вкопанная и словно помертвела от ужаса.
– Так… – сказал он с едва сдерживаемым бешенством, глядя на нее в упор.
– О, Фрэнк, я ошиблась! Я думала, церковь Всех Святых это та, что со шпилем, и я была у входа ровно в половине двенадцатого, как ты сказал; я ждала до без четверти двенадцать, и тут уж спросила и узнала, что это церковь Всех Усопших. Ну, я конечно испугалась, но не очень, потому что я подумала, что можно ведь и завтра.
– Дура! Выставить меня таким остолопом! Ну что с тобой говорить…
– Так, значит, завтра, Фрэнк? – растерянно спросила она.
– Завтра! – Он грубо захохотал ей в лицо. – Нет, хватит с меня такого удовольствия надолго, можешь быть уверена.
– Но как же так, – жалобно пролепетала она срывающимся голосом, – что же я такого страшного сделала, что ошиблась! Ну скажи, дорогой Фрэнк, когда же это будет?
– Когда? А бог его знает! – насмешливо бросил он и, повернувшись, быстро зашагал прочь.
Глава XVII
На хлебном рынке
В субботу Болдвуд, как обычно, был в Кэстербридже на хлебном рынке, когда возмутительница его покоя появилась в поле его зрения. Адам проснулся от своего глубокого сна, открыл очи – перед ним была Ева. Фермер собрал все свое мужество и в первый раз по-настоящему устремил на нее взгляд.
Материальные причины и вытекающие из них эмоциональные следствия не укладываются в математические уравнения. Прибегая к каким-нибудь средствам, чтобы вызвать движение душевного порядка, можно получить такие неслыханные результаты, что причина по сравнению со следствием окажется до нелепости ничтожной. Когда женщина подчиняется какому-то капризу или прихоти, то по свойственному ей легкомыслию или какому-нибудь другому недостатку она упускает это из вида. Так вот и случилось с Батшебой, она никак не ожидала того, с чем ей пришлось столкнуться в этот день.
Болдвуд смотрел на нее не украдкой, не критическим или оценивающим взглядом, нет, он уставился на нее, как на какое-то чудо, как жнец на поле глядит во все глаза на проносящийся мимо поезд, нечто настолько чуждое ему, что с трудом доступно его пониманию. Женщины для Болдвуда были не чем-то сосуществующим с ним в обязательном порядке вещей, а неким феноменом, отдаленным на громадное расстояние, вроде комет, – об их строении, происхождении, движении так мало известно, что даже не приходит в голову задумываться, вращаются ли они по таким же неизменным геометрическим орбитам, подчиняющимся тем же законам, что и его собственная земная, или носятся беспорядочно, как это кажется, когда глядишь.
Он смотрел и видел ее черные волосы, правильные черты, точеный профиль, округлый подбородок, шею. Потом он увидел сбоку опущенные веки, глаза, ресницы, изящную форму уха. После этого он разглядел ее фигуру, юбку, все вплоть до башмаков.
Глазам Болдвуда она казалась прелестной, но он не был уверен, так ли это, как ему кажется, потому что может ли быть, чтобы эта мечта во плоти, если она так прекрасна, как ему представляется, могла бы находиться здесь, не вызывая бурного восхищения мужчин, расспросов и любопытства, которое, кстати сказать, проявлялось достаточно заметно. Насколько он мог судить – ни природа, ни искусство не могли бы придать большей красоты этому единственному совершенному из множества несовершенных созданий. Сердце его заговорило. Не следует забывать, что Болдвуд, несмотря на свои сорок лет, никогда не смотрел ни на одну женщину внимательным, изучающим взглядом; они как бы всегда были для него не в фокусе и не задевали ни одного из его чувств.
Правда ли, что она красавица? Он все еще никак не мог решиться поверить самому себе. Он украдкой наклонился к соседу и спросил его шепотом:
– А что, мисс Эвердин считается красивой?
– О да! Вы помните, когда она появилась первый раз, все только на нее и смотрели. На редкость красивая девушка, ничего но скажешь.
Когда мужчина слышит похвалы женщине, в которую он влюблен или даже только близок к тому, чтобы влюбиться, он обнаруживает удивительную доверчивость. Слово любого ребенка приобретает для него значимость академического суждения. Болдвуд был удовлетворен.
И вот эта очаровательная женщина так-таки и сказала ему: «Женись на мне». Чем вызван такой странный поступок? Слепота Болдвуда, не видевшего разницы между признанием того, что напрашивается само собой, и измышлением чего-то, что отнюдь не напрашивается, была вполне под стать неосмотрительности Батшебы, не задумывавшейся над тем, что какой-нибудь пустяк может привести к серьезным последствиям.
Она в эту минуту спокойно заключала сделку с каким-то бойким молодым фермером и подводила итог счета с таким хладнокровием, как если бы перед ней было не живое лицо, а бухгалтерская книга. Было совершенно очевидно, что такой человек для женщины с запросами Батшебы не представляет собой ничего интересного. Но Болдвуд почувствовал, как его всего бросило в жар от внезапно охватившей его ревности. Он впервые заглянул «в тот страшный ад, где мучится влюбленный». Первым его побуждением было пойти, втиснуться между ними. Это можно было сделать только одним способом – спросить у нее образцы ее зерна. Болдвуд откинул эту возможность. Он не мог обратиться к ней с этим – завести с ней разговор о купле-продаже значило бы осквернить красоту, и его представление о ней никак не допускало этого.
Батшеба все это время прекрасно видела, что наконец-то ей удалось покорить эту величественную крепость. Она чувствовала, что глаза его неотступно следуют за ней, за каждым ее шагом. Это была победа; и достанься она сама собой, она была бы для нее еще слаще из-за несносного промедления. Но Батшеба достигла ее, введя его в заблуждение своим дурачеством, и поэтому она утратила для нее свою цену, как какой-нибудь искусственный цветок или красивое восковое яблоко.
У Батшебы было достаточно здравого смысла, и она могла рассуждать трезво, когда не были задеты ее чувства, поэтому она винила себя и Лидди и искренне раскаивалась, что допустила эту шутку и нарушила спокойствие человека, которого она слишком уважала, чтобы позволить себе умышленно его дразнить.
Она в этот день уже почти решила, что при первом же удобном случае извинится перед ним. Но ее пугала мысль, как бы не наделать хуже, – если он узнает, что она хотела посмеяться над ним, он не поверит ее извинениям и только еще больше обидится, а если он думает, что это попытка завлечь его, то он сочтет это новым домогательством с ее стороны.
Глава XVIII
Болдвуд раздумывает. Раскаяние
Болдвуд был арендатором владения, носившего название Малое Уэзербери, и среди окрестных жителей в этом захолустном местечке считался чуть ли не аристократической особой. Приезжие горожане, люди светские, для которых город – это все, если им случалось задержаться на день, на два в этом захолустье, услыхав стук колес легкого экипажа, оживлялись, надеясь, что им повезет и они найдут здесь хорошее общество, может быть, скучающего в уединении лорда или, на худой конец, крупного помещика-сквайра, – но это оказывался всего только мистер Болдвуд, ехавший по своим делам. Потом они еще раз слышали стук тех же колес и снова загорались надеждой: и опять это был всего только мистер Болдвуд, возвращавшийся домой.
Его дом стоял особняком, отступя от дороги, а конюшни, которые для фермы то же, что очаг для жилья, находились за домом, скрытые снизу разросшимся лавровым кустарником. В полуоткрытую синюю дверь видны были сейчас крупы и хвосты полдюжины сытых, резвых лошадей, стоявших в стойлах.
Человеку, глядевшему снаружи, они представлялись чередованием гнедых и пегих округлостей подковообразной формы наподобие мавританской арки, пересеченных в середине прямой линией хвоста; чуть подальше за этими округлостями, невидимые для человека, глядящего снаружи, были морды животных, громко размалывающие челюстями обильные порции овса и сена, необходимые для поддержания в должной норме вышеупомянутых округлостей и резвости. В самом конце конюшни, мелькая, как тень, метался в открытом стойле непривязанный жеребенок. Ровный шум жующих челюстей перебивался иногда шуршанием и скрипом веревки или стуком переступавших копыт.
Посреди конюшни, между крупами животных, прохаживался взад и вперед сам фермер Болдвуд. Это место было его прибежищем – здесь он был даятелем и отшельником; позаботившись о накормлении своих четвероногих слуг, он иногда задерживался здесь допоздна, шагая в глубоком раздумье до тех пор, пока лунный свет не начинал струиться в затканные паутиной окна или все кругом не погружалось в темноту. Здесь сейчас его рослая, широкоплечая фигура казалась более внушительной, чем среди толпы и сутолоки хлебного рынка. Задумчиво шагая взад и вперед, он ступал уверенно, всей ступней; красивое, с бронзовым загаром, лицо было опущено, отчего стушевывалась резкая складка плотно сжатого рта и округлый, крутой подбородок. На высоком, гладком лбу четко проступали две-три тонкие горизонтальные линии морщин.
Жизнь Болдвуда текла довольно обыденно, но сам он был далеко не обыденный человек. В этом невозмутимом спокойствии, проявлявшемся и в его характере, и в его манере держать себя, которое прежде всего поражало всякого, кто наблюдал его со стороны, было что-то очень похожее на оцепенение опустошенной души, но, возможно, это было редкое состояние равновесия скрытых в нем огромных противоположных сил – положительных и отрицательных, – пребывающих в полном покое. Но едва только равновесие нарушалось, он сразу впадал в крайность. Стоило ему только поддаться какому-то переживанию, оно завладевало им целиком. Чувство либо властвовало над ним, либо не проявлялось вовсе. Оно пребывало в полном застое или бурлило, ему была чужда постепенность переходов. Оно могло ранить его смертельно или не задеть вовсе.
В его характере не было никаких полутеней или слабо проявляющихся наклонностей к дурному или хорошему. Строго последовательный в своих действиях, непридирчивый в мелочах, он ко всему относился с неизменной серьезностью. Он не замечал нелепых сторон людского безрассудства, и если среди весельчаков и зубоскалов, которым вся жизнь представляется шуткой, он считался не компанейским человеком, – люди серьезного склада, люди, изведавшие горе, не избегали его общества. Он принимал всерьез все, с чем ему приходилось сталкиваться в жизни, но если он и не проявлял интереса, когда что-либо совершавшееся на его глазах принимало комедийный характер, во всяком случае, он никогда не отмахивался, если дело принимало печальный или трагический оборот.
Батшебе и не снилось, что этот застывший темный грунт, куда она так беспечно кинула зернышко, был такой благодатной почвой, насыщенной тропическим зноем. Знай она, что сейчас переживает Болдвуд, она чувствовала бы себя страшно виноватой, и это навсегда осталось бы пятном на ее совести. А если бы она еще сознавала, какова сейчас ее власть над этим человеком – что от нее одной зависит повернуть его судьбу к добру или злу, она пришла бы в ужас от такой ответственности. К счастью для ее спокойствия в настоящее время и к несчастью для будущего, она понятия не имела о том, что представляет собою Болдвуд. Да, по правде сказать, никто этого не знал; потому что, если и можно было строить какие-то догадки о его необузданности по старым, едва заметным следам, никто никогда не видел его в таком состоянии, которое могло оставить такие следы.
Фермер Болдвуд подошел к двери конюшни и устремил взгляд на расстилавшиеся вдали луга. За первым огороженным участком тянулась изгородь, и за нею лежал луг, принадлежавший ферме Батшебы.
Стояла ранняя весна – время, когда овец выпускают на подножный корм, когда они впервые лакомятся свежей зеленью и пасутся на лугу до тех пор, пока его не скосят. Ветер, который в течение нескольких недель дул с востока, внезапно переметнулся на юг; весна наступила сразу и сейчас была в самом разгаре. Это были вешние дни, когда, может быть, и впрямь пробуждаются дриады. Растительный мир начинает оживать, набухать, наливаться соками, и вот в полной тишине пустующих садов и непроторенных рощ, где все, кажется, обессилело, оцепенело после долгого рабства в оковах, в плену у мороза, вдруг начинается какое-то движение, чувствуются потуги, толчки, дружные усилия – все разом, перед которыми мощные рывки кранов и блоков в шумных городах кажутся работой пигмеев.
Болдвуд, глядя на расстилающийся вдали луг, заметил там три фигуры. Это были мисс Эвердин, пастух Оук и Кэйни Болл. Едва только фигура Батшебы мелькнула перед ним, фермер весь просиял, как если бы она озарила его своим светом, как луна озаряет высокую башню. Внешность человека может быть для его души и скорлупой и вывеской, смотря по тому, как он настроен – замкнуто или чистосердечно-откровенно, погружен ли он в себя или склонен к излияниям. Лицо Болдвуда внезапно утратило свою обычную невозмутимость; по нему видно было, что он впервые живет сейчас вне своей скорлупы и очень остро ощущает ее отсутствие. Так оно всегда бывает с сильными натурами, когда они влюбляются.
Наконец он решил подойти к ней вот сейчас и прямо спросить.
Но полная отчужденность, в которой он по своей замкнутости пребывал в течение стольких лет, и выработавшаяся привычка не обнаруживать, не проявлять своих чувств оказали свое действие. Как замечалось не раз, причины возникновения любви в основе своей субъективны, и Болдвуд был живым подтверждением правильности этого положения. У него не было ни матери, которая могла бы быть предметом его обожания, ни сестры, к которой он мог бы относиться с братской нежностью, никаких мимолетных чувственных связей. Он был переполнен смешением всех этих непроявленных чувств, из которых, в сущности, и складывается подлинная любовь влюбившегося без памяти человека.
Он подошел к калитке изгороди, окружавшей луг. По ту сторону ее звонко журчали ручьи, бегущие по склону, а в небе заливались жаворонки, и негромкое блеяние овец сливалось и с тем и с другим. Хозяйка и пастух были поглощены сложной процедурой подмены ягненка, которого надо было приучить к другой матке; овце, у которой пал ягненок, подкладывается один из близнят от другой овцы. Габриэль снял шкуру с погибшего ягненка и, завернув в нее, как полагается, подменного ягненка, обвязывал его, чтобы она держалась, а Батшеба отодвинула загородку маленького загона из четырех плетеных решеток, куда надо было загнать матку с подкидышем, чтобы держать их там до тех пор, пока матка не привяжется к ягненку.
Когда со всем этим было покончено, Батшеба подняла глаза и увидела фермера у калитки, выглядывавшего из-за ветвей пышно распустившейся ивы. Габриэль, для которого лицо Батшебы было как «апрельский день, изменчивый, неверный», и он всегда замечал в нем малейшую перемену, увидел, как она вдруг вспыхнула, и сразу угадал, что ее смущение вызвано чем-то извне. Он посмотрел в ту же сторону и увидел Болдвуда.
Габриэль тут же сопоставил это с письмом, которое ему показывал Болдвуд, и заподозрил, что Батшеба ведет какую-то кокетливую игру, – затея началась с письма, и с тех пор это как-то продолжается, а он ничего не замечал.
Фермер Болдвуд, наблюдавший эту немую сцену, понял, что они обнаружили его присутствие, и, так как все чувства его были сейчас крайне обострены, это подействовало на него, как если бы ему прямо в лицо направили яркий сноп света. Он все еще находился по ту сторону изгороди и теперь пошел вдоль нее по дороге, надеясь, что они, может быть, не догадаются, что он собирался войти в калитку. Он прошел мимо, пришибленный тем, что ничего не понимает, терзаемый сомнением, робостью и острым чувством стыда. Может быть, по ее лицу можно было прочесть, что она хочет его видеть, а может быть, нет, – женщина была для него закрытой книгой. Мудрствования этой эротической философии заключались, по-видимому, в скрытом значении самых, казалось бы, банальных жестов или слов. Каждый поворот головы, взгляд, возглас, интонация таили в себе нечто совсем непохожее на то, что они выражали явно, а он до сих пор никогда даже и не думал ни о чем подобном.
Что касается Батшебы, она отлично поняла, что фермер Болдвуд попал к ее калитке не потому, что он шел мимо или прогуливался от нечего делать. Взвесив все вероятности, она пришла к выводу, что причина его появления здесь она сама.
Она была очень встревожена тем, что такая ничтожная шальная искра оказалась способной разжечь столь буйное пламя. Батшеба не стала бы прибегать к уловкам с целью поймать жениха, и ей было вовсе не свойственно играть чувствами мужчин; если бы какой-нибудь блюститель нравов, наблюдавший за ней, сравнил ее с настоящей кокеткой, он был бы чрезвычайно удивлен, обнаружив, что Батшеба, в сущности, совсем не кокетка, хотя со стороны ее легко можно было бы причислить к ним.
Она дала себе зарок, что никогда больше ни словом, ни взглядом не позволит себе нарушить спокойствие этого человека. Но зарок избегать зло редко дается прежде, чем зло успевает зайти так далеко, что его уже нельзя избежать.
Глава XIX
Мойка овец. Предложение
В конце концов Болдвуд решился пойти к Батшебе. Ее не оказалось дома. «Ну конечно», – прошептал он. Думая о Батшебе как о женщине, он упускал из вида всякие привходящие случайности, связанные с ее положением землевладельца, а именно что она как фермер, и не менее крупный фермер, чем он сам, может в это время года находиться на поле. В его состоянии и это, и многие другие упущения были вполне естественны, тем более принимая во внимание все обстоятельства. Они как бы помогали ему идеализировать предмет его любви: он видел ее только на расстоянии и случайно, он не встречался с нею нигде в обществе; видеть ее он привык – говорить с ней ему еще не случалось. Обыденная сторона ее жизни оставалась вне поля его зрения; всякие житейские мелочи, которые занимают такое большое место в повседневном существовании человека, в его делах, казались ему не тем, чем они были, по той простой причине, что ни он, ни она не видели друг друга дома, и едва ли Болдвуду могло даже прийти в голову, что у нее могут быть какие-нибудь скучные домашние дела или что ей, как и всем на свете, случается быть в таком затрапезном виде, когда лучше не показываться на люди, чтобы, не дай бог, такой не запомнили. Поэтому в его воображении, окруженная ореолом, Батшеба вела какое-то обособленное существование, тогда как она жила и дышала одним с ним воздухом, – такое же обремененное заботами существо, как и он.
Май уже был на исходе, когда Болдвуд решил, что надо в конце концов перестать мучиться неизвестностью. Он уже к этому времени более или менее свыкся со своим состоянием влюбленного; его чувство теперь уже не столько изумляло, сколько постоянно терзало его, и ему казалось, что он готов на все, лишь бы не оставаться в неведении. Узнав, что ее нет дома, он спросил, где она, и, когда ему сказали, что она наблюдает за мойкой овец, он пошел на пастбище в надежде застать ее там.
Моечная запруда на луговине представляла собой большой круглый бассейн, выложенный кирпичом и наполненный прозрачной ключевой водой. Его зеркальная поверхность, отражающая ясное небо, видна была летящим птицам, наверно, на расстоянии нескольких миль – этакий сверкающий глаз циклопа на зеленом лице. Трава, подступавшая к самым краям бассейна, так разрослась в этом году, что это зрелище при всей его обыденности надолго оставалось в памяти. Быстрота, с какой растительность всасывала влагу из богатой сырой почвы, казалось, была заметна на глаз. За окраиной этого заливного луга расстилались пастбища, пересеченные холмами и оврагами, сплошь усеянными лютиками и ромашками. Река струилась плавно, беззвучная, как тень; покачивающийся камыш и осока, словно колеблющаяся ограда, высились на затопленном берегу. К северу от луга виднелись деревья с только что распустившимися нежными, клейкими листочками, еще не успевшими уплотниться и потемнеть от летнего солнца и зноя, и такими тонкими, что они казались желтыми рядом с зеленым и зелеными рядом с желтым. Из чащи этой листвы раздавались громкие голоса трех кукушек, далеко разносившиеся в тихом воздухе.
Болдвуд, поглощенный своими мыслями, спускался по склону, опустив голову, уставившись на носки своих сапог, замысловато разукрашенных желтой пыльцой лютиков. Приток реки протекал через бассейн у запруды; на двух противоположных сторонах бассейна были устроены водостоки с затвором. Пастух Оук, Джан Когген, Мун, Пурграс, Каин Болл и еще несколько человек, собравшихся здесь, все были мокрые с головы до ног. Тут же около своей лошадки, накинув на руку повод, стояла Батшеба в новой изящной амазонке. Чуть поодаль в траве лежали бутылки с сидром. Когген и Мэтью Мун, стоя по пояс в воде у нижнего затвора, сталкивали в бассейн покорных овечек, а чуть подальше Габриэль, стоявший на краю бассейна, легонько нажимал на них сверху чем-то вроде клюки, когда они плыли мимо, так что они окунались с головой; этой же клюкой он помогал им выплывать, когда шерсть у них набухала от воды и они выбивались из сил. Их заставляли плыть против течения, чтобы всю смытую грязь уносило вниз, а выпускали у верхнего затвора. Кэйни Болл и Джозеф, совершавшие эту последнюю операцию, промокли, пожалуй, больше всех, если допустить, что это было возможно; они напоминали бронзовых дельфинов у фонтана – из каждой торчащей полы, из каждой складки их одежды струились ручейки.
Болдвуд подошел к бассейну и поздоровался с Батшебой с таким натянутым видом, что у нее невольно мелькнула мысль, что он никак не рассчитывал встретить ее здесь, а просто пришел посмотреть на мойку овец; ей даже показалось, что он нахмурился и поглядел на нее с неодобрением. Она поспешила отойти и пошла по берегу реки. Не прошло и нескольких секунд, как она услышала сзади его шаги и почувствовала, как любовь настигает ее, словно насыщенный ароматом воздух. Вместо того чтобы обернуться и подождать, Батшеба пошла дальше сквозь заросли осоки, но Болдвуд, во-видимому, был настроен решительно и не отставал, и так они шли, пока не обогнули излучину реки. Здесь, хотя до них и доносились шумные всплески, крики и возгласы мойщиков, они были скрыты ото всех.
– Мисс Эвердин! – окликнул ее фермер.
Она вздрогнула, обернулась и промолвила:
– Добрый день!
В голосе его ей послышалось что-то совершенно непохожее на то, что она могла ожидать для начала. Тихий, преувеличенно спокойный, он вместе с тем звучал так многозначительно, что слова мало соответствовали тому, что выражал его голос. Молчание иной раз обладает удивительной силой – оно как бы становится вырвавшейся на свободу душой чувства, покинувшей свою оболочку, и тогда оно гораздо значительней, чем слово. А бывает и так, что иной раз сказать мало – значит сказать больше, чем наговорить целую массу слов. Болдвуд только произнес ее имя и сказал все.
Подобно тому как до сознания внезапно доходит, что шум, который казался нам грохотом колес, на самом деле отдаленный раскат грома, так до сознания Батшебы дошло сейчас то, о чем она только догадывалась.
– Я слишком переполнен чувством… чтобы раздумывать, – сказал он с благородной простотой. – Я пришел сказать вам без обиняков. Жизнь стала мне не в жизнь с тех пор, как я увидел вас, мисс Эвердин, я пришел просить вас стать моей женой.
Батшеба старалась сохранить на своем лице полную невозмутимость – она только сжала губы, которые до этого были слегка приоткрыты.
– Мне сорок один год, – продолжал он. – Меня уже, наверно, считают закоренелым холостяком, и сам я себя таким считал. Я и в молодости никогда не думал о женитьбе, и в зрелые годы не строил никаких планов на этот счет. Но все мы, как видно, меняемся, и я изменился после того, как увидел вас. С некоторых пор я чувствую, и с каждым днем все сильней, что жить так, как я жил до сих пор, плохо во всех отношениях. И что больше всего на свете я хочу, чтобы вы стали моей женой.
– Мистер Болдвуд, при всем моем глубоком уважении к вам, я не чувствую… это не то чувство, которое позволило бы мне принять ваше предложение, – запинаясь, пролепетала она.
Несомненное уважение, с которым она отнеслась к его словам, казалось, прорвало плотину, сдерживавшую до сих пор чувства Болдвуда.
– Без вас моя жизнь мне будет в тягость! – тихо промолвил он. – У меня только одно желание – чтобы вы были моей, чтобы вы позволили мне снова и снова повторять, что я люблю вас.
Батшеба промолчала, а лошадка, стоявшая у нее за плечом, словно почувствовав напряженность момента, перестала щипать траву и вскинула голову.
– Я думаю, я надеюсь, что вы немножко интересуетесь мной, хотя бы настолько, чтобы выслушать то, что я должен сказать.
Батшеба чуть-чуть было не спросила, почему это он так думает, но вовремя вспомнила, что она сама ввела его в заблуждение своей открыткой и что он говорит так не из самомнения, а оттого, что принял всерьез ее легкомысленную шутку.
– Если бы я умел выражаться учтиво и любезно, – несколько более спокойно продолжал фермер, – я бы постарался облечь мои бурные чувства в изящную форму, но у меня нет ни возможности, ни терпения научиться этому. Я так жажду, чтобы вы стали моей, что ни о чем другом и думать не могу; но я не посмел бы высказать вам всего этого, если бы вы не позволили мне надеяться.
«Опять эта шутка Валентинова дня! Ах, эта дурацкая открытка!» – каялась про себя Батшеба, не отвечая ни слова Болдвуду.
– Если вы способны полюбить меня, скажите «да», мисс Эвердин, если нет – не отнимайте у меня надежды.
– Мистер Болдвуд, мне очень больно, но я вынуждена сказать вам, что я ошеломлена, и я просто не знаю, как мне ответить вам, не уронив себя в ваших глазах. Я глубоко уважаю вас, но я могу только высказать то, что я чувствую, или, вернее, то, что я сознаю: боюсь, что, при всем моем уважении к вам, я не могу стать вашей женой. Вы такой высокодостойный джентльмен, я не подхожу вам, сэр.
– Но, мисс Эвердин…
– Я, я не думала… я знаю, что я не должна была посылать вам эту открытку, простите меня, сэр, это была глупая выходка, которую ни одна уважающая себя женщина не могла бы себе позволить. Если вы только простите мне мое легкомыслие, обещаю вам, что я никогда…
– Нет, нет! Не говорите, что это легкомыслие! Позвольте мне считать это чем-то более серьезным, своего рода предвидением… предчувствием того, что вы могли бы полюбить меня. Это такая пытка, когда вы говорите, что сделали это по легкомыслию, – мне даже в голову не приходило предположить что-нибудь подобное, нет, я не в состоянии этого перенести. Ах, если бы я только знал, как завоевать вас! Но я не способен на это, я только могу просить вас согласиться быть моей. Если нет, если это неверно, что вы пришли ко мне сами, не зная почему, так же как я к вам, – мне нечего сказать.
– Я не влюблялась в вас, мистер Болдвуд, это я могу сказать наверняка. – И тут впервые за все время разговора легкая тень улыбки появилась на ее серьезном лице и сверкнувший на миг белый ряд зубов и дрогнувшие уголки тонко очерченных губ придали ей что-то жестокое, что никак не вязалось с ее мягким взглядом.
– Нет, но вы еще подумайте, со всей вашей добротой и снисходительностью подумайте, может быть, вы еще согласитесь выйти за меня. Боюсь, я для вас слишком стар, но поверьте мне, я буду заботиться о вас больше, чем кто-либо другой, больше, чем любой мужчина вашего возраста. Я буду беречь и холить вас, как только могу, поверьте мне! У вас не будет никаких забот – никакие домашние дела не будут касаться вас, вы будете жить в полном довольстве, не зная никаких хлопот. Для молочной фермы наймем человека, который будет наблюдать за всем, – я могу себе это позволить, – вам даже не нужно будет ходить на пастбище, ни думать о сенокосе, ни беспокоиться о погоде во время уборки хлеба. Я привык к своей коляске, в ней ездили и мой отец и мать, но если она вам не нравится, я продам ее, и у вас будет собственный кабриолет и пара лошадок. У меня нет слов сказать вам, как вы мне дороги, дороже всего на свете, нет, этого даже никто и представить себе не может, один Бог знает, – вы для меня все.
Сердце Батшебы было юно и отзывчиво, оно прониклось глубоким сочувствием к этому замкнутому человеку, который сейчас говорил так бесхитростно.
– Не надо! Не говорите так! Это выше моих сил сознавать, что у вас ко мне такое чувство, а я ничем не могу вам ответить. И я боюсь, что нас с вами увидят, мистер Болдвуд. Давайте оставим это. Я сейчас не в состоянии думать. Я никак не ожидала такого разговора. Ах, какая я гадкая, что заставила вас так страдать. – Она была потрясена и испугана его горячностью.
– Тогда скажите, что вы не отказываете мне. Не отказываете окончательно.
– Я ничего не могу с собой сделать. Ничего не могу вам ответить.
– Вы позволите мне возобновить этот разговор?
– Да.
– Позволите мне думать о вас?
– Разумеется, вы можете думать обо мне.
– И надеяться получить вашу руку.
– Да нет – не надейтесь! Идемте.
– Я приду спросить вас завтра.
– Нет, прошу вас. Подождите. Дайте мне время.
– Хорошо, я буду ждать, сколько хотите, – сказал он горячо и прочувственно. – У меня уже стало отраднее на душе.
– Нет, умоляю вас, не радуйтесь, если эта радость зависит от моего согласия. И не принимайте ничего близко к сердцу, мистер Болдвуд! Я должна подумать.
– Я буду ждать, – сказал он.
Она повернулась и ушла. Болдвуд как стоял, опустив глаза в землю, так и остался стоять не двигаясь, как человек, который вдруг потерял представление о том, где он и что с ним. Потом сознание действительности внезапно вернулось к нему с полной силой, как острая боль в ране, которую чувствуешь не сразу, не в тот момент, когда нанесен удар, и он быстро зашагал прочь.
Глава XX
Затруднительное положение. Они точат ножницы. Ссора
«Он такой бескорыстный, такой добрый, готов дать мне все, что я ни пожелаю», – раздумывала Батшеба.
Но фермер Болдвуд, какой бы он ни был на самом деле, добрый или совсем наоборот, в данном случае не проявил никакой доброты. Изысканнейшие дары самой идеальной любви – это не щедрость души, а потаканье самому себе.
Батшеба ничуть не была влюблена в Болдвуда, поэтому она могла не торопясь, спокойно обдумать его предложение. Здесь, в округе, многие женщины на ее месте, да, пожалуй, и рангом повыше, с радостью ухватились бы за такое предложение и тут же раззвонили бы о нем. Со всех точек зрения, будь то с общественной или с любовной, нельзя было и желать ничего лучшего – одинокой молодой девушке представляется возможность выйти замуж за такого солидного, обеспеченного, всеми уважаемого человека. Живет он по соседству, принят в хорошем обществе, а уж о личных его качествах и говорить не приходится. Батшеба умела подавлять свои капризы и подчиняться доводам рассудка, и если бы ее прельщала мысль о замужестве, о чем она, признаться, вовсе не думала, то, рассудив хорошенько, она, конечно, не отказалась бы от такого брака. Если бы замужество было для нее целью – лучше Болдвуда нечего было бы и желать: она уважала его и даже была расположена к нему, но – она нисколько не нуждалась в нем.
Вообще говоря, обыкновенные мужчины и женщины, по-видимому, поступают так: мужчина берет женщину в жены из желания обладать ею, потому что без брака обладание невозможно, а женщина соглашается терпеть мужа, потому что без этого нельзя считаться замужней; та и другая сторона действуют совершенно одинаково, хотя и преследуют разные цели. Но здесь со стороны женщины побудительная причина отсутствовала. Кроме того, Батшеба еще не совсем свыклась со своим новым положением полновластной хозяйки дома и фермы, оно еще не утратило для нее своей новизны.
Однако на душе у нее было неспокойно, и это, несомненно, говорило в ее пользу, ибо очень немногие способны были бы беспокоиться на ее месте. Помимо того что Батшеба находила разные разумные доводы, которыми она старалась побороть свое внутреннее сопротивление, она искренне считала, что, раз уж сама затеяла эту игру, надо честно идти до конца и нести ответственность за ее последствия. Но, несмотря на все это, внутреннее сопротивление оставалось. Она внушала себе, что с ее стороны будет неблагородно отказать Болдвуду, и тут же говорила себе, что она скорее умрет, но не выйдет за него замуж.
Батшеба была запальчива по натуре, но умела смотреть на вещи здраво. Елизавета по уму, Мария Стюарт по духу, она часто поступала в высшей степени рискованно, соблюдая при этом крайнюю осторожность. Ее рассуждения во многих случаях представляли собой прекрасно построенные силлогизмы; к сожалению, это всегда были только рассуждения. Она редко приходила к ошибочным умозаключениям, но, к несчастью, они-то чаще всего и претворялись в действие.
На другой день после предложения Болдвуда Батшеба, выйдя из дома, увидела в глубине сада Габриэля Оука, который точил ножницы для предстоящей стрижки овец. Кругом во всех коттеджах происходило примерно то же самое. Со всех концов селения далеко окрест разносился мерный скрежет точильного колеса, словно в оружейной мастерской, готовящей оружие к походу. Мир и война братаются друг с другом в часы приготовлений – серпы, косы, садовые ножи и ножницы, так же как сабля, штыки и копья, должны быть заострены и отточены.
Кэйни Болл вертел ручку точила, и голова его мерно двигалась вверх и вниз с каждым поворотом колеса. Оук стоял в позе, несколько напоминавшей позу Амура, оттачивающего свои стрелы: он слегка наклонился вперед, чтобы покрепче нажимать на ножницы, и чуть покачивал головой из стороны в сторону, критически сжав губы и прищурившись.
Хозяйка подошла, остановилась и минуты две-три молча смотрела на них, потом сказала:
– Поди на нижний луг, Каин, и приведи гнедую кобылу. Я поверчу колесо. Мне надо поговорить с вами, Габриэль.
Каин убежал, и Батшеба взялась за ручку. Габриэль поднял на нее изумленный взгляд и тотчас же безучастным взором уставился на ножницы. Батшеба вертела колесо, а он правил ножницы.
Особенное движение, которое делаешь, когда вертишь колесо, обладает удивительной способностью притуплять сознание. Это своего рода та же Иксионова кара, но в смягченном виде, она составила бы довольно мрачную главу в истории тюрем. Сознание мутится, голова становится тяжелой, центр тяжести тела словно постепенно перемещается и застревает свинцовым комком где-то между макушкой и надбровьем.
Батшеба, повернув ручку несколько десятков раз, почувствовала все эти неприятные симптомы.
– Повертите-ка лучше вы, Габриэль, а я подержу ножницы, – сказала она. – У меня голова кружится, я не могу говорить.
Габриэль стал вертеть колесо. Батшеба заговорила сначала несколько бессвязно, отвлекаясь то и дело необходимостью направлять ножницы, что требовало некоторой сноровки.
– Я хотела спросить вас, что – там вчера были какие-нибудь разговоры обо мне и мистере Болдвуде, когда мы с ним отошли за осоку?
– Были, – отвечал Габриэль. – Вы не так держите ножницы, мисс, – я знал, что у вас не выйдет сразу, вот как надо держать. – Он отпустил ручку колеса и, обхватив обе ее руки своими (как руку ребенка, когда его учат писать), зажал их вместе с ножницами. – Наклоняйте лезвие, вот так.
И согласно этим наставлениям, наставник в течение довольно долгого времени поворачивал руки и ножницы, крепко держа их в своих.
– Довольно! – вскричала Батшеба. – Отпустите мои руки. Терпеть не могу, когда меня держат. Вертите колесо.
Габриэль спокойно отпустил ее руки и стал вертеть колесо. Работа продолжалась.
– Должно быть, им это показалось странным?
– Не то чтобы странным, мисс…
– Что же они говорили?
– Что, должно быть, ваши имена, фермера Болдвуда и ваше, будут оглашены в церкви еще до конца года.
– Я так и поняла по их виду. Так вот, ничего этого нет. Надо же такую глупость выдумать; я хочу, чтобы вы опровергли это, за этим я сюда и пришла.
Габриэль слушал ее с грустным, недоверчивым видом, но недоверие уже вытеснялось чувством облегчения.
– Они, должно быть, слышали наш разговор, – продолжала она.
– Но как же так, Батшеба! – вскричал Оук и, бросив вертеть, уставился на нее с изумлением.
– Мисс Эвердин, вы хотите сказать, – с важностью поправила она.
– Я то хочу сказать, что, если мистер Болдвуд в самом деле вел речь о женитьбе, я не стану этого отрицать и выдумывать какие-то небылицы вам в угоду. Достаточно я поплатился за то, что слишком старался вам угодить.
Батшеба смотрела на него широко раскрытыми круглыми глазами. Она не знала, следует ли ей пожалеть его за его безутешную любовь или рассердиться за то, что он сумел побороть в себе это чувство, – его слова могли означать и то и другое.
– Я только хотела, чтобы вы просто дали понять, что это неправда, я не собираюсь за него замуж, – уже несколько менее уверенным тоном прошептала она.
– Я могу им это сказать, если вам угодно, мисс Эвердин. И могу также высказать вам мое мнение по поводу того, что вы делаете.
– Не сомневаюсь. Но меня нисколько не интересует ваше мнение.
– Я тоже так полагаю, – с горечью сказал Габриэль, и голос его, сопровождаемый мерным движением колеса, подымался и падал на каждом слове, в зависимости от того, нагибался он или выпрямлялся, поворачивая ручку, а глаза его были прикованы к листу, выглядывавшему в траве.
Когда Батшеба действовала сгоряча, она часто поступала безрассудно, но ведь не всегда удается выждать и проявить благоразумие. И нужно сказать, она очень редко выжидала. В это время, о котором идет речь, единственный человек в приходе, чье мнение о себе и своих поступках она ценила выше своего собственного, был Габриэль Оук. Его прямодушие и честность внушали к нему такое доверие, что Батшеба ни минуты не сомневалась – заговори она с ним о любом предмете, будь это даже о любви к другому человеку или о замужестве, она услышит от него абсолютно беспристрастное суждение. Он твердо знал, что он для нее в женихи не годится и нечего даже и думать об этом, но повредить в ее глазах другому – на это он был неспособен. Она обратилась к нему с вопросом, зная, что он ответит правду, хотя прекрасно понимала, что разговор этот для него мучителен. Некоторым очаровательным женщинам свойствен такой эгоизм. Впрочем, ей можно было простить, что она ради каких-то своих целей мучила этого честного человека, – у нее не было никого другого, на чье мнение можно было положиться.
– Так что же вы думаете о моем поведении? – спокойно спросила она.
– Что ни одна рассудительная, скромная, порядочная женщина не сочла бы такое поведение достойным себя…
Лицо Батшебы мгновенно вспыхнуло гневным румянцем, напоминающим огненные краски заката Дэнби. Но она подавила свое возмущение, и от этой сдержанности выражение ее лица казалось особенно красноречивым.
И тут Габриэль ошибся.
– Вам, верно, не нравится моя грубость, что я вам вот так все выложил, – сказал он, – я сам знаю, что это грубо, но я подумал, может быть, вам это будет на пользу.
– Напротив, – язвительно ответила она, – я о вас такого невысокого мнения, что за вашими оскорблениями я слышу похвалу действительно понимающих людей.
– Очень рад, что вы не обиделись, потому что я вам по правде сказал, и я серьезно так думаю.
– Понятно. Только, к сожалению, у вас это получается смешно, как всегда, когда вы пытаетесь рассуждать, а услышать от вас что-нибудь разумное можно только тогда, когда вы случайно обмолвитесь.
Это было жестоко с ее стороны, но, конечно, Батшеба вышла из себя, а Габриэль, видя это, старался изо всех сил держаться спокойно. Он промолчал. И тут она уже совсем взорвалась.
– Позвольте мне спросить, в чем, собственно, недостойность моего поведения? Не в том ли, что я не выхожу замуж за вас?
– Ни в коем случае, – спокойно ответил Габриэль. – Я давно уже и думать перестал об этом.
– И желать, надеюсь, – не удержавшись, добавила она; и видно было, что она так и ждет, как у него сейчас вырвется «нет».
Что бы ни почувствовал Габриэль в эту минуту, он невозмутимо повторил за ней:
– И желать.
Можно позволить себе по отношению к женщине язвительность, которая ей будет даже приятна, и грубость, которая не покажется ей оскорбительной. Батшеба стерпела бы от Габриэля суровые обвинения в легкомыслии, если бы он после всего этого сказал, что любит ее; несдержанность неразделенного чувства можно простить, даже если вас ругают и проклинают; к обиде примешивается чувство торжества, а в бурных упреках вы чувствуете нежную заботу. Вот этого-то и ждала Батшеба и – обманулась. Но терпеть поучения от человека, который видит вас в холодном свете чистого рассудка, ибо у него не осталось на ваш счет никаких иллюзий, это было невыносимо. Но он еще не договорил. Он продолжал взволнованным голосом:
– Я считаю (раз уж вы интересуетесь моим мнением), что вы поступили очень дурно, затеяв потехи ради эту шутку с таким человеком, как мистер Болдвуд. Ввести в заблуждение человека, до которого вам нет никакого дела, это непохвальный поступок. И даже если бы вы питали к нему серьезное чувство, мисс Эвердин, вы могли бы найти способ показать ему это добрым и ласковым обхождением, а не посылать ему шутливую открытку на Валентинов день.
Батшеба выпустила из рук ножницы.
– Я никому не позволю критиковать мое поведение, – вскричала она. – Я не потерплю этого ни минуты. Извольте оставить ферму до конца недели.
У Батшебы было одно странное свойство, – или характерная для нее особенность, – когда ею владели недобрые, низкие чувства, у нее дрожала нижняя губа, когда ее охватывало благородное волнение, у нее вздрагивала верхняя губа, обращенная ввысь. Сейчас у нее дрожала нижняя губа.
– Хорошо, – спокойно сказал Габриэль. Его связывала с ней чудесная нить, которую ему было мучительно больно порвать, но он не был прикован к ней узами, которых он был бы не в силах сбросить. – Я могу уйти хоть сейчас, и, пожалуй, так будет лучше, – добавил он.
– Да, да, уходите сейчас же, ради бога! – крикнула она, сверкнув глазами, но избегая встретиться с ним взглядом. – И не попадайтесь мне на глаза. Чтобы я вас здесь больше не видела.
– Прекрасно, мисс Эвердин. Так и будет.
И, взяв свои ножницы, он удалился прочь спокойно и величаво, как Моисей от разгневанного фараона.
Глава XXI
Несчастье в загоне. Записка
Во второй половине дня, в воскресенье, спустя примерно сутки после того, как Габриэль Оук перестал ходить за уэзерберийским стадом, старые работники Джозеф Пурграс, Мэтью Мун, Фрей и еще несколько человек прибежали впопыхах к дому хозяйки Верхней фермы.
– Что случилось? – спросила она, встретив их у крыльца и перестав натягивать тесную перчатку, что требовало, по-видимому, больших усилий, так как она от старанья изо всех сил сжала свои алые губы; она шла в церковь.
– Шестьдесят! – задыхаясь, крикнул Джозеф Пурграс.
– Семьдесят! – надбавил Мун.
– Пятьдесят девять! – поправил муж Сьюзен Толл.
– Овцы из загона вырвались, – сказал Фрей.
– На клеверный луг! – подхватил Толл.
– На молодой клевер! – сказал Мун.
– Клевер! – простонал Джозеф Пурграс.
– Раздует их от него, кишки вспучит, – пояснил Генери Фрей.
– Это уж как пить дать, – подтвердил Джозеф.
– Пропадут все ни за что, если их сейчас же не согнать да не спустить ветры, – сказал Толл.
У Джозефа от огорчения по всему лицу пролегли глубокие борозды и складки. У Фрея от сугубого отчаяния весь лоб покрылся сетью морщин, перекрещивающихся вдоль и поперек, словно прутья садовой решетки. Лейбен Толл поджал губы, и лицо у него точно окаменело. У Мэтью отвисла нижняя челюсть, а глаза ни секунды не оставались на месте, словно их дергала изнутри какая-то мышца, заставляя перебегать то туда то сюда.
– Да, – заговорил Джозеф, – сижу это я себе дома, только взял Библию, Послание к Ефесянам поискать, а сам думаю: ничего у меня, кажись, кроме коринфян да фессалонийцев, в моем драном Завете не осталось, гляжу – Генери: «Джозеф, говорит, овцы клевером объелись».
У Батшебы в такие минуты мысль мгновенно претворялась в слово, а слово переходило в крик. Тем более что она еще не совсем успокоилась после того, как Габриэль Оук своими рацеями вывел ее из себя.
– Довольно, перестаньте, вот олухи! – крикнула она и, швырнув в прихожую свой зонтик и молитвенник, бросилась бегом туда, где произошло бедствие. – Идут ко мне, вместо того чтобы сразу согнать овец! Вот дубины!
Глаза у нее потемнели и сверкали, как никогда. Батшеба отличалась скорее демонической, чем ангельской красотой; и она бывала особенно хороша, когда сердилась, а сейчас это было тем более заметно благодаря роскошному бархатному платью, в которое она только что нарядилась перед зеркалом.
Все старики скопом бросились за ней на клеверное поле. Джозеф на полдороге отстал и опустился на землю в полном изнеможении, словно его совсем доконала эта жизнь, которая день ото дня становится все невыносимее.
Оживившись, как всегда, от ее присутствия, все быстро рассыпались по полю и окружили пострадавших овец. Большая часть из них уже лежала на траве, и их невозможно было заставить подняться. Их перенесли на руках, а остальных перегнали на соседнее поле. Здесь через несколько минут свалилось еще несколько овец в таком же беспомощном и тяжком состоянии, как и другие.
У Батшебы сердце разрывалось от жалости, так больно было смотреть, как лучшие образцы ее первого молодого стада корчатся в судорогах,
- …раздутые, отравы наглотавшись.
У многих на губах выступила пена, они дышали часто и прерывисто, и животы у всех страшно вздулись.
– Ах, что же мне делать, что делать? – беспомощно повторяла Батшеба. – Несчастные животные эти овцы, вечно с ними что-то случается! Я в жизни не видела ни одного стада, с которым в течение года чего-нибудь не приключилось бы.
– Есть такое одно средство, только оно и может их спасти, – сказал Толл.
– Какое, какое? Ну, говорите скорей.
– Им надо проколоть бок такой штукой, она для того и приспособлена.
– Вы можете это сделать? Или я?
– Нет, мэм. Ни нам, ни вам этого не суметь. Надо знать, где проколоть. Кольнешь чуть левее или правее, попадешь не туда и заколешь овцу. И пастухи-то сами этого не умеют.
– Значит, они так и погибнут, – сказала она упавшим голосом.
– Есть только один человек у нас здесь, он это может сделать, – сказал только что подошедший Джозеф. – Будь он здесь, он бы их всех поднял.
– Кто это? Сейчас же пошлите за ним.
– Пастух Оук! – сказал Мэтью. – Этот на все руки мастер.
– Это верно, – подтвердил Джозеф.
– Правильно, только он и может, – поддакнул Лейбен Толл.
– Как вы смеете называть это имя в моем присутствии, – возмутилась Батшеба. – Я же вам сказала, чтобы вы не заикались о нем, если хотите остаться у меня. Ах! – воскликнула она, просияв. – Фермер Болдвуд, вот кто должен знать.
– Нет, мэм, – отозвался Мэтью. – Тут на днях две из его отборных овец объелись вики, вот то же с ними было, что и с этими. Так он тут же в спешном порядке верхового прислал за Гэбом. Гэб их и спас. Правда, у фермера Болдвуда есть такая штука, которой колют. Этакая полая трубка с иглой внутри. Верно я говорю, Джозеф?
– Правильно, полая трубка, – подтвердил Джозеф, – она самая.
– Да, это, стало быть, тот самый инструмент, – задумчиво промолвил Генери Фрей с невозмутимостью восточного мудреца, которого не смущает бег времени.
– Так что же вы стоите здесь да твердите ваши «стало быть» да «правильно», – взорвалась Батшеба. – Сейчас же ступайте и приведите кого-нибудь спасать овец.
В полной растерянности они разбрелись в разные стороны, чтобы привести, как им было велено, кого они сами не знали. Через одну-две минуты все скрылись за воротами. Батшеба осталась одна с подыхающим на ее глазах стадом.
– Ни за что не пошлю за ним, ни за что, – решительно сказала она.
Одна из овец забилась в мучительных судорогах, вытянулась и прыгнула высоко в воздух. Это был чудовищный прыжок. Она тяжело рухнула наземь и больше не двигалась.
Батшеба подбежала к ней. Овца была мертвая.
– О! Что же мне делать? Что делать? – застонала Батшеба, ломая руки. – Я не хочу посылать за ним! Не буду!
Самые энергичные возгласы, выражающие какое-нибудь решение, не всегда совпадают с твердостью принятого решения. К ним нередко прибегают как к подкреплению, чтобы утвердиться в своем намерении, которое отнюдь и не нуждалось в этом, пока оно само по себе было твердо. Сквозь «нет, не хочу» Батшебы явно прорывалось «да, придется».
Она вышла за ворота следом за своими работниками и помахала рукой тому, кто стоял поближе. Это оказался Лейбен.
– Где живет Оук?
– В Гнезде, в хижине по ту сторону дола.
– Берите гнедую кобылу и скачите туда, скажите, чтобы он немедленно был здесь – что я так велела.
Толл ринулся вверх на выгон и через одну-две минуты уже скакал на гнедой кобыле, без седла, без узды, ухватившись обеими руками за веревку, накинутую ей на шею, и орудуя ею вместо поводьев. Он быстро уменьшался, спускаясь по склону.
Батшеба следила за ним взглядом. И все остальные тоже. Толл скакал по тропинке через Шестнадцатиакровый выпас, Овечий луг, Среднее поле, Пустоши, участок Кэмпля, вот он уже едва заметной точкой мелькнул на мосту и стал подниматься по противоположному склону через Родниковую балку и Белый овраг. Хижина, где временно поселился Габриэль, до того как совсем покинуть эти края, выделялась белым пятном среди голубых елей на противоположном холме.
Батшеба в нетерпении ходила взад и вперед. Работники вернулись на поле и принялись растирать несчастных животных, пытаясь хоть как-нибудь облегчить их страдания. Но это не помогало.
Батшеба продолжала ходить. Лошадь уже повернула назад и стала спускаться с холма, и казалось томительно долго снова следить в обратном порядке весь этот дальний путь: Белый овраг, Родниковая балка, участок Кэмпля, Пустоши, Среднее поле, Овечий луг, Шестнадцатиакровый выпас. Батшеба надеялась, что у Лейбена хватит сообразительности дать Габриэлю кобылу, а самому вернуться пешком. Всадник приближался. Это был Толл.
– Ах, какая тупость! – воскликнула Батшеба.
Габриэля нигде не было видно.
– Может быть, он уже совсем уехал из наших мест, – сказала она.
Толл въехал в ворота и соскочил с лошади с трагическим видом Мортона после битвы у Шрюсбери.
– Ну? – сказала Батшеба, не допуская и мысли, что ее устный приказ мог не возыметь действия.
– Он говорит, раз просят, нечего чваниться, – ответил Лейбен.
– Что-о? – грозно протянула юная фермерша, широко раскрыв глаза и чуть не задыхаясь от возмущения.
Джозеф Пурграс попятился на несколько шагов и поспешно юркнул за плетеную загородку.
– Он говорит, что не придет до тех пор, покуда вы его не попросите как следует, вежливо, как оно подобает, когда обращаются за помощью.
– О-о-о! Это его ответ? Откуда у него такие замашки? Кто я ему, что он смеет так со мной обращаться? Чтобы я стала кланяться человеку, который сам пришел ко мне кланяться, чтобы его взяли!
Еще одна овца подпрыгнула и упала мертвая. Работники стояли удрученные и, казалось, не решались высказать свое мнение.
Батшеба отвернулась, слезы застилали ей глаза: сама же она довела до этого своей гордостью и запальчивостью, и все это понимают. Она горько разрыдалась на глазах у всех; она уж и не пыталась сдержаться.
– Я бы на вашем месте, мисс, не стал из-за этого плакать, – участливо сказал Уильям Смолбери. – Почему бы вам не попросить его помягче. Ручаюсь, что он тогда придет. Гэб, ежели с ним по-хорошему, очень справедливый человек.
Батшеба подавила обиду и вытерла глаза.
– Это гадко и жестоко так поступить со мной, да, гадко и жестоко, – прошептала она. – И он просто вынуждает меня, сама бы я никогда этого не сделала. Толл, идемте со мной.
И после этого самоуничижительного признания, мало достойного солидной хозяйки, она пошла домой, а за нею по пятам Толл. Придя к себе, она села за стол и поспешно нацарапала записку, время от времени тихонько всхлипывая, что после ее горючих слез было, пожалуй, благодатным признаком, как набухание земли после грозового дождя. Записка была написана учтиво, хотя она писала второпях. Она взяла ее в руки и, прежде чем сложить, еще раз пробежала глазами, потом снова положила и приписала внизу: «Не покидайте меня, Габриэль». Она чуть-чуть покраснела, складывая записку, и закусила губу, словно запрещая себе думать сейчас, допустим ли такой ход с ее стороны, и откладывая это до тех пор, когда думать будет уже поздно. Записка отправилась с тем же гонцом, что и устное поручение. Батшеба осталась дома дожидаться результата. Это были мучительные четверть часа с того момента, как уехал гонец, и до того, как снаружи снова послышался топот коня. На этот раз Батшеба была не в силах стоять и следить; облокотившись на старый письменный стол, за которым она писала записку, она закрыла глаза, как бы гоня от себя и надежду и страх.
А дело обстояло вовсе не так безнадежно.
Габриэль вовсе не рассердился, он проявил полное беспристрастие, несмотря на все высокомерие ее устного приказа. Для менее красивой женщины подобная заносчивость была бы просто гибельна, но такой красотке немножко заносчивости можно было простить.
Батшеба вышла, услышав топот копыт, и подняла глаза. Между нею и небосводом промчался верховой, он подъехал к загону и, соскочив с лошади, повернулся. На нее смотрел Габриэль.
Бывают минуты, когда глаза и язык женщины говорят совершенно противоположные вещи. Батшеба подняла на него полный благодарности взгляд и сказала:
– О, Габриэль, как вы могли поступить со мной так нехорошо?
Такой ласковый упрек за свое промедление в первый раз Габриэль не променял бы ни на какие другие слова, будь это даже похвала за то, что он проявил такую готовность сейчас.
Он что-то смущенно пробормотал и поспешил в загон. А она уже успела прочесть в его глазах, какая фраза в ее записке заставила его примчаться. Она пошла следом за ним на луг. Габриэль уже стоял среди распростертых раздутых животных. Он скинул куртку, засучил рукава и вытащил из кармана спасательный прибор. Это была небольшая трубка, через которую проходила подвижная игла; Габриэль начал орудовать ею с ловкостью опытного хирурга; он проводил рукой по левому боку овцы и, нащупав нужную точку, прокалывал иглой кожу и стенку желудка и быстро выдергивал иглу, не отнимая трубки; газы струей вырывались из трубки с такой силой, что затушили бы свечу, поднесенную к ее верхнему концу.
Говорят, облегчение после муки в первые минуты – настоящее блаженство, в этом можно было сейчас убедиться воочию, глядя на этих перемучившихся животных. Сорок девять операций было совершено успешно. В одном случае, в силу того что угрожающее состояние овец вынуждало действовать в высшей степени стремительно, Габриэль попал иглой не туда, куда следовало, прокол оказался смертельным и сразу положил конец мукам несчастной овцы. Четыре овцы погибли до его прихода, а три обошлись без операции. Общее количество овец, попавших в такую опасную переделку, было пятьдесят семь.
Когда воодушевленный любовью пастух кончил трудиться, Батшеба подошла к нему и подняла на него глаза.
– Габриэль, вы останетесь у меня? – спросила она, подкупающе улыбаясь, и в ожидании ответа даже не сомкнула губ, зная, что сейчас же они снова разомкнутся в улыбке.
– Останусь, – сказал Габриэль.
И она снова улыбнулась.
Глава XXII
Большая рига и стригачи
Случается, что люди впадают в ничтожество и перестают существовать для окружающих, оттого что у них не хватает душевной энергии тогда, когда она им больше всего требуется, но не менее часто это происходит с ними оттого, что они растрачивают ее зря, без пользы для себя, когда она у них есть.
Габриэль с некоторых пор, впервые после обрушившегося на него несчастья, снова обрел прежнюю независимость суждений и бодрость духа – качества, с которыми далеко не уедешь, если нет случая их применить, но и случай без них никуда не вывезет. Эти качества, несомненно, могли бы помочь подняться Габриэлю, воспользуйся он благоприятным стечением обстоятельств. Но он топтался, как на привязи, возле Батшебы Эвердин и упускал время. Весенний разлив не вынес его на гребне волны, а теперь уже приближалось время спада, когда все возможности оставались позади.
Был первый день июня месяца, самая пора стрижки овец; луга и даже самые скудные пастбища дышали изобильем и радовали глаз красками. В каждой юной былинке, в каждой раскрывающейся поре, в каждом наливающемся стебле чувствовалось стремительное брожение буйных жизненных соков. Здесь, на лоне природы, явно присутствовал Бог, а дьявол со своими делами перекочевал в город. Пушистые сережки ив, завитки папоротника, похожего на епископский посох, квадратные головки курослепа, пятнистый аронник, подобный апоплексическому святому в малахитовой нише, белоснежный сердечник, колдуница, чешуйник с мясистым стеблем, траурные колокольчики с черными лепестками – весь преображенный растительный мир в Уэзербери и его окрестностях был полон причудливой грации в эту плодоносную пору. В животном мире можно было наблюдать преображенные фигуры Джана Коггена – старшего стригального мастера, второго и третьего стригача, которые работали поденно, переходя с фермы на ферму, поэтому их можно не называть, четвертого стригача Генери Фрея, пятого – мужа Сьюзен Толл, шестого – Джозефа Пурграса, подручного, юного Кэйни Болла, и главного надзирающего Габриэля Оука. Ни на одном из них не было надето ничего заслуживающего наименования одежды; каждый был облачен в нечто представляющее собой пристойное среднее между одеяниями индуса высшей и низшей касты. Согнутые спины и напряженно застывшие лица свидетельствовали о том, что люди заняты важным делом.
Стригли овец в большой риге, которая так и называлась: Стригальная рига, а по общему своему плану похожа была скорей на церковь с притворами. Она не только повторяла форму соседней приходской церкви, но и соперничала с нею в давности. Была ли когда-нибудь эта рига одним из многочисленных строений, относящихся к какому-нибудь монастырю, этого никто не знал: никаких следов не сохранилось. Просторные приделы по обеим сторонам здания, достаточно высокие, чтобы мог въехать самый высокий воз, груженный верхом снопами, соединялись широкими каменными арками, мощными и строгими; в самой их простоте заключалось величие, которого так часто недостает иным зданиям с богатой архитектурной отделкой.
Благодаря своему ценному материалу потемневший сумрачный свод из каштанового дерева с громадными поперечными балками, укрепленный дугами и диагоналями, отличался тем строгим благородством, какого нет и в помине у девяти десятых наших современных церквей. По обеим боковым стенам стояли ряды раздвинутых щитов, а падавшие от них густые тени были прорезаны светом, льющимся из стрельчатых окон, которые своими пропорциями отвечали высоким требованиям красоты, а также и правилам вентиляции.
Об этой риге можно было сказать, что она и поныне служила тому же назначению, для коего была задумана с самого начала, что вряд ли можно сказать о замках и церквах, близких ей по стилю и такой же давности. В этом и состояло ее отличие и превосходство над этими двумя характерными памятниками Средневековья, – старая рига воплотила в себе навыки труда, которые сохранились и до нас не изуродованные временем. Здесь, по меньшей мере, замысел древних зодчих полностью совпадал с тем, что вы лицезрели сейчас. Стоя перед этим старым, посеревшим зданием, вы видели, как оно служит и ныне, и, представляя себе его прошлое, с удовлетворением устанавливали непрерывность его службы во все времена, и вас охватывало чувство гордости, почти благодарности к долговечности создавшей его мысли. И то, что четыре столетия не смогли доказать, что оно возведено заблуждением, не внушили ненависти к тому, для чего оно было возведено, не вызвали никакого отпора, который не оставил бы от него камня на камне, облекало это непритязательное серое творение древней мысли спокойствием и даже величием, которые при излишней пытливости ума перестаешь ощущать у его религиозных и военных собратий. Здесь в кои-то веки Средневековье и современность нашли общий язык. Стрельчатые окна, изъеденные временем каменные своды и арки, направление оси, потускневшие, тщательно отделанные коричневые балки и стропила не говорили ни о заглохшем искусстве возведения крепостей, ни об отжившем религиозном культе. Защита и спасение тела хлебом насущным остались и ныне старанием, верой и рвением.
Сегодня огромные боковые двери были раскрыты настежь прямо на солнце, и его благодатный свет падал снопами на деревянный ток посреди риги, где орудовали стригачи. Толстый дубовый настил, почерневший от времени и отполированный цепами множества поколений, стал такой же гладкий и такого же великолепного оттенка, как паркет парадной залы в каком-нибудь елизаветинском замке. Стригачи стояли на коленях, и поток солнечного света ложился косыми полосами на их выбеленные рубахи, бронзовые от загара руки и сверкающие ножницы, которые при каждом взмахе ощетинивались тысячами лучей, способных ослепить человека со слабым зрением. Под ножницами лежала задыхающаяся пленница-овца, и по мере того, как испуг ее нарастал, переходил в ужас, дыхание ее все учащалось и вся она начинала дрожать, как зыбкий, пронизанный зноем воздух на солнце снаружи.
Эта живописная современная картина в раме четырехсотлетней давности не производила впечатления того резкого контраста, какое, казалось бы, невольно могло внушить такое расстояние во времени. Уэзербери по сравнению с городами оставался неизменным. То, что горожанин относит к «тогда», для селянина означает «теперь». В Лондоне прежнее время – это двадцать, тридцать лет тому назад, в Париже – десять или пять, а в Уэзербери и шестьдесят и восемьдесят – это все еще «нынче», и надо, чтобы прошло по меньшей мере столетие, чтобы какой-то заметный отпечаток остался на его лице и говоре. За пятьдесят лет разве что самую малость изменился крой сапог или вышитый узор на рабочей блузе. В этом захолустье Уэссекса о стародавних временах, которые приезжие деловые люди называют допотопными, говорят «прежде бывало»; их прежнее время – здесь все еще нынешнее, их настоящее – здесь далеко впереди.
Итак, рига вполне соответствовала стригачам, и стригачи были под стать риге.
Просторные концы здания – то, что в храме отвечает притвору и алтарю, – были отгорожены плетеными загородками, и за ними толпились овцы. В одном углу между загородкой и стеной был устроен маленький загон, где бесперебойно держали на очереди трех-четырех овец, которых по мере надобности выпускали к стригачам, чтобы они не отрываясь делали свое дело.
В глубине здания, в сумраке, пронизанном рыжеватым светом, копошились три женщины: Мэриен Мони, Смирная и Трезвая Миллер; они собирали руно, сворачивали и связывали его штапелями. Им довольно успешно помогал старый солодовник. Когда время варки солода, длившееся с октября до апреля, кончалось, он ходил по окрестным фермам и предлагал свои услуги.
Батшеба надзирала за всем; она зорко следила, чтобы стригачи были осторожны, не ранили животных и стригли достаточно коротко. Габриэль, которого ее блестящий взгляд притягивал, как мотылька свет, носился с места на место и снова возвращался к ней; он не был непрерывно занят стрижкой, а только время от времени помогал другим, выпуская к ним овец. Сейчас он обносил работников кружкой с сидром, который черпал из бочки, стоявшей в углу, и подавал им ломти нарезанного хлеба и сыра.
Батшеба, окинув взглядом стригачей, подошла к одному из них, сказала, чтобы он стриг осторожнее, пожурила мальчишку-подручного за то, что он отпустил в стадо только что остриженную овцу, не поставив на нее клейма, а затем вернулась к Габриэлю, который, только что отложив завтрак, подтащил к себе испуганную овцу и ловким движением руки перевернул ее на спину. Он обкорнал ей длинные космы вокруг головы и обнажил шею и дужку, в то время как хозяйка молча следила за его работой.
– Она краснеет от унижения, – прошептала Батшеба, глядя, как алая краска заливает у овцы шею и грудь, оголившуюся под звонко постукивающими ножницами; не одна салонная красотка позавидовала бы такому нежному румянцу, и любой женщине было бы к лицу вспыхнуть так мгновенно и естественно.
Сердце бедняги Габриэля таяло от блаженства, что она здесь, около него, что ее глаза с интересом следят за его искусными ножницами, которые, кажется, вот-вот отхватят кусок живого тела, но никогда не отхватывают. Подобно Гильденштерну, он был счастлив тем, что не чрезмерно счастлив. У него не было желания говорить; достаточно было того, что его прекрасная дама и он, они вдвоем, составляют одну группу, они одни, отдельно от всего мира. Итак, разговор вела главным образом она; бывает такая болтовня, которая ничего не говорит, – вот так болтала Батшеба, а бывает молчание, которое говорит многое, – таково было молчание Габриэля. Полный смутного скрытого блаженства, он продолжал делать свое дело: постепенно поворачивая овцу, он придерживал ее голову коленом и, быстро строча ножницами, снимал шерсть кромками с подгрудка, с одного бока, с другого, со спины и закончил хвостом.
– Здорово, – сказала Батшеба, взглянув на часы, когда ножницы хрустнули в последний раз, – и как быстро!
– За какое время, мисс? – спросил Габриэль, утирая потный лоб.
– С тех пор как вы отхватили первую прядь, прошло двадцать три с половиной минуты. Первый раз вижу, чтобы на всю стрижку ушло меньше получаса.
Гладкая, чистенькая овечка поднялась из своего руна – глядя на нее, невольно вспоминалась Афродита, вышедшая из пены морской, – изумленная, оробевшая без привычного своего одеяния, которое лежало на полу, словно пушистое облачко; нежный подшерсток сверху, до сих пор скрытый внутри, был без единого пятнышка, белый, как снег.
– Каин Болл!
– Да, мистер Оук, я тут!
Кэйни подбежал с горшком смолы. Буквы «Б. Э.» отпечатались на оголенной коже, и бедная глупышка, дрожа всем телом, ринулась через загородку в стадо своих раздетых подруг. Затем подошла Мэриен, подобрала отлетевшие в сторону клочки, бросила их в середину кучки, скатала всю шерсть и унесла вглубь риги три с половиной фунта беспримесного тепла на радость в зимнюю стужу далеким незнакомым людям, которые так никогда и не узнают, какой несказанно приятной бывает шерсть вот такая, как она сейчас, здесь, нетронутая, девственно-чистая, пока еще в ней живы питающие ее природные жировые соки, пока она не высохла, не омертвела и ее не вымыли и не превратили в некий сорт «шерсти», которая по сравнению с тем, что она сейчас, это снятое разбавленное молоко по сравнению со сливками.
Однако жестокая судьба не дала Габриэлю спокойно наслаждаться своим счастьем в это утро. Уже покончили со стрижкой баранов, старых и двухлетних маток, настала очередь ярок и годовалых овечек, и он уже готовился снова приступить к операции, надеясь, что Батшеба и на этот раз будет стоять около него и следить по часам за его проворной работой, как вдруг его постигло горькое разочарование – в дальнем углу риги появился фермер Болдвуд. Никто как будто и не заметил, как он вошел, но его присутствие было несомненно. Болдвуд всегда вносил с собой особую атмосферу, которую мгновенно ощущали все окружающие. Разговоры, которые до сих пор только чуть-чуть сдерживало присутствие Батшебы, сразу прекратились.
Он прошел через всю ригу к Батшебе, она обернулась и поздоровалась с ним с самым непринужденным видом. Он заговорил с ней, сильно понизив голос, и она тоже невольно понизила голос, сначала немножко, а потом стала говорить так же тихо, как он. Ей вовсе не хотелось, чтобы кругом думали, будто у нее какие-то секреты с ним, но женщины в этом возрасте так восприимчивы, что невольно поддаются влиянию сильного пола и перенимают не только их язык, что можно наблюдать изо дня в день, но и манеру говорить, и интонацию.
О чем они говорили – Габриэлю не было слышно, и хотя он не мог этим не интересоваться, не в его характере было подойти поближе. Разговор кончился тем, что фермер протянул Батшебе руку и с присущей ему учтивостью помог ей перебраться через доску, загораживающую вход в ригу, и выйти наружу, на яркий солнечный свет. Здесь, стоя возле жмущихся друг к дружке уже остриженных овец, они продолжали разговор. О чем они говорили, об овцах? Нет, не похоже. Габриэль умозаключил, и не без основания, что, когда люди спокойно беседуют о чем-то, что находится в поле их зрения, взгляд их невольно устремляется к предмету их обсуждения. Но Батшеба, не поднимая глаз, смотрела на солому у себя под ногами, и это скорее свидетельствовало о ее смущении, чем о деловом разговоре насчет овец. Щеки ее заалелись, кровь прилила к нежной коже, отхлынула и снова прилила. Габриэль продолжал стричь, расстроенный, удрученный.
Она отошла от Болдвуда, и он, оставшись один, с четверть часа прогуливался взад и вперед. Затем она появилась в своей новенькой зеленой амазонке, так плотно облегавшей ее фигуру до талии, как кожура облегает плод, а юный Боб Когген вел за нею ее гнедую кобылу. Болдвуд подошел к дереву, где была привязана его лошадь.
Габриэль был не в силах оторвать от них глаз, но так как он в то же время пытался продолжать стричь, то неосторожно задел ножницами пах овцы. Животное рванулось. Батшеба мигом обернулась и увидела кровь.
– Ах, Габриэль! – вскричала она с суровой укоризной. – Вы всегда так следите за другими, а сами смотрите, что наделали!
Всякий бы сказал, что на такое замечание нечего особенно и обижаться, но Габриэля, который знал, что Батшеба отлично понимает, из-за кого ранена бедная овечка, ибо того, кто стриг бедняжку, она сама ранила еще больнее, мучительно кольнули ее слова, и этой боли отнюдь не могло принести облегчения постоянное чувство приниженности от сознания своего положения рядом с ней и с Болдвудом. Но твердое решение уверять самого себя, что он больше не питает к ней никаких нежных чувств, и на этот раз помогло ему не обнаружить своих переживаний.
– Бутыль! – крикнул он своим обычным невозмутимым голосом.
Кэйни Болл тут же подбежал с бутылью, рану смазали, и Габриэль продолжал стрижку.
Болдвуд бережно подсадил Батшебу в седло, и, прежде чем он повернул лошадь, она снова обратилась к Габриэлю все тем же властным и нестерпимо снисходительным тоном:
– Я еду посмотреть лейстеров мистера Болдвуда. Замените меня здесь, Габриэль, и следите, чтобы люди как следует работали.
Они повернули лошадей и поехали рысью.
Серьезное увлечение Болдвуда вызывало живейший интерес у всех, кто его знал, но он столько лет служил примером убежденного благоденствующего холостяка, что теперь его падение обратилось как бы в свидетельство против него самого, как в случае с сэром Сен-Джоном Лонгом, который умер от чахотки, доказывая, что эта болезнь не смертельна.
– А видно, дело к свадьбе идет, – провожая их взглядом, заметила Смирная Миллер.
– Похоже, что так, – продолжая стричь и не поднимая головы, подтвердил Когген.
– Что ж, оно и лучше взять себе жену тут же, по соседству, а не где-нибудь на стороне, – отозвался Лейбен Толл, переворачивая овцу.
Генери Фрей окинул всех скорбным взглядом и произнес медленно:
– Не знаю, зачем такой девушке замуж идти, коли она такая прыткая, что за все сама берется да по-своему делает; что ей домашний очаг, только другой дорогу перебивает. Ну да уж хоть бы женились, а то, гляди, кавардак пойдет в обоих домах.
Такие решительные натуры, как Батшеба, всегда вызывают осуждение у людей, подобных Генери Фрею. Больше всего ей ставилось в вину то, что она слишком резко высказывала свое недовольство и недостаточно явно выражала свое одобрение. Известно, что цвета тел зависят не от тех лучей, которые они поглощают, а от тех, которые они отражают; так вот и людей характеризует их способность отталкивать, сопротивляться, а не их благожелательность, которая отнюдь не считается отличительной чертой.
Генери продолжал несколько более благодушным тоном:
– Я как-то в разговоре между прочим попробовал было ей кое о чем намекнуть, уж так ясно, как только стреляный воробей рискнет этакую бедовую штучку учить. Вы, люди добрые, знаете, что я за человек, меня ежели раззадорить, я не смолчу…
– Знаем, знаем, Генери.
– Так вот я, значит, ей и говорю: «Мисс Эвердин, у вас, – говорю, – освободились места, и люди для них самые что ни на есть подходящие имеются, и вот только козни, – нет не козни, я не сказал козни, – зловредство противного пола, – так я про женский пол выразился, – их не допускает». Что, хорошо загнул? А? Как скажете?
– Неплохо!
– Д-да; и вот, ежели бы мне за это головой поплатиться пришлось и богу душу отдать, я бы все равно так вот ей и сказал бы. Такой уж я человек: если что решил – кончено.
– Правильный человек, а уж горд, как сам сатана.
– А ловко я ее подцепил, не всяк догадается; ведь речь о том, чтобы мне управителем быть, но только я это так хитро завинтил, где ей понять, что это я на ее счет проезжаюсь. Вот оно у меня как задумано было. Ну а насчет свадьбы… коль охота идти, пусть идет. Оно, может, время пришло. Сдается мне, фермер Болдвуд обнимал ее там, за осокой, в тот день, как мы овец мыли.
– Экое вранье! – вскричал Габриэль.
– А вы почем знаете, пастух Оук? – смиренно поинтересовался Генери.
– Потому что она сама рассказала мне все как было, – сказал Габриэль с чувством фарисейского превосходства, оттого что в этом случае он был отличен ото всех других работников.
– Ваше полное право верить этому, – сказал Генери не без ехидства, – полное право. Ну а у меня свое суждение есть. Оно конечно, управителем быть особого разуменья не требуется, а все-таки кое-что надо смекать. Что ж, я смотрю на жизнь трезво. Понятно я говорю, добрые люди? Уж, кажется, проще и не скажешь, все ясно, а иному все невдомек!
– Да нет, Генери, мы тебя понимаем.
– Вот так-то, добрые люди, оно и выходит. Швыряют тебя, как старый обносок, тыкают то туда, то сюда, будто ты и впрямь ни на что не годишься. Что ж, годы мои такие, поизносился малость! Однако мозги у меня в исправности; еще как действуют! Насчет этого я хоть сейчас с небезызвестным пастухом потягаться берусь. Ну да что там! Ни к чему, нет, ни к чему.
– Старый обносок, говоришь? – сердито вмешался солодовник. – Не такой уж ты старый, чтобы тебе этим козырять, и вовсе ты не старик! Зубов-то еще сколько во рту! Какой же это старик, ежели еще и зубы держатся. Я уже давно женат был, когда тебя еще на руках носили. Что такое шестьдесят годов, когда другим уже за восемь десятков перевалило, нашел чем хвастаться.
В Уэзербери уже вошло в обычай мигом прекращать все ссоры, когда требовалось унять солодовника.
– Чего уж там хвастать! – тут же подхватил Джан Когген. – Мы, дед-солодовник, все понимаем, какой вы у нас неслыханно долголетний старец, никто против этого спорить не станет.
– Никто! – поддержал Джозеф Пурграс. – На редкость долголетний, и все вас за это почитают.
– То-то! И когда я молодой был, в цвете лет, меня тоже уважали и любили, те, кто меня знал, – не унимался солодовник.
– Ясное дело, любили, как не любить.
В конце концов сгорбленный косматый старик утихомирился, и Генери Фрей, по всей видимости, тоже.
Чтобы закрепить мир, Мэриен попробовала рассмешить всех; смуглая, в грубой заплатанной порыжелой дерюге, она напоминала сейчас мягкой гаммой красок живописную фигуру с какой-нибудь старинной картины маслом, в манере Никола Пуссена.
– Не знает ли кто какого хромого, горбатенького либо так какого недотепу, кто бы меня, горемычную, за себя взял? – запричитала она. – Уж о хорошем-то мне в мои годы думать не приходится. А вот ежели бы хоть какой подвернулся, для меня это было бы слаще эля и хлеба с сыром.
Когген тут же нашелся, что ей ответить. Оук продолжал стричь и не проронил ни слова. Горькое чувство завладело им и отравило его покой. Батшеба, по-видимому, собиралась назначить его управителем, в котором на ферме ощущалась острая необходимость, поэтому она и отличала его перед всеми другими. А его это положение соблазняло не потому, что оно возвышало его на ферме, а потому, что оно приближало его к ней, к его возлюбленной, которая была еще не связана ни с кем другим. Теперь все его представления о ней смешались и спутались. И то, как он поучал ее, казалось ему теперь полнейшей нелепостью. Она вовсе не играла с Болдвудом, а вот его, Оука, она одурачила, притворившись, будто подшутила с этим письмом. В глубине души он был убежден, что эти малограмотные, добродушные работники правы в своих предсказаниях и что Болдвуд сегодня получит согласие мисс Эвердин стать его женой. Габриэль был уже в том возрасте, когда чтение Святого Писания перестает быть неприятной обязанностью, от которой, естественно, уклоняется подросток; он теперь частенько заглядывал в него, и сейчас ему припомнились слова: «Горше смерти для меня женщина, чье сердце подобно тенетам». Это восклицание вырвалось из его сердца, как пена из бурной волны. Что бы там ни было, он все равно боготворил Батшебу.
– Мы, работнички, будем сегодня пировать по-барски, – прервал его размышления Кэйни Болл, – Я нынче утром видел, как они месили громадные пудинги в ведрах – куски жира там были, мистер Оук, ну прямо с ваш большой палец. Я в жизни своей не видывал таких громадных кусков – раньше, бывало, клали кусочки с горошину. А на очаге стоял большой черный котел на ножках, только я не знаю, что в нем такое.
– И два бушеля яблок нарезали для яблочных пирогов, – добавила Мэриен.
– Надеюсь, я сумею всему этому воздать должное, – сказал Джозеф Пурграс и аппетитно причмокнул в предвкушении. – Д-да, еда и питье – отрада человека, они придают бодрость духа малодушному, ежели вы позволите так сказать. Пища – это слово Божье для поддержания плоти, мы без нее, прямо сказать, тут же погибли бы.
Глава XXIII
Вечером. Второе объяснение
Стол для ужина, который полагалось устраивать для стригачей по завершении стрижки овец, был накрыт на лужайке перед домом; конец стола перекинули через подоконник большого окна гостиной, так что он фута на полтора вошел в комнату. Здесь, у самого окна, в комнате сидела мисс Эвердин. Таким образом, она была во главе стола, но отделена от работников.
Батшеба в этот вечер была необыкновенно оживлена. Непокорные пряди пышных темных волос живописно оттеняли ее пылающие румянцем щеки и алые губы. Она, по-видимому, ждала кого-то, и по ее просьбе место на нижнем конце стола оставалось незанятым, пока не начали ужинать. Тогда она попросила Габриэля сесть туда и взять на себя обязанности хозяина на том конце, что он тут же и сделал с большой готовностью.
В эту минуту у калитки показался мистер Болдвуд, он прошел через лужайку к окну, где сидела Батшеба, и извинился за то, что задержался: по-видимому, у них было уговорено, что он придет.
– Габриэль, – сказала Батшеба, – пересядьте, пожалуйста, а туда сядет мистер Болдвуд.
Оук молча пересел на свое прежнее место.
Джентльмен-фермер был одет по-праздничному, в новеньком сюртуке и белом жилете, что сразу бросалось в глаза, так как совсем не походило на его обычный строгий серый костюм. И на душе у него был тоже праздник, что проявлялось в неожиданной для него разговорчивости. И Батшеба тоже разговорилась с его появлением, хотя присутствие незваного Пенниуэйса, бывшего управителя, которого она прогнала за воровство, на некоторое время вывело ее из себя.
Когда кончили ужинать, Когген по собственному почину, не дожидаясь, чтобы его попросили, затянул песню:
- Потерял я милушку, и ну ее,
- Потерял я милушку, и ну ее,
- Найду себе другую,
- Подружку дорогую,
- Потерял я милушку, и ну ее!
Сидящие за столом выслушали этот романс молча, уставившись на певца задумчиво-одобрительным взглядом, свидетельствующим о том, что эта излюбленная песня в хорошо знакомом исполнении всегда пользуется успехом у слушателей и, подобно книгам всеми признанных авторов, не нуждающихся в газетной рекламе, не требует никаких похвал.
– А теперь, мистер Пурграс, вашу песню! – сказал Когген.
– Боюсь, я захмелел… да и нет у меня таких талантов, – стараясь остаться незамеченным, отнекивался Джозеф.
– Глупости! Ну можно ли быть таким неблагодарным? Вот уж никогда бы о вас не подумал, – укоризненно вскричал Когген, прикидываясь, что он оскорблен в своих лучших чувствах. – А хозяйка-то как глядит на вас, будто хочет сказать: «Спойте сейчас же, Джозеф Пурграс!»
– И верно, глядит; похоже, теперь не отделаешься. А ну-ка, гляньте на меня, люди добрые, никак меня опять в краску вогнало?
– Ничего, Джозеф, краснота ваша в самый раз, – успокоил его Когген.
– Уж как я всегда стараюсь не краснеть под взглядом красоток, – конфузливо признался Джозеф, – но так уж оно само собой получается, ничего не поделаешь.
– Ну, Джозеф, спойте нам, пожалуйста, вашу песню, – раздался из окна голос Батшебы.
– Да, право же, мэм, – сказал Джозеф, явно сдаваясь, – уж не знаю, что и сказать. У меня только и есть одна простая боллада собственного сочинения.
– Просим, просим! – закричали хором за столом.
Осмелев от всеобщего поощрения, Пурграс запел срывающимся голосом какую-то чувствительную песню про пламенную и вместе с тем высокодобродетельную любовь – мотив ее сводился к двум нотам, и певец особенно налегал на вторую. Пение имело такой успех, что Джозеф, не переводя духа, перешел ко второму куплету, но, споткнувшись на первой же ноте, несколько раз начинал снова первую строфу.
- Я сеее-ял,
- Я се-еял лю…
- Я се-еял любви семена,
- Когда наступала весна,
- В апреле и в мае, в июньские дни,
- Когда пта-ашки пели пе-е-сни свои.
– Здорово закручено, – сказал Когген после второго куплета, – и как ладно звучит «пе-е-сни свои». И еще вот это место про «семена любви» – такую руладу закатил, а ведь про любовь петь тоже надо уметь, надтреснутой глоткой не вытянешь. А ну, следующий куплет, мистер Пурграс!
Но во время исполнения следующего куплета с юным Бобом Коггеном приключился конфуз, обычная история с подростками – всегда с ними что-нибудь случается, когда взрослые настроены особенно торжественно: он изо всех сил старался удержаться от хохота и с этой целью запихал себе в рот угол столовой скатерти, но это помогло ненадолго, смех, заткнутый герметически со стороны рта, вырвался носом. Джозеф, весь вспыхнув от негодования, сразу оборвал пение. Когген тут же оттаскал Боба за уши.
– Продолжайте, Джозеф, продолжайте, не обращайте внимания на сорванца. Такая замечательная боллада, а ну-ка следующий куплет. Я вам буду подтягивать в дишкантовых нотах, ежели вы от натуги выдохнетесь.
- Ах, ива зеленая ветвями сплелась,
- Ива кудрявой листвой завилась…
Но певца так и не удалось уговорить. Боба Коггена за плохое поведение отправили домой, и за столом снова воцарились мир и благодушие с помощью Джекоба Смолбери, который затянул одну из бесконечных, изобилующих подробностями баллад, какими при подобных обстоятельствах достославный пьяница Силен услаждал слух юных пастухов Хромиса, Мназила и прочих повес того времени.
Вечер еще сиял огненно-золотым светом, но сумрак уже стелился украдкой по земле; закатные лучи, едва касаясь поверхности земли, не протягивались по ней и не освещали уснувших равнин. Словно в последний раз собравшись с силами перед смертью, солнце выползло из-за дерева и начало опускаться. Сгущающаяся мгла окутала сидящих за столом снизу до пояса, а их головы и плечи все еще нежились в дневном свете, залитые ровным золотым сиянием, которое, казалось, не поступало извне, а источалось из них самих.
Солнце скрылось в охряной пелене, а они сидели, беседовали и пировали, словно Гомеровы боги. Батшеба по-прежнему восседала во главе стола у окна, в руках у нее было вязанье, от которого она время от времени отрывалась и поглядывала в меркнущую даль. Медленно подкрадывающийся сумрак разливался все шире и наконец поглотил и сидящих за столом, а они все еще не собирались расходиться.
Габриэль вдруг обнаружил, что фермер Болдвуд исчез со своего места в конце стола. Оук не заметил, когда он скрылся, но решил, что он, должно быть, пошел бродить по саду. Только Габриэль успел подумать об этом, как Лидди принесла свечи в комнату, и веселые язычки пламени брызнули ярким светом, который выхватил из темноты стол, фигуры сидящих и затонул в темной зеленой гуще, сомкнувшейся сзади.
Фигура Батшебы, сидевшей на прежнем месте, снова отчетливо выступила в окне между огнями свечей, и главам сидящих за столом в саду и в освещенной комнате стало видно, что и Болдвуд сидит там рядом с ней.
Тут все подумали, не пора ли кончать вечер. А не споет ли им мисс Эвердин, прежде чем разойтись по домам, ту песню, которую она так чудесно поет, – «На берегах Аллен-реки».
Батшеба, немножко подумав, согласилась и поманила к себе Габриэля, который только о том и мечтал, чтобы очутиться поближе к ней.
– У вас с собой ваша флейта? – шепотом спросила она.
– Да, мисс.
– Так вот, я буду петь, а вы аккомпанируйте мне.
Батшеба стала в нише окна, лицом к людям, освещенная горевшими сзади свечами, Габриэль – справа от нее снаружи, у самого окна. Болдвуд – в комнате, по левую ее руку. Она начала тихим, дрожащим голосом, но скоро распелась, и звуки полились ясные, чистые, звонкие. Одну из строф этой песни, в связи с разыгравшимися вскоре событиями, вспоминали потом многие из собравшихся здесь, и она надолго сохранилась у них в памяти.
- Солдат сулил на ней жениться,
- Речами свел ее с ума.
- На берегах реки Аллен
- Она пригожей всех была.
Мягким звукам Габриэлевой флейты Болдвуд вторил густым басом так низко и тихо, что это отнюдь не походило на дуэт, а создавало некий своеобразный мелодический фон, который только оттенял голос Батшебы. Стригачи, привалившись друг к другу, сидели тесным кругом плечо к плечу, как когда-то, сотни лет тому назад, сиживали за трапезой наши предки; они слушали как завороженные, и все так притихли, что иногда, казалось, слышно было дыхание Батшебы. А когда баллада кончилась и последний томительно долгий звук незаметно замер, послышался восхищенный шепот, а это и есть самое лестное одобрение.
Стоит ли говорить, что поведение фермера по отношению к хозяйке дома не могло не привлечь внимания Габриэля. Сказать по правде, ничего особенного в его поведении не было, кроме того, что оно не совпадало во времени с поведением других. Он смотрел на Батшебу только тогда, когда на нее не смотрел никто другой; когда глаза всех были устремлены на нее, взгляд его блуждал по сторонам; когда все другие громко благодарили ее или рассыпались в похвалах, он сидел молча, а когда они, заговорившись, не обращали на нее внимания, он благодарил ее шепотом. И вот это расхождение со всеми и придавало особое значение каждому его слову и жесту, хотя ничего особенного и значительного в них не было; но ревность, которой не могут избежать влюбленные, не позволяла Оуку пренебречь этими знаками.
Наконец Батшеба пожелала всем спокойной ночи и скрылась в глубине комнаты. Болдвуд закрыл окно, опустил ставни и остался с Батшебой в гостиной. Оук пошел по тропинке и скоро исчез в безмолвной, насыщенной благоуханием роще деревьев. Стригачи, очнувшись от приятного оцепенения, в которое их погрузило пение Батшебы, стали один за другим подниматься, чтобы идти домой. Когген, отодвигая скамью и намереваясь выйти из-за стола, повернулся к Пенниуэйсу и уставился на почтенного вора с таким видом, словно перед ним было какое-то редкостное произведение искусства.
– Приятно похвалить человека, коли есть за что, – наконец выговорил он, – позвольте воздать вам должное.
– А я, прямо сказать, гляжу и глазам не верю, пока мы все в точности не сосчитали, – прерываясь на каждом слове от икоты, вмешался Джозеф Пурграс, – все до единой кружки и парадные ножи и вилки, все пустые бутылки, все, как было, так и осталось целехонько, ничего не украдено.
– Ну я, пожалуй, не заслуживаю и половины ваших похвал, – мрачно ответствовал добродетельный вор.
– А вот уж что правда надо сказать к чести Пенниуэйса, – добавил Когген, – так это вот: коли уж он в самом деле задумает поступить по-хорошему, чтобы все было честно да благородно, – а так оно с ним нынче и было, я это по его лицу видел, когда он за стол садился, – уж тут он себя выдержит. Я, люди добрые, с радостью могу подтвердить, он нынче в самом деле ничего не украл.
– Стало быть, он поступил честно, наше вам за это спасибо, Пенниуэйс, – сказал Джозеф, и все остальные единодушно поддержали его.
А тем временем в гостиной, откуда через закрытые ставни пробивалась наружу лишь узенькая полоска мягкого света, разыгрывалась бурная сцена.
Мисс Эвердин и Болдвуд были одни. Она сознавала, что в жизни ее наступил серьезный момент, пышущий здоровьем румянец сбежал с ее щек, но глаза сверкали торжеством, радостным чувством победы не столько желанной, сколько заранее задуманной.
Она стояла за спинкой низкого кресла, с которого только что вскочила, а он на коленях в кресле, перегнувшись к ней, держал ее руку в обеих своих. Он весь дрожал от того, что Китс так тонко называет переизбытком сладостного счастья. И то, что этот человек, у которого чувство собственного достоинства было его отличительной чертой, вдруг предстал перед ней лишенный своего главного качества – до такой степени его умалила любовь, – было так неожиданно, что это тягостное своей нелепостью зрелище несколько отравляло ее горделивую радость от сознания, что ее боготворят.
– Я постараюсь полюбить вас, – говорила она дрожащим голосом, совсем непохожим на ее обычный самоуверенный тон, – и если только я почувствую хотя бы некоторую уверенность в том, что я буду вам хорошей женой, я охотно выйду за вас замуж. Но в таком серьезном деле, мистер Болдвуд, колебания женщины нужно уважать, и я не хочу ничего обещать вам сегодня. Я хочу попросить вас подождать несколько недель, чтобы я могла хорошенько разобраться в моих чувствах.
– Но вы думаете, что к тому времени…
– Я очень надеюсь, что через месяц или полтора, считая от сегодняшнего дня до сбора урожая, – а вы говорили, что будете в отъезде это время, – я смогу обещать вам стать вашей женой, – закончила она твердо. – Но запомните хорошенько, сейчас я еще не обещаю.
– С меня этого достаточно. Большего я сейчас не буду просить. Я могу ждать, положившись на эти милые моему сердцу слова. А пока до свиданья, доброй ночи, мисс Эвердин.
– Доброй ночи, – мягко, почти нежно ответила она, и Болдвуд удалился с блаженной улыбкой на губах.
Батшеба теперь лучше знала его; он открыл ей всю свою душу, не утаив ничего, не подозревая, что он много потерял в ее глазах, уподобившись этакой большой горделивой птице, которая, лишившись своего пышного оперенья, утратила всю свою величавость. Батшеба теперь содрогалась, вспоминая свою дерзкую выходку, и всячески старалась загладить ее, не задумываясь над тем, заслуживает ли ее проступок той кары, которой она собиралась себя подвергнуть. Ее охватывал ужас при мысли, что она натворила, но в то же время в этом было что-то захватывающее. Удивительно, как легко даже самую робкую женщину может привлечь страшное, когда к этому примешивается некоторое чувство торжества.
Глава XXIV
В тот же вечер. Еловая роща
Среди многочисленных обязанностей, которые взяла на себя Батшеба, отказавшись держать управителя, был обход владенья перед сном, чтобы потом спокойно лечь спать, зная, что на ночь все остается в полном порядке. Габриэль почти каждый вечер неуклонно совершал до нее этот обход, опекая ее хозяйство с не меньшей рачительностью, чем любой специально нанятый для этого досмотрщик, но эта заботливая преданность в большинстве случаев оставалась неведомой для его хозяйки, а то, что до нее доходило, принималось как должное, без особой благодарности. Женщины вечно жалуются на мужское непостоянство, а к постоянству они относятся пренебрежительно.
Поскольку обходить дозором лучше, оставаясь невидимой, Батшеба обычно брала с собой потайной фонарь и время от времени, поднимая заслон, заглядывала во все тупики и закоулки, с хладнокровием столичного полисмена. Такое хладнокровие свидетельствовало не столько о ее бесстрашии перед лицом опасности, сколько о полном отсутствии подозрения, что ей может что-то грозить; самое худшее, на что она могла наткнуться, – это оставленная без соломы лошадь, курица, которая не попала в курятник, или непритворенная дверь.
В этот вечер она, как всегда, обошла все дворовые службы и пошла на пастбище осмотреть загон. Здесь тишину нарушало только мерное чавканье множества ртов и шумное дыханье, вырывавшееся из невидимых ноздрей; эти звуки вдруг прерывались храпом и пыхтеньем, похожим на шум медленно раздуваемых мехов. Затем чавканье возобновлялось, и при некоторой живости воображения можно было различить там и сям розовато-белые ноздри, похожие на входы в пещеры, влажные, липкие и для непривычного человека малоприятные, если их коснуться рукой; губы под ними так и норовили ухватить какой-нибудь краешек одежды Батшебы, оказавшейся в пределах досягаемости их языка. Чуть повыше, при особенно остром зрении, можно было разглядеть темно-бурый лоб и два вытаращенных, но отнюдь не сердитых глаза, а еще выше – два белесоватых рога, изогнутых серпом, словно два ободка только родившихся месяцев; раздающееся время от времени степенное «мму-у» не оставляло ни тени сомнения, что все эти атрибуты представляют собой характерные и неотъемлемые черты почтенных особ Дэзи, Белоножки, Красотки, Резвухи, Пеструшки, Кареглазки и прочих достойных представительниц девонской породы, являющихся собственностью Батшебы.
Обратно, домой, Батшеба возвращалась тропинкой через рощу островерхих елок: их посадили здесь несколько лет тому назад для защиты от северного ветра; ветви их так густо переплелись вверху, что в самый ясный полдень здесь царил полумрак, на исходе дня – густой сумрак, в сумерки – мгла, как в полночь, а в полночь – сущая тьма египетская. Чтобы получить представление об этой роще, вообразите себе просторный, с низкими сводами зал, созданный самой природой; ветвистый потолок покоится на стройной колоннаде деревьев, а пол устлан мягким, коричневым ковром сухой хвои, побуревших от сырости шишек и пробивающихся кое-где пучков травы.
Когда Батшеба, возвращаясь из своего обхода, вступала в эту рощу, ей всегда становилось немножко жутко, но поскольку, выходя из дому, она не испытывала никаких особенных опасений, она не считала нужным брать кого-нибудь в провожатые. Двигаясь бесшумно и незримо, словно время, Батшеба вдруг насторожилась – ей послышалось, что кто-то идет ей навстречу, с другого конца тропинки. Да, совершенно ясно – шаги. Ее собственные сразу затихли, стали совсем беззвучны, как падающие хлопья снега. Вспомнив, что здесь через рощу ходят все, она успокоилась и решила, что это, наверно, кто-нибудь из поселян возвращается домой, но все-таки ей было неприятно, что они столкнутся в таком месте, в самой чаще, хотя всего в нескольких шагах от дома.
Шаги приближались, вот они уже совсем рядом, какая-то фигура поравнялась с ней и уже почти шагнула мимо, как вдруг что-то рвануло Батшебу за подол и точно пригвоздило ее к земле. Она пошатнулась и едва удержалась на ногах от этого внезапного рывка. Невольно раскинув руки, чтобы обрести равновесие, она уткнулась ладонью и суконную одежду с пуговицами.
– Что за чертовщина! – произнес чей-то мужской голос высоко над ее головой. – Ушиб я вас, что ли, дружище?
– Нет, – отвечала Батшеба, пытаясь шагнуть в сторону.
– Похоже, мы чем-то зацепились друг за друга?
– Да.
– Да это, кажется, женщина?
– Да.
– По-видимому, из местных дам, леди, я бы сказал.
– Это не имеет значения.
– Но я-то мужчина.
– Ах! – Батшеба снова сделала попытку шагнуть, но безо всякого успеха.
– У вас, кажется, потайной фонарь в руке, если я не ошибаюсь? – спросил мужчина.
– Да.
– Разрешите, я открою дверцу и отцеплю вас.
Рука незнакомца схватила фонарь, дверца откинулась, луч света вырвался из плена, и Батшеба с изумлением увидела, в какой она очутилась западне. Мужчина, с которым ее что-то сцепило, был военный. Он весь сверкал медью и пурпуром. Это видение среди полной тьмы было подобно трубному гласу, пронзающему мертвую тишину. Мрак, неизменно царивший здесь как genius loci[1] во все времена, был сейчас побежден полностью не столько светом фонаря, сколько тем, что озарил этот свет. Это видение настолько отличалось от того, что она ожидала увидеть – ей представлялась какая-то зловещая фигура в темном, – что этот разительный контраст подействовал на нее, словно какое-то волшебное превращение. При свете фонаря сразу выяснилось, что шпора военного зацепилась за кружевную оборку ее платья. Он успел кинуть взгляд на ее лицо.
– Я сейчас отцеплю, мисс, сию секунду, – сказал он сразу изменившимся учтивым тоном.
– Ах нет, я сама, благодарю вас, – поспешно ответила она и присела, чтобы отцепить подол.
Но отцепить его было не так-то просто. Колесико шпоры за несколько секунд так обвилось крученым шелком гипюра, что надо было изрядно повозиться, прежде чем выпутать его.
Он тоже присел, а луч света из открытой дверцы фонаря, стоявшего меж ними на земле, скользил среди еловых игл, в густой траве, наподобие большого светляка. Он освещал их лица снизу и отбрасывал чуть ли не до половины рощи громадные тени мужчины и женщины; падая на стволы деревьев, тени искажались, принимая чудовищно уродливые формы, а дальше постепенно сливались с темнотой и исчезали.
Он посмотрел ей прямо в глаза, когда она на секунду подняла их, но Батшеба тут же опустила взгляд, потому что не могла состязаться с этим пристально-настойчивым взглядом. Все же мельком она успела заметить, что он молод и строен и что у него три нашивки на рукаве.
Она снова потянула свой подол.
– Вы в плену, мисс, не приходится закрывать на это глаза, – насмешливо сказал он. – Я вынужден буду отсечь этот кусок подола, если вы уж так торопитесь.
– Да, пожалуйста, – беспомощно воскликнула она.
– Но в этом нет необходимости, если вы способны минутку потерпеть. – И он раскрутил и снял с колесика одну шелковую петельку. Батшеба убрала руку, чтобы не мешать ему, но он все же нечаянно или умышленно успел коснуться ее. Батшеба была возмущена, а почему – она сама не знала.
Он продолжал распутывать, но конца этому не было видно. Она снова подняла на него глаза.
– Благодарю вас за то, что вы даете мне возможность любоваться таким прелестным личиком, – бесцеремонно сказал молодой сержант.
Батшеба вспыхнула от смущения.
– Эта возможность предоставляется вам против моей воли, – сухо процедила она, стараясь сохранить чувство собственного достоинства, что плохо удавалось ей в ее пригвожденном положении.
– Вы нравитесь мне еще больше за такую отповедь, мисс, – отвечал он.
– А мне бы еще больше понравилось… я бы хотела, чтобы вы никогда не попадались мне на глаза и не ходили здесь. – Она дернула платье, и кружевная оборка на ее подоле затрещала, как ружья лилипутов.
– Я заслуживаю кару, которой вы подвергаете меня вашими словами. Но с чего бы это у такой красивой и воспитанной девушки такое отвращение к полу ее отца?
– Идите, пожалуйста, своей дорогой.
– Ого, красавица моя! И потащить вас за собой! Вы только взгляните. В жизни своей не видывал такой путаницы.
– И вам не стыдно! Вы нарочно запутали еще больше, чтобы задержать меня здесь! Да, нарочно!
– Да нет, право же, нет, – отвечал сержант с лукавой усмешкой.
– А я вам говорю, что да! – вскричала, разозлившись, Батшеба. – Я требую, чтобы вы распутали сейчас же. Ну-ка, пустите, я сама.
– Пожалуйста, мисс, конечно, разве я могу противиться. – И он вздохнул с таким явным притворством, какое надо ухитриться выразить вздохом. – Я благодарен за возможность смотреть на красивое личико, даже когда эту возможность швыряют мне, как собаке кость. Этим мгновеньям, увы, так быстро наступит конец.
Она решительно сжала губы и упорно молчала.
У нее мелькнула мысль, а что, если она рванет изо всех сил, удастся ли ей вырваться, хотя бы с риском оставить здесь кусок своего подола? Но как это ужасно! Платье, в которое она нарядилась для этого ужина, было украшением ее гардероба; из всех ее нарядов ни один так не шел к ней. Какая женщина на месте Батшебы, отнюдь не робкой от природы, а тем более когда до дома было рукой подать – стоило ей только крикнуть, сюда сбежались бы ее слуги, – пошла бы на такую жертву, чтобы избавиться от дерзкого военного.
– На все нужно время. Я вижу, вы скоро распутаете, – продолжал хладнокровно ее товарищ по несчастью.
– Ваши шутки возмущают и…
– Зачем же так жестоко!
– И оскорбляют меня!
– Я позволил себе пошутить только затем, чтобы иметь удовольствие попросить прощения у такой очаровательной женщины, что я готов сделать сию же минуту со всем смирением и почтительностью, мадам.
На это Батшеба просто не знала, что сказать.
– Много я женщин видел на своем веку, – теперь уже мечтательно, шепотом продолжал молодой человек, глядя оценивающим взглядом на ее опущенную головку, – но такой красивой, как вы, я еще не видал. Верите вы мне или нет, приятно вам это или неприятно – мне все равно.
– А кто вы такой, что можете позволить себе пренебречь мнением других?
– Я не чужой здесь. Сержант Трой к вашим услугам. Живу здесь неподалеку. А! Наконец-то распуталось, вот видите. Ваши легкие пальчики оказались проворнее моих. Ах, лучше бы это был такой мертвый узел, чтобы его никак невозможно было распутать.
Что он только позволяет себе! Она вскочила, и он тоже. Теперь у нее была только одна мысль: как бы уйти так, чтобы это выглядело благопристойно. Держа фонарь в руке, она незаметно отступала от него боком, пока не перестала видеть красный мундир.
– Прощайте, красавица, – сказал он.
Она не ответила и, отойдя на двадцать – тридцать шагов, повернулась и опрометью кинулась в калитку.
Лидди только что пошла спать. Поднимаясь к себе, Батшеба приоткрыла ее дверь и задыхающимся голосом спросила:
– Лидди, есть у нас какой-нибудь военный в поселке, сержант… или нет, не знаю, слишком у него джентльменский вид для сержанта, и собой недурен, в красном мундире с синей выпушкой?
– Нет, мисс… Нет, что я говорю, может быть, это сержант Трой в отпуск приехал, только я не видела его. Он как-то приезжал сюда, когда его полк стоял в Кэстербридже.
– Да, так он и назвался. Усы у него, а бороды и бакенбардов нет?
– Да, да.
– Что это за человек?
– Ах, мисс, стыдно сказать, – беспутный он человек. Знаю, что способный, смышленый и тысячное состояние мог бы нажить не хуже иного сквайра. Такой образованный, джентльмен. Докторским сыном числится – фамилию его носит, кажется, чего больше надо; а родом-то он – графский сын.
– А вот это куда больше. Подумать только! Да правда ли это?
– Правда. И воспитывали его как нельзя лучше, сколько лет в кэстербриджской школе учился. Все языки там изучил, говорят, будто даже по-китайски мог понимать, читал и писал; ну про это я, конечно, не знаю, много чего рассказывают. Только он свою судьбу сам загубил, записался в солдаты; правда, он и там быстро в гору пошел, не успел оглянуться – уже стал сержантом. Великое это счастье в благородной семье родиться. Будь ты хоть солдатом в строю, все равно тебя отличат. А это верно, мисс, что он домой вернулся?
– По-моему, да. Спокойной ночи, Лидди.
В конце концов, может ли беспечная юная особа в юбке долго обижаться на мужчину? Нередки случаи, когда молодая девушка склада Батшебы охотно прощает некоторую вольность в обращении; чаще всего это бывает, когда ей хочется, чтобы ее хвалили, а еще, когда она жаждет, чтобы ее покорили, – это тоже бывает, и, наконец, когда она хочет не пустого флирта, а чего-то большего, но это уже редкий случай.
Из этих трех ощущений в Батшебе сейчас сильнее всего говорило первое, второе только примешивалось слегка. Но сверх того – был ли это просто случай или, может статься, козни лукавого, но виновник происшествия, оказавшись красивым незнакомцем, явно знавшим лучшие дни, уже успел пробудить в ней интерес.
Поэтому она никак не могла решить, следует ли ей считать себя оскорбленной или нет.
– Вот уж поистине необыкновенное происшествие, – наконец воскликнула она после долгого раздумья у себя в комнате. – И как я могла так глупо поступить – скрыться, не сказав ни слова человеку, который проявил по отношению ко мне только учтивость и внимание. – Ясно, она уже не считала оскорблением его бесцеремонное восхваление ее внешности.
Вот это-то и было роковым упущением со стороны Болдвуда – он ни разу не сказал ей, что она красива.
Глава XXV
Описывается новый знакомый
Некоторые свойства натуры и плюс к этому превратности судьбы сделали сержанта Троя существом не совсем обычного склада.
Это был человек, для которого вспоминать о прошлом казалось обременительным, а задумываться о будущем – излишним. Живя непосредственно ощущением, он устремлял свои помыслы и желания на то, что было у него перед глазами. Чувства его откликались только на настоящее. Время для него было чем-то таким мимолетным, что, не успеешь и оглянуться, оно уже мелькнуло и прошло. Мысленно переноситься в прошлое или заглядывать в будущее, эта игра воображенья, в которой слово «жаль» становится синонимом минувшего, а «осмотрительность» знаменует будущее, была чужда Трою. Для него прошлое – это было вчера, будущее – завтра, а никак не послезавтра.
В силу этого он в некотором отношении мог бы считаться счастливейшим из смертных. Ибо можно весьма убедительно доказать, что предаваться воспоминаниям – это не столько дар, сколько болезнь, а единственное отрадное чаяние, то, что зиждется на слепой вере, это нечто нереальное, тогда как ожидание, вскормленное надеждой или какими-то другими смешанными чувствами – терпением, нетерпением, решимостью, любопытством, – сводится к непрестанному колебанию между радостью и мучением.
Сержант Трой, которому были совершенно неведомы такого рода чаяния, никогда не испытывал разочарования. Этому отрицательному выигрышу, пожалуй, можно было бы противопоставить некий неизбежно связанный с ним положительный урон – утрату некоторых тонких восприятий и ощущений. Но для человека, лишенного их, отсутствие этих свойств отнюдь не представляется лишением: в этой категории моральное или эстетическое убожество резко отличается от материального, ибо люди, страдающие им, не замечают этого, а те, кто замечает, вскоре перестают страдать. Нельзя считать лишением способность обходиться без того, чем ты никогда не обладал, и Трой вовсе не чувствовал лишения в том, чего не испытывал, зато он отлично сознавал, что испытывает многое такое, чего недостает людям умеренного склада, поэтому его способность чувствовать, на самом деле более ограниченная, казалась ему гораздо более богатой.
В своих отношениях с мужчинами он был более или менее честен, но с женщинами лжив, как критянин, – правило этики, рассчитанное главным образом на то, чтобы завоевать расположение милых дам с первого же момента, а то, что успех мог оказаться преходящим – это его не беспокоило, ибо относилось к будущему.
Он никогда не переступал черты, за которой веселое беспутство переходит в безобразный порок, и хотя нравственные его качества вряд ли удостаивались одобрения, их порицание нередко сопровождалось смягчающей улыбкой. Это отношение подстрекало его к бахвальству, он частенько приписывал себе чужие похождения, разумеется, не для того, чтобы воздать должное нравственному превосходству своих слушателей, но чтобы повысить свою репутацию беспутника.
Его ум и склонности, давным-давно размежевавшись по обоюдному согласию, редко влияли друг на друга; поэтому если у него иной раз и бывали благие намерения, его поступки не только не вязались с ними, но резко оттеняли их своим неожиданным контрастом. В своем беспутном поведении сержант Трой подчинялся импульсу, а в добродетелях – трезвому размышлению, причем добродетельность его отличалась такой скромностью, что о ней чаще доводилось слышать и редко кому случалось ее наблюдать.
Трой был полон энергии, но энергия его была не столько движущего, сколько дремлющего свойства. Лишенная какой-либо самостоятельно выбранной побудительной основы, ничем не направленная, она растрачивалась на то, с чем сталкивал ее случай. Так, он иногда блистал в разговоре, – ибо это получалось непроизвольно, само собой, и оказывался далеко не на высоте в действии из-за неспособности направить и сосредоточить свои усилия. У него был живой ум и достаточно силы воли, но он был неспособен согласовать их, поэтому ум его цеплялся за пустяки, тщетно дожидаясь приказа воли, а воля, пренебрегающая умом, растрачивалась впустую. Он был хорошо образован для человека среднего класса, а для простого солдата – исключительно хорошо. Он умел поговорить и мог говорить сколько угодно. И в разговоре умел казаться таким, каким ему хотелось, а не таким, каким он был на самом деле. Так, например, он мог говорить о любви, а думать об обеде; прийти навестить мужа, чтобы повидать жену; делать вид, что хочет вернуть долг, а намереваться занять еще.
Неотразимое действие лести, когда добиваешься успеха у женщин, это настолько распространенное мнение, что оно чуть ли не вошло в поговорку, которую произносят машинально, нимало не задумываясь над тем, какие чудовищные выводы напрашиваются из подобного утверждения. Уж не говоря о том, что, поступая согласно ему, действуют отнюдь не на пользу и не на благо объекту лести. Большинство людей держит в памяти подобные поговорки с разными другими затасканными изречениями, и только когда какая-нибудь катастрофа вдруг неожиданно вскроет их страшный смысл, тут он впервые по-настоящему доходит до их сознания. Когда такое мнение высказывают более или менее всерьез, то в подкрепление ему добавляют, что льстить надо с умом, чтобы достичь цели. К чести мужчин можно сказать – мало кому из них удавалось проверить это на опыте, и, должно быть, их счастье, что им не приходилось за это расплачиваться.
Тем не менее искусный притворщик способен вскружить голову женщине немыслимым враньем и обрести над ней такую власть, которая может даже и погубить ее, – эту истину случалось постигнуть многим в самых непредвиденных, мучительных обстоятельствах.
И есть люди, которые хвастают тем, что они почерпнули из своего опыта и беспечно продолжают эти опыты, – иной раз с чудовищными результатами. Сержант Трой принадлежал к числу этих людей. Рассказывали, что он как-то обронил словцо насчет того, как надо обращаться с женщинами; с ними можно управиться двумя способами – либо лестью, либо руганью, говорил он. Третьего способа нет. Стоит подойти к ним по-хорошему – и ты пропащий человек.
Сей философ, прибыв в Уэзербери, не замедлил появиться на людях. Как-то недели через две после стрижки овец Батшеба, чувствуя неизъяснимое облегчение оттого, что Болдвуд уехал, пошла на сенокос и остановилась у плетня посмотреть, как работают косцы. Они двигались рядами, состоящими примерно из равного числа угловатых и округлых фигур; первые принадлежали мужчинам, вторые – женщинам в надвинутых на лоб чепцах, покрытых сверху косынками, спускавшимися им на плечи. Когген и Марк Кларк косили на ближнем лугу, и Кларк, махая косой, что-то напевал в такт, а Джан даже и не пытался поспевать за ним. На первом лугу сено уже начали грузить. Женщины сгребали его и складывали в стоги, а мужчины подхватывали и бросали в фургон.
Внезапно за фургоном выросла какая-то ярко-алая фигура и тоже стала деловито грузить вместе с другими. Это был бравый сержант, который для собственного удовольствия пришел поработать на сенокосе; и нельзя было отрицать, что в такое страдное время он своим добровольным трудом оказывал хозяйке фермы поистине рыцарскую услугу.
Едва только Батшеба вышла на луг, Трой тотчас же увидел ее; он воткнул вилы в землю и, подхватив свой стек, пошел к ней навстречу. Батшеба вспыхнула то ли от смущения, то ли от досады, но не опустила глаз и продолжала идти прямо на него.
Глава XXVI
Сцена на краю скошенного луга
– Ах, мисс Эвердин, – сказал сержант, прикладывая руку к козырьку. – Как это так я не сообразил, что это вы, когда говорил с вами в тот вечер. А ведь если бы я только подумал, то должен бы догадаться, что Королева Хлебной биржи (правда – она ведь правда в любой час дня или ночи, а я только вчера в Кэстербридже слышал, что вас так называют!) – это вы, и не может быть никто иной. Я поспешил вам навстречу и приношу вам тысячу извинений за то, что, поддавшись своим чувствам, осмелился так откровенно выразить вам свое восхищение, не будучи с вами знаком. Но, правда, я в здешних краях не чужой, – я сержант Трой, как я вам уже говорил, на этих самых лугах я всегда, еще мальчишкой, помогал вашему дядюшке. И вот сегодня пришел поработать для вас.
– Полагаю, я должна поблагодарить вас за это, сержант Трой, – холодным топом промолвила Королева Хлебной биржи.
Сержант явно обиделся и огорчился.
– Да нет, мисс Эвердин. Зачем же думать, что это уж так обязательно.
– Очень рада, что это не так.
– А почему, если не сочтете за дерзость, позвольте спросить?
– Потому что я не хочу быть вам обязанной ни в чем.
– Боюсь, что я так навредил себе своим языком, что теперь мне уже ничто не поможет, и я обречен вечно каяться. Подумать, в какое ужасное время мы живем, – что` только не обрушивается на человека, который от чистого сердца осмелился сказать женщине, что она красива. Ведь это самое большее, что я посмел, – это вы не можете не признать, скромнее я не мог выразиться, в этом я сам признаюсь.
– Все это болтовня, без которой я отлично могла бы обойтись.
– Так, так. А по-моему, вы просто уклоняетесь от темы.
– Нет. Я только хочу сказать, что место, на котором вы стоите, для меня было бы гораздо приятнее без вас.
– А для меня ваши проклятья приятнее поцелуев любой женщины в мире, поэтому я не сдвинусь с места.
Батшеба на секунду опешила. И в то же время она чувствовала, что не может обрезать его, ведь как-никак он действительно пришел помочь на сенокосе.
– Ну хорошо, – продолжал Трой. – Я готов допустить, бывает похвала, которая граничит с дерзостью, и, может быть, в этом и есть моя вина. Но бывает обхожденье, которое явно несправедливо, и уж в этом, безусловно, повинны вы. Подумать только, простой, прямодушный человек, которого никогда не учили притворяться, высказал напрямик то, что он думает, и, может, у него вырвалось это нечаянно, а его за это карают, как нечестивца.
– Это совсем непохоже на наш с вами случай, – сказала Батшеба, поворачиваясь, чтобы уйти. – Я не позволяю незнакомым людям никакой развязности и бесцеремонности по отношению ко мне, даже если они восхваляют меня.
– А, так, значит, вас оскорбляет не самый факт, а, так сказать, форма выражения, – спокойно сказал он. – Ну что ж, мне остается с грустью удовлетвориться сознанием, что я сказал чистую правду, приятны или обидны показались вам мои слова. Или вы хотели бы, чтобы я, поглядев на вас, сказал бы своим знакомым, что вы дурнушка, чтобы вы при встрече с ними не боялись, что они будут глазеть на вас. Ну нет, я не способен так глупо оболгать красоту, и только затем, чтобы поощрить излишнюю скромность у такой единственной в своем роде женщины в Англии.
– Все это выдумки, то, что вы говорите, – невольно рассмеявшись его хитрой уловке, сказала Батшеба. – Вы просто на редкость изобретательны, сержант Трой. Почему вы не могли просто молча пойти своей дорогой в тот вечер – вот все, что я ставлю вам в вину.
– Потому что не мог. Половина удовольствия от любого ощущения состоит в том, что вам хочется тут же его высказать, я это и сделал. И то же самое было бы и в противном случае, – будь вы уродливой старухой, – наверно, у меня также вырвалось бы невольное восклицание.
– И давно вы страдаете такой чрезмерной впечатлительностью?
– О, с раннего детства, как только научился отличать красоту от уродства.
– Надо полагать, что это чувство различия, о котором вы говорите, не ограничивается только внешностью, а распространяется и на душевные качества?
– Ну, о душе или религии, своей или чьей бы то ни было, я не берусь говорить. Хотя я, пожалуй, был бы неплохим христианином, если бы вы, красивые женщины, не сделали меня идолопоклонником.
Батшеба прошла вперед, чтобы скрыть невольную улыбку и предательские ямочки на щеках. Трой, помахивая стеком, двинулся за ней.
– Мисс Эвердин, вы прощаете меня?
– Не совсем.
– Почему?
– Вы говорите такие вещи…
– Я сказал, что вы красивы, и повторю это и сейчас, потому что… ну, боже ты мой, ведь это же правда. Провалиться мне на этом месте, клянусь вам чем хотите, я в жизни своей не видывал женщины красивей.
– Перестаньте, перестаньте. Я не желаю этого слушать, что это еще за клятвы! – вскричала Батшеба в полном смятении чувств.
Возмущение тем, что она слышит, боролось в ней с неудержимым желанием слушать еще и еще.
– А я опять повторяю, что вы самая обворожительная женщина. И что удивительного в том, что я так говорю? Ведь это же само собой очевидная истина. Вам просто не нравится, что я так бурно выразил свое мнение, мисс Эвердин, и, конечно, оно малоубедительно для вас, потому что ничего не значит в ваших глазах, но оно совершенно искренне, почему же вы не можете меня простить?
– Потому что… это… это неверно, – как-то очень по-женски прошептала она.
– Ну-ну, не знаю уж, что хуже – грешить против третьей заповеди или против страшной девятой, как это делаете вы?
– Но мне кажется, это не совсем правильно, не такая уж я обворожительная, – уклончиво ответила она.
– Это вам кажется. Ну так позвольте мне, со всем уважением к вам, мисс Эвердин, сказать вам, что виной этому ваша излишняя скромность. Да не может быть, чтобы вам все этого не говорили, потому что все же это видят, другим-то вы можете поверить?
– Они так не говорят.
– Не могут не говорить.
– Во всяком случае, не говорят мне в лицо, как вы, – продолжала она, постепенно втягиваясь в разговор, который она сначала твердо намеревалась пресечь.
– Но вы знаете, что они так думают?
– Нет, то есть я слыхала, конечно, от Лидди, что обо мне говорят, но… – Она запнулась.
Сдалась… Вот что означал, в сущности, несмотря на всю его осторожность, этот наивный ответ, сдалась, сама того не подозревая, признала себя побежденной. И ничто не могло выразить это более красноречиво, чем ее беспомощная, неоконченная фраза. Легкомысленный сержант усмехнулся про себя, и, должно быть, дьявол тоже усмехнулся, высунувшись из преисподней, ибо в эту минуту решилась чья-то судьба. По лицу, по тону Батшебы можно было безошибочно сказать, что росток, который должен взломать фундамент, уже пустил корни в трещине: остальное было делом времени и естественного хода вещей.
– Вот когда правда вышла наружу! – воскликнул сержант. – Ну как может быть, чтобы молодая леди, которой все кругом восхищаются, так-таки ничего об этом не знала? Ах, мисс Эвердин, уж вы простите мою откровенность, но ведь вы, в сущности, несчастье рода человеческого!
– Как, почему? – спросила она, широко раскрывая глаза.
– Да вот так выходит. Знаете, есть такая старая народная поговорка, не бог весть какая мудрая, но для грубого солдата годится: «Коль петли не миновать – правду нечего скрывать»; вот я вам сейчас правду и выложу, не заботясь о том, понравится она вам или нет, и не надеясь получить ваше прощение. И вы сами поймете, мисс Эвердин, каким образом ваша красота может наделать больше бед на земле, чем принести добра. – Сержант задумчиво уставился вдаль глубокомысленно-критическим взором. – Ну вот, скажем, какой-нибудь мужчина влюбляется в обыкновенную женщину, женится на ней; он доволен, ведет полезную жизнь. А вот такую женщину, как вы, жаждут заполучить сотни мужчин, глаза ваши будут пленять все новых и новых, и сколько несчастных будет терзаться неутоленной любовью, – ведь вы можете выйти замуж только за одного. Ну, скажем, человек двадцать из этого множества будут пытаться заглушить вином горечь отвергнутой любви, другие двадцать будут влачить жизнь без всяких целей, не делая попыток добиться чего-либо, потому что, кроме привязанности к вам, у них нет ничего, никаких иных стремлений; и еще двадцать, и среди них, пожалуй, и моя уязвимая персона, вечно будут ходить за вами следом, вечно стараться быть там, где можно хотя бы поглядеть на вас, и ради этого совершать любые безумства. Мужчины ведь такие неисправимые глупцы! Ну а остальные, скажем, будут пытаться преодолеть свою страсть, кто с большим, кто с меньшим успехом. Но все это будут пришибленные люди. И не только эти девяносто девять мужчин, но и девяносто девять женщин, на которых они, может быть, женятся, тоже будут несчастны с ними. Вот вам моя притча. И вот почему я говорю, что такая очаровательная женщина, как вы, мисс Эвердин, вряд ли создана на благо рода человеческого.
