Вынос мозга. С комментариями (сборник)
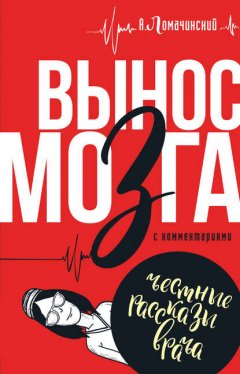
© ООО «Издательство АСТ», 2016
Рассказы судмедэксперта
Лекарство от рака
В конце 1970-х в городе Выборге жили-были два врача – доктор Райтсман и доктор Кузнецов. На чём специализировался доктор Райтсман, я забыл, а вот специализацию доктора Кузнецова я буду помнить до самых глуб седин старческого маразма. Онколог он был. Причём если верить материалам того уголовного дела и документам, присланным на судебно-экспертную медицинскую оценку, то онкологом он был классным. Никаких диссертаций не писал, но в части практического лечения многих злокачественных заболеваний да и по теоретическим знаниям доктор Кузнецов запросто мог составить конкуренцию какому-нибудь периферийному профессору из областного мединститута. Коллеги о Кузнецове давали самые положительные отзывы: взяток не брал принципиально, специальную литературу читал тоннами, в консультациях не отказывал, а когда консультировал, то нос не задирал и был всегда профессионально честен – слов «этого я не знаю» не боялся. Добрый, по характеру уравновешенный, жизнью доволен, хороший семьянин, никаких психопатологических выходок за всю жизнь этого доктора не зарегистрировано. От пациентов отбоя не было, а сами пациенты и их родственники только гимны славы этому доктору пели – лучший критерий оценки любого врача. Одним словом, как тогда говорили, достойный советский человек.
Доктор Райтсман и доктор Кузнецов были близкими друзьями. Дружили семьями, прочно и долго. Дети в этих семьях друг друга с раннего детства знали, и отношения у них были как у близких родственников. Жёны ни одного праздника не помнили, чтобы порознь. Даже отпуска подгадывали так, чтобы отдыхать общей большой компанией. Да и увлечения у этих докторов были одни и те же – любили выходы на природу, особенно по грибы и на охоту на боровую дичь.
На здоровье друзья не жаловались, хоть оба смолили «Беломор» как сапожники. Ну и, разумеется, у обоих были хронические бронхиты заядлых курильщиков – периодически друзья выслушивали друг у друга свистящие хрипы в лёгких и шутили на тему сапожников без сапог. Такое наплевательское отношение к собственному здоровью было весьма распространено в интеллигентной провинциальной среде того времени.
И вот пришла семья Райтсманов в дом Кузнецовых встретить Новый год. «Советское шампанское» на столе, лучшие коньяки и деликатесы – не взятки, а знаки почтения от благодарных больных. По телевизору Брежнев поздравление отшамкал, часы бьют двенадцать. Все поднимают фужеры и пьют первый тост за наступивший. Улыбки, радость на лицах, предвкушение хорошего застолья. Но через минуту доктору Райтсману становится плохо – он бледнеет и бежит в туалет. Там его скручивает сильный желудочный спазм, а минутой позже приходит облегчение в виде рвоты. Доктор Кузнецов без всяких церемоний открывает незапертую дверь, входит и смотрит в унитаз. Там свежевыпитое шампанское с прожилкой крови. Новогодний вечер испорчен: рвота с кровью без причины – всегда тревога для онколога.
Без всяких церемоний Кузнецов заводит друга в спальню, просит раздеться и лечь на кровать. Пальцы привычно утопают в ставшей податливой передней брюшной стенке. Мнёт Кузнецов живот другу и становится всё серьёзней и серьёзней. Долго мнёт. Жёны за стол зовут, хватит, мол, с кем не бывает. Перестаньте, мужики, друг на друга страх нагонять. Идите коньячку по маленькой – всё как рукой снимет! Не слушает доктор Кузнецов, злой стал, орёт, чтоб не мешали. Пошёл периферийные лимфоузлы пальпировать, лезет в пах, давит под мышками и над ключицами. А в одной из надключичных ямок непонятный желвачок. Хватает стетоскоп и долго слушает лёгкие. Потом основательно выстукивает грудную клетку. И начинают дрожать пальцы у доктора Кузнецова… «Ладно, пошли к столу. Пить не советую, и кушай умеренно. Завтра с полудня ничего не есть, с шести вечера и жидкости не пить, а второго числа с самого утра ко мне в кабинет».
Второго января с утра первый раз в своей жизни доктор Кузнецов послал куда подальше своих плановых больных. Регистратура обозлилась, да высок был кузнецовский авторитет. Кому талончики переписали, кого, несмотря на протесты, к другим докторам направили, кого попросили подождать. Всё утро возился доктор со своим другом. Лично водил на рентген и в лабораторию. Принёс рентгенологу бутылку «Наполеона», давно стоявшую музейным экспонатом дома, а после разговора с завлабораторией оставил на столе коробку «Пиковой Дамы». Среди коллег такие вещи не популярны, сотрудники подарки принять отказываются – принцип «ты мне, я тебе» дороже. Отнесли подарки назад и отдали медсестре, что в кабинете у онколога сидела.
Наконец вернулся Кузнецов к себе в кабинет и сразу за телефон. На весь Выборг тогда единственный эндоскоп имелся. Эндоскоп – это такая штука, которой через рот в желудок залезть можно, посмотреть, что там творится, ну и биопсию взять, отщипнуть кусочек тканей на анализ под микроскопом. Звонит эндоскописту, просит немедленно приять больного Райтсмана. Эндоскопист тоже весь день скомкал, но раз уж сам Кузнецов просит, то будет сделано. Затем хирургу звонит: другу моему нужно срочно лимфоузел из надключичной ямки вырезать, опять же на гистологию. Затем патологу – ставь на уши всю свою патогистологическую лабораторию, а мои анализы в первую очередь! И тот согласен. Ещё просит несколько дополнительных стёклышек с прокрашенными тканями подготовить – для собственного изучения и если кому на консультацию послать придётся. И это будет сделано. Надо сказать, что доктор Кузнецов сам микроскопа не чурался. Стоял у него в кабинете отличный бинокуляр, и стоял отнюдь не для мебели. Частенько Кузнецов у него просиживал, изучая сложные тканевые изменения с подозрением на малигнизацию.
Всё, что надо доктору Райтсману, сделали. Как никогда быстро все результаты легли на кузнецовский стол. Остался Кузнецов после работы, обложился атласами по онкологической патологии и стал смотреть препараты тканей своего друга. Сидел за микроскопом допоздна, иногда переводя глаза с микрополя на матовый яркий экран на стене, где висели многочисленные рентгеновские снимки больного Райтсмана. Опустела поликлиника, вот уже и дежурному терапевту пора уходить. Дождался Кузнецов, когда тот примет последнего больного, и заходит к нему в кабинет. Такой просьбы от Кузнецова никто из коллег не помнил, хотя то, о чём доктор попросил, считалось делом обычным. А попросил он для себя банальный больничный на три дня с диагнозом ОРЗ. Сказал честно, что в Ленинград смотаться надо – срочно и по личному. Друг Райтсман дома тоже на больничном маялся, но этому законно выписали открытый лист – без указания даты, когда на работу являться.
Собрал Кузнецов свои записи, все рентгенограммы, микропрепараты и другие анализы и принёс всё домой. Рано утром набил вторую сумку лучшим коньяком, сел в электричку и покатил в Ленинград. Хоть и не занимался этот доктор наукой, но многих знакомых в научных кругах имел. Остановился на три дня у кого-то из них. За это время своей «болезни» успел пройтись по светилам онкологии из 1-го меда, зашёл на кафедру патанатомии в Сангиге, сходил к коллегам в Онкоцентре. Везде народ только недоумение выражает. Мол, ну чего ты к нам с такой элементарщиной припёрся? Ты ведь сам классный специалист, какие ещё у тебя могут быть сомнения? Задачка для студентов-второкурсников – элементарная, типичная аденокарцинома! Злокачественная опухоль тканей желудка. А раз имеются метастазы в лёгких и по всем лимфоузлам, то и диагноз проще пареной репы – рак четвёртой стадии. Прогноз больного однозначный – сливайте воду, выходите в тамбур, приехали. Следующая остановка – кладбище. Никто ничем помочь не может. Поздно. Давно поздно. Слушает эти очевидные истины доктор Кузнецов, а у самого в глазах слёзы. Да всё было ясно и понятно, только ведь друг это – на чудо надежда была…
Здесь уместно сделать одно лирическое отступление. Точнее, не лирическое, а бульварно-популяризаторское. Пусть медики снисходительно улыбнутся, зато остальным понятнее будет. То, что рак – это клеточная мутация, все знают. Но это не совсем верно. Каждую секунду в нормальном человеческом организме происходит более двух миллионов изменений хромосомного аппарата, однако двумя миллионами раков в секунду мы не заболеваем. Большинство мутаций не опасны, и хромосомные поломки чинятся, не выходя из клеточного ядра, – есть специальные репарационные механизмы нашего генного аппарата клеток. Но некоторые мутации «прорываются», что, в общем, тоже не проблема. Иммунная система стоит на страже – такие клетки-изменники быстро отыскиваются лимфоцитами и моментально уничтожаются как предатели. Разные лимфоциты работают в нашей иммунной опричнине, есть там и высокоспециализированные следователи, и штатные палачи. Прямо так и называются: Т-киллеры, это научный термин, а не жаргон. Так вот, эти киллеры без других типов лимфоцитарных клеток беспомощны. Не видят они клетку-мутанта. А вот почему не видят – вопрос открытый. Если кто на него ответит – это Нобелевская премия в области медицины и золотой памятник при жизни от всего благодарного человечества.
Понятно теперь, почему рак – это не только и не столько мутация, сколько брешь в системе «свой-чужой»? Как только принял организм мутировавшую клетку за нормальную, та сразу начинает своё простое быдлячье дело – жрать, гадить, безудержно размножаться и ломать всё вокруг. На начальной стадии такую опухоль можно вырезать. Есть в онкохирургии одно святое правило: маленький рак – большая операция, большой рак – маленькая операция. Ну а на последней стадии, когда опухоль распространила метастазы, операция зачастую совершенно бесполезна. Так, кое-какая терапия может лишь слегка замедлить процесс – и не более. Хотя в виде редчайшего казуса в мировой практике имелись единичные наблюдения, когда иммунная система восстанавливала контроль над ситуацией и происходило самоизлечение от рака. «Единичные» и «в мировой» – это ключевые слова. Никто из обычных практикующих онкологов такого не наблюдал и на подобную казуистику ссылаться не любит. Шанс стать миллионером, играя в лотерею, во много раз выше, чем самоизлечение от рака.
Вернулся доктор Кузнецов из Ленинграда, взял дома немного спиртяшки и пошёл в гости к другу Райтсману. Несколько дубовая советская медицинская этика предписывала диагноз онкологического заболевания от самого больного скрывать, обнадёживая бедняг всякой лажей. Диагноз надлежало сообщать только ближайшим родственникам в строго конфиденциальной форме. Но Райтсман был друг и врач – не мог Кузнецов ему врать. Опять же впервые в жизни наплевал он на медицинскую этику. Разлил спиртик и на вопрос «А мне можно?» ответил прямо: «Тебе, брат, теперь всё можно. Неоперабельная аденокарцинома у тебя, друг ты мой милый. Новый год нам вместе уже не встретить, да и на охоту не сходить. Счёт, в лучшем случае, на месяцы. Приведи дела и душу в порядок, чему быть – того не миновать. Как друга мучить ни тебя, ни твою семью я не собираюсь – не будет ни радио-, ни химиотерапии. Не нравится – иди к другому специалисту. В твоём случае чем скорее, тем лучше. Обезболивающих, транквилизаторов и любой другой дряни получишь столько, сколько захочешь. Одно дополнительное средство тебе лишь посоветую – пей побольше гранатового сока. Лечить не лечит, но слизистую слегка дубит, – по моим наблюдениям, лучшая добавка в диету при таких случаях».
Доктор Райтсман вздохнул и сказал, что обо всём догадался ещё на кузнецовской кровати в новогодний вечер. Поблагодарил за правду и дружеское участие. К ситуации отнёсся философски – хоть и был он евреем без иудаизма, но и марксистско-ленинскую философию не ценил. Пора – значит пора. Посмотрим, что лежит за чертой, откуда не возвращаются. Дети подросли, жена в торговле крутится – вытянет. Стал он спокойным и уравновешенным. Сам составил список препаратов, которые посчитал нужными, и моментально получил на всё кузнецовские красные рецепты со специальными печатями для доставки на дом. Позвал жену. Попросил не плакать, всё ей рассказал и велел весь Выборгпродторг перерыть и притащить домой десять ящиков гранатового сока. Напоследок обнял по-братски доктора Кузнецова и попросил к нему больше не заходить, пока сам не позовёт. А позовёт, когда боли нестерпимыми станут. А пока не стали – отложит доктор все дела, прочитает то, что не дочитал, простит тех, кого не простил, а между делами займётся обычным созерцанием окружающей реальности, наблюдать которую осталось недолго. Поэтому такая вот дружеская просьба – не беспокоить. Других знакомых доктор Райтсман собирался оповестить позже. Выпили друзья по прощальному стопарику, и ушёл доктор Кузнецов домой. А дома впервые со студенческих лет нажрался вдрабадан.
Проходят месяцы. Доктор Райтсман не звонит. Мадам Кузнецова как-то пыталась набрать номер Райтсманов, за что получала по рукам от мужа, никогда подобного себе не позволявшего. Желание друга было святым. Подошла осень, охотничий сезон в разгаре. В лесу красота, заветные места лежат под жёлто-красным одеялом. Только без друга не тянет больше Кузнецова на охоту…
Вдруг в ночь с пятницы на субботу звонит Райтсман. На охоту зовёт. Вроде как вчера с Кузнецовым расстался. Ну, у онколога сразу только одна мысль в голове – всё, метастазы в мозгу, бред начался. Осторожно начинает выяснять состояние больного. Райтсман в ответ смеётся бодрым голосом: «Да нормальное состояние. Курить бросил, по утрам бегаю, вчера только из лесу вернулся, хорошие места нашёл, где дичи много, а охотников мало. Поехали, не пожалеешь! Болей давно нет, бредом не страдаю. Короче, садись набивать патронташ, а утром ко мне».
Не верит Кузнецов, но всё же собирается на охоту. Если с другом плохо, как его семье врать и извиняться, что зашёл навестить не вовремя, да ещё в дурацкой охотничьей экипировке?
Утро. Как много раз до этого, стоит Кузнецов перед квартирой друга. Звонить нельзя – давнишний уговор: родственников не будить. Дверь должна быть не заперта. Точно, не заперта. В прихожей свет. На тумбочке сидит довольный Райтсман и натягивает сапоги. Рядом ружьё и рюкзачок. Палец к губам – не шуми, все спят. Друзья выходят на лестницу. Райтсман запирает дверь и быстро сбегает на улицу. За ним ничего не понимающий Кузнецов. Поведение абсолютно нормальное, в смысле абсолютно странное – поведение здорового сорокалетнего мужика в отличной физической форме. «На электричку опаздываем, давай бегом». У курящего Кузнецова одышка, у некурящего и бегающего по утрам Райтсмана – нет. Сели в электричку.
– Всё, Райтсман, хватит загадок – рассказывай всё подробно. Что делал и как себя чувствуешь?
– Чувствую себя прекрасно, а что делал… Что ты сказал, то и делал. Ничего не делал, гранатовый сок пил!
Нужная остановка. Друзья идут в лес. Хорошее место Райтсман нашёл – рябчик есть. Дождался доктор Кузнецов первого дуплета доктора Райтсмана, подошёл к другу вплотную и разрядил свой двенадцатый калибр ему в область сердца. Потом достал охотничий нож, труп раздел и провёл профессиональное вскрытие с полным извлечением органо-комплекса от языка до ануса. Только череп вскрыл непрофессионально – циркулярной пилы не было. Пришлось топориком поработать. Правду говорил доктор Райтсман – рак рассосался!
После этого доктор Кузнецов разобрал своё и Райтсманово ружья, забрал патронташи, труп прикрыл плащом и хорошенько запомнил место. А дальше сел в электричку и поехал в город Выборг. В Выборге сразу пришёл в привокзальное отделение милиции, сдал ружья и рассказал всю историю…
Занималась бы этим делом только выборгская прокуратура, кабы его КГБ по особому статусу не провело. Местный следак по особо важным решил, что доктор Кузнецов открыл средство от рака – гранатовый сок. Ну и привлекла гэбуха Военно-медицинскую академию по полной секретной программе. Ведь если действительно всё дело в гранатовом соке, то государственный доход в чистой валюте с подобной разработки может и нефтяной переплюнуть! Делов-то – выделить действующее начало и запатентовать препарат. Судебка, патанатомия, фармакология, токсикология и куча других кафедр привлекались. Гранатовый сок подвергали всесторонним анализам – ничего специфического не обнаружили. По всему Союзу тонны гранатового сока в чистом виде были выданы онкологическим больным – тоже никакого эффекта. Тело Райтсмана основательно изучалось всеми возможными методиками. Нашли – зажившие рубцы от опухоли и метастазов. Не нашли – ни одной раковой клетки и причины исцеления.
Доктору Кузнецову прижизненного золотого памятника не воздвигнуто. По слухам, на суде он для себя попросил высшую меру и никаких прошений о помиловании не подавал.
Биологическая химера
Судмедэксперты, как видно по самому составу этого слова, – это медицинские эксперты для суда. Чаще всего им приходится разбирать дела криминальные, но иногда случается и гражданским тяжбам пособить. Особенно когда гражданские иски предъявляют друг к другу люди состоятельные, обложенные с обеих сторон кодлой дорогущих адвокатов. В этих случаях работа в основном идёт на адвокатскую экспертизу. Подвернулась такая шабашка – считай повезло! Ни тебе вскрытий, ни эксгумаций, ни следственного эксперимента – труд в основном лабораторно-кабинетный, не тяжёлый, а главное – хорошо оплачиваемый. Чем толще кошельки вовлечённых сторон, тем больше адвокаты выделяют на экспертизу – повторную, заключительную, альтернативную… Абы клиентские деньги тратить. Им же с этого тоже оплачиваемые часы набегают!
В тот раз гражданский иск был совсем неинтересный – по поводу банального развода. Отгремела перестройка, развалился Союз нерушимый, и расцвела пышным цветом жизнь «новых русских». А у «новых русских», кроме картин на стенах и коньяка в баре, которые должны быть очень старыми, всё остальное должно быть исключительно новое. Жена тоже. Новая, молодая, модельно-показная. Однако старые жёны «новых русских» зачастую не были такими уж дурами и весьма лихо отпиливали от мужниного состояния довольно приличные куски. Причём при таких бракоразводных процессах адвокаты не просто старались поделить собственность, но и по максимуму выбить на содержание детей, не ограничиваясь алиментами. В ход шло всё «совместно нажитое» – движимость и недвижимость, паи и акции, целевые и депозитные счета в банках, контрактные сметы на образование, на отдых и ещё много-много чего. И когда эти «мелочи» начинали зашкаливать за шесть нулей в твёрдой валюте, папочка частенько требовал подтверждения отцовства. А вот это уже по судмедэкспертной линии.
Раньше это делалось почти на глазок – доказывали по группам крови и резус-фактору. Выходили чахленькие вероятности, хорошо ещё если один к двадцати, а то ведь и один к трём бывало. Если говорить вульгарно-статистически, измени бывшая жена хоть с двадцатью мужиками – всё равно будет вероятно рождение такого ребёночка. То есть ребёночка чужого, но с такой же комбинацией главных эритроцитарных антигенов. Поэтому и анализы проводили не для подтверждения, а для исключения отцовства. С такой вероятностью ничего подтвердить нельзя.
К концу 70-х это безобразие поправили – понаоткрывали тонких различий в антигенах, установили аллельные закономерности их наследования, и вероятности отцовства стали выражаться в трёхзначных цифрах. Уже кое-что. В 80-х пришла мода на лейкоциты, на так называемую систему HLA (human leukocyte antigen), и вероятность отцовства подскочила ещё на порядок. А потом пришла эра ДНК-анализа. Здесь уже отпираться стало совсем бесполезно – стопроцентное подтверждение. Вероятность – один к куче квадриллионов, нули писать устанешь; за всю историю на планете всех людей в тысячи раз меньше жило, даже если австралопитеков пересчитать.
Риткины адвокаты, точнее, уже не Риткины, а Маргариты Петровны – старой жены «нового русского», понятное дело, работали под приличный процент с конечной суммы, которую удастся отсудить. Вроде как в долг пока, в таких случаях их контора – сама сострадательность, это же вам не нищего подростка от тюрьмы отмазывать. Там да, там деньги на бочку за каждое слово на суде, за каждую минутку независимого расследования, за каждую буковку в документе. Здесь же риска никакого – папочка сейчас при нефти и газе, а значит, при любом исходе этого бракоразводного процесса ни экс-жена, ни куча её защитников голодными не останутся, даже если и по самому минимуму отхватить удастся. А вот на противоборствующей стороне наоборот – там новорусский папочка платит авансом за одностороннее спасение «совместно нажитого». И этот ни от результатов суда, ни от чумовой переплаты адвокатам тоже не обеднеет.
И вот приходит папашиной стороне заключение генетической экспертизы на его родное чадо. Очень-очень странное заключение. Нет, его отцовство оно подтверждает безоговорочно. ОНО ИСКЛЮЧАЕТ МАТЕРИНСТВО!!! Вот если бы и материнство, и отцовство исключалось одновременно – проблем бы никаких не было: ребёночка подменила в роддоме пьяная акушерка, хороший сюжет для мексиканского сериала или индийского фильма. Вообще-то на судах таких детей однозначно приравнивают к законнорожденным по факту полноценного пребывания в семье со всеми вытекающими отсюда правами. Но ведь здесь же получается абсолютно абсурдная картина – получается, что папочка гульнул на стороне, любовница залетела, притом в один день с женой, каким-то образом проникла в роддом и там с какой-то радости подменила ребёнка. Нет, есть конечно, и более разумное объяснение: ребёнок «сделан в пробирке» из папочкиной спермы и донорской яйцеклетки.
Да только не делали такого в СССР! Во всяком случае, не делали жёнам мелких и бедных комсомольских работников, коим был в ту пору наш мультимиллионер. Да и не сдавал муженёк никуда свою сперму! Не было никакого искусственного осеменения и быть не могло. И с любовницами тогда он не спал – он тогда вообще был честный и правильный, такой аморалки допустить не мог!
Ко всему ещё один интересный факт вырисовывается: то, что мать – мать, это ясно, но участки материнской ДНК при этом не совсем чужие. То есть настоящая биологическая мать должна состоять в определённом родстве с разводимой женой. Возможные варианты – наиболее вероятно сестра (не близнец), менее вероятна двоюродная сестра или родная тётка. Ещё родная бабушка такой матерью может быть. Но ведь по жизни отпадает всё! Бабушка умерла задолго до свадьбы, ни родных сестёр, ни тёток в роду нет, а двоюродные сёстры в ту пору ещё в детский сад ходили – из таких годную для оплодотворения яйцеклетку не взять.
Получив такой результат, адвокаты отцовской стороны посоветовали не торопиться. Это же самый прекрасный, самый желанный вывод – мамаша не мамаша, а при этом требует себе чужого ребёнка от законного папочки! Ух какая негодная! На каких основаниях, спрашивается? Вот, пожалуйста, настоящий отец, ему чадо и принадлежит. А вы, гражданочка-вымогательница, катитесь отсюда. Генетическая экспертиза подтвердила! Тут ошибок не бывает.
Узнав о таком повороте дела, Маргарита Петровна едва не двинулась рассудком. Как я не мать?! Да за какую дуру вы меня держите? Адвокаты советуют доказать факт искусственной внутриматочной имплантации оплодотворённой яйцеклетки… Что за муть! Какая имплантация? Да дело было на обычной раскладушке у родителей на даче! И роддом потом был. И ребёнка не меняли – вон, она родинку увидела, как только вытащили, так с первых секунд и запомнила. Чушь это всё. Мой ребёнок, и точка! Скорее всего, большую взятку сунули судмедэксперту, раз он такую ахинею написал. Срочно на встречную экспертизу. И разумеется, в другую лабораторию, в самую солидную! Вон, военным пошлите, их судмедэкспертная школа весьма котируется, они на одних только ДНК-опознанках собаку съели.
Приходит ответ. Такой же самый. Ну как же так? Наверное, плохо сделали анализ! На повторное тестирование! И повторное сделали. Результат не изменился. Наверное, муженькова мафия и там всё скупила – везде подлоги, отовсюду сфабрикованные результаты шлют.
Нашли дурочку! Платите, платите свои взятки, а мы тестирование за границей проведём. Да не где-нибудь в захолустье, а в Кембридже! Старейший английский университет – всему миру авторитет, там взяток не берут. Пока чадо не отобрали, Маргарита Петровна срочно берёт билеты на самолёт и вдвоём с сынулей прямым рейсом в Лондон. Некогда, сынок, достопримечательностями любоваться, когда ближайший поезд на Кембридж? Так, адвокаты уже созвонились – забор материала будет засвидетельствован русскоговорящим нотариусом и заснят на видео. Плюс формальный протокол лаборатории. Всё в полном соответствии с международным правом – комар носа не подточит. Ну вот и всё, теперь спокойно посмотрим Тауэр, послушаем Биг-Бен, пройдёмся по Даунинг-стрит, потаращимся на красных солдат в здоровых мохнатых шапках – и домой.
Вскоре приходит из Кембриджа здоровый пакет. Куча компьютерных графиков с непонятными пиками, куча сканограмм с тенями, сделанных непосредственно с ферезных плёнок и заключение: «Женщина, сдавшая свой биологический материал как мать, матерью не является, однако состоит в близком родстве с настоящей матерью – скорее всего родная сестра. Таким образом, данная женщина является тётей тестированного ребёнка».
Опять двадцать пять… Маргарита Петровна в слезах. Значит, муж на полных основаниях сможет отобрать у матери сына! Да пусть он подавится своими миллионами – ничего мне не надо. Пусть только дитя оставит. Зачем ему сын? У него сейчас другие забавы, другой стиль жизни, всё равно времени на ребёнка не будет. Да ведь и лучше же ребёнку оставаться с матерью. С родной матерью!
Именно этой драмы дожидались муженьковы адвокаты. Не верили они, что такое случится и что им так повезёт с ДНК-анализом, а тут – нате. Вот пруха! Ведь любящая мамаша за ребёнка откажется и от своей законной доли собственности! Ничего такой мамочке можно не отдавать. А вот Риткины адвокаты, источая ругательства, как-то сразу испарились. Ну, раз мамане ничего, то и им соответственно ничего. Зря работали, лоханулись по полной. И осталась бывшая без пяти минут миллионерша одна. Уже без миллионов да считай вообще без денег. Правда, в обмен на её бессребничество без пяти минут бывший муж устно пообещал у неё сына не забирать, а как подрастёт, то и на учёбу что-нибудь подкинуть… Его б слова да Богу в уши. Особых надежд нет – уж слишком сильно разругались. Тут даже не в жадности дело.
Рите захотелось… даже не справедливости – похоже, правды уже не сыскать. Захотелось просто разобраться. Ну ведь мать же я! Почему тест врёт? Чёрт с ним, с последним судом, – судья заседание перенёс аж на два месяца, якобы давая время истцам со стороны матери на сбор дополнительных доказательств. Издевается… Нет даже твёрдой уверенности, что муж ребёнка не заберёт. Теперь только рыпнись – до совершеннолетия сына будет меня этим шантажировать. А променять ребёнка на деньги… Это продать получается. Настоящая мать детьми не торгует.
Взгляд случайно упал на толстенную пузатую папку, оставленную на столе последним ретировавшимся адвокатом. Для продолжения дела теперь они требуют оплаты всех предыдущих расходов. А где ж Ритке в её положении столько денег набрать – муженёк давным-давно все совместные счета обнулил, а кредитки заблокировал. Что оставалось в заначке, съели последние метания. Денег совсем нет. Даже машину не продать – она ведь оформлена на чужое имя, у мужа всё так. В денежных делах он страховаться мастер. Маргарита бесцельно взяла в руки тяжеленный фолиант. Документов было так много, что вычурные застёжки на кожаных хлястиках уже не держали. Добрая треть листов выскользнула и разлетелась по полу громадным веером. Рита вздохнула, размазала слёзы и опустилась на колени собирать бумаги. В папку она их складывала как попало, не читая.
И вот остался последний листок. Он улетел дальше остальных, под стол. Маргарита откинула скатерть и, кряхтя, полезла за ним. То ли от того, что документ оказался последним, то ли от того, что его дольше остальных пришлось ей держать в руках, – но она его прочитала. Совершенно пустая, ничего не значащая бумажка – реквизиты центральной военной лаборатории судмедэкспертизы, где проводилось сравнительное исследование ДНК по просьбе её адвокатов. Рита прочитала на бланке телефонный номер и фамилию эксперта, проводившего исследование, а потом потянулась к телефону.
До эксперта она дозвонилась сразу, но доверительного разговора долго не получалось. Вначале тот даже не хотел ничего слушать. «Дамочка, да чего вы, в самом деле, хотите? Мы делали, англичане делали, ещё кто-то делал… всё сходится!» Тогда Рита спросила его с другой стороны – а знает ли он случаи, когда ДНК-тест врёт? Только так, чтобы не из-за лаборантской ошибки, а по каким-нибудь научным законам. Да, оказывается, есть такое явление! Биологический химеризм. Явление редкое, больше всего таких химер нашли в Штатах – они там ДНК-тесты по любому поводу проводить любят, а ещё там людская популяция слишком разношёрстая. Химеризм легче всего заметить при разнорасовых браках. Тогда он может проявляться как так называемый шахматный рисунок кожи – целые сегменты могут быть белее или чернее, причём разная кожа образует ровные квадраты с центральной симметрией.
Получается это от неизвестного процесса. Иногда в матке, а может даже ещё в маточной трубе, сливаются два зародыша в «возрасте» всего нескольких клеток, причём состоящие из разного генетического материала. В норме такие зародыши дадут двух разнояйцовых близнецов, а слившись, сформируют только один организм, но с двумя разными ДНК. Наиболее известны три случая. Самый нашумевший – это случай так называемого «техасского ребёнка», где правая половинка была девочкой-мулаткой, а левая – мальчиком-негритёнком. Настоящий пример истинного гермафродитизма с генетически обусловленным развитием как первичных, так и вторичных половых признаков обоих полов в одном теле. Потом, правда, этого ребёнка всё же хирургически в мальчика переделали. Второй случай – это случай учительницы Киган, где клетки обоих генотипов оказались более-менее перемешанными, и эта женщина рожала попеременно детей от «двух разных матерей». Третий случай «воровства детей» Лидии Фэарчайлд – у той женщины генетически чужеродными оказались одни яичники, что неимоверно осложнило дело. У бедной женщины государство чуть не позабирало её собственных детей, обвинив Лидию в подделке документов на получение социального пособия (что ещё можно терпеть) и в киднеппинге, за что можно было сесть пожизненно!
Как проверить на химеризм? Да просто, если есть деньги. Тестов много придётся сделать. В крови ничего инородного не нашли, так это нормально – кровь из одной стволовой клетки развивается, там вероятность смешения небольшая. Надо теперь проверить слизистую рта, влагалища и заднего прохода, а потом надёргать волос из разных частей тела и проверять их по отдельности. Анализов пятнадцать минимум. Будет желание платить – приезжайте!
Денег Рита наскребла всего на четыре теста. Решили проверить слизистые рта и влагалища, а также лобковые волосы и волосы с самой макушки головы. И тут пришла удача буквально в первом анализе! ДНК слизистой рта была абсолютно аналогична ДНК крови, за одним маленьким исключением. Если бы эксперт, не зная подоплёки исследования, глянул на пики сканограммы, то его заключение было бы однозначным – данный образец контаминирован! То есть засорён в минимальных количествах ДНК постороннего человека. Наряду с главными пиками на графиках появлялись малюсенькие вторичные пики «грязи», или второго донора-контрибьютора, если говорить тем языком, что используется для доказательства изнасилований. Только этот «вторичный донор» полностью укладывался в профиль настоящей генетической матери Риткиного ребёнка! Значит, в слизистой рта у неё уже есть клетки со вторым генетическим набором.
Волосы с макушки головы были абсолютно идентичны ДНК крови Маргариты, а вот волосы с лобка безоговорочно принадлежали матери её ребёнка. Ещё интересней получилась генетическая картина мазка слизистой влагалища, – в общем, она отражала картину слизистой рта, но с точностью до наоборот! Главным контрибьютором там выступила мать ребёнка, а то, что до этого считалось Риткой, вышло в форме «вторичного загрязнения».
Когда Рита положила перед адвокатами свои собственные изыскания, у тех снова глаза загорелись азартным блеском. Как же, как же, неопровержимые доказательства материнства. Блеска совести или вины перед клиентом за бездарно проигранные дела там не возникает – у хорошего адвоката такие чувства достаточно быстро атрофируются в процессе профессиональной деятельности. Профпатология такая, что попишешь, вредное производство…
После «распила» всего «совместно нажитого» и Ритке, и ребёнку её, и всей этой кодле изрядно денег перепало. Тому, что мать оказалась матерью, один новорусский папаша был не рад. Хотя уж кому-кому об этом не знать!
Голубая Эмма
Однажды в Клинику общей хирургии «скорая» привезла бабулю интеллигентного вида. Седенькая и сероглазая, в ней ничего не выдавало еврейку. Почти ничего. Кроме, конечно, имени. Эмма Аароновна Зин… э-э-э… Зингельшмуллер, если не ошибаюсь, – уж очень длинная фамилия. И ещё – у неё была татуировка на руке. Расплывшийся от времени неровный многозначный номер, страшная отметина фашистских лагерей смерти.
Бабушка корчилась от острой боли в животе, но татуировка настолько заинтриговала врача, что тот нарушил классический порядок опроса больного и первым вопросом спросил, откуда у неё эти цифирки. Оказалось, из самого знаменитого места – из экстерминационного лагеря Аушвиц. Старший лейтенант Барашков аж подпрыгнул от любопытства. Не часто встретишь выжившего узника… Но тут подошёл профессор, и зелёному адъюнкту Барашкову пришлось унять свою любознательность. «Итак, Эмма Ааароновна, когда заболело, где и как, что принимали, чем хворали?»
Старлей принялся старательно мять ей живот, проверять симптомы. Классическим аппендицитом назвать нельзя, но всё равно похоже. Боль в спину отдаёт – наверное, забрюшинный или ретроцекальный… Одна только странность в анамнезе: бабка утверждала, что подобные боли, только не такие сильные, периодически беспокоят её лет сорок.
Тогда Барашков такому странному факту никакого значения не придал. У бабки небось склероз, вот и считает любую случавшуюся боль в животе «такой же». Без шуток – сорокалетних хронических аппендицитов не бывает.
Так, с диагнозом понятно, экспресс-анализ крови пришёл, можно докладывать профессору. Профессор выслушал адъюнкта и со всем согласился. Раз там ничего особенного, давай-ка, молодой человек, сам делай операцию. Случай учебный, великого опыта не требует.
Старший лейтенант моется, берёт в ассистенты кого-то из старшекурсников и становится к столу. Учитывая возраст пациентки, решают оперировать под общим обезболиванием. Подошёл анестезиолог, минутка – и бабушка в наркозе. Н у, с Богом, начали!
Когда вскрыли брюшную полость, первое, что удивило старлея, – это нормальный отросток. Из тех, что на жаргоне «синими» называют. Никакие они не синие, а нормальные, бледные, без малейших признаков воспаления. И лежал такой отросток не ретроцекально, а открыто. Бери – не хочу. Барашков уже хотел его вырезать, так, на всякий случай, чтобы хоть как-то оправдать операцию, но тут его внимание привлекло нечто непонятное. Там, где слепая кишка прилегает к брюшной стенке, была заметна некоторая припухлость. Эх, жаль разрез маленький! Не зря говорят, большой хирург – большой разрез. А мы пока мелковатые…
Тут старлей вспомнил, что для ассистента он ведущий хирург, смутился и принялся учить: «Смотрите, слушатель, там, похоже, какой-то желвак. Поэтому не будем гнать лошадей. Не зря бабка сорок лет на боли в этом месте жаловалась. Там, за слепой кишкой, скорее всего, сидит набухший лимфоузел. А может, и опухоль… Короче, рассечём этот бугорок, возьмём кусочек для патанатомов – пусть злокачественное новообразование исключат».
Ассистент придавил слепую кишку, и за ней сразу проступило нечто компактное, твёрдое и «холодное». «Холодное» не на ощупь. На ощупь оно такое же тёплое, как и всё внутри живота. На хирургическом жаргоне «холодным» называют то, что не имеет признаков острого воспаления. Барашков смело чиркнул по инфильтрату скальпелем. Скальпель упёрся во что-то, потом соскочил с лёгким скрежетом, как железом по стеклу. Старлей удивлённо хмыкнул. Ранка практически не кровила – стенки действительно оказались склерозированными, словно старый рубец. Похоже, что злокачественной опухолью здесь и не пахло – у них рост обычно инвазивный, въедливый, опухоль буквально прорастает в окружающие ткани. Ободрившийся Барашков отступил на сантиметр и небольшим полукруглым разрезом обошёл непонятный инфильтрат. Потом засунул в разрез палец, подобрался под этот комочек и буквально вылущил нечто размером с грецкий орех. Вот так легко и просто! Всё же большой хирург из Барашкова вполне может получиться…
– Ого, какая твёрдая! Фиброма, должно быть. В любом случае, опухоль доброкачественная, – сказал довольный старлей, держа находку на ладони.
Операционная медсестра подставила эмалированную плошку, и Барашков небрежно стряхнул в неё красный шарик.
– А чего оно такое… скрипучее? – поинтересовался ассистент.
Барашков хмыкнул: «Кто его знает! Небось кальций… Разрежем – увидим. Только не сейчас, после операции. Вдруг там какой инфекционный очажок? Не охота бабуле брюхо бактериями обсеменять».
Адъюнкт, насколько позволял боковой разрез, осмотрел брюшную полость, но ничего подозрительного больше не нашёл. Пора ушиваться. Операцию закончили быстро. Больную переложили со стола на каталку и повезли в послеоперационное отделение.
Теперь надо всё описать в истории болезни, а чтобы описание было полным, неплохо бы изучить находку. Барашков принёс в ординаторскую баночку с консервантом и плошку. Уселся поудобней за стол и попытался рассечь непонятное образование ровно пополам. Опухоль со скрежетом выскользнула из-под лезвия в сторону. Старлей удивлённо взглянул на скальпель. Остро отточенная кромка затупилась, чуть погнувшись в виде небольшой зазубрины. Тогда адъюнкт взял комочек двумя пальцами и легонько сдавил. Из него прыснула капелька гноя, а следом со звоном выпрыгнул небольшой объект правильной конической формы. Ничего не понимающий доктор погонял эту круглую пирамидку по плошке скальпелем. Та звенела, словно стекляшка. Тогда Барашков плеснул туда чуть консерванта. Раствор смыл кровь, и перед взглядом изумлённого доктора предстал красивый кристалл, прозрачный, но с выраженным голубоватым оттенком, при этом играющий на гранях всеми цветами радуги. Что это? Драгоценный камень? Да нет – крупноват для камня. Если только какой малоценный… Скорее всего, бижутерия, гранённая под бриллиант стекляшка.
Когда рассекли пустую склерозированную массу, там ничего интересного не оказалось – типичный старый рубец, просто со свежим воспалением. Молодец Барашков, что не стал такое резать в чистой операционной. Впрочем, скальпель-то он туда всё же тыкал!.. Надо бабушке срочно антибиотики назначить.
В общем, теперь понятна история этого инфильтрата. Когда-то бабка проглотила эту цацку. Скорее всего, случайно. Такая круглая штуковина обычно без помех проходит желудочно-кишечный тракт. Однако произошёл довольно редкий случай – в районе слепой кишки эта стекляшка стала. Возможно, роль сыграло индивидуальное анатомическое положение того места, где тонкий кишечник соединяется с толстым. Дело в том, что входит он туда сбоку, под прямым углом, и у Эммы Аароновны этот угол оказался весьма высоко. Образовался своеобразный слепой мешок, где твёрдый и тяжёлый предмет вполне может задержаться. Инородное тело давит на стенку кишечника, образуя там выемку – пролежень. Слепая кишка одной стороной прилежит к брюшной стенке, и стекляшка постепенно «вгрызлась» туда. Такие случаи известны и нередко заканчиваются плохо. У данной же больной обошлось – кишка зарубцевалась изнутри, запечатав объект в ретроцекальном пространстве. После воспалительного процесса образовалась рубцовая ткань. Но микробы всё равно попадали туда, время от времени вызывая воспаления. Это объясняло и периодические боли справа внизу живота, и образование толстой фиброзной капсулы вокруг инородного тела. Осталось только спросить, помнит ли сама больная, как она проглотила эту цацку.
Наутро Эмма Аароновна отошла от наркоза и чувствовала себя вполне нормально. Хотя чувствовать себя совсем нормально после того, как тебе отключали мозги и резали живот, довольно проблематично, поэтому Барашков записал в истории болезни: «Состояние удовлетворительное». А в ответ на закономерный вопрос «Доктор, что у меня там?» устроил маленький спектакль – демонстративно достал из разных карманов две баночки и помахал ими перед носом у своей пациентки. В одной склянке в жидкости плавал круглый шматочек «мяса», весь в белёсых лохмотьях и с резаной дыркой. В другой же, в сухой, позванивая и сверкая, катался светло-голубой кристалл.
– Не узнаёте?
Такой реакции пациентки адъюнкт не ожидал.
Руки её затряслись, губы задрожали. Забыв про боль, Эмма Аароновна изо всех своих старушечьих сил вцепилась в барашковскую руку. Старлей хоть и был худощав, но весьма рослый и силой обладал порядочной.
– Тихо, тихо, тихо! Швы же разойдутся! – Он бережно уложил больную обратно на подушку и снял её дряблые старческие руки со своего запястья.
На глаза Эммы Аароновны навернулись слёзы:
– Доктор, пожалуйста, отдайте его мне! Ну, пожалуйста! Очень прошу вас, отдайте!
– Что именно?
Вместо ответа бабуля прикусила губу:
– Ну, это… Украшение… Отдайте, умоляю!
Видно, цацка очень дорога для бабули. Старлей принялся успокаивать её:
– Эмма Аароновна, да берите, конечно! Уж коль из вас вырезано, то вам и принадлежит. Хотя как учебный препарат эта стекляшка была бы намного ценнее для нас, чем…
Адъюнкт не успел договорить, как его челюсть опять отвисла от удивления. Бабулька схватила пузырёк и тут же вытрясла из него кристалл себе в рот! А потом, крепко сжав челюсти, уставилась на Барашкова испуганными глазами.
Опешивший старлей не знал что и сказать.
– Эмма Аароновна… Мы, это… Никто тут ничего не собирается… Да вытащите вы эту дрянь изо рта! Не ровен час, опять проглотите, что тогда? Вторую операцию делать?!
Бабулька нехотя выплюнула кристаллик в свой сухонький кулачок и теперь смотрела на адъюнкта жалостливо, виновато и как-то совсем беззащитно. Потом она, как малый ребёнок, засунула руку под себя, словно всё ещё боялась, что молодой человек станет отнимать её драгоценность. А ведь вчера производила впечатление полностью психически здоровой, образованной женщины… Что за буря эмоций? Сомнений нет – момент проглатывания бабуся должна помнить отлично.
Чтобы успокоить больную, Барашков стал задавать типично медицинские вопросы о самочувствии, о газах, попросил дать другую руку, чтобы померить пульс. «Нормальность» стала постепенно возвращаться к Эмме Аароновне. Она переложила кристаллик в левую руку и хотя всё ещё держала его зажатым в кулачке, но под себя уже не прятала. Да и больно ведь это делать со свежей операционной раной!
Барашков аккуратно осмотрел её живот, бережно помял брюшную стенку в районе разреза. Похоже, обошлось без инфекционных осложнений, хотя рано ещё судить, денька три ещё подождать надо. По ходу дела он с подробностями рассказывал весь ход операции, как за слепой кишкой нашёл инфильтрат, что он думал и как извлёк находку. На лице больной напряжение и страх сменились выражением благодарности. Адъюнкт понял, что пациентка успокоилась и можно задавать вопросы.
– Всё же хотелось бы знать, как вы эту штуку проглотили? И вообще, мне хотелось бы вас порасспрашивать о…
Эмма Аароновна мягко прервала старлея:
– Молодой человек… Вы уж меня извините, но сейчас я вам ничего рассказать не могу. Знаете, эта стекляшка… Цена ей копейка, конечно. Копейка цена! Но память… Она мне дорога как реликвия. Как воспоминание о моей жизни, моей семье. Конечно, спасибо вам большое, но прошу вас… Мне хотелось бы отдохнуть.
Барашков хмыкнул и вышел из палаты.
После обеда адъюнкт снова осмотрел старушку. Бабуля пребывала в прекрасном настроении, и её удовлетворительное состояние стало ещё удовлетворительней. Свою блестяшку она по-прежнему держала в кулачке.
– Ну что ж, Эмма Аароновна, будем вас переводить из палаты интенсивной терапии в общую.
Когда санитар привёз каталку, бабка всё же не удержалась и опять положила кристалл в рот. Там она его и держала всё время, пока снова не оказалась на койке. И похоже, когда она спала, тоже держала его за щекой.
В послеоперационном блоке режим строгий, а в общие палаты уже пускают посетителей. В тот же вечер к Эмме Аароновне приехали сын и невестка. Лысеющий мужчина в тёмной замшевой куртке и подчёркнуто строго одетая женщина. Видать, семья с достатком, вон какие гостинцы матери привезли, а ещё свежий номер «Иностранной литературы» и томик стихов. Но бабку чтиво не интересовало. Она обняла сына, а потом наклонила его голову вплотную к своим губам и принялась что-то долго ему шептать. Слушая мать, сын с недоверием глядел в пустоту, а потом, не сдержавшись, громко воскликнул: «Не может быть!» В завершение рассказа бабуля что-то украдкой передала ему в руку. Всё ещё не веря услышанному, сын ошалело посмотрел на свою жену, а потом подал ей знак пройти к окну. Повернувшись к жене, он хотел было что-то ей показать, но вдруг заколебался и осмотрел палату.
Одна койка пустует – заправленная чистым бельём, дожидается нового пациента. Обитательница другой, молоденькая толстушка с каким-то пластиковым мешком сбоку, только что, кряхтя и постанывая, вышла в туалет. Соседка матери, крепкая сорокалетняя женщина, наверное из рабочих, увлечённо смотрит юмористическую передачу по маленькому переносному телевизору и, похоже, никакого интереса к их разговору не проявляет. Одна мать неодобрительно качает головой.
Мужчина взял ладонь жены и положил туда синеватый кристалл, что передала ему мать. Вечерний мягкий свет скрадывал игру цветов на гранях. Женщина без всякого благоговения равнодушно смотрела на безделушку. Потом она нахмурилась, взяла её и, будто желая убедиться в каких-то своих догадках, провела гранью по стеклу. Раздался скрежет, как от стеклореза, и на окне осталась царапина.
– Невероятно…
Это совершенно не понравилось бабушке Эмме:
– Домой идите! И чтобы ни слова. Нигде и никогда! Поняли?
Сын и невестка понимающе закивали, потом принялись по очереди целовать мать и, бормоча пожелания скорейшего выздоровления, быстро удалились. У Эммы Аароновны от волнения разболелось сердце и закружилась голова. Она дотянулась до кнопки вызова медсестры. Хоть корвалолу, что ли, попросить… Вскоре появилась сестричка, померила давление, посчитала пульс и вызвала дежурного терапевта. Похоже, нервы у бабульки порядочно разбуянились за сегодня. Капельками тут не обойдешься, пришлось назначать инъекцию. Укол подействовал, и ночь прошла благополучно.
Утром следующего дня адъюнкт Барашков сидел за историей болезни Эммы Зингельшмуллер и всё никак не мог решить маленькую проблему – назначать бабке консультацию психиатра или повременить? Решил повременить, а вот если и сегодня она откажется ему свою историю рассказывать, вот тогда и позовём соответствующего специалиста. Его доклад на утренней конференции об извлечении инородного тела был выслушан с интересом, но особого ажиотажа среди сотрудников не вызвал. Больше всего сотрудников раздосадовало, что такое забавное инородное тело Барашков умудрился в первый же день отдать хозяйке, у которой абсолютно нет никакого желания рассказывать свою историю. Бабку навестили доцент с курсантской группой и сам профессор, но та им тоже ничего не сказала, сославшись на слабость и плохое самочувствие. Врёт ведь! Нормальное у неё самочувствие. Ну, пойдём послушаем, что бабушка скажет нам сегодня.
Нацепив очки и высоко подложив под плечи подушку, Эмма Аароновна читала в своей кровати «Иностранную литературу». Женщина рядом так же смотрела телевизор, правда, почти без звука. Впрочем, утром там всё равно ничего путёвого не было. Толстушка с пластиковым контейнером сосредоточенно вязала шарфик. Последняя кровать всё так же была пуста. Барашков поздоровался со всеми и прошёл в палату. Женщины, не отрываясь от вязанья и телевизора, буркнули себе под нос ответное приветствие. Похоже, по молодости адъюнкта его тут за большого специалиста не считали. Старлей присел на краешек бабулиной койки. Вообще-то дурной тон, следовало бы стульчик взять, но молодому доктору казалось, что таким образом он завоюет хоть капельку больше доверия этой скрытной бабцы.
А бабка оказалось вовсе не такой уж и скрытной. Она охотно отвечала на вопросы, а когда дело дошло до номера на её руке, то вообще рассказала интереснейшую историю. До революции её предки обитали в Санкт-Петербурге и, судя по всему, не бедствовали. Однако воспоминаний об этом времени у неё нет – родилась она сразу перед революцией. Помнит, что в НЭП их семья жила в просторной квартире и имела прислугу. Потом всё это ушло, как её отца забрали. Чтобы спастись от возможных репрессий, мать с дочкой уехали к каким-то далёким родственникам, что жили под Минском. Там же Эмма закончила школу, потом Минский политехнический институт. Училась она хорошо, осталась при кафедре, стала подумывать о диссертации. Но через два года началась война. А ей всего двадцать шесть…
Через неделю немцы уже стояли под Минском, а ещё через неделю начали забирать евреев. Тогда её не взяли по чистой случайности – она возвращалась домой, когда выводили мать. Та сделала вид, что дочь ей не знакома. Таким образом светленькая Эмма спаслась в первый раз. Находиться в Минске ей было нельзя, слишком много людей знали о её еврейском происхождении. Оставался только один выход – податься куда-нибудь в незнакомое село, сославшись на то, что родная хата сгорела. У колхозников ведь не было паспортов, а значит, это единственная возможность избежать проверки документов и соответственно установления национальности. И неизбежной смерти.
Минуя патрули и заставы, Эмма ушла из города в никуда. Обосновалась на маленьком хуторке, где пожилая белоруска стала выдавать её за свою племянницу Василину. Так прошёл ещё один год. Эмма привыкла к новому имени, привыкла к тому, что надо копать мёрзлую землю на полях, искать прошлогоднюю гнилую картошку, а потом тереть её на деруны – этакие пахнущие гнилью оладьи. Руки загрубели, а говорить она старалась мало – боялась своего городского выговора, а с виду ведь селянка селянкой! Но вот немцы стали набирать местных для работы в Германии. Молодая Эмма-Василина попала туда. Её группу привезли под Гюнтерсблюм, на юге Германии, и распределили как бесплатную рабсилу по фермерским хозяйствам. Работа была вполне по силам – подвязывать виноградники, обрезать да убирать виноград, следить за птицей и свиньями. Симпатичная Эмма, и до Германии сносно знавшая немецкий, бюргерам нравилась, её не обижали и вполне сносно, а порою даже очень хорошо, кормили. Дожила она в Гюнтерсблюме аж до осени 1944 года, когда, на своё несчастье, встретилась со своей землячкой-одноклассницей. Видать, она-то и заложила Василину, что та Эмма Циммерман.
За Эммой приехало СС. Не помогли ни похвалы хозяина-бюргера, что, мол, очень хорошая работница, ни её собственные причитания, что случилась досадная ошибка. Эмму даже ни о чём не спрашивали. Офицер СС просто глянул на неё и бросил одно слово – юден! Потом её привезли на какую-то станцию, там она и ещё человек сорок евреев долго стояли в тесном помещении. Подошёл поезд, и их стали запихивать в товарные вагоны, где и так уже было битком людей. Поезд пошел на восток. Через сутки прибыли на место назначения – Аушвиц. Это если по-немецки. Или в Освенцим, если по-польски. Музыка Вагнера из громкоговорителей, колючая проволока под напряжением и собаки за ней, часовые с пулемётами на смотровых вышках… А ещё труба и чёрный жирный дым.
Пожалуй, это конец. Но не сразу – Эмма была физически крепкой, поэтому её оставили для работ. Средняя продолжительность жизни таких «счастливчиков» меньше шести месяцев. Однако это были последние недели Освенцима – с востока по Польше продвигалась Красная Армия. Узники рассказывали, что порою видят в небе английские и американские бомбардировщики, а соседний химический завод уже давно лежит в руинах. Но тут нечто важное нарушилось в немецкой педантичной машине. Если раньше баланды давалось немного, но регулярно, то сейчас кормить перестали совсем. А тут ещё Эмма заболела и… И спаслась второй раз! Случись такое всего неделей раньше, и она стопроцентно оказалась бы в газовой камере. Но сейчас камеры уже не работали – слышна была советская канонада. Не работал и крематорий – трупы пытались сжигать штабелями во рву, но и на такое не хватало ресурсов. Здоровых заключённых вначале гоняли заметать следы, однако это дело быстро оставили. Всех, кто мог идти, построили в колонны и погнали на запад – знаменитый «марш смерти», прочь от советских войск. Оставшихся – кого убили, а кого просто бросили умирать.
Несмотря на сильную дистрофию и болезнь, Эмма не умерла – подошла Красная Армия. Особой медицинской помощи не было. Наладили питание протёртым супом, потом организовали порционную выдачу хлеба и маргарина. Эмме и тут повезло вдвойне. Худая и страшная, она всё же сохранила намёки на свою первоначальную красоту. Солдаты её заметили и определили при медчасти, что развернулась неподалеку. Через месяц молодой организм окреп, и её отправили назад, в Россию. Привезли в специальный реабилитационный лагерь, где до этого лечились ленинградские блокадники. Там она ещё пробыла недели две, а потом вместе с последними ленинградцами снова оказалась в своём родном городе. Таком же, как она сама, – истерзанном, полностью истощённом, когда-то доведённом до крайности, но живом. В послеблокадном Ленинграде вновь закипала жизнь; также возвращалась жизнь и в душу Эммы. Она повстречала молодого фронтовика, тоже еврея. Жить в Питере под «репрессированной» фамилией Циммерман ей не хотелось, и она быстро стала никому не известной и труднопроизносимой Зингельшмуллер. Вот и вся жизнь.
Похоже, что бабуля сама была не прочь выговориться. Барашков поблагодарил её за интересный рассказ, но посетовал, что главного-то он не услышал.
– Так вы эту, м-м-м… реликвию с собой в концлагерь брали?
Оказалось, что да. И не только в концлагерь. Эта никчёмная побрякушка, стекляшка, цена которой, конечно же, копейка, просто как память досталась её отцу от деда. Мать уберегла её, когда отца взяли. С нею они не расставались никогда – хранили в своей бедной квартире в простенькой шкатулочке. Однако у этой бижутерии-стекляшки была неплохая оправа из белого металла. «Нет, не из платины, что вы, откуда… Из серебра». Так вот, в тот день, когда собирали минских евреев, Эмма вытащила из неё дешёвую стекляшку, а саму оправу понесла менять на что-нибудь съестное. Получается, что так эта безделица в первый раз спасла ей жизнь. Саму же серединку она зашила в уголок ватника и тоже постоянно таскала с собой. Вроде как ничего не стоящий, но для неё бесценный семейный талисман-спаситель.
В этом ватнике она попала в Германию. Там ей жена бюргера отдала своё старое пальто, и Эмма перепрятала стекляшку под его подкладку. А уж когда её взяло СС как еврейку… Тут уже нигде не прячешь – там на проверках даже рот заставляли открывать, а блочницы-капо могли залезть вообще куда угодно. Но она постоянно держала свой талисман во рту. А когда подходил проверяющий, просто глотала его. В громаднейшем же лагерном туалете Эмма всегда садилась на краешек, где в жиденьких фекалиях найти свой амулет ей было просто. Она обтирала его, и тут же бирюлька снова отправлялась в рот. Да, рисковала, да, может, из-за этой дешёвой бижутерии подвергала себя неоправданному риску, но ведь это же талисман. И оказалось, талисман не подвёл! Под конец лагерного ада при очередной проверке Эмма проглотило стёклышко, а оно из неё не вышло. Напрасно Эмма обшарила каждый сантиметр этого грязного уголка в туалете. Напрасно проделала то же самое ещё много раз, надеясь, что её стекляшка где-то «заблудилась» или застряла. Голубенького кристалла не было. Она посчитала, что просто потеряла его, ведь порой надзирательницы-капо давали на оправку всего тридцать секунд. А потом она заболела… Как оказалось, это талисман образовал пролежень в её дистрофичной толстой кишке и тем самым спас ей жизнь во второй раз. Ведь из тех здоровых, кого погнали «маршем смерти» на запад, выжили максимум десятки из тысяч.
Барашков с сомнением покачал головой. Адъюнкт был закоренелый материалист, в судьбу и талисманы он не верил. Хотя тот факт, что голубенький амулетик спас бабкину жизнь дважды, внушал определённое уважение. Переваривая услышанное, адъюнкт бесцельно поглядел в другую сторону. Толстушка с пластмассовым мешком на боку сидела с открытым от удивления ртом. Похоже, её спицы неподвижно застыли ещё в самом начале бабкиного рассказа. В глазах молодой женщины стояли слёзы. Сорокалетняя «пролетарка», наоборот, казалось, ничего не слышала, полностью углубившись в утреннюю новостную программу.
– Эмма Аароновна, скажите, а где сейчас ваш талисман? Меня уж вся кафедра достала, спрашивают, почему я не принёс его на пятиминутку всем показать, а сразу вам отдал.
Бабке вопрос явно не понравился.
– Э-э-э… доктор, так сейчас-то мне в нём какой толк? Мне помирать скоро! Вон отдала родственникам… Э-э-э… Племянница в институт будет поступать, пусть ей эту безделицу передадут, поди, на экзаменах поможет!
Тут «работяга» впервые оторвалась от своего телевизора:
– Доктор, да не верьте вы ей! Врёт она внаглую!
В разговор тотчас же вступила толстушка с пластиком на боку:
– Ну зачем вы так говорите о пожилом человеке?! Она еврейка, и татуировка у неё, вон, из концлагеря… Всё сходится!
«Пролетарка» презрительно хмыкнула:
– Чё сходится? Да я не за её жизнь говорю-то! Брешет бабка, что стекляшку она глотала. Доктор, ты к окошку подойди. Посмотри, какую царапину ейная невестка на окне той стекляшкой оставила! Нашли дуру! Стекля-а-шка, гы-гы! Брильянт то. Небось рублёв пятьсот стоит, а то и все восемьсот. Поставь его в оправу, там в кулончик золотой или в кольцо, токо штоб толстенькое, такое, знаешь, солидное, так и целу тыщу дадуть! Нашли дуру, стекло-о-о! Гы-гы…
Пусть даже бабка врёт, а «пролетарка» права. Старший лейтенант медицинской службы, врач-хирург, кафедральный адъюнкт и будущий преподаватель Барашков получал двести восемьдесят рублей денежного довольствия. Это без дежурств. А так и за триста выходило. Врач на гражданке имел сто двадцать целковых, рабочий – рублей сто пятьдесят – двести. Пятьсот рублей, конечно, состоянием не являлись, да и тысяча тоже… Хотя деньги считались приличными – целый месячный оклад начальника его кафедры! Но нет, не стал бы он всё равно из-за такого жизнью рисковать.
Барашков напоследок быстренько прощупал у Эммы Аароновны живот и вышел из палаты. Больная поправляется, а химический состав инородного тела его больше не интересовал. Для него эта история закончилась.
Для меня она бы тоже закончилась, если бы не один случай. Я этот день хорошо помню – назавтра исполнялось ровно десять лет, как я прожил со своей женой. Втихую от неё поднакопил кое-каких денежек и решил сделать жене роскошный подарок – кольцо с бриллиантом. В чём в чём, а в камнях я совершенно не разбираюсь. Поехал в Санрайз-Молл. Цены везде такие, что закачаешься. Тут, смотрю, объявление висит: «New York Diamonds 50 % off», магазин «Нью-йоркские бриллианты», скидка пятьдесят процентов. Это типа как «Одесская артель московские баранки» – «Нью-Йорк Даймондз» и в Техасе, и на Аляске есть. Я туда. Жене подарок выбрал, в бюджет почти уложился, довольный, коробочку в карман прячу и тут вижу – брошюрка на прилавке лежит. Такая бесплатная цветная книжонка на десяток страниц. Дай, думаю, возьму почитаю, что там люди бриллиантового бизнеса пишут. Интересного оказалось мало – краткий ликбез по критериям оценки камней, потом объявления о распродажах, какой-то каталог, а вот в конце несколько картинок крупных бриллиантов мировой известности.
Вообще-то именные камни живут всегда дольше людей. Они сменяют вереницы хозяев, листая наши судьбы, как страницы. Вот и у этого камня новая судьба. Интересная картинка с аукциона «Сотбис» – фотография красивого голубоватого алмаза старой классической огранки пирамидкой-«розой». Написано, что какой-то индус его себе прикупил. Король металлолома, что ли… Всего за шесть миллионов долларов. А имя у этого бриллианта… «Голубая Эмма»!!! И подпись в полторы строки: «Этот бриллиант из семейной династии старых еврейских ювелиров, имеет драматическую историю, в частности, пережил холокост». Никакой больше конкретики. А больше и не надо – таких совпадений не бывает. Тут только одно случайное совпадение – шесть миллионов. Доллар на жизнь. Вот знал бы Барашков, что он тогда вырезал!
Борщ с пивом
Дело было в клинике факультетской хирургии. «Факультетка» специализировалась в основном на ургентной абдоминальной хирургии. Поясню, что это такое. Это когда в животе какая-то проблема, требующая немедленной операции. Ну там аппендицит, ущемлённая грыжа, или, например, когда камень в желчном пузыре отток желчи закупорил, та обратным ходом в кровь пошла, а сам пузырь вот-вот порвётся. На хирургическом жаргоне всё это называется «острый живот».
В Военно-медицинской академии (сокращённо ВМА) тогда имелись свои машины «скорой помощи», которые привозили «тематических» больных – вылавливали по всему городу случаи, подпадающие под профильность клиник и необходимые для демонстрационных целей учебного процесса. Так вот, дежурный капитан-клинорд, который попал на этот вызов, буквально через минуту после осмотра больного позвонил назад в клинику, истерически требуя срочно прислать вторую машину со специальными носилками и четырёх курсантов ему в помощь. Срочно! Очень срочно, потому как остановлено движение поездов на Петроградской ветке метрополитена.
Михаил Александрович демонстрировал «острейший живот», хотя в бытовом понятии его живот был круглым, как воздушный шар, и зыбучим, как бархан. Эта безмерная жёлтая масса заполнила почти весь проход в вагоне остановленного поезда метро. Там, если не считать доктора, больше никого не было, а тётеньки в форме и менты отгоняли зевак, столпившихся на перроне моментально переполнившейся станции. Сам Михаил Александрович уже не вставал, а вытащить его за руки и за ноги из вагона не могли, как и не смогли его уместить на обычные носилки, из тех, что имеются в медпункте каждой станции. Потому что при росте под метр восемьдесят вес Михаила Александровича приближался к трёмстам кило!
Михаил Александрович был домосед, любитель дивана, телевизора и книжек. Работал он дежурным электриком-цэпэушником, точнее, оператором центрального пульта управления (ЦПУ) на какой-то мудрёной подстанции. Из всех обязанностей ему вменялось главное – без устали сидеть по двенадцать часов на стуле в помещении без окон перед громадным пультом с бесчисленными лампочками и, если где какая лампочка замигает или потухнет, немедленно вызвать туда дежурную бригаду. Сам Михал Александрыч ничего не чинил. Оплата на этом месте была так себе, и туда никто не рвался – сидеть там было неимоверно скучно, а смотреть телевизор строжайше запрещалось, поэтому дежурный электрик слушал радио и постоянно что-то жевал, чтобы скоротать время. А вот добираться на работу было без проблем – каждый день маленький автобус их подстанции, полугрузовая-полупассажирская дежурная «летучка» перед работой появлялась под окнами и услужливо сигналила, а после смены забирала Мишку домой. И не его одного – часто многих других электриков так развозили. Однако если остальных часто, то его – всегда. Народ-то понимал, как тяжело их коллеге приходится! Такая вот полулегальная услуга, своего рода доплата за скуку.
В этот день случилась беда. Впервые за долгие годы работы Александрыч забыл свой «тормозок»! Здоровый свёрток с котлетами, отварной картошечкой, яйцами вкрутую, бутербродами, тремя пакетами молока, а также дюжиной конфеток и кучей бубликов-сухариков, заботливо приготовленный его женой ещё с вечера, так и остался лежать в холодильнике. Вместо него Мишка прихватил кулёк сухой алебастровой штукатурки, который обещал по случаю кому-то на работе. По инерции взял свёрток в руки и успокоился. Хлопнул дверью и потопал, тяжело отдуваясь, к лифту. Жил он на третьем этаже, но лифтом, сами понимаете, пользовался всегда. А про второй свёрток, где завтрак, он же ленч, обед и полдник, так и не вспомнил…
К середине смены, когда подошло время главного перекуса, муки голода превратились в настоящую пытку. Мишка обшарил все ящики в ЦПУ, но не нашёл там ничего, кроме несчастной замызганной карамельки. Смокча конфетку как можно нежнее и пытаясь растянуть удовольствие, он заглянул в мусорную корзину – вчера жена дала ему курицу, может, там остались кости… Но нет, уборщица уже успела всё выбросить. Ко дну прилипла маленькая скрученная шкурка от сала. Это уж точно ещё с прошлой недели. Конфетка слизалась окончательно, обдав язык прогорклым повидлом. Через секунду во рту стало совсем пусто. Мишка воровато огляделся – за открытыми дверями никого. Он запустил руку в мусорку, бережно отодрал сальную шкурку и быстро засунул её в рот. На приторный карамельный остаток горько наложился вкус сала. «Дурнэ як сало без хлиба» – вспомнилась ему тёщина поговорка, и тут же шкварочка соскользнула в пищевод. Голода эти находки не утолили, даже наоборот, разбудили какое-то неистовое урчание в кишках, отчего ему стало совсем невыносимо. Мишка тщательно облизал конфетный фантик и, обречённо вздохнув, опустил его в мусор.
Вообще день этот оказался удручающе гадким. К концу смены прибыла дежурная бригада, радостно объявив, что у «летучки» движок дал клина и завтра им из Горэнерго срочно пришлют другую машину. А на сегодня вся работа отменяется. Мишкиному сменщику уже позвонили, из-за форс-мажора тот приперся на работу раньше и наконец отпустил голодного Саныча на все четыре стороны. Мишка запыхтел паровозом и быстро, насколько позволяла его комплекция, побрёл на выход. Вообще-то он ненавидел самостоятельные поездки по городу, да и в метро последний раз спускался, пожалуй, пару лет назад. На полпути до станции одышка взяла своё, и Алексадрыч тяжело опустился на лавочку в первом попавшемся сквере. Через минуту мимо проскочил паренёк, которому он приносил алебастр. Заметил Саныча, предложил зайти пропустить по маленькой. Чего ж не зайти! С удовольствием. Мишка, словно Винни-Пух-переросток, сглотнул слюну. В гости – это хорошо, благо идти всего до соседнего дома и пытки лестницей не будет – хата на первом этаже.
Но за заветной дверью вместо ожидаемых вкусных ароматов чего-нибудь жареного в нос ударил запах краски. К сожалению, жена у паренька уехала с детьми в отпуск, и тот временно холостяковал, занимаясь мелким квартирным ремонтом. Такая работа давала уважительную причину самому себе ничего не готовить – главным местом ремонта была кухня. Из всех припасов, что супруга наготовила перед отъездом, осталась одна здоровая кастрюля борща. А мужики – они ведь в таких ситуациях частенько становятся как дети: вначале съедят всё второе, потом пожрут колбасу, а первое стоит, пока не скиснет, коли никто им его не греет и на стол в тарелочке не подаёт. Короче, к кастрюле борща даже хлеба нет – единственную корочку пустили «на занюх» припрятанной чекушки водки. Хозяин увидел Мишкин голодный взгляд и подзадорил: «Мих-Саныч, да ты ешь, не стесняйся! Всё равно я этот борщ в унитаз вылью, пожалуй, он завтра уже скиснет. Выручай, чего добру пропадать!»
И Мишка ел. От пуза ел. Борщ был не густой, кислый, но, в общем-то, вкусный. Кастрюля быстро пустела. Его коллега смотрел на такое чудо и только ахал от восторга, подзадоривая его. Наконец голод отступил, Мих-Саныч наелся. Благодарный хозяин вызвался проводить Мишку до метро. Побрели неспешно, чинно. Вот уж и станция. А на пятаке перед ней – ларёк, пиво на разлив. Ну, давай на прощание по кружечке. По кружечке не вышло, вышло не то по пять, не то по шесть, а может, и побольше, кто их там считал. Рядом с «точкой» туалет, нужда не мучает. Простояли до закрытия – белые питерские ночи незаметно крадут вечернее время.
Наконец распрощались. Мишка поджал левой рукой живот и кое-как запустил правую руку в брючный карман. Обдавливаемая со всех сторон складками жира, рука нащупала мелочь. Фух, вот он – долгожданный пятак. Протискиваться через хищные створки Александрыч не любил. Он опустил монетку в крайний турникет, пропыхтел мимо контролёра, где проход шире, и осторожно стал на эскалатор, надёжно перегородив его для всех желающих сбежать вниз. Осталось самое страшное – сойти с эскалатора. Он завистливо посмотрел на стайку молодых студентов, весело прыгающих через «гребёнку» где-то впереди. Опасная черта всё ближе и ближе. Мишка сконцентрировался и сделал критический шаг. Тело закачалось, но ничего, не упал, не потерял равновесия. Слава богу, пронесло. Заранее подгадав место, где остановится вагон, из которого ему будет ближе всего выходить на своей станции, Мишка остановился, невольно морщась от удивлённых взглядов прохожих, – его фигура явно привлекала внимание. Впрочем, народу на станции было немного, а вскоре подошёл поезд, в котором тоже полно пустых мест. Вот и проделана самая сложная часть его сегодняшнего вынужденного путешествия. Мих-Саныч уже успел пропотеть, словно на него вылили ведро воды. Он вздохнул с облегчением, прошёл в вагон и, предчувствуя, как прохладный дерматин коснётся его липкой спины, с наслаждением плюхнулся на сиденье.
Наслаждения не получилось. Случилось нечто ужасное – как будто ему в живот вогнали кол. Острая боль пробила его. Та боль, что называют скручивающей. Он бы и скрутился, если б было куда. Живот грузно сверзился набок, потащив за собой всё тело. Усидеть не было сил, и Михаил Алексадрович упал, а тут поверх боли вдруг нахлынула такая слабость, что и на помощь не позвать. Миша захрипел, потом жалобно заскулил. Народ повскакивал с сидений, попытался его поднять. Всё, что им удалось, это перевернуть Мишу на спину. В этом положении ему лежать было даже тяжелее, чем на боку, его хрип перешёл в громкое сдавленное сипение пополам со свистом, как будто его тело подкачивали велосипедным насосом. Кто-то дёрнул стоп-кран, поезд завизжал тормозами, и из селектора послышался грозный голос машиниста. Уяснив, что происходит, машинист снова тронул поезд, пообещав «скорую» на ближайшей станции.
На ближайшей станции прибежали два малахольных мента с носилками, но им оказалось не под силу вытащить Мишу из вагона. Ситуация сложилась неприятная – стоит целая ветка, в подземном городе образуется людской затор. Поэтому и завернули туда первую попавшуюся «скорую», на счастье, с нашим клинордом. Клинорд же оказался мужиком толковым, быстро распознал у этого гигантского толстяка «острый живот», а не стандартную проблему с сердцем. Поэтому и решил эвакуировать больного в свою родную «факультетку».
Дополнительная помощь в виде четырёх здоровых детин в курсантской форме с раскладными НШБ-2 («носилками широкими брезентовыми» по старой военснабженческой номенклатуре) подоспела буквально за минуты. Носилки в проход рядом с телом не вставали – места мало. Пришлось под него подложить обычные носилки да пару человек поставить по краям живота. Кое-как вынесли тушу из вагона и уже на перроне перевалили на НШБ.
Потом на эскалаторе поставили головной конец на ступеньку, а ноги держали, попеременно сменяясь и стараясь поддерживать тело по возможности горизонтально. Хорошо хоть, что тётка выключала эскалатор, давая бригаде погрузиться и сойти. В «скорую» тащили его вшестером, и то руки аж белели от напряжения.
Ну, наконец туша в клинике. Толстенькие обычно повышенным давлением страдают, а тут низкое и дальше падает, а пульс, наоборот, растёт. Ого, вот уж за сто тридцать зашкалил! Такое обычно бывает при кровопотере. Дежурный хирург пытается сквозь жир прощупать живот. Руки топнут в гигантских складках, вязнут в мягких волнах жировой трясины. Наконец удаётся докопаться до брюшной стенки. Живот твёрдый, как доска. Если бы наш богатырь был бы раза в три полегче, он, пожалуй, завертелся бы ужом от боли, а так только пронзительно завизжал, судорожно забив кистями рук, словно выброшенный на берег кит.
Ответственный хирург морщится – клиническая картина не слишком понятная. Ну-ка, давайте ему сделаем лапароцентез. Это малюсенькая операция с сугубо диагностической целью – в животе делается небольшой разрез, потом в эту дырочку заводят крючок, им цепляют переднюю брюшную стенку и поднимают её «палаточкой». В образовавшееся пространство вводят специальный инструмент, лапароскоп, если нужно, чтоб было лучше видно, то дополнительно подкачивают брюхо стерильным газом и спокойно рассматривают все органы. Можно также засунуть обычную трубочку от капельницы, подсоединить к ней шприц и взять содержимое брюшной полости на анализ. Вообще-то, в норме там сухо – всякая жидкость находится исключительно внутри кишок.
Где-то в клинике нашли здоровый толстенный кусок акрилового оргстекла, больше чем метр на полтора и сантиметра три толщиной. Промыли дезраствором, протёрли спиртом, положили его на операционный стол, сверху покрыли стерильной клеёнкой и простынями, а уж потом перекатили нашего негабаритного больного. Сделали лапароцентез, подцепили брюшную стенку – крючок по самую рукоятку скрылся в жиру. Подтягивать эту массу пришлось двоим, да и то без особого успеха. Внутри почти ничего не видно. В норме на внутренних органах лежит этакая кисейная сеточка с жировыми включениями – большой сальник называется. Так вот сальник у Михаила Александровича представлял собой лоснящиеся непроходимые тяжелые торосы белесого жира, по которым бежала реденькая паутинка кровеносных сосудов. Дали в брюхо газ на максимум. Где-то по самому краю сальника появилась полоска жидкости. Попробовали отсосать шприцом пару миллилитров. Странная жидкость – красноватая, мутная. Поставили больному предварительный диагноз – прободная язва желудка. Быстренько погружаем в наркоз и идём уже на настоящую лапаротомию – операцию, где широко вскрывается передняя брюшная стенка ровно по срединной линии живота.
Подошёл анестезиолог с клинком-ларингоскопом. Сестра-анестезистка пустила по вене наркотик, больной обмяк, теперь надо быстро засунуть ему в трахею трубку, а потом специальными лекарствами-миорелаксантами отключить мышечный тонус и сразу же подсоединить к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Человек парализован, сам дышать уже не может, воздух в его лёгкие будет подавать машина. Зато ничто не будет мешать хирургу работать. Легко сказать быстро – у этого пациента и второй и третий подбородочки имеются, и каждый потяжелей хорошей ягодицы будет, да и шея какая грациозная – как у самого породистого борова на пике откорма. Такое едва гнется и к быстрой работе не располагает. А сам жир! Жир – это депо для большинства лекарств. Не додай наркотика – умрёт человек от болевого шока, переборщи – умрёт от передозировки. Нужную дозу обычно считают исходя из веса тела. Нормального тела. А тут 70 % жира. Он в силу своей химико-биологической природы поглощает лекарства, как губка, а потом долго отдаёт их. Грань между «очень мало» и «передозом» становится весьма зыбкой, расплывчатой. И чем неясней эта грань, тем нервозней анестезиолог. Он играет желваками, стучит зубами и вместо строгих понятных схем начинает рассчитывать только на собственную интуицию. Ну вот наконец наркоз дан, аппарат работает… Ребята, поехали!
Поначалу ведущим хирургом к столу встал подполковник Федоткин, личность истероидная, осыпающая всех и вся какой-то нарочитой квазиинтеллигентностью. Словно молитву, прочёл собравшимся вокруг курсантам лекцию о том, что во всяком теле необходимо видеть свою скрытую красоту. Хирургические маски скрывают выражение лица, но слышно, что курсанты за спиной двусмысленно захихикали. Федоткин неуверенно полосанул скальпелем по операционному полю. Рана моментально развалилась, обнажив ярко-жёлтые, словно гранулированные, края мощнейшего подкожного жира.
На редкие сосудики наложили зажимы, и хирург полосанул ещё раз. Никакой «анатомии» не возникло – просто жёлтый овраг заметно углубился. Руки подполковника скрылись в ране и неуверенно пошарили по дну – везде монотонный подкожный жир. Федоткин промямлил нечто жалобно-несуразное и опять резанул тело. Эффект тот же – жир! Федоткин поднял руки: «Случай тяжёлый, позовите профессора!» Курсанты опять захихикали.
Пришёл профессор. Оценил обстановку. «Да, случай тяжёлый, в прямом и переносном смысле. Рану прикройте стерильным – я моюсь и продолжу. Вы станете в ассистенты!» Через пару минут курсанты почтительно расступились. Капая первомуром на пол, профессор быстро прошествовал к операционной сестре, вытерся стерильным полотенцем, принял халат на плечи, сунул руки в подставленные перчатки. Кто-то услужливо завязал поясок, кто-то поправил ему очки. Шаг к столу – и операция понеслась с невиданной скоростью.
Вот уж видна белая линия живота – прочное сухожилие, что разделяет брюшную стенку на симметричные половинки. Этот апоневроз вскрывается буквально одним движением, словно это не профессор медицины, а скрипач на сольном концерте. Руки ассистентов сдвигают тяжелый пласт сальника, и под ним появляется… борщ!!! Точнее, плавающие в борще кишки, а по операционной тут же разносится мощный запах пива. Кто-то из курсантов растерянно бормочет: «Жигулёвское, поди…» Профессор недовольно бросает: «Это кто тут такой знаток?» – и на болтуна дружно зашипели. Всех сейчас больше волнует не сорт пива, а сама причина нахождения этого винегрета в брюшной полости. Неужели и вправду прободная язва, где в желудочной стенке образуется свищ, через который изливается содержимое? Нет, всё проще.
При ревизии желудка никакой язвы не нашли. Желудочек был правда что надо! Объём нормального желудка около литра, ну полтора. Этот же куда более трёх. Бурдюк, а не желудок! На человека, прошедшего курс нормальной анатомии, такой производит впечатление, пусть даже пустой. И на передней стенке этого «вместилища», где-то сантиметров пять от малой кривизны, находился огромный, в ладонь, РАЗРЫВ! Заполненный до отказа борщом и пивом, желудок элементарно лопнул, когда Михаил Александрович плюхнулся на сиденье в метро.
Разрыв ушили, брюхо промыли от борща. Потом долго боролись с инфекционными осложнениями. Но выжил наш гигант. За долгий и мучительный послеоперационный период даже весу порядочно сбросил – перед выпиской на нём громадными лопухами висела излишняя кожа. Здесь, правда, начальник кафедры один секретик сотворил – ушил он нашему толстячку желудок весьма хитро, так что от трёхлитрового бурдюка остался маленький мешочек – с кулачок. Хочешь не хочешь, а всю оставшуюся жизнь ему максимум по полмиски супчика кушать придётся – больше за раз не влезет. Самое радикальное средство от ожирения.
Тут бы и позубоскалить насчёт неумеренного обжорства, да не получается. Болезнь это. Нельзя обжорство списывать исключительно на личную распущенность, хоть таковая и важнейший фактор. Тут и генетика, и психология тоже свою роль играют.
На самой милой кафедре Военно-медицинской академии – кафедре детских болезней – довелось нам видеть такую картину: железную решетку и плачущих за ней детишек. Плачущих от голода. Потому как эта мирная кафедра делала большую военную науку – изучала влияние питания на становление армейского призывника. Ведь каждый солдат когда-то был ребёнком. А то, что иные будут негодны к призыву, становится порой ясно уже в весьма раннем возрасте. Или ограниченно годны – то, что вырастает из таких детей, солдатом можно назвать только в издёвку – ни отжаться, ни пробежать, ни подтянуться не могут! При том, что ничем не больны. Единственная причина их инвалидности – лишний вес. Вот и создали специальное отделение, где пытались таких детишек лечить. Мы приходили на кафедру и слышали голодный плач упитанных восьмидесятикилограммовых крепышей, что тянули к нам из-за решётки ручки с мольбами: «Солдатик, дай конфетку». А решетка в этом деле совершенно необходима, чтобы сердобольные детки из других отделений им свои печеньки не отдавали. «Крепышам» же маминых передач не дозволялось, да и самих мам старались в это отделение не часто допускать – ведь пытка голодом, пусть даже частичным, для матери порой куда тяжелее, чем для ребёнка.
В сталинское время таких практически не было, появились они под закат хрущёвской эпохи, в брежневское время обозначились как проблема, а после перестройки словно плотину прорвало. Излишний вес сейчас у каждого пятого россиянина. Поэтому хочется дать всем мамам один такой простенький совет – в 99 % случаев, если ваш ребёнок не доел, не заставляйте! Большую этим пользу ему принесёте. «Кушай хорошо, вырастешь большой» – это палка о двух концах. Вырастешь большой в любом случае, но если очень хорошо кушать, то запросто можно вырасти очень большим. Ведь взрослые частенько меряют детские порции, исходя не из потребностей своих чад, а исключительно из собственного представления о таковых.
Кощунственно это или нет, но живём мы в век продуктового изобилия, а поэтому пока этот век длится, то место несъеденной каши в помойном ведре, а не в желудке. Ведь количество липоцитов (жировых клеток) закладывается до пяти лет, а всю остальную жизнь мы лишь меняем их качество, усиленно накачивая туда жир. Вот когда таких клеток много, да ещё и заполнены они под завязку, и получаются трёхцентнеровые мих-санычи с рисками лопнуть, присев в метро.
Мышьяк для учительницы
В старой школе, что на Петроградской стороне, недалеко от метро, особым старорежимным рвением к борьбе за успеваемость отличалась Светлана Николаевна Рябкина – для всех учеников злющая математичка, а для тридцати четырех её подопечных из десятого «А» ещё и классный руководитель.
В десятом «А», считавшемся лучшим классом, имелась одна проблема – там учились дочь директора школы умница Людочка и сын заведующего районным отделом образования, умный, но бесшабашный Валентин. Проблема состояла в том, кому из них вручить золотую медаль.
Претендентов двое, а медаль одна. Выбирать между умниками надо, и Светлана Николаевна свой выбор сделала в пользу Людочки. Выбор простой и надежный. Во-первых, директор близко, а районо подальше, хоть и повыше. Чего себе жизнь осложнять, у рядового учителя, как у рядового солдата – сержант в казарме главней генерала в штабе. А во-вторых, Люда математику получше Валентина знала. Для того чтобы «завалить» медалиста, много не надо – всего одна четвёрочка в табеле за четверть. Для учительницы подловить отличника на «хорошо» проблем нет, особенно на таком предмете, как математика.
Сказано – сделано. Раз, два к доске, ляп на проверочной контрольной, невыполненные домашние задания. Вроде и знание предмета отличное, но реально стала высвечиваться четвёрка и прощание с золотой медалью. Сынок с папой такое дело обсудили, папа нагнал комиссий да проверок, но те только руками развели – всё честно. Обиды обидами, но ничего не поделаешь, и учеба Валентина продолжалась в обычном русле.
Прошла пара недель после суматохи. Приходит как-то раз Светлана Николаевна на очередной урок совсем в другой класс, давай мелом на доске что-то писать, да вдруг почувствовала себя неважно. Хотела на стульчик присесть, да не успела – как грохнется при всем классе в обморок. Детки испугались, девочки к математичке подлетели, давай тетрадками обмахивать, мокрый платочек ко лбу прикладывать, а самого шустрого мальчика послали в медпункт. Прибежала медсестра с нашатырем, да толку нет – не приходит в себя Светлана Николаевна. Бегом в учительскую, где телефон, звонить в «скорую». Прибежал физрук, притащил спортивный мат – тётка была грузная, тащить куда на диванчик хлопотно, поэтому и уложили на мат прямо на полу в том же классе. Наконец «скорая» прибыла. Врач давление померил, пульс пощупал, на носилки её и бегом в больницу с дежурным диагнозом «а чёрт его знает».
Привезли в больницу. Давление низкое, кома, остановка сердца. Однако надо отдать врачам должное, притащили дефибриллятор, шарахнули тётку током, мотор завели. Лежит она неделю в реанимации, в сознание не приходит, хоть дышит уже самостоятельно. На восьмой день глаза открыла, и тут всем стало ясно, что Светлана Николаевна парализована. Да так парализована, что даже говорить не может, чудо, что дыхание есть. Вызвали невропатологов да ангиохирургов, те руками развели – нет у неё ни инсульта, ни инфекции в мозгах. Поищите-ка, ребятки, отравление. Наконец дошло взять кровь и мочу на тяжёлые металлы. Шибко тяжёлых не нашли, а нашли мышьячок в страшном количестве. Пришёл ответ как раз «вовремя» – померла училка. Хоть ленинградские больницы и не чета периферийным, но в этом конкретном случае с диагностикой они маху дали. Такое исследование следовало бы сделать в первый день, ведь была очень яркая симптоматика классического острого отравления мышьяком. Хотя, по моему мнению, даже при самой активной и вовремя проведённой детоксикации с ясным диагнозом помочь тетке было невозможно, такова уж природа этой отравы.
Вообще, о мышяке следует отдельно пару слов сказать, не вдаваясь в тонкие медицинские подробности. Отравление мышьяком – это «большая обезьяна», как говорят токсикологи, имитирует всё что хочешь, в зависимости от количества яда и характера отравления. Мышьяк из тела выводится медленно, в количествах, достаточных для диагностики, но недостаточных для выздоровления. Поэтому наиболее частые мышьячные отравления – хронические. Изредка по чуть-чуть – и через годик в гроб после «продолжительной и тяжёлой болезни». Однако путь этот рискованный, потому как очень велика вероятность обнаружения истинной причины этой самой «болезни». А вот если сразу и много, то тоже эффект не сразу проявляется, а когда проявляется, то вывести мышьяк из организма уже сложно. Этому яду для своего действия время нужно, чтоб всосаться и хорошенько разойтись по телу. А действие само по себе очень простое – «липнет» атом мышьяка к великому множеству белков в теле и, подобно лишней гайке в моторе, «выключает» ферментные системы, поддерживающие тонкую биохимию. Особенно сильно страдают нервные волокна. Не идут больше по ним импульсы, отсюда и паралич, и другая сходная симптоматика. Пусть звучит странно, но это действие мышьяка, направленное на поражение нервных волокон, на себе испытал едва ли не каждый. Вспомните свой визит к стоматологу, когда нерв в гнилом зубе удалять надо. На этот самый нерв дантист кладет мизерное количество специальной мышьячной соли, которая, убивая волокно, даёт возможность прочистить зубной канал без лишних криков пациента. Оказалось, что именно с таким вот препаратом и связана наша история.
Труп «отравной», криминальный – такие дела к нам, в судебку. Быстро выяснили, что отравление острое, хотя по определенным признакам ясно, что яд давался не один раз. Эх, не было у нас тогда всей необходимой аппаратуры, точную дату первого приема яда установить трудно. Дефицит лабораторной базы сказывался. Гадали мы тогда куда больше, чем сейчас. Многое вычислялось лишь по косвенным признакам, но правильно, как потом следствие подтверждало. Насмотревшись современных технических чудес и сверхчувствительных методов, мне хочется снять шляпу перед старыми волками советской судебной медицины, перед их опытом, наблюдательностью и прозорливостью. Чем больше аппаратуры меня окружает, тем больше восхищаюсь моими учителями и горжусь ими – вооруженными порой лишь прозекторским ножом.
С современной техникой работать просто, но здесь один подводный камень есть – видишь порой, как при всей технической мощи эксперт искусственно низводит себя до затрапезного лаборанта. Тогда же работали творчески – на глазок крутили степень белковой денатурации, вручную вычисляли концентрации в костях и жирах, срезали ногти и волосы на анализы. По распределению в них ядов и зная скорость их роста, вычисляли даты отравлений. Умудрялись распознать тончайшие морфологические (видимые в микроскоп) признаки поражения нервной системы, печени, почек…
В данном случае, изучив концентрации мышьяка в ногтях, пришли к выводу – травили всего на протяжении одной недели.
Отчёты и протокол составлены, дело за следователем. Прежде чем криминал искать, надо исключить бытовое отравление, то бишь несчастный случай. Заявились менты домой, побеседовали. Легко тогда было, народ в основном участливый, санкций прокурора не требовал. Все здоровы, симптомов отравления нет, муж и детки горем убиты, хотите чего поискать – да на что нам санкция на обыск, идите смотрите так просто. Ну посмотрели, взяли кое-какие пробы – еда из холодильника, там продукты всякие. Ничего не нашли, нет дома мышьяка, и подходов к нему нет. Не могла просто так Светлана Николаевна его неделю кряду глотать. Значит, все же криминал.
Прошлись по соседям для порядку. Какой криминал?! Увольте – тётя Света была образец морали. Ни любовников, ни семейных скандалов. Грубости от неё не услышишь, к чужим проблемам участлива, но без назойливости, семья живёт на зарплату, не шикуют, врагов нет. Достойная женщина строгих правил. Опрос знакомых и родственников подтвердил то, что рассказали соседи. Мотивы убийства вне работы отсутствовали напрочь.
Конфликт интересов в школе раскопали быстро – разве такое утаишь в преимущественно женском коллективе? Там же и версию подкинули, кто в главных врагах числился. Следак подался в районо с папочкой побеседовать. Папочка бледный, трясется, но ничего криминального не признает, в показаниях не сбивается, лично с учительницей встречался только на родительских собраниях на общем основании. Похоже, что на главного подозреваемого он явно не тянет. Пришлось побеседовать с сынком. А вот тут началось самое интересное. Стал вьюнош в мелочах путаться. Когда был в классе на переменках, когда не был, где видел свою классную, где не видел…
Это только мифический Шерлок Холмс по царапине на ботинке определял полную картину преступления. В жизни так не бывает. Тут всё куда прозаичней – нормальный опер и следак подозреваемого «колют», то есть самого на себя заставляют показания давать. Один раз сбрехал на мелочи – и попался. Подозреваемый зачастую не догадывается, сколько ценной информации он сам дает следователю своими малюсенькими неувязочками. Тут ведь сразу игра начинается по принципу «тепло-холодно»: чего же наш голубчик боится и зачем ему это надо. При этом есть один парадокс – обычно чем умней подозреваемый, тем легче с ним в такую игру играть. Тупого зечару с интеллектом на грани дебильности расколоть зачастую труднее: «Ты чё, начальник, лепишь, не при делах я», – вот те и весь сказ с нулевой информативностью. А рафинированные умники начинают играть в содействие, перестраховываться, переигрывать, чем и выдают себя со всеми потрохами.
Заподозрив неладное, следак запер Валентина в кабинете завуча (ещё один прекрасный метод психологического давления – наехать, а затем на некоторое время бросить «клиента» в полной неопределённости). Пока десятиклассник ёрзал на стуле, следователь побывал в учительской, где быстро выяснил, кто у него в друзьях числился. Прошёл в нужный класс и вызвал друга номер один.
Вот и Вовка. Друг номер один оказался мальчиком трусоватым, но бесценным кладезем информации. «Здравствуй, Вова!» А Вова аж заикается. «Ну, расскажи о себе». Вова рассказывает. «Подожди, где, ты говоришь, мама твоя работает? В аптекоуправлении. И кем? Провизором? Нет, не провизором. Уборщицей на складе. А ты к матери на работу заходишь? Молодец, что заходишь, это здорово – помогать матери убираться. Только вот на тебя один товарищ письменные показания дал, похоже, плохо твое дело… Как это он один травил? А он сказал, что это ты! Ах, врёт он… Н у, тогда давай по порядку, а то виноват он, а под суд тебе…»
Валентин и Владимир дружили давно, несмотря на большую разницу между их семьями. Разницу не имущественную (тогда доход разнорабочего не слишком сильно отличался от мелкочиновничьего), а культурную. Если родители Валентина рассуждали о высоких материях, то Вовины папа с мамой лихо резались в дурака «за погоны». Субботние походы в театр стояли контрастом к традиционным выходам в винно-водочный магазин за бутылкой беленькой, а Эрмитаж – к рыбалке. Однако это не мешало пролетарию Вовке читать книги в громадном количестве, а интеллигенту Валентину тянуть с друганом дешёвый «портяшок» в подворотне. Помните, были такие номерные портвейны, сладкие и крепкие. Вот и объединились товарищи по общности вкусов и интересов.
Идея убрать классную родилась у Валентина сразу после контрольной. Ошибка была незначительная, и он по старой памяти рассчитывал, что Курочка Ряба, как за глаза называли ученики свою учительницу, ему за такую мелочь оценки не снизит. А постоянные вызовы к доске для ответов на самый трудный материал лишь подтвердили его уверенность, что его «срезают» в пользу директорской дочки. Хотелось убрать и дочку, просто технически это оказалось сложнее, пришлось ограничиться классным руководителем. Под страшным секретом Валентин полушутя спросил у своего приятеля, не видел ли он каких ядов, когда тот помогает своей мамке полы мыть. Да как же тут не видеть, когда там в одной комнате здоровая вывеска висит о том, что из одного бачка мусор нельзя убирать, потому как там яд! Мышьяк… Похоже, что по-настоящему серьёзность последствий попадания такого мусора в пищу друзья не оценили. В понятии Вовы это вообще было не преступление с покушением на жизнь, а почти что безобидная шалость.
Пришёл Вова к матери на работу. Мать рада, что сам пришёл, обычно заставлять да просить надо. Поднялась мать на второй этаж, а для сына на первом этаже все помещения открыла. Он полы моет, а сам к заветному бачку приближается, откуда мусор нельзя выкидывать. Бачок этот стоял под специальным вытяжным шкафом, где развешивали мышьячные соединения перед отправкой их по зубоврачебным поликлиникам. В бачке оказалось полно мятых бумажных салфеток, кое-где слегка вымазанных какой-то розоватой пастой. Вот парочку этих салфеток Вова и прихватил по просьбе своего друга Валентина.
Валёк этим трофеем распорядился просто – соскрёб пасту с бумаги в маленький пузырёк и кинул его в свой школьный портфель. Поначалу никакого особого плана у него не было, но удобный случай представился буквально на первом уроке. Была у Светланы Николаевны такая привычка – на большой перемене прямо в классе бутерброды есть. У Курочки Рябы всегда пара-тройка бутербродов в сумочке имелась. На обычных коротких переменах математичка Рябкина без всякой задней мысли оставляла свою сумку подле учительского стола, а сама могла выйти из класса в учительскую, в соседние классы к коллегам-преподавательницам или по каким другим делам. Учеников же из класса она старалась тоже выгонять – до поздней осени открывала настежь окно, чтобы перед уроком проветрить. Этим моментом и воспользовался Валентин. Дело секунд – нырнуть в сумочку, отлепить от хлеба колбасу и посыпать на масло немного розоватых крупинок. Под колбасой такое точно не заметишь. Вот Светлана Николаевна и не заметила…
Копальхем
…Данная история о других ядах – о трупных. Название этой группы самообъясняющее – трупные яды образуются при гниении трупов. Наиболее известна троица так называемых птоаминов – нейрина, пудресцина и кадаверина. Это сильные яды. Считается, что у человека от них защиты нет. Другое дело шакалы, гиены, грифы – их эта отрава совсем не берёт. Оно и понятно – они же падальщики, трупные яды просто неотъемлемая «приправа» к их пище. Мы же вроде чистой едой питаемся, ферментные системы, способные нейтрализовать птоамины, нам не нужны. Но не торопитесь с выводами – эволюция человека полна тайн и загадок, и ещё очень большой вопрос, насколько чистой была пища наших далёких и не очень предков. Оказалось, что биологический механизм такой защиты у человека всё же есть. Но весьма своеобразный.
Это случилось в самом начале того периода, который ныне принято называть брежневским застоем. Специальная топографическая группа под началом подполковника Дузина облетала район между озером Кокора и озером Лабаз. Это в самом основании Таймырского полуострова. Летели на вертолёте Ми-8, что называется, дружною гурьбой – два летуна, трое топографов и один местный – некто Савелий Пересоль, ненец по национальности. Военные взяли его с собой как знатока местности, показывать болота, указывать местные ориентиры и их названия.
И вот в воздухе произошла серьёзная поломка – что-то случилось с гидравликой, которая передаёт движения от пилотской ручки на ось винта. Ручка взбесилась, начала колотить лётчика по ногам, управления никакого, вертолёт падает. Высота, на счастье, была небольшой – случилось то, что называется жёсткой посадкой. Вертолёт завалился набок, винт с визгом врезался в землю и, раскидав чахлую растительность, обломался о вечную мерзлоту. Удар был сильным, однако никто особенно не пострадал. В ушибах и ссадинах, с разбитыми носами и с головокружением от лёгкого сотрясения мозга народ ошалело таращился друг на друга.
Первым очухался пилот – в вертолёте нестерпимо завоняло горелой проводкой, и к этому вдруг примешался знакомый запах авиационного керосина. А потом в нутро повалил дым. «Всем из машины!!!» – заорал он, распахивая дверку. Каждый моментально оценил ситуацию и ринулся наружу. В двери на секунду образовался затор из тел, но ещё через миг людской клубок вылетел из вертолёта, как пробка из бутылки.
И вовремя – внутри что-то негромко треснуло, и в салоне показались языки пламени, которое в секунды объяло весь вертолёт. Народ открыв рты, немигающими глазами, молча наблюдал это зрелище. Вначале даже с радостью – ведь все живы, потом с растерянностью – а что же делать?..
Вокруг на сотни километров ни души, рация сгорела, еды нет, тёплой одежды нет, оружия нет, ничего нет! А ведь «на дворе» сентябрь – ещё повезло, что снег не лежит, хотя пора бы уже. Ночами ощутимый морозец, да и днём не жарко. Вся надежда на поисковую группу: по идее, всего через несколько часов должны хватиться. Правда, район поиска великоват…
Первую ночь провели вблизи вертолёта – такой ориентир с воздуха легче всего обнаружат спасатели. Но никто не прилетел. Никто не прилетел и на второй день, а третий день был туманным – похоже, никто и не летал. На четвёртый день где-то вдали слышался вертолётный стрёкот, и ослабевшие люди побежали туда, но военную форму на фоне болотных кочек с воздуха трудно заметить, особенно если так далеко. Не помогла и надежда на маленький костерок, что постоянно жгли на месте аварии, – таймырский кустарник не мог обеспечить значительного огня, а попытки устроить дым кончились ничем – северный ветер разгонял его по тундре уже в десятке метров от костерка.
За всё время умудрились убить с десяток леммингов и дюжину мышей, в обгорелых останках вертолёта нашли куски, заменившие сковородку и кастрюлю. Постоянно варили отвар из брусники и морошки, но сильнее всего помогали грибы. Вот чудо – древесных пород практически никаких, но даже среди карликовой тундровой растительности встречаются лесные грибы. Да ещё какие – крепыши-гиганты! Вероятно, ещё августовские – сейчас уж и днём около нуля. Видать, поэтому в грибках ни единого червяка, все крепкие, как на подбор. Однако такое счастье долго длиться не может – припорошит первым снегом, и придёт смерть. Даже не от голода – от холода. Ведь более или менее одет один Пересоль – ненцы свою кухлянку не снимают ни зимой, ни летом. Ещё сам Дузин выскочил в ватнике, у пилота унты, у остальных – комбинезоны и полевое пэша. Верхняя одежда сгорела в вертолёте. Хоть и дают греться, предлагая по очереди ватник и кухлянку, но помогает такое не сильно – ночью сна практически нет, силы на исходе.
На следующее утро с первым взглядом на сереющее холодное небо в глазах каждого застыла безысходность – такое, пожалуй, к снегу. А если судить по едва заметной позёмке, что заструилась между болотными кочками и запела тонким голосом в веточках полярных ив, то это будет не просто снегопад – это будет метель. Подобие убежища, что сварганили из оставшейся вертолётной обшивки, от пурги не спасёт. Офицеры молча взялись за руки – вроде вместе бедовали, давайте, друзья, вместе и встретим неизбежное. Не разделял общего настроя один Пересоль:
– Ой-ой, какой мы все шибко глупый! Зачем сидели?! Кого ждали?! Сегодня ветер болото выморозит – копальхем найти трудно будет! Надо было в первый день болото обходить – обязательно бы копальхем нашли! Давно бы нашли, много бы наелись, много бы с собой взяли! Каждый день бы шли, кухлянку и ватник по очереди бы носили, копальхем бы кушали, уже бы до Хеты дошли! Я бы мало-мало посмотрел по берегу, а потом бы повёл вас куда ближе – на север в Жданиху или на юг в Хатангу. А потом туда бы за нами из Крестов вертолёт послали, где шибко сгущёнки, тушёнки и водки.
Шибко много! Мы бы спаслись и веселились. А так подохнем!
Офицеры расценили план местного оленевода как полную авантюру – он предлагал маршрут не в одну сотню километров. И это пешком по тундре без еды и одежды? Глупость! Даже если бы они вышли в первый день, то всё равно к этому моменту не сделали бы и полпути. Хоть так, хоть иначе – всё равно помирать. Даже скорее всего пойди они к Хете, то уже были бы трупами – такой путь по-любому вымотал бы их силы намного быстрее. Однако про какой такой копальхем говорил ненец? Что за зверь такой?
– А-а-а, копальхем вкусный, копальхем жирный, от копальхема тепло, от копальхема сила, от копаль-хема жизнь! Копальхем духи берегут, потому что в том болоте, где копальхем лежит, живёт сам Дух Большого Оленя. А он самый главный, кто помогает человеку в тундре! Других богов, если плохо помогают, можно и плёткой выстегать, и в костёр бросить, а Духа Большого Оленя нельзя! И нельзя тут больше оставаться – пока болото совсем не выстыло и Дух Большого Оленя на зиму спать не лёг, надо за копальхемом идти, а то все помрём!
Такое объяснение сути мифического копальхема не раскрывало. Что-то вкусное и жирное, что связано с каким-то Духом Большого Оленя и при этом почему-то живущее в болоте, куда нормального оленя вовек не загнать. Насчёт других богов понятно – их фигурки ненцы вырезают из берёзы и хранят в стойбищах как божков-талисманов. Если талисман «плохо работает», счастья не приносит, его воспитывают методом кнута и пряника. Вначале задабривают оленьей кровью, а если тот не «исправился», могут и выпороть. Если и после этого удачи не прибавилось, то могут в сердцах ткнуть головой в полный дерьма подгузник из берёзовой коры, заменяющий туго спеленатым ненецким деткам памперсы и пелёнки. А уж если и это не помогло, то такому никчёмному богу одна дорога – в костёр. Тогда отчего же такое трепетное отношение к Духу Большого Оленя?
После многочисленных дополнительных расспросов наконец вырисовалась более или менее материалистическая картина. Самого духа мы оставим ненцам – это одна из ключевых фигур в пантеоне местного шаманизма. Но вот сопутствующий обряд, посвящённый этому духу, оказался весьма интересным. Периодически в оленьем стаде надо менять вожака. По каким-то местным эзотерическим приметам вычисляют, когда это надо делать особым способом – старого вожака необходимо отдать в жертву Духу Большого Оленя. Такого оленя отбивают от стада и пару дней ему ничего не дают есть для полной очистки кишечника. Дальше ритуал принесения жертвы прост – свергнутому вожаку (при этом обязательно надо, чтобы тот был жирным и в полном здравии) на шею накидывают сыромятный аркан и тянут его на ближайшее болото. Там его этой петлёй давят и оставляют в болоте. Но оставляют хитро – олень должен скрыться там полностью, потом это место ещё досыпают торфом или мхом-сфагнумом, а сверху обкладывают ветками и камнями. Давят оленя с великой осторожностью – нельзя, чтобы его шкура хоть где-нибудь повредилась, туша его должна быть абсолютно целой. Сам торфяник хорошо маскирует запахи, а поэтому случаи осквернения копальхема хищным зверем сравнительно редки. Возле копальхема на ближайшей кочке вбивают кол, обязательно из лиственницы, чтоб не гнил. Кол украшают пучками травы и ягеля, а часто ещё какой-нибудь яркой тряпочкой. В советское время, например, особой популярностью пользовались пионерские галстуки или вымпелы «Лучшему оленеводу».
Так вот, эта оленья туша может так пролежать столетиями. Вообще-то, с позиций танатологии, раздела судебной медицины, изучающей трупные изменения, тут ничего особенного нет. Ведь даже в Средней полосе России в торфяниках находили тела невинно убиенных купцов времён Средневековья. Да ещё при этом вызывали милицию – вроде как на недавнее убийство, настолько хорошо сохранились тело и рубленая рана на голове! А в болотах Ирландии находили даже людей каменного века. В тундре условия одновременно и хуже, и лучше. Из-за вечной мерзлоты вода там всегда холодная – несомненный плюс. В то же время холодная вода не позволяет бурно развиться болотной растительности. Не позволяет она и гнить тем скудным растительным остаткам, что, собственно, и создают торф. Поэтому вода там бедна гуминовыми кислотами, органическими соединениями типа широко известной янтарной кислоты, что являются дубящим агентом и губительным для бактерий консервантом. Относительно чистая вода – это главный минус. Там всё же трупное гниение идёт. Медленно, десятилетиями, но идёт. Прекращается оно только в одном случае – если болото поглотит вечная мерзлота.
Оказывается, у ненцев отношение к этим «мумиям оленьих фараонов» отнюдь не святое. Впрочем, как и ко всем их богам. Эти святыни запросто можно кушать! Прямо в гнило-сыром виде, с душком. Даже полная тухлятина не теряет своей калорийности. Едят такое не только в нужду или по форс-мажорным обстоятельствам, но и просто как своеобразный деликатес. Но всегда восполняют взятое: захотелось копальхема – смерть вожаку, Духа Большого Оленя тоже обижать не следует. Тысячелетия жизни в тундре такому научили – это ведь прекрасные консервы на чёрный день, не говоря уже о спасительной помощи тем, кто потерялся в тундре. Ведь главная их ценность – что они как бы ничьи, забытые и разбросанные по северной земле дары предков. Именно такую тушу и взялся разыскать Савелий Пересоль.
Идея разжиться мясцом офицерам очень понравилась – про то, что это тухлятина, не хотелось даже и думать. Если помираешь, то и такое съешь, а что запах… своеобразный… Так нос можно пальцами зажать! Короче, Пересоль, надевай свою кухлянку, хватай нож и бегом за консервами национальной ненецкой кухни. Всё равно никуда идти отсюда нельзя – ждать надо. Но на полный желудок шансов дождаться намного больше! Так что, товарищ оленевод, от тебя зависят наши жизни – не подведи.
И он не подвёл. К вечеру, когда уже стали закрадываться сомнения, а вернётся ли Пересоль, не дёрнул ли он в одиночку на Хету, из-за сопки на фоне ярко-оранжевого неба чёрным силуэтом медленно появилась его коренастая фигурка. Офицеры радостно побежали ему на встречу. Вот он идёт груженый, улыбается, за спиной висит здоровая оленья нога. Савелий нарезал ремней из оленьей шкуры и подцепил мясо на спину, словно рюкзак. Ого! Сегодня пируем.
Мясо как таковое уже слабо различимо – вместо него какая-то сероватая, дурно пахнущая масса. А вот жир ничего – просматривается. Грязно-серый и мылкий на ощупь, во рту он прилипал к нёбу, чем-то напоминая мягкий парафин, только холодный. Легко отдирался и грязно-серый слой, что сразу под шкурой. У свежей оленины такую мезгу не прожуешь, а тут ничего – мягкая, словно восковая корочка с сыра. Вкус же копальхема больше всего походил на жутко прогоркшее несолёное сало. Когда попробовали прожарить копальхем на костре или хотя бы разогреть его на сковородке, то получилось ещё хуже – вонь пошла такая, что кусок определённо нельзя было взять в рот. С него капал тягучий жир, который горел тёмным смрадным пламенем, словно резина. Да, такое «лакомство» лучше всего глотать холодным, хотя, по словам ненца, самый вкусный копальхем – вообще мороженый, тогда его нарезают тонкими ломтиками, которые сворачиваются под ножом в серенькие трубочки. Полученную строганину макают в соль и едят вместе с парными сырыми лёгкими только что забитого оленя.
Служившим на Севере частенько приходилось сталкиваться с местной традицией сыроедения. Из оленьей требухи – национального ненецкого лакомства – наиболее отважные из офицеров иногда пробовали сырую печень, а вот мясо любили слегка обжарить на сковородке. Внутри оно оставалось практически сырым, лишь чуть-чуть белело снаружи. Нарезанное мелкими кубиками, его называли «пастеризованной олениной». Это там пробовал практически каждый. Поэтому к вонючему копальхему отнеслись с доверием. Нарезали кусочками и, запивая брусничным отваром, не жуя, наглотались до отвала.
К ночи разыгралась непогода. Первый снег пришёл с порывами ветра. Теперь ему лежать до конца мая. Однако на удивление ночь со снегом оказалась не такой уж и холодной. Облака действовали как одеяло, сохраняя последнее тепло земли. Народ набился в убежище, там же запалили импровизированную «буржуйку». А к утру вообще всё стихло, воздух стал прозрачен, небо ясное. Побелевшая тундра словно надела подвенечный наряд. Или саван… Фатой к наряду по небу разбежалось северное сияние. Ух как крутит! Вот стратосферным дождём вытянулись зелёные всполохи. Вот кое-где они порозовели, развернулись поднятым занавесом божественного театра. Светящиеся складки пошли фиолетовым отливом, под ними опять зелёная бахрома… Ударил приличный морозец. Холодно, конечно, но на сытый желудок такое терпеть можно. Не смертельно…
Оказалось, смертельно. Не от холода – от копальхема. У кого начались боли в области печени, у кого рвота, под конец у всех галлюцинации, а к утру потеря сознания. Только Савелий Пересоль оставался в полном здравии, никаких симптомов у него не появилось, хоть он-то съел больше всех! Всю ночь он пытался хоть как-то помочь офицерам, но бесполезно. Уже когда совсем рассвело, остановилось дыхание у лётчика, а вот и тело старшего отпустило дузинскую душу в землю предков. К обеду умер механик. Двое топографов ещё были живы, но в тяжёлой коме.
Савелий не понимал, почему так. Давно подзабывший тонкости верований собственного народа, он вдруг вспомнил, что ещё в детстве ему говорила бабка и о чём со страхом в голосе полярными ночами шептал дед. В чуме тихо, лишь потрескивают дрова под чайником, а дед всё не ложится спать – первый снег ведь, надо вспомнить Духа Большого Оленя. Такая же ночь, как сейчас. Неужели Савелий чем-то тундру обидел? Эх, проклятая водка! Лучше бы деда слушал да заклинания учил как следует… Натянув портянку на их кастрюльку, Пересоль принялся бить в неё, как в бубен, пытаясь заговорить от смерти оставшихся. Потом прыгал вокруг вертолёта и что было силы кричал на ненецком те обрывки магических фраз, что всплыли в его памяти. Пытался разбудить духов, призывал деда прийти и, как в детстве, отвести беду.
И видать разбудил! На низкой высоте со стороны болота, где вчера вечером выходил он сам, из-за сопки внезапно выпрыгнула гигантская зелёная стрекоза с красными звёздами на боках. С высоты на белоснежном фоне тундры закопченный остов вертолёта выделялся особенно чётко. Перед лицом изумлённых лётчиков промелькнула смешная будочка, из которой шёл дымок, три безжизненных тела перед ней и выплясывающая фигурка какого-то местного с непонятным круглым барабаном. Стрекоча винтом, вертолёт заложил крутой вираж, развернулся, завис на минуту над своим сгоревшим собратом, а потом прыгнул в сторону и, погнав во все стороны позёмку, принялся снижаться. Всё, Дух Большого Оленя доказал, что он главный в тундре – пригнал-таки вертолёт! И всего-то стоило найти копальхем…
Эвакуацию произвели прямо на север, в Жданиху. Всё равно до Крестов или даже до Хатанги горючки бы не хватило. Но в Жданихе был только фельдшер, врач аж в Крестах. Пока вертолёт заправишь, потом ещё сколько часов лёту… Решили не рисковать – связались с ним по рации. Заочные диагнозы – дело трудное и опасное, но что делать? К тому же абсолютно не понятно, почему местный без каких-либо отклонений, не обморожен и даже не кашляет, а двое военных без сознания. Спасибо, тот же местный разъяснил – было шибко мало кушать, с голоду оленьей тухлятины нажрались. Тогда рекомендации простые – внутривенно-капельно побольше жидкости, медикаментозно форсируйте диурез, для защиты печени дайте глюкозки и витаминов, если надо, то колите препараты, поддерживающие дыхание и деятельность сердца. Понятно, что всё это в миллиграммах, миллилитрах, процентах…
Ночью умер один из топографов. Состояние последнего военного, старшего лейтенанта, оставалось стабильно-критическим. Это значит, что в любой момент помереть может, да только вот чего-то долго не мрёт. Через день кризис, похоже, миновал. Дыхание стало глубже, вернулось нормальное давление. Кома незаметно перешла в сон.
Именно выживший старший лейтенант и поведал всем о вкусовых качествах копальхема. На следующий день с ним вылетели в Кресты, где располагался поисковый штаб и куда прибыла комиссия по расследованию происшествия. А с ней аж два следователя – один гражданский, другой офицер военной юстиции. И как вы понимаете, завели эти следователи уголовное дело на гражданина Савелия Пересоля за убийство четверых военнослужащих путём отравления. По ходу расследования статью за убийство поменяли на «непреднамеренное убийство», потом на «случайное убийство по неосторожности».
