О скоротечности жизни
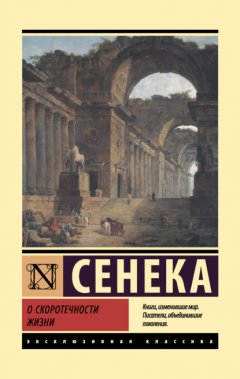
© Перевод. Т. Бородай, 2022
© ООО «Издательство АСТ», 2022
Луций Анней Сенека и его философская проза
К началу нашей эры провинция Испания была уже вполне романизирована и много талантливых ее уроженцев делали блестящие карьеры в столице империи. Среди них был и Луций Анней Сенека (ок. 55 г. до н. э. – 40 г. н. э.), римский всадник из Кордубы (нынешняя Кордова). В юности он учился в Риме ораторскому мастерству, слушал знаменитых ораторов и учителей риторики, о чем на старости лет написал книгу для своих детей и внуков. Позднее он переехал в Рим с женой Гельвией и старшим сыном Новатом, поступив на государственную службу, а также выступая адвокатом в суде и поверенным в делах. В Риме в 1 г. до н. э.[1] родился второй из трех его сыновей – в будущем знаменитый политик, оратор, поэт, философ и воспитатель Нерона, Луций Анней Сенека Младший.
По словам Квинтилиана, Сенека писал orationes, poemata, epistulas, dialogos (Quint. Inst. 10, 1, 12), т. е. «речи, стихи, письма, диалоги». Соответственно, и мы представляем его себе, во-первых, как государственного деятеля эпохи Калигулы, Клавдия и Нерона; во-вторых, как поэта и писателя, автора девяти трагедий; в-третьих, как учителя жизни и наставника в добродетели; в-четвертых, как философа-стоика, неизменного представителя школы во всех учебниках по истории философии. Впрочем, все эти ипостаси разделены достаточно условно: на политическом поприще Сенека знаменит прежде всего как наставник и воспитатель юного Нерона; в поэзии он моралист; в философии, по всеобщему признанию, противоречив и поверхностен, ибо склонен привносить глубину и связность мысли в жертву красотам риторики и этическому пафосу проповедника; видимо, вернее всего было бы определить его именно как учителя жизни, философа-практика, а не теоретика, но мешает порой разительное несоответствие проповедей и наставлений Сенеки его собственному образу жизни и поступкам, чем возмущались еще его современники и что отлично сознавал он сам (ср.: De vita beata 17, 3; ep. 6).
Речи до нас не дошли, хотя известно, что именно они доставили громкую славу Сенеке в начале его карьеры, прерванной болезнью и отъездом в 26 или 27 г. на лечение в Египет, и едва не стоили ему жизни по возвращении к общественной деятельности десять или одиннадцать лет спустя, когда Калигула настолько позавидовал успеху его речей, что решился убить оратора-соперника (хоть и называл презрительно введенный Сенекой в моду новый «рубленый» стиль «песком без извести»). Упомянутые Квинтилианом «стихи» – это десять сохранившихся трагедий, предназначенных для рецитации в интеллигентном кругу и для чтения, а не для театра (десятая, «Октавия», приписывавшаяся Сенеке, по-видимому, ему не принадлежит), несколько эпиграмм и пародия на апофеоз Клавдия – «Апоколокинтосис» («Отыквление»). «Письма» – это 124 нравственных письма к Луцилию в 20 книгах, одно из самых влиятельных вплоть до наших дней духовных руководств в европейской литературе[2]. По содержанию они не отличаются от «диалогов» – этических трактатов Сенеки, но форма их более свободна; в полной мере оценена она была уже в Новое время, превратившись в особый жанр и получив благодаря Монтеню, почитателю и подражателю Сенеки, название «эссе».
Под заголовком «Диалоги в 12 книгах» собраны в Codex Ambrosianus[3] десять трактатов Сенеки: «О провидении», «О постоянстве мудреца», «О гневе» (три книги), «Утешение к Марции», «О блаженстве», «О досуге», «О спокойствии духа», «О скоротечности жизни», «Утешение к Полибию» и «Утешение к Гельвии». К «диалогам» же Квинтилиан, видимо, причислял и семь книг «О благодеяниях» и семь книг «Рассуждений о природе» – бесед о природе, обращенных к Луцилию, поскольку формальное построение их такое же: они обращены к определенному лицу, и каждый раздел начинается, как правило, с вопроса условного адресата или возражения воображаемого оппонента. Квинтилианово «диалоги» означает, видимо, то же, что греческое dialerxeis или diatribai. Как особый жанр философствования диатриба получила распространение в кинической и стоической школах; Виламовиц определил ее как «разработку отдельного философского, чаще всего этического положения в легком, непринужденно-разговорном тоне»[4]; первоначально одной из непременных черт диатрибы, как и сатиры, было смешение или чередование серьезного со смешным – spoudogerloion, но уже в императорскую эпоху смешное либо вовсе исчезло, либо было оттеснено далеко на задний план серьезностью, с какой воспринимали жизнь и свою проповедь Сенека или Эпиктет. Тематика этических трактатов Сенеки – типичная тематика диатриб: добродетель вообще или отдельные добродетели, бесстрастие или борьба с какой-то определенной страстью, например с гневом или печалью, мудрость, самодостаточность, смерть и самоубийство, бедность, изгнание и вообще страдание и т. п. Столь же типичны и стилистические приемы: условный диалог с анонимным или условным собеседником, цитаты из поэтов и – особенно многочисленные у Сенеки – исторические примеры и иллюстрации.
Из десяти диалогов-диатриб Сенеки одни больше тяготеют к проповеди, в других сильнее софистический элемент, в третьих Сенека старается придерживаться правил «нормального», школьного философского трактата (помимо названия diatribai к таким популярным философским беседам применялись столь же часто обозначения scholae или theseis). Так, Сенека не столько рассуждает «о скоротечности жизни», сколько убеждает собеседника изменить свою жизнь, и пламенный пафос оставляет немного места точным определениям времени или смерти. «О блаженной жизни» – апология; не только недоброжелатели Сенеки резонно полагали, что столь пламенная проповедь стоической добродетели, довольствующейся необходимым, т. е. самой собой, и расцветающей лишь среди нищеты, страданий и лишений, малосовместима со столь же пламенным честолюбием и обладанием чудовищными богатствами. Ко времени Сенеки тезис о том, что для блаженной жизни и счастья не нужно ничего, кроме добродетели, давно стал одним из отличительных признаков стоической школы (сложившись в полемике с перипатетиками, полагавшими, что даже и мудрецу для счастья необходимы внешние блага, прежде всего здоровье и богатство). И вот, на каждом шагу клянясь в верности стоическому учению, Сенека с помощью хитроумнейших софизмов и блестящих аргументов доказывает, что именно для правоверного стоика лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. В еще большей степени требованиями злобы дня и личными соображениями продиктовано «Утешение к Полибию» (впоследствии сам Сенека пытался отыскать и уничтожить все его копии, что, к его несчастью, ему не удалось)[5].
Рассуждение Сенеки «О гневе» ближе всего по форме к трактату, т. е. schole или thesis, хотя и здесь достаточно проповеднического пафоса и чисто личного чувства (главным образом, в третьей книге, где речь идет о Калигуле). Сенека очевидным образом заботится о полноте рассмотрения предмета, о точности определений, старается привести все известные ему возражения против своего тезиса и дать исчерпывающее их опровержение. Относительной строгостью и систематичностью, «научностью» диалог «О гневе» выделяется среди других этических диалогов; именно он дает основание квалифицировать Сенеку не просто как тонкого психолога (что и так всем понятно), но как выдающегося исследователя психологии; такая точка зрения предполагает, что Сенека сделал существенный шаг вперед в изучении возникновения и развития аффектов и что диалог «О гневе» отличается от всех прочих большей научной самостоятельностью. На наш взгляд, именно бо́льшая «научность» обычно свидетельствует у Сенеки о меньшей самостоятельности и из всех этических диалогов рассуждение «О гневе» ближе всего по манере повествования к рассуждениям «О природе», где Сенека прямо заявляет, что не намерен претендовать на какую-либо самостоятельность (в этом, как известно, отнюдь не видели порока, и собирание и «возрождение» правильных и ценных мыслей предшественников было занятием едва ли не более почетным, нежели публикация собственных новых измышлений; сам Сенека не раз напоминает о том, что все мысли, с которыми он согласен, – это его мысли, и потому не всегда называет их источник). Определить степень самостоятельности учения Сенеки о механизме аффектов вообще и гнева в частности затруднительно, поскольку тексты предшественников не сохранились, хотя сочинение трактатов под названием «О гневе» приписывается очень многим философам, начиная от Аристотеля (фрагменты этого трактата собраны у Г. Бонитца) и до Сотиона, который обучал юного Сенеку философии. О сочинениях этого Сотиона мы только и знаем, что он написал трактат «О гневе»; Сенека сообщает, что он учил о переселении душ и был пифагореец и ученик Секстия (Ep. 49, 2 и 108, 17–21). А о Квинте Секстии известно, что он преподавал философию в Риме во времена Августа и чрезвычайно сердился, когда его называли стоиком, а потом основал в Риме общину философов-практиков по пифагорейскому образцу под названием Romani roboris secta, отказался от cursus honorum, который предлагал ему Август, и работал над созданием подлинно римской философии жизнестроительства, т. е. не слова, а дела, однако также и писал, в том числе трактат «О гневе».
Так или иначе, использовал ли Сенека сочинение «О гневе» Сотиона или кого-то еще, влияние пифагорейства в нем не ощущается, ибо учение об аффектах разрабатывали именно стоики и – в полемике с ними – перипатетики, а пифагорейцы этим не занимались.
Философия, согласно стоическому учению, состоит из физики (включающей в себя также учение о боге, поскольку и он естествен и материален), этики и логики[6]. Была ли этика главным предметом и целью исследования уже для Зенона, Клеанфа и Хрисиппа или нет, но для Сенеки и Эпиктета она, несомненно, стала не только главной, но и практически единственной частью философии, вызывающей подлинный, жизненный, а не только чисто академический интерес. Если, согласно традиционному, восходящему к Аристотелю пониманию, этика, так же как и политика, есть дисциплина чисто практическая, в отличие от теоретических метафизики, или богословия, и физики, то для стоиков этика (а не философия в целом) подразделяется на теоретическую и практическую. Теория рассматривает высшее благо, которое есть добродетель, и высшую цель жизни – счастье, которое состоит в том, чтобы быть добродетельным, т. е. вести жизнь, согласную с природой. Для этого человеческое поведение должно быть согласовано со всеобщим законом природы, мировым разумом, божественной волей.
Важнейшее практическое требование такой этики – преодоление страстей (по латыни – «аффектов», по-гречески «пафосов», по-русски – «страстей», «чувств» или пассивных «состояний» души, обусловленных воздействием внешнего мира). Теория требует жизни в согласии с природой (по Клеанфу – с природой Вселенной, т. е. с мировым разумом, по Хрисиппу – с человеческой природой, а человек по природе существо разумное; большинство позднейших стоиков также говорят именно о человеческой природе)[7]; природа – и мира и человека – разумна; значит, все неразумное, тем более противящееся разуму, – противоестественно и подлежит искоренению, ежели мы хотим быть естественны, добродетельны и счастливы. В нашей душе противоестественны страсти. Согласно определению Зенона, страсть есть «неразумное и противное природе души движение или порыв»[8]; по Хрисиппу, страсть – ложное суждение (как у Платона и платоников всякий грех и порок есть результат незнания и заблуждения). Четыре главные разновидности страстей: удовольствие и вожделение (т. е. то, что мы склонны ошибочно считать благом), печаль и страх (т. е. то, что мы по невежеству принимаем за зло). Удовольствие (радость) и печаль (горе, боль) – ложные блага в будущем. Каждый из родов подразделяется на многие виды и подвиды (так, гнев – разновидность печали, или огорчения). Мудрец, т. е. человек, достигший совершенства, бесстрастен, т. е., во-первых, полностью подчинил разуму свои внутренние движения и, во-вторых, никак не реагирует на внешние раздражения, приятные или неприятные. Напротив, глупец, грешник, порочный человек, а таких для стоиков подавляющее большинство, полностью утратил контроль над собой и подобен буйнопомешанному; он раб и игрушка как собственных противоречивых страстей, так и внешних меняющихся обстоятельств, и потому всегда несчастен. Между несколькими мудрецами, к числу которых относятся Сократ и Катон Младший, и всем прочим буйнопомешанным человечеством находятся сами стоики, знающие истину и потому борющиеся со своими страстями. Сенека сравнивает себя в этом отношении с кормчим, который плывет в бурю на корабле с пробитым днищем и, зная, что обречен, все же ни на минуту не перестает вычерпывать воду – и в этом его величие.
Исследование механизма возникновения и развития страстей, которое позволит определить стратегию и тактику борьбы с ними, есть, таким образом, насущнейшая задача всякого стоика. Именно этим и занят Сенека, исследуя гнев как с этической точки зрения, в его отношении к благу, счастью и добродетели, так и с психологической, наблюдая его движение в человеческой душе. Оппонентом, чьи возражения помогают Сенеке развивать свою мысль, в данном случае выступают Аристотель и перипатетики. Согласно Аристотелю, страсти вообще в человеческой душе естественны и не могут быть ни хороши, ни дурны, поскольку не сознательны (proairetikar); осуждения или похвалы заслуживает наше сознательное отношение к ним; а гнев, в частности, даже хорош, ибо без него человек туп, вял, лишен собственного достоинства и никудышный воин[9].
Аргументацию Сенеки можно считать заимствованной, но первоисточники ее до нас не дошли, и потому три книги «О гневе» считаются одним из самых полных и интересных образцов исследования психологии аффекта в античности. С другой стороны, один из издателей Сенеки считает, что диалог «О гневе» отличается от всех прочих диалогов необыкновенным обилием иллюстративного материала и потому представляет интерес главным образом для истории[10]. Действительно, написан он был в самом начале корсиканской ссылки Сенеки, в 41 или 42 г., когда обида его на Калигулу была еще очень жива, а сам Калигула уже умер, и потому осторожность уже не заставляла изгнанника скрывать все, что он думает о Гае Цезаре. Быть может, и вся эта беседа, увещевающая не давать воли гневу и не обижаться на несправедливо обижающих нас, обращена не столько к брату Новату, сколько к самому себе, обиженному сумасшедшим Калигулой и несправедливо изгнанному Клавдием на дикий остров на краю света.
Мы предлагаем читателю новые переводы философских диалогов Сенеки – возможно, наиболее известных. На протяжении более чем двухсот лет трактаты и письма Сенеки составляли непременную часть школьной программы во Франции, а в иезуитских школах – и по всей Европе.
Если принять условное, но плодотворное разделение понятий «Стоя» и «стоицизм», где под Стоей понимается определенная хронологическими и дисциплинарными рамками философская школа, а под стоицизмом – характерное умонастроение без четко определенных границ, но с легко узнаваемым ядром, своеобразную духовную терапию и «религию кризисов» (А. А. Столяров), философскую пропедевтику, обучающую ориентироваться в повседневных и пограничных ситуациях, – то бо́льшую часть сочинений Сенеки следует отнести именно ко второй категории.
Философские диалоги, или скорее философские проповеди Сенеки роднит одна общая черта, придающая им обаяния и убедительности: философ-проповедник стоит здесь не на пьедестале собственной неуязвимой мудрости (хотя именно ее и проповедует), а внизу, вместе с читателями, еще только стремящимися к этой мудрости подняться. «О скоротечности жизни» – размышления политика и делового человека, потерпевшего фиаско в политике и делах (диалог написан около 49 г., вскоре по возвращении Сенеки из трехлетней ссылки, оборвавшей начало блистательной карьеры). «О блаженной жизни» (написано десять лет спустя, в зените политической карьеры, славы и богатства) – апология философа, обвиняемого общественным мнением в том, что ведет нефилософский образ жизни, что проповедует одно, а делает другое; что призывает к добродетели и аскезе, к отказу от наслаждений и презрению к порокам, а сам нажил несметное состояние (известно ведь, большие деньги не делаются честным путем, и слухи утверждали, что Сенека нажился на конфискациях имущества репрессированных граждан) и не отказывается от высокого положения при дворе Нерона, где коррупция, разврат, интриги, убийства стали повседневностью и где порядочному человеку, не говоря уже о проповеднике добродетели, не место.
Любопытно, что в литературе последних десятилетий трактаты Сенеки стали предметом не только отстраненно-исторических и филологических штудий; идет – в особенности среди английских исследователей – своего рода общественный суд над Сенекой, словно он наш современник, еще один подсудимый Нюрнбергского процесса. Вновь и вновь применительно к воспитаннику и другу Сенеки Нерону звучат имена Гитлера и Сталина, и одни обвиняют философа в коллаборационизме, пресмыкательстве перед властью и попытках обосновать идеологию тоталитарного режима, а другие сочувственно живописуют мучительную трудность честного философствования в коррумпированном обществе под железной пятой тоталитарной власти (см.: Rist J. M. Seneca and Stoic Orthodoxy. ANRW, II, 36. P. 1993–2012). Верно ли это, судить читателю. Однако несомненно, что это – не единственная проблема, позволяющая нам читать Сенеку как нашего современника. В его диалогах подняты и другие вопросы, может быть, менее злободневные, но более глубокие и не менее насущные как для него, так и для нас.
Т. Ю. Бородай
О блаженной жизни
К брату Галлиону
Глава I
1. Все, брат Галлион[11], желают жить счастливо, но никто не знает верного способа сделать жизнь счастливой. Достичь счастливой жизни трудно, ибо чем быстрее старается человек до нее добраться, тем дальше от нее оказывается, если сбился с пути; ведь чем скорее бежишь в противоположную сторону, тем дальше будешь от цели. Итак, прежде всего следует выяснить, что представляет собой предмет наших стремлений; затем поискать кратчайший путь к нему и уже по дороге, если она окажется верной и прямой, прикинуть, сколько нам нужно проходить в день и какое примерно расстояние отделяет нас от цели, которую сама природа сделала для нас столь желанной.
2. До тех пор пока мы бродим там и сям, пока не проводник, а разноголосый шум кидающихся во все стороны толп указывает нам направление, наша короткая жизнь будет уходить на заблуждения, даже если мы день и ночь станем усердно трудиться во имя благой цели. Вот почему необходимо точно определить, куда нам нужно и каким путем туда можно попасть; нам не обойтись без опытного проводника, знакомого со всеми трудностями предстоящей дороги; ибо это путешествие не чета прочим: там, чтобы не сбиться с пути, достаточно выйти на наезженную колею или расспросить местных жителей; а здесь чем дорога накатанней и многолюдней, тем вернее она заведет не туда.
3. Значит, главное для нас – не уподобляться овцам, которые всегда бегут вслед за стадом, направляясь не туда, куда нужно, а туда, куда все идут. Нет на свете вещи, навлекающей на нас больше зол и бед, чем привычка сообразовываться с общественным мнением, почитая за лучшее то, что принимается большинством и чему мы больше видим примеров; мы живем не разумением, а подражанием. Отсюда эта вечная давка, где все друг друга толкают, стараясь оттеснить.
4. И как при большом скоплении народа случается иногда, что люди гибнут в давке (в толпе ведь не упадешь, не увлекая за собой другого, и передние, спотыкаясь, губят идущих сзади), так и в жизни, если приглядеться: всякий человек, ошибившись, прямо или косвенно вводит в заблуждение других; поистине вредно тянуться за идущими впереди, но ведь всякий предпочитает принимать на веру, а не рассуждать; и насчет собственной жизни у нас никогда не бывает своих суждений, только вера; и вот передаются из рук в руки одни и те же ошибки, а нас все швыряет и вертит из стороны в сторону. Нас губит чужой пример; если удается хоть на время выбраться из людского скопища, нам становится гораздо лучше.
5. Вопреки здравому смыслу народ всегда встает на защиту того, что несет ему беды. Так случается на выборах в народном собрании: стоит переменчивой волне популярности откатиться, и мы начинаем удивляться, каким образом проскочили в преторы[12] те люди, за которых мы сами только что проголосовали. Одни и те же вещи мы то одобряем, то порицаем; в этом неизбежный недостаток всякого решения, принимаемого большинством.
Глава II
1. Раз уж мы повели разговор о блаженной жизни, я прошу тебя, не отвечай мне, как в сенате, когда отменяют обсуждение и устраивают голосование: «На этой стороне явное большинство». – Значит, именно эта сторона хуже. Не настолько хорошо обстоят дела с человечеством, чтобы большинство голосовало за лучшее: большая толпа приверженцев – всегда верный признак худшего.
2. Итак, попробуем выяснить, как поступать наилучшим образом, а не самым общепринятым; будем искать то, что наградит нас вечным счастьем, а не что одобрено чернью – худшим толкователем истины. Я зову чернью и носящих хламиду[13], и венценосцев; я не гляжу на цвет одежды, покрывающей тела, и не верю глазам своим, когда речь идет о человеке. Есть свет, при котором я точнее и лучше смогу отличить подлинное от ложного: только дух может открыть, что есть доброго в другом духе.
Если бы у нашего духа нашлось время передохнуть и прийти в себя, о как возопил бы он, до того сам себя замучивший, что решился бы наконец сказать себе чистую правду:
3. «Как бы я хотел, чтобы все, что я сделал, осталось несодеянным! Как я завидую немым, когда вспоминаю все, что когда-либо произнес! Все, чего я желал, я пожелал бы теперь своему злейшему врагу. Все, чего я боялся – благие боги! – насколько легче было бы вынести это, чем то, чего я жаждал! Я враждовал со многими и снова мирился (если можно говорить о мире между злодеями); но никогда я не был другом самому себе. Всю жизнь я старался выделиться из толпы, стать заметным благодаря какому-нибудь дарованию, и что же вышло из того? – я только выставил себя мишенью для вражеских стрел и предоставил кусать себя чужой злобе.
4. Посмотри, сколько их, восхваляющих твое красноречие, толпящихся у дверей твоего богатства, старающихся подольститься к твоей милости и до неба превознести твое могущество. И что же? – все это либо действительные, либо возможные враги: сколько вокруг тебя восторженных почитателей, ровно столько же, считай, и завистников. Лучше бы я искал что-нибудь полезное и хорошее для себя, для собственного ощущения, а не для показа. Вся эта мишура, которая смотрится, на которую оборачиваются на улице, которой можно хвастать друг перед другом, блестит лишь снаружи, а внутри жалка».
Глава III
1. Итак, будем искать что-нибудь такое, что было бы благом не по внешности, прочное, неизменное и более прекрасное изнутри, нежели снаружи; попробуем найти это сокровище и откопать. Оно лежит на поверхности, всякий может отыскать его; нужно только знать, куда протянуть руку. Мы же, словно в кромешной тьме, проходим рядом с ним, не замечая, и часто набиваем себе шишки, спотыкаясь о то, что мечтаем найти.
2. Я не хочу вести тебя длинным кружным путем и не стану излагать чужих мнений на этот счет: их долго перечислять и еще дольше разбирать. Выслушай наше мнение. Только не подумай, что «наше» – это мнение кого-то из маститых стоиков, к которому я присоединяюсь: дозволено и мне иметь свое суждение. Кого-то я, наверное, повторю, с кем-то соглашусь отчасти; а может быть, я, как последний из вызываемых на разбирательство судей, скажу, что мне нечего возразить против решений, вынесенных моими предшественниками, но я имею кое-что добавить от себя.
3. Итак, прежде всего я, как это принято у всех стоиков, за согласие с природой: мудрость состоит в том, чтобы не уклоняться от нее и формировать себя по ее закону и по ее примеру. Следовательно, блаженная жизнь – это жизнь, сообразная своей природе. А как достичь такой жизни? – Первейшее условие – это полное душевное здоровье, как ныне, так и впредь; кроме того, душа должна быть мужественной и решительной; в-третьих, ей надобно отменное терпение, готовность к любым переменам; ей следует заботиться о своем теле и обо всем, что его касается, не принимая этого слишком близко к сердцу; со вниманием относиться и ко всем прочим вещам, делающим жизнь красивее и удобнее, но не преклоняться перед ними; словом, нужна душа, которая будет пользоваться дарами фортуны, а не рабски служить им.
4. Я могу не прибавлять – ты и сам догадаешься, – что это дает нерушимый покой и свободу, изгоняя все, что страшило нас или раздражало; на место жалких соблазнов и мимолетных наслаждений, которые не то что вкушать, а и понюхать вредно, приходит огромная радость, ровная и безмятежная, приходит мир, душевный лад и величие, соединенное с кротостью; ибо всякая дикость и грубость происходят от душевной слабости.
Глава IV
1. Наше благо можно определить и иначе, выразив ту же мысль другими словами. Подобно тому как войско может сомкнуть ряды или развернуться, построиться полукругом, выставив вперед рога, или вытянуться в прямую линию, но численность его, боевой дух и готовность защищать свое дело останутся неизменными, как бы его ни выстроили, – точно так же и высшее благо можно определить и пространно, и в немногих словах.
2. Так что все дальнейшие определения обозначают одно и то же. «Высшее благо есть дух, презирающий дары случая и радующийся добродетели» или: «Высшее благо есть непобедимая сила духа, многоопытная, действующая спокойно и мирно, с большой человечностью и заботой о ближних». Можно и так определить: блажен человек, для которого нет иного добра и зла, кроме доброго и злого духа, кто бережет честь и довольствуется добродетелью, кого не заставит ликовать удача и не сломит несчастье, кто не знает большего блага, чем то, которое он может даровать себе сам; для кого истинное наслаждение – это презрение к наслаждениям.
3. Если хочешь еще подробнее, можно, не искажая смысла, выразить то же самое иначе. Что помешает нам сказать, например, что блаженная жизнь – это свободный, устремленный ввысь, бесстрашный и устойчивый дух, недосягаемый для боязни и вожделения, для которого единственное благо – честь, единственное зло – позор, а все прочее – куча дешевого барахла, ничего к блаженной жизни не прибавляющая и ничего от нее не отнимающая; высшее благо не станет лучше, если случай добавит к нему еще и эти вещи, и не станет хуже без них.
4. Это благо по сути своей таково, что вслед за ним по необходимости – хочешь не хочешь – приходит постоянное веселье и глубокая, из самой глубины бьющая радость, наслаждающаяся тем, что имеет, и ни от кого из ближних своих и домашних не желающая большего, чем они дают. Разве это не стоит больше, чем ничтожные, нелепые и длящиеся всего какой-то миг движения нашего жалкого тела? Ведь в тот самый день, когда тело уступит наслаждению, оно окажется во власти боли; ты видишь, сколь тягостное и злое рабство ожидает того, над кем по очереди станут властвовать наслаждение и боль – самые капризные и своевольные господа? Во что бы то ни стало нужно найти свободу.
5. Единственное, что для этого требуется, – пренебречь фортуной; тогда душа, освободившись от тревог, успокоится, мысли устремятся ввысь, познание истины прогонит все страхи, и на их место придет большая и неизменная радость, дружелюбие и душевная теплота; все это будет весьма приятно, хоть это и не само по себе благо, а то, что ему сопутствует.
Глава V
1. И раз уж я решил не скупиться на слова, то могу еще назвать блаженным того, кто благодаря разуму ничего не желает и ничего не боится. Правда, камни тоже не ведают ни страха, ни печали, равно как и скоты; однако их нельзя назвать счастливыми, ибо у них нет понятия о счастье.
2. Сюда же можно причислить и тех людей, чья природная тупость и незнание самих себя низвели их до уровня скотов и неодушевленных предметов. Между теми и другими нет разницы, ибо последние вовсе лишены разума, а у первых он направлен не в ту сторону и проявляет сообразительность лишь себе же во вред и там, где не надо бы. Никто, находящийся за пределами истины, не может быть назван блаженным.
3. Итак, блаженна жизнь, утвержденная раз и навсегда на верном и точном суждении и потому не подвластная переменам. Лишь в этом случае душа чиста и свободна от зол, а такая душа избежит не только ран, но даже царапин; устоит там, где встала однажды, и защитит свой дом, когда на него обрушатся удары разгневанной судьбы.
4. Что же касается наслаждения, то пусть оно затопит нас с головы до ног, пусть льется на нас отовсюду, расслабляя душу негой и ежечасно представляя новые соблазны, возбуждающие нас целиком и каждую часть тела в отдельности, – но кто из смертных, сохранивших хоть след человеческого облика, захочет, чтобы его день и ночь напролет щекотали и возбуждали? Кто захочет совсем отказаться от духа, отдавшись телу?
Глава VI
1. Мне возразят, что дух, мол, тоже может получать свои наслаждения. Конечно, может; он может сделаться судьею в наслаждениях роскоши и сладострастия, он может сделать своим содержанием то, что обычно составляет предмет чувственного удовольствия; он может задним числом смаковать прошедшие наслаждения, возбуждаясь памятью уже угасших вожделений, и предвкушать будущие, рисуя подробные картины, так что пока пресыщенное тело неподвижно лежит в настоящем, дух мысленно уже спешит к будущему пресыщению. Все это, однако, представляется мне большим несчастьем, ибо выбрать зло вместо добра – безумие. Блаженным можно быть лишь в здравом рассудке, но явно нездоров стремящийся к тому, что его губит.
2. Итак, блажен тот, чьи суждения верны; блажен, кто доволен тем, что есть, и в ладу со своей судьбой; блажен тот, кому разум диктует, как себя вести.
Глава VII
1. Те, кто утверждает, будто высшее благо именно в наслаждениях, не могут не видеть, что оно у них оказывается не слишком возвышенным. Вот почему они настаивают, что наслаждение неотъемлемо от добродетели и что честная жизнь не может не быть приятной, а приятная – также и честной. Я, признаться, не вижу, каким образом можно объединить вещи столь различные. Умоляю, объясните, почему нельзя отделить наслаждение от добродетели? Видимо, раз добродетель есть источник всех благ, из того же корня берет начало и все то, что вы любите и чего добиваетесь? Однако если бы они и в самом деле были нераздельны, нам не приходилось бы встречать вещей приятных, но позорных, и наоборот, вещей достойнейших, но трудных и достижимых лишь путем скорбей.
2. Добавь к этому, что жажда наслаждений доводит до позорнейшей жизни; добродетель же, напротив, дурной жизни не допускает; что есть люди несчастные не из-за отсутствия наслаждений, а из-за их обилия, чего не могло бы случиться, если бы добродетель была непременной частью наслаждения: ибо добродетель часто обходится без удовольствия, но никогда не бывает лишена его совершенно.
3. С какой стати вы связываете вещи столь несхожие и даже более того: противоположные? Добродетель есть нечто высокое, величественное и царственное; непобедимое, неутомимое; наслаждение же – нечто низменное, рабское, слабое и скоропреходящее, чей дом в притоне разврата и любимое место в кабаке. Добродетель ты встретишь в храме, на форуме, в курии, на защите городских укреплений; пропыленную, раскрасневшуюся, с руками в мозолях. Наслаждение чаще всего шатается где-нибудь возле бань и парилен, ища укромных мест, где потемнее, куда не заглядывает городская стража; изнеженное, расслабленное, насквозь пропитанное неразбавленным вином и духами, зеленовато-бледное либо накрашенное и нарумяненное, как приготовленный к погребению труп.
4. Высшее благо бессмертно, оно не бежит от нас и не несет с собой ни пресыщения, ни раскаяния: ибо верно направленная душа не кидается из стороны в сторону, не отступает от правил наилучшей жизни и потому не становится сама себе ненавистна. Наслаждение же улетучивается в тот самый миг, как достигает высшей точки; оно невместительно и потому быстро наполняется, сменяясь тоскливым отвращением; после первого взрыва страсти оно умирает, вялое и расслабленное. Да и как может быть надежным то, чья природа – движение? Откуда возьмется устойчивость (substantia) в том, что мгновенно приходит и уходит, обреченное погибнуть, как только его схватят, ибо, увеличиваясь, оно иссякает и с самого своего начала устремляется к концу?
Глава VIII
1. Я бы сказал, что наслаждение не чуждо ни добрым, ни злым и что подлецы получают не меньшее удовольствие от своих подлостей, чем честные люди от выдающихся подвигов. Вот почему древние учили стремиться к жизни лучшей, а не приятнейшей. Наслаждение должно быть не руководителем доброй воли, указывающим ей верное направление, а ее спутником. В руководители же нужно брать природу: ей подражает разум, с ней советуется.
2. Итак, блаженная жизнь есть то же самое, что жизнь согласно природе. Что это такое, я сейчас объясню: если все наши природные способности и телесные дарования мы станем бережно сохранять, но в то же время не слишком трястись над ними, зная, что они даны нам на один день и их все равно не удержать навсегда; если мы не станем по-рабски служить им, отдавая себя в чужую власть; если все удачи и удовольствия, выпадающие на долю нашего тела, займут у нас подобающее место, какое в военном лагере занимают легковооруженные и вспомогательные войска, то есть будут подчиняться, а не командовать, – тогда все эти блага пойдут на пользу душе.
3. Блажен муж, не подвластный растлению извне, восхищающийся лишь собою, полагающийся лишь на собственный дух и готовый ко всему; его уверенность опирается на знание, а его знание – на постоянство; суждения его неизменны, и решения его не знают исправлений. Без слов понятно, что подобный муж будет собранным и упорядоченным и во всех делах своих будет велик, но не без ласковости.
4. Разум побуждается к исследованию раздражающими его чувствами. Пусть так: у него ведь нет другого двигателя, и только чувства дают ему толчок, заставляя двинуться к истине. Но, беря свое начало в чувственности, он должен в конце вернуться к самому себе. Точно так же устроен и мир: этот всеобъемлющий бог и правитель Вселенной устремлен вроде бы наружу, однако отовсюду вновь возвращается в самого себя. Так должна поступать и наша душа: следуя своим чувствам, она достигнет с их помощью внешнего мира, но при этом должна остаться госпожой и над собой, и над ними.
5. Именно таким образом может быть достигнуто в человеке согласное единство сил и способностей, и тогда родится тот разум, который не будет знать внутренних разногласий и колебаний во мнениях, восприятиях и убеждениях; которому достаточно будет раз и навсегда себя упорядочить, чтобы его части согласовались друг с другом и, если можно так выразиться, спелись, и он достигнет высшего блага. Ибо в нем не останется неправды и соблазна, он не будет наталкиваться на препятствия и оскальзываться на сомнениях.
6. Все его дела будут диктоваться лишь его собственной властью, и непредвиденных случайностей для него не будет; все его предприятия легко и непринужденно будут обращаться к благу, а сам предприниматель никогда не покажет спины, изменяя благим решениям, ибо колебания и лень – это проявления непостоянства и внутренней борьбы. А посему смело можешь заявлять, что высшее благо есть душевное согласие, ибо добродетели должны быть там, где лад и единство, а где разлад – там пороки.
Глава IX
1. «Но ты сам, наверное, чтишь добродетель только потому, что надеешься извлечь из нее какое-то наслаждение», – могут мне возразить. – Прежде всего я отвечу вот что: если добродетель и приносит наслаждение, достичь ее стремятся не ради этого. Неверно было бы сказать, что она приносит наслаждение; вернее – приносит в том числе и его; не ради него она обрекает себя на труды и страдания, но в результате ее трудов, хотя и преследующих иную цель, получается, между прочим, и оно.
2. Подобно тому как на засеянной хлебом пашне меж колосьев всходят цветы, но не ради них предприняли свой труд пахарь и сеятель, хоть цветы и радуют глаз; цель их была – хлеб, а цветы – случайное добавление. Точно так же и наслаждение – не причина и не награда добродетели, а нечто ей сопутствующее; оно не признается чем-то хорошим только оттого, что доставляет удовольствие; напротив, добродетельному человеку оно доставляет удовольствие, только если будет признано хорошим.
3. Высшее благо заключено в самом суждении и поведении совершенно доброй души: после того как она завершила свой путь и замкнулась в собственных границах, достигнув высшего блага, она уже не желает ничего более, ибо вне целого нет ничего, так же как нет ничего дальше конца.
4. Так что ты напрасно доискиваешься, ради чего я стремлюсь к добродетели: это все равно что спрашивать, что находится выше самого верха. Тебя интересует, что я хочу извлечь из добродетели? Ее саму. Да у нее и нет ничего лучшего, она сама себе награда. Разве этого мало? Вот я говорю тебе: «Высшее благо есть несокрушимая твердость духа, способность предвидения, возвышенность, здравый смысл, свобода, согласие, достоинство и красота», – а ты требуешь чего-то большего, к чему все это служило бы лишь приложением. Что ты все твердишь мне о наслаждении? Я ищу то, что составляет благо человека, а не брюха, которое у скотов и хищников гораздо вместительнее.
Глава X
1. «Ты извращаешь мои слова, – заявит мой собеседник. – Я утверждаю, что никто не может сделать свою жизнь по-настоящему приятной, если не будет жить честно, а это уже не может быть отнесено к бессловесным животным, для которых благо измеряется количеством пищи. Я недвусмысленно и во всеуслышание объявляю, что та жизнь, которую я зову приятной, не может быть достигнута без добродетели».
2. Помилуй, да ведь все знают, что полнее всего упиваются вашими так называемыми наслаждениями самые непроходимые дураки; что подлость купается в удовольствиях; что дух, поспешая за телом, придумывает для себя множество новых извращенных наслаждений. Вот лишь некоторые из них: чванство и преувеличенная самооценка, напыщенность, возносящая себя над окружающими, слепая любовь ко всему, что имеет отношение ко мне лично; погоня за радостями и разболтанность; ни с чем не соразмерный ребячливый восторг по поводу пустяков и мелочей; болтливость и высокомерие; удовольствие оскорблять других; праздная распущенность обленившегося духа, который свернулся клубочком и сам в себе заснул.
3. Всю эту дремоту добродетель с него стряхивает, больно дергая его за ухо и напоминая, что наслаждение следует сперва оценить и лишь потом допускать к себе; наслаждения, которые нельзя одобрить, не имеют в ее глазах цены; но и все прочие она допускает с большой осторожностью, получая радость не от самого наслаждения, а от своей в нем умеренности. – «Но ведь умеренность, уменьшая наслаждения, тем самым наносит ущерб и высшему благу!» – Ну что же: ты стремишься поймать наслаждение, а я – укротить его и обуздать; ты упиваешься удовольствием, я его использую; ты считаешь его высшим благом, для меня оно вовсе не благо; ты делаешь ради удовольствия все, я – ничего.
Глава XI
1. Когда я говорю, что я ничего не делаю ради удовольствия, то имею в виду не себя лично, а мудреца, того самого, кто, по-твоему, единственный может испытывать настоящее наслаждение. Я же называю мудрецом того, над кем нет господина, и в первую очередь как раз того, кем не командует наслаждение: ибо как может занятый им человек выстоять среди трудов и нужды, среди опасностей и угроз, со всех сторон с грохотом надвигающихся на человеческую жизнь? Как может он глядеть в лицо смерти, как перенесет боль и скорби? Как встретит мировые потрясения и полчища ожесточенных неприятелей тот, над кем одержал победу столь изнеженный противник? – «Но он свершит все, что повелит ему наслаждение». – Будто ты сам не знаешь, что может повелеть наслаждение.
2. «Оно не может повелеть ничего недостойного, ибо неотделимо от добродетели». – Всмотрись еще раз внимательно: разве ты не видишь, что высшее благо нуждается в страже, чтобы оставаться благом вообще? А как добродетель будет управлять наслаждением, если будет ему следовать? Ведь следовать – дело подчиненного, а управлять – дело властителя. То, что должно властвовать, ты помещаешь сзади. Хорошенькую же роль играет у вас добродетель, обязанная, как рабыня, опробовать наслаждения перед подачей на стол!
3. Мы еще увидим впоследствии, сохраняется ли вообще добродетель у тех, кто так ее унижает, ибо, сдавая позиции, она теряет право называться своим именем; покамест же я, в ответ на твое возражение, приведу тебе множество примеров людей, помешанных на наслаждениях, осыпанных всевозможными дарами фортуны, но кого даже ты принужден будешь признать людьми, далекими от добродетели.
4. Взгляни хотя бы на Номентана и Апиция[14], переваривающих все, как они выражаются, дары земли и моря; взгляни, как они высоко возлежат на розовых лепестках, обозревая свою кухню, и у себя на столе изучают животных всех стран. Уши их при этом услаждаются музыкой, глаза зрелищами, нёбо – всевозможными вкусами. Кожу щекочут мягкие, нежно согревающие ткани, а дабы ноздри не оставались тем временем не у дел, разнообразные ароматы пропитывают помещение, где дается пир в честь роскоши, словно в честь усопшего родителя. Скажи, разве не купаются эти люди в наслаждениях? – А в то же время добра им это не принесет, ибо не добру они радуются.
Глава XII
1. Ты скажешь: «Да, им будет плохо, ибо в их жизнь постоянно будут вторгаться обстоятельства, смущающие их дух, а противоречивые мнения будут вселять в душу тревогу». – Все это верно, я согласен, и тем не менее взбалмошные глупцы, ничем не защищенные от уколов раскаяния, вкушают великие наслаждения, и приходится признать, что с тяжестью страданий они познакомятся не раньше, чем со здравомыслием, что они безумны веселым безумием, как, впрочем, и большинство людей, и бред их выражается в хохоте.
2. У мудрецов же, напротив, наслаждения тихи, умеренны, сдержанны, почти что вялы, едва заметны; они, как незваные гости, принимаются хозяевами без почестей и без особых изъявлений радости; их кое-где подмешивают в жизнь в небольших количествах, как чередуют изредка серьезные дела с играми и шутками.
Глава XIII
1. [XII, 3] Пора перестать совмещать несовместное, объединяя добродетель с наслаждением: дело это скверное, и ничего, кроме лести последним негодяям, из него не получится. Человек, потонувший в наслаждениях, вечно икающий, рыгающий и пьяный, знает, что не может жить без удовольствий, а потому верит, что живет добродетельно, ибо он слыхал, что наслаждение и добродетель неотделимы друг от друга; и вот он выставляет напоказ свои пороки, которые следовало бы спрятать от глаз подальше, под вывеской «Мудрость».
2. [XII, 4] Собственно, не Эпикур побуждает их предаваться излишествам роскоши: преданные лишь собственным порокам, они спешат прикрыть их плащом философии и со всех сторон сбегаются туда, где слышат похвалу наслаждению. Они не в состоянии оценить, насколько трезво и сухо то, что зовет наслаждением Эпикур (по крайней мере я, клянусь Геркулесом, именно так его понимаю); они слетаются на звук самого имени, ища надежного покровительства и прикрытия своим вожделениям.
3. [XII, 5] Таким образом, они теряют единственное благо, которое было у них среди многих зол: способность стыдиться своих грехов. Теперь они превозносят то, за что вчера краснели, и громко хвастаются пороками. А из-за этого и подрастающее поколение сбивается с пути, ибо позорная праздность получила отныне почетное звание. Вот отчего ваше восхваление наслаждения столь губительно; достойные наставления преподаются у вас шепотом в стенах школы, а разлагающие изречения красуются на виду.
4. [XIII, 1] Сам-то я считаю – и в этом расхожусь со своими коллегами, – что учение Эпикура свято и правильно, а если подойти к нему поближе, то и весьма печально; его наслаждение мало, сухо и подчинено тому закону, какой мы предписываем добродетели: оно должно повиноваться природе; а того, чем довольствуется природа, никогда не хватит для роскоши.
5. [XIII, 2] Что же получается? Всякий, кто зовет счастьем праздное безделье с поочередным удовлетворением вожделений похоти и чрева, ищет добрый авторитет для прикрытия дурных дел, находит его, привлеченный соблазнительным названием, и отныне считает свои пороки исполнением философских правил, хотя наслаждения его не те, о каких он здесь услыхал, а те, какие он принес сюда с собой; зато теперь он предается им без опаски и не таясь. Большинство наших называют школу Эпикура наставницей в гнусностях; я же скажу так: у нее незаслуженно дурная репутация.
6. [XIII, 3] Кто, кроме посвященных, может знать наверняка? Она сама так убрала свой фасад, чтобы дать повод к сплетням и возбуждать опасения. Она подобна доблестному мужу, одетому в женскую столу: стыдливость не нарушена, мужественность не оскорблена, тело не открыто для взоров нечистой страсти, но в руке тимпан. Следовало бы выбрать более пристойную вывеску, чтобы она сама возбуждала дух к добродетели; та, что висит сейчас, зазывает пороки.
7. [XIII, 4] Всякий, устремившийся к добродетели, являет собой пример благородной натуры; приверженец наслаждения предстает безвольным, сломленным, лишенным мужественности вырожденцем, которому суждено скатиться на самое позорное дно, если кто-нибудь не научит его различать наслаждения и он не узнает, какие из них не выходят за рамки естественных желаний, а какие – беспредельны и увлекают в пропасть, ибо чем больше их насыщают, тем ненасытнее они становятся.
Глава XIV
1. [XIII, 5] Ну, ничего, лишь бы впереди у нас шла добродетель, тогда любая дорожка будет безопасна! Чрезмерное наслаждение вредно, а чрезмерной добродетельности опасаться не приходится, ибо она сама есть мера; не может быть благом то, что проигрывает от большого размера. Кроме того: вам в удел досталась разумная природа; что же может быть для вас лучше разума? Но если вам так уж мило это соединение, если вы не согласны идти к блаженной жизни без обоих сразу, то пусть добродетель идет впереди, а наслаждение – следом, увиваясь, словно тень, вокруг нашего тела; но отдавать добродетель, высочайшую вещь на свете, в служанки наслаждению немыслимо для того, чей дух в состоянии постигать не только ничтожные предметы.
2. [XIV, 1] Пусть добродетель шагает впереди со знаменами; наслаждение никуда от нас не денется, зато мы окажемся его командирами и укротителями; оно всегда сможет выпросить у нас уступку – но не сможет вынудить. Те же, кто передаст бразды правления наслаждению, лишатся обоих: они упустят добродетель и не смогут удержать наслаждения, ибо отныне оно само будет держать их; они будут то терзаться его недостатком, то задыхаться от его обилия, несчастные – если оно их покинет, еще несчастнее – если обрушится на них; подобно морякам, сбившимся с пути в Сиртском море[15], они будут оказываться то на мели, то в потоке бушующих волн.
3. [XIV, 2] А происходит все это от невоздержности и слепой любви к удовольствию; кто принимает дурное за хорошее, тому опаснее всего успех в достижении желанного. Подобно тому как мы с великими трудами и опасностью для жизни охотимся на диких зверей, но последующее обладание ими приносит не меньше хлопот и плененному зверю нередко случается растерзать своего хозяина, – точно так же и обладатели наслаждений попадают в великую беду, делаясь собственностью того, чем, казалось, обладали. И чем больше, чем сильнее наслаждения, тем ничтожнее и мельче их бывший хозяин, а ныне раб многих господ, тот самый, кого чернь величает счастливцем.
4. [XIV, 3] Продолжу сравнение: охотник, для которого нет ничего дороже, чем выслеживать звериные логовища и «арканить хищников петлей», «сворой собак окружая обширные дебри»[16], чтобы не сбиться со следа, бросает ради этого более важные дела и пренебрегает своими обязанностями; точно так же охотник за наслаждениями откладывает все остальное и в первую очередь пренебрегает свободой: ею он платит за удовольствия живота, но в результате не он покупает себе наслаждения, а они покупают себе его.
Глава XV
1. «Однако что же все-таки мешает объединить добродетель и наслаждение и устроить высшее благо таким образом, чтобы честное и приятное было одно и то же?» – Ни одна составная часть чести не может быть бесчестной, и высшее благо утратит свою подлинность, если в нем окажется хоть что-то не вполне наилучшее.
2. Даже радость, порождаемая добродетелью, как она ни хороша, не может быть частью высшего блага, так же как покой и веселье, от каких бы прекрасных причин они ни возникали; все это, конечно, блага, но не из тех, что составляют высшее благо, а из тех, что ему сопутствуют.
3. Тот, кто попытается объединить добродетель и наслаждение, пусть даже и не на равных правах, привяжет к более прочному благу более хрупкое, надеясь его упрочить, после чего оба станут шаткими; а на свободу свою, непобедимую до тех пор, пока для нас нет ничего дороже ее, он наденет ярмо рабства. Ибо ему сразу понадобится фортуна; но нет рабства горшего! Жизнь его отныне наполнится тревогой, подозрениями, страхом; он будет трепетать от любого случая, и каждое из сменяющих друг друга мгновений будет таить в себе угрозу.
4. Ты не хочешь водрузить добродетель на твердое, неподвижное основание; ты оставляешь ей лишь шаткую почву под ногами, ибо нет ничего более шаткого и ненадежного, чем надежда на случай, чем изменчивое тело со всеми его способностями и потребностями. Как может человек повиноваться богу, как может благодушно принимать все, что бы с ним ни случилось, не жаловаться на судьбу и толковать все свои несчастья в лучшую сторону, если самые ничтожные уколы наслаждения или боли заставляют его содрогаться? Из него не выйдет ни добрый защитник родины, ни борец за своих друзей, если он покорился наслаждению.
