Я спас СССР. Том I
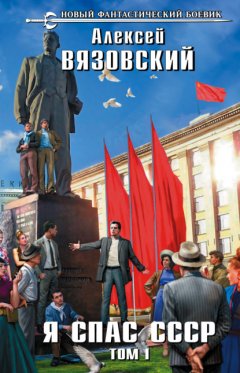
Глава 1
И. Губерман
- Я жил как все другие люди,
- а если в чем-то слишком лично,
- то пусть Господь не обессудит
- и даст попробовать вторично.
«…Таким образом, за десять лет своего правления Хрущев так и не смог преодолеть стереотипы социалистического развития и провести реформы государства и общества. Культ личности был уничтожен, но волюнтаризм и метания первого секретаря ЦК КПСС в экономике, внешней и внутренней политике сделали неизбежным его смещение и появление брежневского застоя. Что, в свою очередь, предопределило развал СССР в 1991 году».
Я захлопнул тетрадь, снял очки и раздраженно посмотрел на аудиторию. Школьники скучали. Двадцать шесть подростков девятого «А» класса 113-й средней школы города Москвы зевали, смотрели в окно и поглядывали на часы. До конца урока истории оставалось пятнадцать минут.
– Савченко! – я сделал морду кирпичом. – Убери телефон! Или мне отобрать его?
– Трофим Денисыч, ну я это… про Хруща читал, – высокий прыщавый парень шестнадцати лет лениво убрал гаджет в карман. Класс выжидательно смотрел на меня. Савченко не первый раз бросал мне вызов на уроке.
– И что же ты прочитал? – Я тяжело вздохнул. До конца занятия мне нужно было опросить нескольких учеников, и вступать в пикировку с парнем времени не было.
– Хотел загуглить словечко новое, – Савченко дерзко улыбнулся. – Волюнтаризм Хрущева. Зачетно звучит.
– Мы это уже разбирали на прошлом уроке.
– А я на нем не был.
– Печально, – я снова надел очки обратно, сел за учительский стол. – Волюнтаризм – это командный метод, принятие произвольных решений вопреки объективным условиям и обстоятельствам. Проще говоря, глупые единоличные решения в управлении страной.
Несколько человек записали слово в тетради. Повторно. Остальные явно томились на уроке. Май выдался жарким, за окном цвела сирень. Мысленно ученики были на улице. Сейчас прозвенит звонок на длинную перемену. Часть парней вместо обеда возьмут футбольный мяч у физрука и побегут на спортивную площадку играть. Девчонки сядут на скамейки. Будут поглядывать на пацанов и болтать о своем, о женском. Да… акселерация идет стремительными темпами. Подросткам по пятнадцать – шестнадцать лет, но некоторые выглядят уже на все двадцать. Косметика, одежда, прически…
– А сейчас опрос, – мой палец поехал вниз по таблице фамилий классного журнала. Школьники тут же опустили глаза. Прямо читаю у них на лбу: «Лишь бы не меня!» Только двое отличников смотрят прямо и… Савченко. Этот двоек не боится, отец – местный депутат. Тянут хулигана всей школой.
– Предтеченская!
К доске, покачивая бедрами, вышла главная красавица класса Анастасия. Девушка уже вполне оформилась и носила яркие открытые платья. Вся мужская половина девятого «А» скосила глаза на ее вырез. Затем взгляды скользнули ниже, к коленкам. Настя кокетливо поправила блондинистый локон, вопросительно взглянула на меня голубыми глазами.
– Перечисли основные реформы Никиты Хрущева в социальной и экономической сфере.
– А с какого периода? – Красавица наморщила лобик.
– С момента прихода к власти, – я строго посмотрел на первую парту, где два лоботряса пытались шепотом подсказывать. – Какой это, кстати, год?
– Пятьдесят третий?
– Ты меня спрашиваешь?
– Пятьдесят третий!
– Продолжай.
– Ну… развенчал культ личности Сталина.
– Я просил в социальной и экономической области. Политику не трогаем.
Ее только тронь! Мигом продвинутые детки, а точнее, их родители, напишут жалобы. Причем, как ни подай материал, – останутся недовольные. Скажешь, что Сталин был тираном и уничтожал собственный народ? Получи жалобу – потакаешь либеральным взглядам и очерняешь имя главы советского государства. Скажешь что-то положительное про победу в войне, индустриализацию? Либеральные родители тут же в социальных сетях поднимут вой, кляня учителей, что обеляют имя тирана. И тоже посыплются жалобы. Разница только в том, что первые пишут от руки и директору, вторые – через портал Госуслуг и сразу в районный Департамент народного образования. Раньше он назывался РОНО.
– Хрущев повысил зарплаты, сократил рабочий день, – Настя наконец расслышала подсказки и принялась перечислять, – начал массовое жилищное строительство, провел школьную реформу. Распахал целину и создал совнархозы.
М-да… Сам поехал в Казахстан и распахал.
– Ах да, стал платить зарплаты колхозникам.
– А как же эти лохи до этого работали? – громко удивился Савченко.
– Следи за языком! – я стукнул ладонью по столу. Но отвечать на вопрос не стал. Посмотрим, как справятся.
Предтеченская замолчала. Стрельнула глазками на первую парту, но я показал обоим лоботрясам кулак. Класс с интересом начал разглядывать мнущуюся ученицу. Никто не поднимал руку, и Савченко победно смотрел поверх голов. Всех уел. Вон даже учитель молчит.
– Ну как в ГУЛАГе работали, – промямлила Настя.
– За пайку, – выкрикнул кто-то с заднего ряда.
– Я же сказал – лохи! – Савченко торжествовал.
Ученики засмеялись.
– Вышел вон из класса! – Я встал. Сердце предательски кольнуло. Все-таки шестьдесят пять уже. Пора, пора на покой. Но разве проживешь на нашу нищенскую пенсию? Да и все-таки заслуженный учитель России, почетная медаль Ушинского. Всю жизнь посвятил школе.
– Не имеете права! – Парень тоже встал, заелозил взглядом. Лицо покраснело, пошло пятнами. Класс осуждающе молчал.
– Права ты свои знаешь. А как насчет обязанностей?
Мы померились взглядами. Савченко опустил глаза, выдавил из себя «извините».
– Сядь и запомни. Колхозники работали за трудодни. Была такая единица учета в СССР. И мы ее даже проходили. Если бы ты ходил на уроки, то знал бы!
Прозвенел звонок. Предтеченская облегченно вздохнула, заулыбалась.
– Звонок для учителя! – Я остановил поступательный порыв школьников к двери класса. – Сейчас я объявлю оценки за урок и дам домашнее задание…
В учительской было шумно. Наши дамы обсуждали финал «Игры Престолов». Все сходились во мнении, что концовка сценаристами была слита. Стоило только мне зайти, как я попал как кур во щи:
– Трофим Денисович, а вы что думаете о последней серии? – Массивная химичка в очках с тонкой оправой требовательно на меня посмотрела. Я тяжело вздохнул, отступать было некуда. Учительницы замолчали и начали дружно сверлить меня взглядами. Я да физрук – вот и все мужчины в школе. К нашему мнению прислушиваются, его ждут.
– Не смотрел и не собираюсь.
– Почему?
– Не увлекаюсь социальным эскапизмом.
– По-вашему, любое фэнтези – бегство от реальности? – В атаку пошла пожилая математичка. – Толкиен тоже?
– Это же классика! – А вот и молоденькая преподавательница русского и литературы подключилась. – Толкиена скоро в школьную программу включат. В обязательную часть.
– Ну, это вы, милочка, хватанули, – химичка не согласилась с русичкой. В учительской засмеялись. – У нас, слава богу, есть кого включить из отечественной классики.
– Не включат, – я коротко согласился с коллегой, пытаясь налить воды из кулера в стакан. Кулер булькал, но воду не отдавал.
– Давайте, я помогу, – молоденькая учительница, покраснев, схватила мой стакан. – Тут вот так, по-особому, нажать надо. А почему не включат?
– Мордор, по-вашему, что? Ну вот это сосредоточение зла Средиземья?
– Что?
– Это, красавица моя, – я забрал у покрасневшей русички стакан, – Советский Союз. А Саурон – это Сталин.
Новость поразила коллектив.
– Серьезно? – химичка нахмурилась.
– Географии Средиземья примерно соответствует Европе. На востоке, где Мордор, у нас что? СССР.
– А светлые духи, валары, на Западе тогда…
– Совершенно верно, заокеанские друзья англичан – США. А теперь позвольте откланяться. Мне нужно освежиться.
Я допил воду, поставил стакан в специальный шкафчик.
– Трофим Денисович, а как же «Игра Престолов»? – дружный вопрос застал меня в дверях.
– Я сериал не смотрел и не собираюсь. Но если вас интересует мое мнение…
– Интересует!
– Финал слили специально. Чтобы хорошо раскупали последнюю книгу Мартина. Ведь он тоже пишет заключительную часть. Вот ее-то и будут читать. Бизнес, и ничего личного.
Я вышел в коридор и прошел в туалет. Встал возле умывальника, посмотрел в зеркало. На меня глядело морщинистое лицо старика с большой проплешиной на голове. Усталые глаза, седые волосы… Я стал умываться. Пока фыркал под водой, в туалете раздался шум, девичий крик. В распахнутую дверь заходила компания парней. Впереди шел Савченко, тащивший за руку визжащую девушку. Это была Предтеченская.
– …Говорил тебе – не крутить хвостом! Ведь говорил, сучка?! – Позади Савченко шли несколько чернявых парней не из нашей школы.
– А ну отпусти ее! – Я вышел из закутка с умывальниками и схватил хулигана за руку. Дернул его прочь от девушки, впрочем, не особо успешно. Амбал был на голову меня выше.
– Пацаны, тут Денисыч! – Савченко толкнул Предтеченскую, начал вырывать руку. К нему на помощь пришли дружки. Один ударил меня вскользь по лицу, а другой, с расширенными зрачками, не размышляя, выхватил из кармана нож и ткнул им меня в грудь. Раздался еще один громкий крик девушки. На чернявого брызнула красная кровь. Я почувствовал резкую боль в районе сердца.
– Бежим, пацаны! – Савченко толкнул меня, и я упал на холодный кафель туалета. Кровь продолжала хлестать, разливаясь огромной лужей. Сначала я почувствовал холод в руках и ногах, потом стало меркнуть сознание. Глаза закрылись, и накатила тьма.
Боже, как глупо… Неужели это все?
Внезапно чернота отступила. Моя душа рванулась вверх, отделилась от лежащего на полу тела и воспарила над Землей. Я поднимался все выше и выше. Сначала Земля превратилась в маленькую голубую горошинку, а потом вообще в точку. Еще мгновение, и родная планета затерялась среди бесчисленных сверкающих звезд. Сначала я не очень испугался, но чем быстрее космос засасывал мою душу, тем страшнее становилось. Ужас вползал в меня постепенно. Вокруг меня был только черный вакуум. Полет прервался, и я завис в мертвящей пустоте. «…И была земля безвидна и пуста, и тьма над бездною…» – всплыли в памяти строчки из Библии. Вот такое оно, посмертие?
Спустя вечность вокруг меня то тут, то там стали появляться и исчезать искры. Ежесекундно рождались и умирали тысячи, сотни тысяч, нет, миллионы оранжевых огоньков. Я присмотрелся и поразился – вакуум кипел! И я кипел вместе с ним. Мое движение возобновилось, но это уже не полет вверх, а падение вниз. Глупо, конечно, про Космос говорить в терминах верх и низ, но именно так я и ощущал весь процесс. Я мчался как комета, как болид, все ускоряясь и ускоряясь. Позади меня сформировался хвост из искр. Я набрал такую скорость, что звезды смазались в светящиеся полосы, сформировав вокруг меня туннель. Туннель мерцал и пульсировал. А вот и свет в конце виден. Судя по всему, мое путешествие заканчивается.
Свет становился все ярче, а потом и вовсе стал ослепительным. Словно из пушки, я вылетел из туннеля и увидел…Бога! Как я узнал, что это Бог? В его глазах была вечность, телом стал Млечный путь, а голосом – звук рождения галактик. Моя душа рванулась к Творцу, но что-то мешало.
Я хотел слиться с Абсолютом, раствориться в нем. И не мог. Внутри постепенно рождалось Слово. Оно набухало, разрасталось. У Слова была музыка. Своя, божественная. Я весь дрожал в такт ей. И я ее понимал! Я просил о втором шансе, и мне его дали. А еще я получил особый Дар. Вселенная толкнула меня, и душа, ускоряясь, полетела обратно в туннель. Звезды опять смазались, завертелись в хороводе. Я закричал от восторга! Спасибо, Господи.
– …В светлое коммунистическое будущее. Под руководством «первого ленинца» и «великого борца за мир» Никиты Сергеевича Хрущева!
Аплодисменты.
– Русин, проснись! – кто-то ткнул меня под ребра, и я открыл глаза. Свет ударил по зрачкам, я глубоко вздохнул. И чуть не застонал от наслаждения. Спасибо, Господи! Я жив! Ничего не хрустит, не болит. Дышится легко, тело полно энергии. А какие краски вокруг! Запахи… Мне захотелось подскочить, закричать во весь голос.
– Леха, да что с тобой??
Я обернулся вправо и увидел рядом мелкого черноглазого брюнета в очках. Одет он был в темный костюм с галстуком, на отвороте пламенел комсомольский значок. Глянул влево. Там сидел другой парень. Массивный, в белой рубашке с большим отворотом. Рукава бугрились мускулами, лицо было простое, крестьянское. Нос картошкой, румянец во всю щеку. А находимся мы… в одной из лекционных аудиторий МГУ. Я учился в такой на историческом факультете. Ряды идут уступом вниз, в центре – кафедра, за которой размахивает рукой какой-то седой старик. Позади мужчины на стене три портрета основоположников. Две бороды окладистые, одна клинышком.
– …Победы Коммунистической партии – СССР – это и есть марксизм-ленинизм в действии…» – лектор срывает очередные аплодисменты. Аудитория битком набита студентами и студентками. Свободных мест нет. Мое внимание невольно привлекают девушки. Они какие-то… не такие. Все в платьях. Ни одной в брючном костюме. Туфли-лодочки, юбки-колокольчики в крупный горошек… Ретро.
– Русин, ты как? – чернявый парень справа озабоченно смотрит на меня. – На тебе лица нет.
Я же разглядываю свои руки. Они совсем не мои. Массивные, с рабочими мозолями. Левый товарищ наклоняется ко мне, шепчет:
– Леха, давай мы Сыча попросим тебя вывести в медпункт.
Сыч, судя по всему, – это лектор. Сычев?
– Не надо. Я нормально.
Голос тоже не мой, бас с хрипотцой. На нас оборачиваются, лектор кидает на меня раздраженный взгляд.
– Нормально? – брюнет шипит на ухо. – Да ты головой о парту ударился!
Я трогаю лоб. Действительно шишка.
– Переучился наш Леха! – хмыкает левый сосед.
Я откидываю голову, закрываю глаза. В голове сумбур. Ясно одно. Я – это не я. В том смысле, что тело не мое. А чье? И тут на меня обрушивается водопад информации. Вон он, божественный ДАР! Я помню все. Всю свою жизнь. По дням, по минутам. И всю жизнь Алексея Русина. В чье тело меня отправили. Сирота, воспитывался в детском доме, служил в пограничных войсках. Благодаря протекции сослуживца погибшего на войне отца – поступил в МГУ. Почему-то на журналистику. Ах да. Я вглядываюсь в прошлое парня и вижу, что в части он увлекся написанием заметок в армейскую газету. Некоторые очерки после правок цензора даже опубликовали. Эти вырезки теперь хранятся в специальной папке, которую пришлось показывать приемной комиссии.
Русин, как отслуживший, и без протекции мог сдать вступительные экзамены. Но фронтовой друг отца настоял. Позвонил ректору. Судя по первому впечатлению, Русин парень умный и волевой. Комсомолец. Служил исправно, даже имеет медаль «За отличие в охране государственной границы». Участвовал в задержании нарушителя. Со стрельбой! Вот это да… Я разглядываю этот эпизод в памяти парня и чувствую, как начинает кружиться и гудеть голова. А где же сам Алексей? Его личности я не чувствую.
– Товарищ Сычев! – Мой массивный левый сосед поднимает руку, после чего встает.
– Что тебе, Кузнецов? – в голосе лектора слышится уже неподдельное раздражение.
– Русину плохо. У него вон кровь из носа идет.
Я открываю глаза и вижу красные лужицы на парте. На меня все оборачиваются. Большинство студентов смотрят сочувствующе.
– Хорошо, отведите его в медпункт, – преподаватель машет рукой в сторону выхода. Оба моих соседа подхватывают меня под руки, сводят вниз. Прислоняют к стене в коридоре. Кузнецов бежит обратно и приносит черный портфель. В нем, судя по всему, мои учебники и конспекты.
Второй товарищ тем временем достает платок из кармана, прижимает к носу. Я благодарно хлопаю его по плечу и откидываю голову назад. Похоже, подробный просмотр памяти – это не такое уж безопасное дело. Плата за знания берется кровью.
Меня обнимают с двух сторон, и мы бредем по коридору к знаменитым университетским лифтам. Известны они своей скоростью и капризностью. Не дай бог малейший перегруз – лифт отказывается ехать. А студенты начинают ругаться, кому подниматься пешком или ждать следующий лифт. Но сейчас идут занятия, и мы легко спускаемся на третий этаж, где находится медпункт.
Тут тоже пусто, и миловидная медсестра в белом халате быстро меня осматривает. Ставит градусник.
– Рус, ну мы пойдем? А то Сыч ругаться будет.
Я уже знаю, кто мои друзья. Очкастый брюнет – Лева Коган. Его отец – знаменитый фельетонист из «Правды». Гроза министров и секретарей обкомов. Немало из них было снято после статей Когана-старшего. «Сегодня в фельетоне – завтра в столыпинском вагоне». Мама – известная пианистка. Оба родителя Льва, несмотря на свою очевидную национальность, старые члены партии. Не попали ни под репрессии, ни под дело «врачей-вредителей». Сам Лев хотел заниматься электроникой, радиоделом. Но папа сказал «надо» – сын ответил «есть». И пошел в журналисты. Дисциплина в семье Коганов армейская.
– Давайте уже, дуйте обратно. Дима, дашь потом списать конспект?
– Да у тебя же по марксизму-ленинизму автомат? – удивился мой второй друг и сосед по парте Дмитрий Кузнецов. Сам из Владимирской области, служил в десантных войсках. У нас с ним «боевое братство» на факультете. Мы единственные на курсе, кто служил. Плюс уже три года как живем в одной комнате в общаге. Вообще факультет журналистики располагается на Моховой. Но своей общаги у «акул пера» пока нет, поэтому они базируются в главном здании МГУ, где проходят некоторые лекции.
– Не хочу злить Сыча, – я посмотрел на градусник. Он показывал 36,6.
– В космос можно посылать, – медсестра глянула на цифры и начала засовывать мне в нос тампоны из ваты. – Перенапрягся. Посиди тут пока, отдохни.
– А ведь сессия только начинается. – Коган подталкивает к двери Кузнецова. – Давай, увидимся в столовке.
Друзья уходят, а я смотрю на отрывной календарь на столе медсестры. Какой же сейчас год? Вот что меня волнует в первую очередь.
На дворе 14 мая 1964 года.
Делаю легкое усилие, мысленно открываю уже свою память. Про хрущевскую эпоху я знаю все. Последний год правления «кукурузника». Осенью его снимут. Пост первого секретаря ЦК КПСС займет дорогой Леонид Ильич Брежнев и компания и уже сейчас ускоренными темпами строят заговор против Хрущева. Подговаривают друзей из Президиума ЦК, ведут переговоры с секретарями обкомов. Хрущев обречен. Против него вся союзная и республиканская элита, армия и КГБ. И причин тому несколько.
Во-первых, неудачи в сельском хозяйстве. Хрущеву так и не удалось накормить страну. Метания, эксперименты, кукуруза и целина, капельный полив и химизация. Чего только не перепробовал неугомонный Никита. Но все, что было гладко на бумаге, – натыкалось на овраги советской бюрократии и безответственности. Кукуруза, которой Хрущев так поразился в Америке, отказывалась расти в районах рискованного земледелия средней полосы России. Распахали целину? А заодно с ней и казахские солончаки. Лесополосы высадили поздно, последние два года на целинных землях бушуют песчаные бури. Урожай погиб, в стране намечается острый дефицит хлеба. Его ощущают даже в крупных городах. Это вызывает сильное недовольство народа. Уже случился бунт в Новочеркасске.
Во-вторых, элиты. Их Никита тоже больно пнул. Разделил обкомы, сокращает армию и генералитет. В верхах растет раздражение. Чуть не начали ядерную войну с США («свозили ракеты на Кубу и обратно»), рассорились с Китаем (личный конфликт Хрущева и Мао), разругались вдрызг с интеллигенцией (матерные эскапады в Манеже против скульпторов и художников) – и все ради чего? При этом удивительно, но сама творческая жизнь в стране на подъеме. Снимаются фильмы-шедевры, пишутся гениальные романы и песни. Эффект «оттепели»? Но «оттепель» объективно заканчивается, если уже не закончилась. Через год на Саматлоре забьет первый, самый мощный фонтан нефти. Откроется новая углеводородная сокровищница Сибири. Разумеется, на Западе узнают и о нефти, и о газе. Узнают и поставят в уме галочку. Ведь углеводороды – это кровь мировой экономики. А капиталисты-вампиры любят кровушку. Очень любят.
– Русин, тебе сколько полных лет? – Медсестра заполняла на меня карточку.
– Двадцать четыре.
– Так ты после армии?
– Точно, – я встал, прошелся по кабинету. Ничего не болело, голова прекратила кружиться. Кровь тоже не идет. Аккуратнее надо быть. Осмотрел белую рубашку с короткими рукавами, темные брюки. Вроде не закапал. Мое внимание привлекла необычная пряжка ремня. Скрещенные мечи. Подарок?
– В каких войсках служил? – Медсестра кокетливо поправила белокурую прядь, выбившуюся из-под шапочки.
– Пограничник.
Я присмотрелся к девушке. Ничего так, высокая и фигуристая. Белый приталенный халат подчеркивал все прелести женской фигуры. Грудь примерно третьего размера. Карие выразительные глаза. От моего взгляда девушка покраснела.
– Ты ведь Вика? – я напрягся, сделал мгновенный прокол в память Русина. Прошлый год, картошка, подмосковный колхоз, грязь, бараки… И мы, двадцатилетние лбы, убирающие плоды природы. А вечером поющие под гитару, употребляющие портвейн «Агдам» и кадрящие окрестный женский пол. Причем, судя по воспоминаниям Алексея, будущие журналисты пили так, будто у них имелась запасная печень. Парочку самых отвязаных судили на комсомольском собрании. Вроде бы привели в чувство. Потребляй, но не злоупотребляй!
– Да, я Вика, – девушка нахмурилась. – И да, ТА САМАЯ ВИКА!
Медсестра повысила голос, громко шлепнула печать. Чем это она так недовольна? Я еще раз кольнул память. И чуть не рассмеялся. История достойна включения в развлекательный роман. Главная проблема на картошке была одна – влюбленным парочкам негде было уединиться. На природе? Уже холодно. Идут дожди. Из жилых помещений – женский барак, мужской, столовая. Последняя закрывалась на ночь на огромный амбарный замок. Но была еще баня. В парной можно было вполне быстро устроить, как нас учили в армии, «скоротечный огневой контакт». Естественно, очередь на баню была расписана на неделю вперед. Тем более «парились» только вечером – днем работали, и работали без дураков. Тунеядцев в Советском Союзе не жалуют. Вика была прикреплена к нашему отряду в качестве фельдшера. Обработать мозоли, вылечить отравление… Сошлась с комсоргом курса, Колей Петровым. Отличником, спортсменом… Античный профиль, фигура культуриста, поет завораживающим баритоном под гитару – трудно устоять. Вот Вика и не устояла. После недолгого периода ухаживания крепость пала, и девушка пошла с ним в баню. И тут, как назло, в колхоз примчался декан. Ему доложили о моральном разложении студентов, и он решил, не надеясь на комсомол, лично вложить ума подотчетной молодежи.
Декан факультета журналистики в МГУ – фигура легендарная. Ян Заславский. Пережил нескольких генсеков страны и одного президента. Умный, талантливый… Но все его таланты не помогли в бане. Ян, еще будучи только исполняющим обязанности декана, одним наскоком ворвался в предбанник (кто-то настучал о месте «огневых контактов»), увидел разбросанные мужские и женские вещи, услышал характерные звуки. Схватил бюстгальтер, злорадно улыбнулся. Его улыбки я, естественно, не увидел в памяти Русина – это уже мое воображение дорисовало. Стал дергать закрытую дверь – кто-то умный прикрепил изнутри крючок.
– Дорогие мои! Пора открыть дверь и идти собирать чемоданы! После чего выметаться к чертям из лагеря!
В парной воцарилась тишина. Наконец через пять минут вышел голый парень. Это был Коля Петров. Плотно прикрыл дверь. Заславский тут же начал выяснять фамилию и группу. После чего ехидно поинтересовался:
– И что же ты там ночью делал?
– Мылся, – на Петрове не было лица. Он уже себя видел марширующим в кирзачах по направлению к армейской казарме.
– И с кем же ты там мылся? – декан приподнял за лямку белый бюстгальтер.
Парень молчал, опустив голову. И вдруг в предбаннике стало тесно. Внутрь зашли сразу все двадцать девушек отряда. В грязных резиновых сапогах, телогрейках. Возглавляла группу Оля-пылесос. Староста курса. Пылесосом ее назвали не по какой-либо похабной причине, а лишь потому, что некоторые молодые первокурсники, которые только заселились в эмгэушную общагу, впервые увидели пылесос. В руках Оли. Она убирала им свою комнату. Девушка была из небедной подмосковной семьи (говорили, что дочка первого секретаря райкома Зеленограда) и очень чистоплотная. Я разглядывал ее в памяти Лехи. Невысокая, точно ниже Вики, с широкими бедрами и мощным бюстом. Талия есть, а также присутствует красивая шея, роскошная грива рыжих волос. Аппетитная, ничего не скажешь.
– Товарищ декан! – железным голосом произнесла Ольга. – Я командир студенческого отряда. Что тут произошло?
Декан начал объяснять, но Пылесос его прервала.
– Как это не хочет выходить? Да мы сами ее сейчас оттуда вытащим. Мы все считаем, что таким не место в нашем университете. Отойдите, пожалуйста, все-таки вы мужчина…
Заславский послушно отошел на два шага и приготовился наблюдать из-за спин студенток, как будут выводить голую подругу Петрова. Дверь приоткрылась, и десять или около того девушек устремились внутрь. Кто их считал в полутемном предбаннике? Вот и декан не считал. А зря. Через пять минут из парной вышли дамы все в тех же сапогах и телогрейках, и Ольга растерянно произнесла:
– Странно, Ян Николаевич, но тут никого нет. Может, и не было никого?
Декан бросился в парную. Там было пусто.
– А как же женские вещи??! Белье?
– Девчонки после работы уставшие, мылись, забыли.
– А звуки?!
– Это я пел, – широко улыбнулся Петров и тайком подмигнул бледной Вике. Медсестра была обряжена в сапоги, штаны и телогрейку.
История Виктории тем не менее широко разошлась по МГУ. Девушка даже хотела уволиться, но за нее вступились университетские дамы. Тем более был повод. Разболтал все не кто иной, как Петров. И ему за это тут же был объявлен бойкот. На следующем же собрании комсорга по какому-то левому поводу поперли с должности, исключили из редакции факультетской стенгазеты.
– Ой, Русин, у тебя опять кровь идет!
Я очнулся от воспоминаний и обнаружил, что красная жидкость просочилась через ватные тампоны.
– Сядь! – Виктория взяла меня за руку и усадила на стул. Я задержал ее ладонь в своей:
– Ты не обижайся на Петрова! Мы его проработали на комсомольском собрании. За нечуткое отношение к товарищам.
– У нас с ним все! – Медсестра вырвала руку, подошла к окну. – Сама дура, что с ним связалась. Подруги предупреждали, что он ходок и трепач…
Я пожал плечами. С такой внешностью и не быть ходоком?
– Ты пока посиди, я дам тебе направление в нашу поликлинику, – девушка начала что-то быстро писать. – Сходишь, пусть врачи тебя посмотрят.
Чтобы себя чем-то занять, я полез в сумку. Тетради, конспекты, пара учебников – научного коммунизма и теории и практики партийно-советской печати. Взял зачетку. Третий курс, полный отличник. Идет сессия – часть зачетов уже сдана. Но основные экзамены впереди. Рассматриваю витиеватые росписи преподавателей. Раз отличник – значит, повышенная стипендия. Рублей сорок, а может, и сорок с лишним. Как бы узнать? Должны быть ведомости, где я расписывался.
Потом разглядываю себя нового на фотографии в студенческом билете. Мужественное лицо, упрямая челюсть с ямочкой, короткий ежик темных волос. Встаю, подхожу к зеркалу, что висит в приемной над раковиной. Серые глаза, высокий лоб, широкие плечи. Рост сантиметров 185–190 навскидку.
Вика удивленно на меня смотрит, но молча продолжает писать. Я сажусь обратно на стул и лезу по карманам. Смятый рубль с копейками, белый платок. Теперь их у меня два. Один нужно выстирать и отдать Льву.
Обо всех этих мелочах я размышлял, лишь бы не думать о главном. То есть о себе. Ведь я, прежний, сейчас живу на Арбате. Хожу в 91-ю среднюю школу, мне десять лет. Родители – молодые, здоровые. Отец работает инженером на АЗЛК, мама – учительница русского. Все в той же 91-й школе. И что мне делать? Подъехать на Арбат и глянуть на себя? А вдруг это будет иметь какие-то последствия для данной реальности? И ведь Бога не спросишь… С другой стороны, я же могу помочь семье. Через шесть лет у отца будут проблемы по партийной линии. Персональное дело за потерю партбилета. Поехал на рыбалку с друзьями, выпил лишнего… К этому времени он уже будет заместителем директора АЗЛК, партийной номенклатурой. В электричке милиционеры, почувствовав запах, попросят пройти. Отец начнет строить из себя охрененного начальника, грозить, что их в порошок сотрет лично глава Москвы – Гришин. Тот самый, который уже участвует в заговоре против Хрущева. История дойдет до первого секретаря горкома. Он и потребует, чтобы отец явился с партбилетом. Который тот потерял. Грязная, неприятная история. Отца уволят с работы, выпнут из партии. Он будет вынужден работать инженером по эксплуатации теплосетей в местном ЖЭКе. Станет еще больше пить, в конце концов это убьет их с матерью брак.
– Держи направление. – Вика протянула мне бланк. – Завтра зайди к терапевту, пусть он тебя посмотрит. Точно надо получить освобождение от физкультуры. Хотя у вас уже конец года…
– Вик, – я покрутил в руках бланк. – А ты сегодня вечером что делаешь?
У Русина нет девушки. И это непорядок. Третий курс, пора обзавестись постоянной подругой. Вика ему еще на картошке глянулась, но опередил ушлый Петров. Мне она тоже нравится. Статная, женственная.
– Алексей, что с тобой? – медсестра искренне удивилась. – Только что умирал, кровью брызгал, бледный весь…
– Умирает старый еврей. – я иду ва-банк и отвечаю анекдотом из будущего. – Слабым голосом спрашивает:
– Моя жена рядом?
– Да, дорогой.
– Дети здесь?
– Да, папочка.
– А мои внуки?
– Тут мы, дедушка!
– Тогда кому свет на кухне горит?!
Вика задорно хохочет, откинув голову. Ах, какая шейка!
– Мораль! – я поднимаю палец вверх. – Никакая болезнь и даже смерть не может мне помешать сводить на свидание такую красивую девушку!
– Ну ты… прямо Знаменский!
Знаменский? Ах, да… Один из самых быстрых бегунов Советского Союза времен Сталина.
Рассмешил, удивил, покорил! Формула будет действовать и через пятьдесят лет.
– Спасибо за комплимент. В восемь на Маяке?
– У памятника? – Вика пристально на меня посмотрела. – Ладно, в восемь.
Улыбнувшись девушке, я прямо из медпункта отправился в столовую. Нужно было отблагодарить мозг порцией глюкозы. А также белков и других микроэлементов. Внутри мощным стаккато звучало СЛОВО! Я еще плохо понимал послание, но, кажется, шел по правильному пути. Врастал в жизнь Русина. А через него и в жизнь страны. Той страны, которую мне предстояло спасти.
Я шел по главному зданию МГУ и поражался окружающей красоте. Здание только два года как сдали окончательно в эксплуатацию, и здесь все впечатляло. Мрамор, огромные потолки, хрустальные люстры, ковры… Настоящий храм знаний! А какие виды открывались из окон! Закачаешься. И все это построено за несколько лет. И сделал это народ, который еще двадцать лет назад насмерть сражался с фашистской Германией. Только-только заросли воронки от бомб, а СССР уже отправил первого человека в космос, развивает ядерную энергетику и строит вот такие шедевры. Сейчас страна на подъеме. Отставание от Запада минимальное. Все верят в недалекий коммунизм. В обществе зашкаливает социальный оптимизм. Яблони на Марсе? Легко! Помочь голодающим африканцам? Поможем! Пожалуй, этот социальный оптимизм лучше всего выражен в фильме «Я шагаю по Москве». Который только что снял Данелия. Пройдет еще двадцать с лишним лет, и все рухнет. Почему? Пока я поднимался на девятый этаж сектора «Е», этот вопрос молотом бился в моей голове.
В диетической столовой была огромная очередь из студентов. Она начиналась еще у лифтов в коридоре и извивалась по всему этажу. Делать было нечего, и я встал в хвост, состоящий из первокурсников. Несколько парней обсуждали противостояние тяжелоатлетов. Битва гигантов – Власов против Жаботинского. Инженер против студента. Первый уже несколько лет царствует не просто в СССР, а во всем мире в рывке штанги. Второй хочет свергнуть его. И сделает это уже летом на Олимпиаде в Японии. Миллионы людей будут с замиранием сердца наблюдать за этим противостоянием. В котором участвует еще один персонаж. Это тренер Жаботинского – Медведев. Которого, в свою очередь, лет пять назад Власов скинул с пьедестала самого сильного человека планеты. Интрига высшего уровня. Чего первокурсники не знают, так это того, что тяжелоатлетов у нас мощно колют. Это битва не только спортивная, но и фармакологическая.
Под размышления о судьбе спортсменов я добираюсь до раздачи. Беру салат «Витаминный» (6 копеек), украинский борщ (14 копеек) и котлетку с вареными макаронами (21 копейка). Ставлю на поднос компот из сухофруктов. Расплачиваюсь и ищу местечко, куда бы приземлиться. Все столики заняты, но, к моему счастью, замечаю Леву Когана, который призывно машет рукой. Рядом с ним мощно насыщается Дима Кузнецов. Его покатые плечи возвышаются над сидящими студентами.
Я усаживаюсь на единственное свободное место, начинаю с супа. Вкуснотища! Потом дело доходит и до салата со вторым.
– Как ты? – Кузнецов прикончил такую же, как у меня, котлету и удовлетворенно откинулся на стуле. Тот жалобно скрипнул.
– Лучше. Вика сказала в поликлинику заглянуть за освобождением.
– Виктория Петровна! – Лева назидательно поднимает палец.
– Я ее на свиданку позвал, – победно улыбаюсь парням. – Так что Вика.
– Вот это номер! – Коган озадаченно начинает протирать очки.
Димка просто одобрительно хлопает меня по плечу.
– Молодец, старик! Я и сам думал ее закадрить, да с Петровым не хотел ссориться. Мы с ним в футбол по четвергам и вторникам ходим играть.
– Она больше с Петровым не встречается. – Лева принимается за компот. Вылавливает ложкой сухофрукты, печально их рассматривает.
– Да это весь универ знает, – хмыкает Кузнецов. – Только вот Петров страдает, уже пытался извиняться. Так она его еще раз послала. При всех.
– Зад поднял, место потерял, – соглашается Коган. Сухофрукты признаны годными и отправляются в рот. – Давай, Рус, не жмись, стреножь кобылку.
– Фу, Лева, как пошло… – Я качаю головой. – Зачем так о девушке?
– Да не девушка она уже, – закипает еврей. – Зачем с Петровым в баню ходила??! Думаешь, он там серенады ей пел?
– А в любовь ты не веришь? – Кузнецов встает на мою сторону.
Я аккуратно, еле-еле делаю новый прокол в память Русина. И тут же дергаю сознание обратно. Трогаю нос. Крови нет. В памяти Алексея нахожу причину трепетного отношения Кузнецова к дамам. На журфак он попал благодаря Юленьке – дочке московского профессора и главной красавице курса. Дима после дембеля заехал посмотреть Москву. Прогуливался возле МГУ, а тут идет богиня. Развевающиеся белокурые волосы, осиная талия, балетная осанка. Юля шла подавать документы в университет. А заодно поразила в самое сердце нашего десантника. Тот устремился вслед. Все его попытки сразу познакомиться провалились. Юленька хорошо знала себе цену. Зато, к его удивлению, в приемной комиссии, куда он увязался за девушкой, его обнадежили. В верхах решили, что среди журналистов слишком много детей интеллигенции. И слишком мало рабочих и крестьян. Кузнецов был родом из деревни Лехтово Владимирской области. Служил. Имеет льготы. Приняли влет. С Юлей у него так и не сложилось – та встречается с каким-то приблатненным мгимошником, – зато зацепился в Москве.
Пока я учился пользоваться Даром, ребята успели поспорить о любви, поругаться, помириться.
– Парни, у вас какие планы на каникулы? – Я доел котлету и прислушался к организму. Тело ответило волной благодарности.
– Пойду стажером к отцу в «Правду», – тяжело вздохнул Коган.
– А чего такой грустный? – удивился Димон. – Главная газета страны. Всех узнаешь, контакты заведешь.
– Ага, буду бегать за водкой для корреспондентов. – Лева аккуратно вытер пальцы салфеткой, допил компот. – До реальных репортажей не допустят.
– Так это самый сложный жанр, – не согласился с Коганом я. – Начни с заметок, информашек.
– Там тоже, как говорят в капиталистических странах, конкуренция. Желающих много. И у всех стаж, опыт…
– Отец не поможет? – Я заметил в толпе студентов Юленьку. В белой кофточке и синей приталенной юбке та шла под руку с подругами и задорно смеялась. Димон сидел спиной и ничего не увидел. Коган сделал мне страшные глаза. Я кивнул в ответ. Не дурак, незачем бередить сердечные раны Кузнецова.
– Не поможет. Он у меня принципиальный. А ты куда, Димон? Домой в свое Ляхово?
– Что за Ляхово? – тут уже удивился я.
– Да наша деревня раньше Ляхово называлась, – богатырь смущенно потер лоб рукой. – В петровские времена ехал какой-то шляхтич на службу к царю. Заболел в наших местах. А болели раньше долго. Ну вот он и подзадержался. Да так, что дети пошли, внуки…
Мы засмеялись.
– Деревню начали называть Ляхово. Потом поменяли на Лехтово. Ну так типа благозвучнее. С поляками-то воевали много…
– Вот такая политически верная топонимика, – заумно согласился Коган.
Прямо как в анекдоте: «Идет форум ученых-этимологов в Италии. Разбирают топонимику названия слова «стибрили». Выступает итальянец и озвучивает гипотезу, что, мол, в Древнем Риме на берегу реки Тибр пасли коней. Ночью напали варвары и угнали с Тибра лошадей. Отсюда и пошло слово «стибрили». Подымается рука в зале, и советский ученый, встав, задает вопрос:
– А из города Пизы у вас, коллега, ничего не пропадало?»
– Так что, в Ляхово? – я повторяю вопрос Левы.
– Не, я тут в приемной комиссии подвязался. – Кузнецов одним мощным глотком допивает компот. – Буду абитуру гонять, шпоры отбирать на экзаменах. Ну и деньжат подзаработаю. Обещают полтинник заплатить.
Димон встал, собрал на поднос посуду и понес ее на специальный столик.
– Ага, как же, за полтинником он погнался, – не согласился тихо Лева. – Юленька его в приемке работает.
– Он по ней все еще сохнет?
– Больше прежнего. Обещал поймать этого мгимошника и… – Лев использовал матерное словцо.
Странно было слышать мат в устах сверхкультурного Когана. Но еще страннее было встретить такие шекспировские страсти на журфаке.
– Ну а ты что будешь делать летом? – Лева тоже стал собирать посуду.
А я, мой друг, собираюсь летом начать спасать страну. Именно для этого меня сюда послали. Стаккато Слова внутри оглушительно взвыло. Да слышу я, слышу. Эх, если бы вы еще понятнее могли изъясняться… Но высшие силы мою жалобу проигнорировали.
– Есть некоторые планы, чуть позже расскажу. – Я встал, потянулся. – Пошли на пару?
К свиданию с Викой я решил подойти со всей ответственностью. Сразу после последней пары научного атеизма отправился в сектор «И». Тут находилась общага журфака МГУ, где мы с Димоном и жили. Десятый этаж, комната на трех человек. Этот третий товарищ – толстый, одышливый парень с забавным именем Индустрий уже сидел за своим столом и корпел над учебниками. На нас не обратил никакого внимания. Оно и понятно. От сессии до сессии студентам живется весело. А вот во время…
Я снял рубашку, которую все-таки успел заляпать кровью, и оглядел комнату. Минимализм правил бал. Три койки, три стола. Три шкафа обыкновенных из ДСП, тумбочки. Рукастый Димон повесил всем полки над столами. Над постелью Индустрия прилеплена вырезка из журнала с очаровательной Брижит Бардо. Я залез в свой шкаф. Очень бедненько. Одно полупальто черное фабрики Володарского, один костюм «Большевички», узкий черный галстук. Единственная пара ботинок «Скороход». Ах, нет. Еще хромовые сапоги! Мечта любого сержанта перед дембелем. От армейских времен остались военные штаны и гимнастерка защитного зеленого цвета. Несколько белых рубашек, черные сатиновые трусы и майки-алкоголички. Кеды. Вот и весь гардероб Русина.
Взяв чистое белье и закапанную рубашку с платком, отправляюсь в душ. Все удобства, включая обширную кухню с несколькими газовыми плитами, – в конце коридора. Раздеваюсь, рассматриваю себя нового в зеркале. А что? Очень даже ничего. Высокий, мускулистый. Правильное славянское лицо, серые глаза. На правом плече – синяя татуировка. Щит, меч, звезда. Наколото качественно, с деталями.
После помывки и постирушек бреюсь, выливаю на ладони «Шипр», который нахожу в своей тумбочке, растираю лицо. Здесь же, в тумбочке, нахожу часы «Победа», желтую «Спидолу» и фотоаппарат «Зенит». Нет, зря я жаловался на бедность. Радиоприемник «Спидола» – это сейчас самый шик. Его только начали выпускать в Риге, и самые крутые пацаны по всему Союзу ходят с ним по улицам, ловят музыку. Цепляю на левое запястье часы. Шесть тридцать. Есть полчаса свободного времени.
Димон тоже уселся за учебники, Индустрий переписывает конспекты. Некоторые преподаватели требуют представлять доказательства посещения лекций на зачетах.
Я ложусь в постель, закрываю глаза. Главное, не перетрудиться и опять не вызвать кровотечение. Глубокий вдох, делаю сильный прокол в прошлое Русина. Сознание летит через месяцы и годы, выныривает в Новом Осколе. Пряный запах лип, меловые разрезы, куски которого я зачем-то тяну в рот. Отец – Иван Савельевич – служащий железной дороги, родом из-под Челябинска. Вижу я его редко. Мне неприятно, когда он целует меня узкими холодными губами в щеку. Щетина отцовской бороды колет так, что я плачу. Иван Савельевич именует меня ласково – «сыночка». Это все, что я про него помню.
Мама – Наталья Ильинична – худенькая, тоненькая женщина с пышной гривой рыжих волос. На белом бледном лице горят веснушки. Я прижимаюсь к ней во сне – мы спим в одной кровати, – и мне хорошо. Грудного молока не хватает, и я реву. Плачу часто и много. Помогать маме приходит бабушка. Ворчливая женщина в черном вдовьем платке. Она меня ловко подбрасывает вверх, ловит. Я смеюсь. Мама – швея, и очень хорошая. Работает на дому. Почти все время я провожу с ней, ползая по полу. Швейная машинка стрекочет, играет репродуктор.
«…Сегодня, в четыре часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны германские войска напали…» – слышу объявление Молотова по репродуктору. Русин еще слишком маленький, чтобы что-то понимать, но у меня взрослого захватывает дух. Исторический момент. В квартире кроме мамы – заказчица. Толстая визгливая женщина. Мы все вместе слушаем главу советского правительства. Женщины плачут.
Началась война. Отец имеет бронь как железнодорожник, но с первых дней уходит на фронт. Он служил еще в финскую, имеет звание старшего лейтенанта. Мама опять плачет. Клиентов становится совсем мало, немец жмет. Страна теряет город за городом, в Новом Осколе объявляют эвакуацию. Бабушка уезжать отказывается, но мать скрепя сердце едет в Караганду. Зима 1942 года проходила ужасно.
Жили мы в каменном доме барачного типа – у нас фанерой отгорожен целый угол. Однако убогое жилье да и быт не отражались на настроении жильцов, я не вижу в памяти Русина крупных ссор.
Изредка мама получает письма от отца. Это праздник. Уже две соседские семьи получили похоронки. Почтальоншу ждут с нетерпением и страхом. Отец дорос до майора, в 44-м году уже командует полком. О войне пишет скупо, да и цензура лютует – вымарывает из писем целые куски.
Мы переезжаем в Самарканд. Мама устраивается секретаршей в хлопковый трест. По большому блату – шьет для жены начальника треста. Наше материальное положение улучшается, живем мы в комнате в маленьком частном доме. Зимуем хорошо, сытно.
1945 год, апрель. Приходит похоронка на отца. Мать воет так, что сбегаются все соседи. Погиб при штурме Зееловских высот. Перед самой Победой. Жуков слишком торопился взять Берлин. Мать резко сдает, перестает за собой следить. День Победы встречаем в каком-то странном оцепенении. Все радуются, бегают смотреть салют, а мы сидим в темноте и лишь вздрагиваем от выстрелов.
Но жизнь берет свое. Постепенно горе, нет, не проходит, но становится меньше. Мама работает, я готовлюсь к школе. Учу алфавит, учусь считать.
Возвращаются фронтовики. Очень много покалеченных, инвалидов. Они сидят на скамейках у домов, часто пьяные. Добиться от них рассказов о войне невозможно. Отворачиваются, отшучиваются.
Спустя год в Самарканд приезжает армейский друг отца Степан Денисович Мезенцев. Представительный мужчина лет сорока. Рано поседевший. На лице – аж два шрама от осколка. Он полковник, из военной контрразведки. Которая раньше была Смершем.
Начинал служить вместе с отцом, но потом фронтовые пути разошлись. Был на похоронах, поэтому у Мезенцева остались кое-какие личные вещи Русина-старшего. Фотографии, ордена… Передает все матери, утешает как может. Мне достается крутой немецкий перочинный нож. Все окрестные деревья тут же покрываются буквами, что я изучаю в букваре.
Мезенцев проводит в Самарканде неделю своего отпуска. Мать оживает на глазах. По вечерам заводят патефон с записями песен Вари Паниной, модной исполнительницы цыганских романсов, короля городских шлягеров Юрия Морфесси, певца Александра Вертинского. Меня выставляют вон из комнаты. Мне, взрослому, нетрудно догадаться, чем они там занимаются.
Мезенцев уезжает, обещает нас забрать в Москву. Но этого не происходит. Мать сначала летает словно на крыльях, идет на курсы повышения квалификации. Из секретарши в тресте ее переводят в делопроизводители. Жизнь налаживается, появляются новые клиенты. Мама шьет каждый вечер. От Мезенцева ни слуху ни духу. Так проходит год. Наступает первое сентября, я иду в самаркандскую школу. Маме все хуже. Она каждое утро проверяет почтовый ящик. Ничего. По ночам слышу, как она плачет в подушку. Пытаюсь по-детски ее утешать, вроде бы помогает.
И тут случается страшное. Мама заболевает брюшным тифом. Вода в Средней Азии ужасная, можно пить только из глубоких колодцев либо чай. У матери горячка, она бредит. Ее срочно забирают в больницу. Меня берет к себе соседка. В школу я не хожу, каждый день бегаю к больнице. К маме меня не пускают. А через неделю на крыльцо выходит покурить высокий врач в белом халате. Русский. Замечает меня, подзывает к себе.
– Вот что, Русин… – врач прячет глаза. – Сюда больше не ходи.
– Почему?
– Умерла твоя мама. Извини, парень.
На меня обрушивается страшный удар. Я стою молча и не могу произнести ни слова. Врач хлопает по плечу, выкидывает сигарету и уходит. Я все еще стою в ступоре. Потом прорываются слезы. Это даже не плач, а какой-то рев, который скручивает меня и заставляет упасть на землю. Подходят госпитальные нянечки, пытаются успокоить. Кто-то отводит домой. Там я провожу неделю. Не выхожу из комнаты, почти не ем. Обеспокоенная соседка вызывает сотрудницу из комиссии по устройству детей при местном Совете. Меня отправляют в детский дом, в котором я проведу всю юность.
– Русин, очнись!
Кто-то меня тормошит, и я открываю глаза. Надо мной стоит обеспокоенный Димон. Рядом переминается Индустрий.
– Ты так стонал во сне! Я решил тебя разбудить.
Трогаю нос, сухо. Смотрю на часы. Я был в отключке всего четверть часа! А такое ощущение, что прожил целую жизнь. За окном уже стемнело, пора выдвигаться на «Маяковскую».
– Спасибо! – начинаю собираться на свидание. Брюки, ремень, чистая рубашка.
Московское метро – еще один Храм. Только уже транспортный. Опять много мрамора, мозаичных панно, скульптур. Лет через двадцать, когда в столицу потянется первый устойчивый ручеек иностранцев, туристов будут водить сюда на экскурсии. Бросив в автомат пять копеек, я уже через полчаса оказываюсь на «Маяковской». Тут правит бал соцреализм. На картинах парашютисты, спортсмены, монтажники-высотники и, конечно, девушка с веслом. Куда без нее? Народу совсем мало, час пик уже прошел. Зато половина тех, кого я вижу, – в шляпах или в кепках. В столице все еще принято носить головной убор.
По полупустому эскалатору, порой переходя от нетерпения на бег, я поднимаюсь в город. Надо еще успеть купить цветы.
На площади Маяковского многолюдно. У памятника поэту стоит целая толпа народу, какой-то мужичок в твидовом пиджаке взобрался на постамент, машет руками и что-то декламирует. Публика отзывается аплодисментами. Подхожу ближе, прислушиваюсь.
- За ночь наметился легкий ледок,
- Хоть обещали грозу.
- – Что ж ты, мой песик, грызешь поводок?
- Я-то ведь свой не грызу!
Новая порция хлопков, одобрительный свист. Я разглядываю людей – молодые москвичи и москвички, интеллигенция. Одеты хорошо, многие в фетровых шляпах, с модными шейными платками а-ля Евтушенко. Понятно. Первый советский «майдан». Где-то тут в толпе суетятся и первые отечественные диссиденты. Буковский, Бокштейн и другие.
Летом 1958 года открыли памятник Маяковскому. На официальной церемонии советские поэты читали свои стихи, а по окончании стали читать желающие из публики. Такой неожиданный, незапланированный поворот всем понравился. Поэты и публика договорились встречаться регулярно. Сначала стихи носили невинный характер. Но встречи быстро политизировались. Читали стихи забытых и репрессированных поэтов, свои собственные, иногда возникали дискуссии об искусстве, о литературе. Создавалось что-то наподобие клуба под открытым небом, вроде Гайд-парка. Такую самодеятельность власть терпела довольно долго, но потом все-таки прикрыла собрания. Прикрыла вежливо. Вызывали поэтов и писателей в горкомы комсомола, «воспитывали» через Союз писателей. Увещевания сработали. Но диссиденты «почуяли кровь» и возобновили встречи через подпольные литературные журналы.
- Это – я,
- призывающий к правде и бунту,
- не желающий больше служить,
- рву ваши черные путы,
- сотканные из лжи.
С Маяка донеслась новая порция стихов. На сей раз читал какой-то нечесаный худощавый парень, которому громко аплодировали экзальтированные дамы. Поэт, судя по выпученным глазам, прямо сейчас был готов «рвать путы, сотканные из лжи». Случайные москвичи, что шли мимо памятника, лишь в раздражении качали головой. Некоторые останавливались и начинали укорять молодежь. Но та отвечала лишь свистом и гоготом.
В апреле 61-го на Маяке состоялось целое побоище. 12-го числа в космос полетел первый человек. Первый советский[1] человек. Диссиденты, разумеется, не могли оставить такой повод без внимания и назначили чтения. Хотя их по-хорошему предупреждали, предлагали другие площадки. Но они пошли ва-банк. Чтения начались, и оперативники бросились «винтить». Были арестованы, но вскоре отпущены многие участники.
Уже в октябре, прямо перед началом XXII съезда КПСС, диссиденты вновь пошли на обострение. Объявили о чтениях уже на трех (!) площадках в Москве. Тут уже власть не вытерпела. Зачинщиков похватали и отправили в психиатрические лечебницы. Так, Буковскому пытались поставить диагноз «вялотекущая шизофрения». Дело в том, что Хрущев по неосторожности объявил, что диссидентов в СССР нет. Лишь психически больные люди. Ну и правда. Если следующее поколение, т. е. та самая молодежь, что сейчас собралась на Маяке, будет жить при коммунизме, то разве здоровый человек откажется от такой возможности? Будет призывать «рвать путы, сотканные из лжи»? Наверное, он просто больной. Так была заложена основа карательной психиатрии, которая потом очень сильно аукнется Союзу.
– Комсомолец? – Ко мне подошел невысокий коренастый парень в костюме без галстука. В его внешности было что-то восточное. То ли круглое лицо, то ли узкие глаза. Делаю мгновенный прокол уже в собственную память. Ну, здравствуй, Юлий Пак. Наряду с Окуджавой и Визбором – один из лучших советских бардов. А еще диссидент – клейма ставить негде. Хранит запрещенную литературу, совсем скоро начнет вести антисоветский журнал «Хроника текущих событий». А где же Буковский? Они вместе с Паком организовывали все эти встречи. «Обменяли хулигана на Луиса Корвалана» – знаменитая шутка из 70-х. Буковского действительно обменяли на чилийского коммуниста. После чего тот начал «качать режим» уже из-за рубежа. Устраивал демонстрации, пресс-конференции…
– Комсомолец! – я согласно кивнул, взглянув на значок на отвороте рубашки.
– Добро пожаловать! – Пак располагающе улыбается. – Мы рады, что такие парни, как ты, заглядывают к нам «на огонек». Поверь, среди нас тоже много комсомольцев и даже членов партии…
– Даже так? – Фоном к искренней улыбке Пака идут стихи все того же нечесаного поэта:
- …и свободного общества образ
- Скоро всем нам откроет глаза.
- «И да здравствует частная собственность!» —
- Он, зардевшись, в лицо им сказал…[2]
Новый взрыв аплодисментов. Да такой, что я даже не слышу слов Пака. Тот что-то говорит, а у меня происходит прорыв в сознании. СЛОВО наконец визуализируется. Горящими строчками. Я начинаю протискиваться через толпу.
– У вас любой может читать стихи? – Я поворачиваю голову к Паку.
Тот удивлен.
– Да, любой.
Натыкаюсь на некоторое подобие оцепления. Молодые парни стоят, держась за руки, окружив постамент с Маяковским. Пак делает знак, и меня пропускают внутрь. Нечесаный поэт, раскланявшись, уходит. А я забираюсь на постамент. На меня смотрят сотни глаз.
- Из вас не сделают героев,
- Вас не отправят в лагеря,
- Костюм «страдальцев и изгоев»
- Вы на себя пошили зря…[3]
…Громко, с выражением я читаю слегка переделанные стихи Фролова-Крымского.
- Как омерзительный глашатай
- С трибуны радиочастот
- Вы извергаете ушаты
- Своих душевных нечистот…
Со стороны толпы раздаются первые крики и свист. Зато простые москвичи, что собираются вокруг диссидентов, начинают одобрительно кивать. Я прибавляю голоса:
- …Саму историю исправить
- И сделать все наоборот:
- Разоружить и обезглавить,
- И в быдло превратить народ!
Диссиденты начинают еще громче свистеть, зато москвичи машут мне руками, сдвигаются ближе. Начинается толкотня, оцепление посматривает на Пака. Не пора ли меня сдергивать с постамента? Появляется и милиция. Несколько патрулей выдвигаются в центр площади. Ими явно руководят какие-то мужчины в цивильном, с короткими стрижками. Конторские? Пора заканчивать:
- В который раз простив измену
- Нечистоплотных чад своих,
- Мы – коммунисты – вышли на арену —
- И мир восторженно притих.
- А вам беспамятство – расплата,
- Его заслуживает сброд.
- И даже «славы Герострата»
- Не удостоит вас народ!
Последние строчки приходится кричать – шум на площади нарастает, ко мне прорываются несколько парней, пытаются сдернуть с импровизированной сцены. А их уже «винтят» подоспевшие милиционеры. Я вижу, как Пак шмыгает в толпу и растворяется среди своих. Мужчины с короткими стрижками выводят меня к метро. Один из них, загоревший, высокий, с белоснежной улыбкой, качает головой:
– Ну ты и задал им! А заодно и нам работы прибавил.
Я кручу головой, пытаясь увидеть Вику. На часах уже восемь пятнадцать. Горю синим пламенем. Я не только задал работы милиции, но и себе проблем прибавил. Как мне теперь встретиться с девушкой? И как объяснить опоздание и отсутствие цветов…
– Ищешь кого?
– Знакомую. Договорились о свидании, а…
– А ты вместо свидания тут Ходынку решил устроить, – смеется белозубый. Глядя в его блестящие ботинки, можно бриться.
– Как выглядит твоя подружка?
В толпе раздаются свистки, двое милиционеров тащат какого-то мужика. Явно поддатого. Народ не торопится расходиться. Москвичи спорят с диссидентами и поэтами, патрули не препятствуют.
– У нее светлые волосы, карие глаза. А вы…
– Мы кто надо, – усмехается мужчина. В руках у него появляется красная книжечка. Старший лейтенант КГБ Андрей Литвинов. Книжечка исчезает, мне протягивают руку. Жму ее.
– Ну ты им и задал! Давно было пора этот гнойник вскрыть. Тебя-то как зовут, поэт?
Я все еще обеспокоенно кручу головой, пытаясь высмотреть Вику. Увы, ее не видно.
– Для рапортов-отчетов? – Я перестаю вертеться и смотрю прямо в глаза лейтенанту.
– И для них тоже, – спокойно отвечает тот. – Но стихи отличные, с удовольствием купил бы твой сборник.
– У меня нет изданных книг, – я пожимаю плечами. – Русин. Алексей.
Достаю из кармана студенческий, тот перекочевывает в руки Андрея. Он внимательно его разглядывает, подзывает жестом одного из милиционеров. Неужели меня заберут?
– Виталий, объяви по оцеплению. Светловолосая девушка, карие глаза… Что еще? – Лейтенант оборачивается ко мне.
– Лет двадцати четырех, высокая.
Милиционер уходит. Лейтенант отдает мне студенческий, хлопает по плечу:
– Если еще здесь, найдем.
Так и происходит. Через пять минут ко мне подводят растерянную Вику. На ней платье синего цвета, сумочка на ремне прижата к бедру, светлые волосы стянуты сзади в хвостик. На шее кулончик в виде сердечка. Особой косметики на лице я не замечаю, лишь губы слегка тронуты красной помадой.
Лейтенант одобрительно разглядывает Вику, а та ошарашенно переводит взгляд с меня на милиционеров вокруг.
– Извини, я без цветов, – развожу руками.
– Это ты там был? У памятника? – девушка смотрит на меня широко раскрытыми глазами.
– Статья 79-я УК. Организация массовых беспорядков, – смеется Андрей. – От двух до пятнадцати лет исправительных работ.
Милиционеры вокруг улыбаются, подмигивают мне. А я не знаю куда себя деть. Сейчас провалюсь от стыда под землю.
– Ладно, Пушкин, – лейтенант еще раз хлопает меня по плечу. – Бери свою Наталью Гончарову и идите уже. И постарайтесь больше не попадать в истории.
Я благодарно жму руку Литвинову и тяну Викторию в сторону улицы Горького. Некоторые москвичи по пути подходят ко мне, говорят комплименты. Спрашивают фамилию. Отшучиваюсь, ускоряя шаг. Вике на каблуках трудно поспевать за мной, приходится сбавить темп. Но мы уже ушли с площади, и становится поспокойнее.
– Как насчет мороженого? – Я вижу вывеску «Космос» на здании, где раньше был знаменитый на всю столицу «Коктейль-холл». Место сборища всех стиляг Москвы и Московской области. Стиляг уже почти нет, да и «Коктейль-холл» закрыли – на его месте теперь известное кафе-мороженое. С обязательной очередью.
– Давай, – неуверенно соглашается Вика. – А что ты там читал? Ну, у памятника. Я далеко была, не расслышала.
Девушка просто лучится любопытством. Мы встаем в конец очереди.
– Так, стих один. Провокационный. Уж больно специфическая публика там собралась. Захотелось их слегка выпороть.
– За что?
– За то, что пытаются разрушить то, что не они строили, – расплывчато ответил я. Стаккато СЛОВА в голове стихло, я перевел дух.
– Ты пишешь стихи?
Я серьезно задумался. В том, что надо пробиваться во власть, – у меня сомнений не было. Только наверху, в «капитанской», удастся переложить руль корабля под названием СССР на другой курс. И отвести его от острых рифов, куда он на всех парах мчится. Но как попасть в Кремль? Идти по партийной линии, делать карьеру? Долго. Через десяток лет страна свалится в застой, и стариков из Политбюро трактором не выдернешь из Кремля. Стать популярным певцом? А-ля Кобзон? Сильно сомневаюсь в своих музыкальных талантах. Песни-то из памяти надергать не трудно. Но как без голоса их петь? Можно двинуться по спортивной линии. Парень я крупный, сильный. Пойти, например, в хоккей. Брежнев, кажется, его особенно любит. Стать знаменитым спортсменом, потом вступить в партию, прыгнуть в депутаты. Нет, все равно долго. Да и в процессе – никакого влияния. Вариант, признаться, я вообще не рассматриваю. Гарантированная психушка.
– Пишу. А еще художественную прозу.
– «Про заек»? – заржал кто-то сзади. Я обернулся и нос к носу столкнулся со странно одетым долговязым парнем. Узкие черные брюки-дудочки, красный пиджак на одной пуговице, яркий галстук-шнурок. Подняв взгляд, я рассчитывал увидеть стиляжий кок на голове, но черные волосы шутника были лишь прилизаны каким-то гелем. Ясно. Новая поросль стиляг – битломан.
– Да, клоун, я прозаик. А ты кто? – Кулаки сжались сами собой, я сделал шаг навстречу.
Тот сразу включил заднюю.
– Эй, мужик, брейк! Я же только пошутил! – На нас стали оглядываться из очереди. «Клоун» резко развернулся и помчался вихляющей походкой по улице.
– Леш, плюнь на него! – в мою руку вцепилась Вика. – Это же стиляги. У них тут «Бродвей».
– Что за Бродвей?
– Они так улицу Горького называют.
– Это уже не стиляги, Вика, – я тяжело вздохнул. – Это новая поросль. Битломаны, рок-н-ролльщики.
– Кто?? – Девушка еще раз взглянула вслед вихляющему.
– Новое направление в музыке. – мы практически подошли ко входу в кафе. – Точнее, оно не совсем новое, появилось еще в конце сороковых в США. Но сейчас в него вдохнули свежую струю. Элвис Пресли, «Битлз»…
– Что-то слышала, – Вика наморщила лобик. – У нас в общаге девчонки много чего слушают.
Мы вошли внутрь, и официантка в белом переднике проводила нас за столик на втором этаже. По дороге я разглядывал большое «космическое» панно на стене. Очень стильно все сделано. Мы заказали кофе, несколько порций мороженого. Я решил попробовать все. И фирменный «Космос» – два шарика, политых шоколадом и посыпанных орешками (60 копеек), и «Марс» (то же самое, но без орешков), и «Солнышко» (с абрикосовым вареньем).
Мы принялись поедать главную советскую сладость и болтать. Выяснилось, что Вика не москвичка, окончила восемь классов, училась в медицинском училище. Приехала из Воронежа поступать на биофак. Но провалила экзамены. Ей удалось пристроиться медсестрой в универе. Живет в общаге, в этом году планирует поступать заново. Несколько раз Вика просила почитать «мои» стихи, но я каждый раз отнекивался. Но потом все-таки сдался. Выбрал из позднего Высоцкого:
- Люблю тебя сейчас
- Не тайно – напоказ.
- Не «после» и не «до» в лучах твоих сгораю.
- Навзрыд или смеясь,
- Но я люблю сейчас,
- А в прошлом – не хочу, а в будущем —
- не знаю…[4]
– Слушай, классно же! – Вика была в восторге. Окрестные столики тоже напряженно слушали меня. – Это надо обязательно издавать. Стихи уровня Евтушенко и Вознесенского.
Ага, два главных советских поэта из трех. Колесят по всему миру, представляют отечественную литературу. В СССР собирают целые залы. Их стихи обсуждают, о них спорят. Возникают даже стихотворные «батлы». Третий «главный» советский поэт, Сергей Михалков, автор советского гимна (и даже не одного) всего год назад «выпорол» своего молодого коллегу Евтушенко за неподобающее поведение во Франции:
- Ты говорил, что ты опальный,
- Негосударственный поэт,
- И щурил глаз в бокал хрустальный,
- Как денди лондонский одет.
- Ты говорил: «У вас медали,
- Ваш труд отметила страна,
- А мне не дали – я в опале,
- Таких обходят ордена».
- …И те, которым безразлична
- Судьба твоя, звезда твоя,
- С тобой целуются цинично,
- Как закадычные друзья. —
- Наш прогрессивный! Самый честный! —
- Мы слышим их нетрезвый клич,
- Но ведь бывает, как известно,
- И прогрессивный паралич!..
Евтушенко ответил:
- Не разглядывать в лупу
- Эту мелочь и ту,
- Как по летнему лугу,
- Я по жизни иду…
– Возможно, ты и права, – я задумался о своем пути «по жизни». Литературная стезя не так уж и плоха. Малая форма, большая… Цензура? Интриги, травля «а-ля Пастернак»? Зато писатели в Союзе действительно «инженеры человеческих душ». Того же Евтушенко тут же «простили» после Франции за отличную поэму про Братскую ГЭС. Сколько комсомольцев отправились на новые стройки после прочтения его стихов?
– Пойдем, прогуляемся, – я достал кошелек, расплатился. Денег оставалось всего с гулькин нос. С финансами надо было что-то срочно решать.
В столице окончательно стемнело, зажглись фонари. На «Бродвее» было битком. Москвичи фланировали по улице Горького, толпились возле витрин магазинов. Особенно много народу было возле Елисеевского магазина. Тут было полно молодежи, а особенно стиляг. Они кучковались, слушали музыку из «Спидол», дурачились. В тот момент, когда мы проходили мимо, один из прохожих, пожилой ветеран, судя по планкам на пиджаке, начал выговаривать что-то тому самому долговязому парню, что шутил надо мной.
– …И для этого мы Москву защищали, чтоб такие обезьяны по улицам шатались?!
Долговязый карикатурно развел руками, принялся «ухать». Его друзья начали гоготать, свистеть. Старик плюнул и, опираясь на трость, пошел прочь. Ему вслед тут же пристроились стиляги. Образовалась целая очередь, идущая на цыпочках. Ветеран остановился возле витрины, покачал головой. Вся очередь начала карикатурно трясти головами. Старик обернулся. Все тут же сделали вид, что тут случайно, начали рассматривать небо. Ветеран шаркающей походкой двинулся дальше. Стиляги тоже начали шаркать вслед. Вика сжала локоть моей руки. И тут у меня натурально сорвало крышу.
В несколько огромных скачков я добрался до начала «очереди». Долговязый оглянулся, в его глазах начало появляться понимание, но я уже бил со всего размаха правой. Под кулаком треснула челюсть, стиляга с воплем полетел на асфальт. Вокруг раздались крики, а на меня уже летел толстый парень с зонтиком. Наивный! Я сделал шаг в сторону, перехватил руку и впечатал колено в его «солнышко». Толстяк в ботинках на высокой подошве со стоном упал на землю, и его вытошнило. На меня навалились сразу несколько человек. Один с хэканьем и криком «гаси жлоба» ударил прямым в голову.
Глава 2
И. Губерман
- Опыт не улучшил никого;
- те, кого улучшил, – врут безбожно;
- опыт – это знание того,
- что уже исправить невозможно.
Я еле успел увернуться, кулак проехал по скуле, разрезав перстнем кожу до крови. Его товарищ попытался схватить меня сзади за корпус. Еще один наивняк. Русина хорошо учили уходить от таких захватов. Притоп каблуком по стопе заднего, новый крик и хруст. Руки разжимаются, выворачиваю правую руку стиляги за запястье в обратную сторону, с громким щелчком ломаю что-то в предплечье. Мельком вижу круглые глаза Виктории. Ее ладони прижаты ко рту, рядом толпятся москвичи, слышны свистки милиции.
Думать особо некогда, на меня нападают сразу трое. Мешая друг другу, они суматошно бьют руками и ногами. Я блокирую, вхожу в клинч. Чей-то ботинок попадает в витрину Елисеевского. Та лопается со звоном, обдавая нас осколками. Кому-то пробивает голову, и на меня хлещет кровь. Наконец появляется милиция. Сразу несколько сотрудников начинают растаскивать нас, валя на землю. Я не сопротивляюсь. На меня надевают наручники и волокут к «козлику», чье завывание уже собирает просто огромную толпу. Вика бежит рядом. Ее руки все так же прижаты ко рту, прическа растрепалась.
Из скулы течет кровь, рубашка вся в красных пятнах. Нас прислоняют к милицейской машине, начинают обыскивать. Оперативники притаскивают все новых стиляг. Некоторых – долговязого и толстяка – несут на руках. Подъезжают еще несколько служебных автомобилей, в том числе две «Скорые». От обилия милицейской формы начинает рябить в глазах.
Сижу в пятидесятом отделении милиции. Местные оперативники называют его ласково «полтинник». Весь обезьянник забит стилягами, мне выделили отдельный кабинет. Судя по плакатам и стенгазете, тут проводят лекции о политической обстановке. Рядом Вика, которая прижимает платок к моей скуле. Кровь уже остановилась, но я выгляжу все равно как объевшийся вампир.
– А ты, Русин, оказывается, хулиган, – Вика уже успокоилась и даже начала подтрунивать надо мной.
– У чемпиона по боксу берут интервью, – отвечаю я девушке анекдотом. – Он говорит, как и положено, медленно, над каждым ответом подолгу думает: – Вот, если вы заходите вечером в свой подъезд, – спрашивает журналист, – а там темно и вас ждет хулиган. Что вы будете делать? – Ну… Я хук справа в голову – он падает. – А если два хулигана? – Ну… Я первого хук справа в голову – первый падает. Второго снизу в корпус – второй падает. – А если три хулигана? – Ну… Я первого хук справа в голову – первый падает. Второго снизу в корпус – второй падает. – А третьего? – Третьего? Ну… третьего у меня день рождения.
Сзади раздается громкий смех. В дверях стоит Литвинов. Его смеху вторит Вика. Один я криво улыбаюсь. Скула болит, как бы не пришлось зашивать.
– Просто красавец! – Гэбэшник входит и усаживается напротив меня. – Я был уверен, что мы увидимся, но чтобы так скоро?!
– Что с ним будет? – обеспокоенно спрашивает Вика.
– С ним? Ничего. Даже благодарность объявим. Свидетелей уже опросили, наш поэт пресек хулиганский поступок. Хотя методы у тебя, конечно, Русин…
Мы молчим.
– Не думал пойти к нам, в контору? – внезапно спрашивает Андрей. – Парень ты боевой, имеешь награды. Я уже навел справки. Служил на турецкой границе, метким огнем из автомата сбил шпиона, который пытался ночью перелететь контрольную полосу на легком планере. Как ты, кстати, его в темноте заметил?
– Случайно.
Это событие я успел мельком рассмотреть в памяти Русина.
– Он все верно рассчитал. Перелетал темной облачной ночью. Но тут выглянула луна, ну и я стрельнул на всякий случай. Попал.
– Как же он садиться собирался? – удивилась Вика.
– У него мощный фонарь на поясе был, а в тылу нашей заставы длинное колхозное поле начиналось…
Я пожал плечами.
– Так что? Сделать мне звоночек?
Оно мне надо – работать в КГБ? Сначала училище, потом карьера службиста…
– Нет, спасибо, – я покачал головой. – Буду полезен Родине в другом качестве.
– Это в каком же?
– Скоро узнаете, я даже не сомневаюсь. – Литвинов тяжело вздыхает: – Ну что ж… Тогда вы свободны, твой протокол допроса я из отделения изыму, для суда над стилягами будет достаточно показаний свидетелей. Вот, держи мой телефон.
Андрей нацарапал на бумажке номер. Протянул ее мне:
– Будет что-нибудь интересное, звони.
– А что именно считать интересным? – удивился я, пряча бумажку в изгвазданный карман рубашки.
– «Кортик» Рыбакова освежи на досуге, – Андрей встал, подмигнул Вике.
Мы вышли из отделения милиции, медленно, держась за руки, побрели в сторону метро «Площадь Свердлова».
– Успеваем? – Вика задумчиво глядела вдаль.
Я посмотрел на часы.
– Успеваем. Еще сорок минут до закрытия.
– Не дергайся! Я сказала, не дергайся!
Вика все-таки решила зашить мне порез на скуле. После того как мы вернулись в МГУ, потащила в медицинский кабинет. Открыла его своим ключом, достала шовный материал.
– Нет, ты точно пограничником был? Не дергайся!
– Ты бы хоть обезболила, – я скрипнул зубами. Зашивала Вика меня «по-живому». Единственное, что меня отвлекало от боли – красивые ножки девушки под коротким белым халатом. И когда успела переодеться? Я только снял заляпанную и порванную рубашку, а она уже начала надо мной колдовать в халатике.
– Нету сейчас новокаина. Потерпишь.
Вика склонилась надо мной, и ее грудь оказалась в паре сантиметров от моего лица. От девушки приятно пахло какими-то цветочными духами. «Красная Москва»? Я не выдержал и запустил одну руку путешествовать по ее правой ноге, задирая халат вверх. И тут же получил по здоровой щеке пощечину.
– Русин! – Вика отстранилась и гневно на меня посмотрела. – Я не какая-то тебе там…
– Извини, не выдержал, – я убрал руку, вздохнул. – Стресс после схватки.
А еще гормоны молодого тела. Как далеко они заведут меня?
Вика внимательно посмотрела на меня. Я тут же изобразил на лице хоть и с трудом из-за пореза, но раскаяние.
– Ладно, прощаю тебя, – девушка вновь склонилась надо мной и снова принялась шить. Локоны ее волос приятно щекотали шею. Внутри меня нарождался прямо какой-то вулкан!
– На сестринских курсах преподаватель рассказывала, – Вика хихикнула, – что во время войны, после боя, у раненых часто было возбуждение. Ну, половое… Его без руки несут, а он второй, здоровой, за попу медсестру хватает. Все, я закончила.
Вика бросила в кюветку специальный медицинский пинцет и остатки шовного материала.
– Некоторое время будет небольшой шрам.
Я поднялся, подошел к зеркалу. Красавец! Морда в крови, на теле появляются первые синяки.
– Ничего, шрамы украшают мужчин. – Вика зашла за ширму и начала переодеваться. Только большим усилием воли я заставил себя не шмыгнуть следом. Включил воду, начал аккуратно умываться. Раковина тут же стала красного цвета.
– Русин, ты же понимаешь, что Андрей тебя вербовал? – из-за ширмы раздался голос Вики.
Вот уж не думал, что девушка окажется настолько сообразительной.
– Один раз сообщишь органам, второй… Коготок увяз, птичке конец. Станешь осведомителем.
М-да… Сталинские репрессии еще не забыты, к органам отношение… неоднозначное. Не было ли в Викином роду репрессированных? И ведь не задашь такой неделикатный вопрос.
– Понимаю. Но давай взглянем на это sub speсie aeternitatis.
– Что?
Моя латынь привела к тому, что полураздетая девушка выглянула из-за ширмы. На лице застыло удивление. Я же тем временем разглядывал ее грудь в бежевом бюстгальтере. Точно трешка!
– Это на латыни. «С точки зрения вечности».
– Я-то знаю латынь, а ты откуда ее знаешь?
– Изучал римские афоризмы.
Ложь во благо оправдывает мои великие цели? Вечный вопрос.
– Так вот… Органы госбезопасности нужны государству? Нужны. Представь, что страна – это человеческое тело. У нашего организма есть защитная система. Это лейкоциты. Чем лучше работает иммунная система, тем здоровее тело. Согласна?
Покрасневшая от моего взгляда девушка исчезла за ширмой.
– Ну допустим, согласна.
– Если лейкоцитов становится слишком много – образуется гной. То же самое и с органами правопорядка. Их должно быть столько, сколько нужно, и они не должны нападать на здоровые, так сказать, клетки организма. А это возможно только тогда, когда вся система работает правильно, в унисон.
– Русин, заканчивай умничать, – одетая Вика вышла из-за ширмы, взяла мою рубашку. – Я постираю ее и зашью. На вот халат, а то дежурная в общагу не пустит.
Я с тяжелым сердцем начал натягивать спецодежду. Выгляжу, как тот клоун с «Бродвея». Но делать и правда нечего.
Уже в дверях пытаюсь сорвать поцелуй. Быстро наклоняюсь к Вике, пытаюсь прижать ее к косяку. Прижать получается, а вот поцелуй получается дружеский, в щечку.
– Какой же ты быстрый, Русин, – вздыхает Вика, отстраняясь. Проводит рукой по здоровой щеке. – Давай не будем спешить, ладно?
– Ладно, – я, поникнув, шаркаю по коридору. На лице вселенская скорбь.
– Переигрываешь, Ромео!
15 мая 1964 года, пятница, 7.32
Москва, общежитие МГУ
– Вставайте, сони! – за дверью нашей комнаты раздался женский голос, потом громкий стук. Парни подскочили как наскипидаренные, я же просто перевернулся на другой бок и натянул одеяло на голову. Спать!
– Сейчас, Оленька! – Индустрий, судя по шороху, натянул треники, хлопнула дверь.
– Вы не забыли, что сегодня с утра мы идем к Асе Федоровне? – В комнате застучали женские каблучки, остановились возле моей кровати.
– Русин! Ты почему валяешься в постели? Забыл про комсомольское задание?
– Оля, у нас вообще первая пара по физре, потом английский, – пробасил Дима Кузнецов.
– Я вас отпросила. Через комитет комсомола. – Оля дернула одеяло, и я сел на постели. Все охнули. «Ну и морда у тебя, Шарапов!» Знаменитый фильм еще не снят, но реакция студентов была соответствующая. Индустрий с Димоном вытаращили глаза, Ольга-пылесос лишь в шоке покачала головой.
– Откуда этот шрам, Русин?! – староста попробовала тронуть мою скулу, но я отдернул голову. Парни подошли ближе. Были бы у них сотовые телефоны, сейчас бы начали фотографировать меня на память. Я же рассматривал Ольгу. Ничего так, фактурная. Высокая грудь, аппетитная попка. Низенькая, рыжая. Волосы убраны в пучок, одета в зеленую блузку с красной юбкой ниже колен. Ноги разглядеть не удается.
– Чего уставился? – Ольга покраснела. – Откуда шрам? И эти синяки? Ой, да у тебя и кулаки сбиты!
– Подрался вчера. – Я встал, подтянул резинку сатиновых трусов. – Оленька, мы тут как бы в неглиже.
– Неглиже? – Димка заржал. К нему присоединился Индустрий.
– Какое-то старорежимное слово, – поморщилась Пылесос. – Что за драка? В милицию сообщил? Мы обязательно разберем твое поведение на собрании ячейки.
– Не только в милиции, но и в КГБ знают, – напустил важности я. – Дело на контроле лично у председателя.
– Семичастного? – ахнул Индустрий.
– Ты не видишь, что он издевается! – Ольга задохнулась от возмущения. – Я сейчас выхожу, вы через полчаса должны быть готовы! А с тебя, Русин, письменная объяснительная! На имя Заславского.
Девушка вышла, я упал обратно на кровать.
– Дим, давай за чаем на кухню. Индустрий, собери в сумку пряники и что у нас там есть еще вкусного, – я начал раздавать указания, терзая память Лехи и вспоминая про шефство над Асей Федоровной. Фронтовик, радистка, имеет правительственные награды…
Как ни странно, никто из парней мои указания саботировать не стал. Димон молча отправился на кухню за кипятком, Индустрий стал собирать сумку. Я быстро оделся, почистил зубы. Бриться не стал. Раз я решил идти по писательской линии, мне кровь из носу был нужен новый имидж. Ведь если ты выглядишь как советский студент, тебе первым делом начальники скажут: «Деточка, какие книги? Иди, учись!» По одежке встречают, а провожают… нет, не по уму, а по тому, что его у писателей заменяет – книгам. А их я собирался написать много! Благо в своей прежней жизни прочел тонны литературы – как отечественной, так и зарубежной.
И борода – это был первый шаг к новому имиджу. С ней, впрочем, сразу намечалась проблема. Институтское начальство категорически не любило бороды и всячески с ними боролось. Ладно, что-нибудь придумаю.
Чтобы не выглядеть барином, я начал помогать парням готовить завтрак. Порезал батон хлеба и сало – последнее прислали родственники Димона из Лехтово. Все продукты хранились на специальной полке и находились во всеобщем пользовании. Так мы решили еще на первом курсе. Еду можно было держать и в холодильнике «ЗИЛ», что стоял на этаже, но там всегда не хватало места. Да и суетливые студенты могли по ошибке схомячить чужое. Из-за чего общагу периодически сотрясали скандалы.
Быстро поев, мы спустились вниз на проходную. Там уже била копытом Ольга.
– Русин, ты почему не побрился? – Пока мы шли к метро, неугомонная староста решила выяснить со мной отношения.
– Шрам беспокоить бритвой нельзя. Вика сказала.
Увидел, как мне одобрительно подмигнул Димон.
– Не Вика, а Виктория Петровна! – Пылесос слово в слово повторила фразу Когана. – Так что случилось-то?
– На улице Горького подрался со стилягами.
– Ого! – Кузнецов посмотрел на меня уважительно. Индустрий так вообще вперед забежал, чтобы еще раз полюбоваться на шрам.
– А ты не врешь? – Ольга в сомнении покачала головой. – То тебя под руки выводят из аудитории, то ты в тот же вечер бьешь стиляг. Ты ведь побил их? Или они тебя?
– Поле боя осталось за милицией, – я достал бумажку с контактами. – Вот номер телефона старшего лейтенанта КГБ, что забирал меня из отделения милиции.
Участие Вики во всем этом я решил не афишировать.
– Можешь позвонить ему и все выяснить. Мне даже благодарность обещали вынести.
Ольга взяла бумажку и посмотрела на меня с интересом. Рыжие девушки имеют одну любопытную особенность. Если они краснеют, то краска заливает все их лицо. Пунцовая Ольга отвернулась, спрятала номер в сумочку.
Димон еще раз мне подмигнул, прошептал на ухо:
– Смотри, как бы Пылесос на тебя не запала.
Спустя два часа тряски в метро и на двух автобусах мы были в районе Алтуфьева. Сюда город еще не добрался, и везде царил частный сектор. Еще четверть часа – и мы у ворот одноэтажного деревянного дома. Ольга постучалась в калитку, залаял пес.
– Тихо, Брунька! Замолчи, – глухой голос быстро угомонил собаку, калитка распахнулась. Там стояла еще не совсем пожилая женщина в коричневой телогрейке и черном платке. Из-под косынки на нас смотрели синие выцветшие глаза. В руках у нее была лопата с комьями земли.
– А вот и «Тимур с его командой», – пошутила наша подопечная.
– Здравствуйте, Ася Федоровна! – Мы дружно поздоровались, вошли внутрь. Хозяйка сразу нарезала нам фронт работ. Димона поставили править забор, забивать колья. Индустрий копал грядки. Сама Ольга принялась убираться в доме, хотя Ася Федоровна и была против. Я же начал носить воду из колодца на огород, а потом и в кухню.
Закончив с водой, усаживаюсь резать салат. Нас ожидает обед, и надо помочь хозяйке.
– Ты Русин? Помню тебя, пограничник, – женщина ловко орудовала в большой русской печи. – У нас в отряде тоже был пограничник. С самого начала войны немцев бил.
– В каком отряде? – я шмыгнул носом. Запах лука пытался выжать из глаз слезы.
– Только вот шрама не было.
– Вчера украсили. Так что за отряд?
– Ну теперь об этом можно говорить. Рассекретили. – Ася Федоровна принялась накрывать на стол. – В 44-м наша разведгруппа под Краковом работала. Командир предателем оказался, его партизаны расстреляли. Чуть всех под монастырь не подвел, гад такой. Я осталась работать в тылу. К нам еще одну группу забросили, «Голос». Во главе с Женей Березняком.
СЛОВО у меня в голове буквально взвыло. Я впился глазами в Асю. Неужели…
– Березняк пошустрее оказался. Обвел вокруг пальца самого начальника абверкоманды. Они готовили взрыв Кракова.
Боже ты мой! Передо мной легендарная «Груша»! Радистка майора Вихря. Я судорожно стал вспоминать свое прошлое. Когда Юлиан Семенов написал свой знаменитый роман? Точно, 67-й год. Тогда же и одноименный фильм сняли. Там еще Бероев играл, Ширвиндт…
– …Ты сейчас не смотри на меня, я в двадцать лет была ого-ого красивая, – продолжала тем временем женщина. – В самом соку. Все мужики слюни пускали. Курт Хартман тоже запал. Был у них в зондеркоманде такой фельдфебель. Он-то и сообщил о планах по уничтожению города. Ну мы в центр, конечно, сообщили. Оттуда прислали еще одну группу. Там Леша Ботян главный был. Шустрый парень, скрал немецкого инженера. Тот рассказал о местонахождении огромного склада с боеприпасами и взрывчаткой, предназначенными для уничтожения города. Склад находился в Ягеллонском замке. Ребята смогли пронести туда английскую мину. Ну и взорвали там все к чертям.
Ася Федоровна поставила на стол дымящуюся паром картошку, бросила туда сливочного масла, нарезала крупными кусками сырокопченую колбасу. Рядом примостилась двухлитровая банка с солеными огурцами.
– Вот это история! – искренне удивился я. – Роман написать можно.
– Напиши, если сможешь, – равнодушно произнесла хозяйка. – Только не издадут такое.
– Это почему же?
– Да потому, – зло вскинулась Ася, – что по возвращении домой нас арестовали. И посадили в лагерь. Там-то мы окончание войны и встретили.
– Как это арестовали? Да за такой подвиг Героев должны были дать!!
– Потом-то наградили, а так посидели, да…
Ася замолчала, загремела посудой. Потом повернулась ко мне, вздохнула:
– Их тоже можно понять, ну, представь: руководитель группы Березняк попал в руки гестапо, но через неделю, 27 августа, убегает. 16 сентября гестаповцы арестовывают меня, радистку этого же Березняка, но через десять дней я возвращаюсь в разведгруппу. Да еще Хартмана приношу им на блюдечке… Будь я в Смерше, в контрразведке, тоже усомнилась бы в том, что такое возможно. Это бывает один раз на десять тысяч случаев и как в такую ситуацию поверить? Только когда Хартман сдался и рассказал всю историю – только тогда отпустили.
– Как вам такое название? «Город не должен умереть»! – Я решил ковать железо пока горячо. Семенов, может быть, уже придумал свое название с майором Вихрем, но я его опережу.
– Ты это серьезно?
– Серьезнее некуда. Сейчас ребята уйдут, сядем, я все запишу. По дням. Кто, что, когда. Пишу я быстро, так что через неделю рукопись будет готова. Вычитываем, и я несу…
– Кому? – Ася Федоровна снисходительно на меня посмотрела.
– Есть кому, – я вспомнил про фронтового друга отца Мезенцева. Тоже в Смерше служил, сейчас в КГБ.
Страница машинописного текста содержит 1800 печатных знаков. Опытная машинистка печатает со скоростью 400 знаков в минуту. И делает три ошибки на лист. Это получается 6–7 знаков в секунду. То есть одна страница – за 5 минут. Средний роман – 12–13 авторских листов. Один авторский лист – 22–23 машинописные страницы. Машинистка наберет роман за 25 часов непрерывной работы.
Я посмотрел на минутную стрелку часов. Я выдавал всего сто знаков и десяток ошибок. Три дня непрерывно или неделя в спокойном режиме.
Дело было в библиотеке журфака на Моховой, куда я отправился сразу после встречи с Асей. Массивное здание с ротондой и высокими окнами. Внутри красивый атриум в древнегреческом стиле. Опять мраморные колонны, ковровые дорожки…
Ребята, конечно, удивились моему вниманию к женщине, но проявили уважение. Сразу после окончания шефской помощи поехали обратно, а я засел за записи. Три часа делал алиби. Ясно же, что в ГРУ и в Главлите меня проверят. Какой-то студент залез в «святое». Хоть и рассекреченное. Поэтому позарез нужен черновик.
После стенографирования, забив на учебу, рванул на Моховую. Там нашлась вполне приличная «Башкирия» Уфимского завода. Не компьютер, конечно, с CTRL C и CTRL V и даже не печатная машинка с электроприводом, но на безрыбье и рак рыба. На первом листе я просто тренировался. Долбил пальцами по клавишам, приноравливался к ходу каретки. Раскладка была привычная – ЙЦУКЕН (по названию первых букв верхнего ряда). За 50 лет ничего не поменяется, так что мой слепой десятипальцевый метод, освоенный в 2010 году, все еще работает. Я даже умилился.
Это умиление быстро закончилось после второго листа.
– Мне нужно 300 листов чистой бумаги, – моя наивность поразила молодую симпатичную библиотекаршу. – А лучше 600 и копирка. Три копирки.
На этих словах девушка, скорее всего студентка старших курсов, прыснула.
– Молодой человек! Копирку я вам найду, но писчую бумагу в таких объемах распределяет лично замдекана.
Черт! Как же я мог забыть, что в стране дефицит. Тут даже с туалетной бумагой проблемы. Точнее, будут проблемы. Просто потому, что туалетная бумага еще не производится. Первый рулон увидит свет в 69-м году. Дефицит еще не так масштабен, как это будет в 80-х, но что есть, то есть.
Оглядываюсь в поисках помощи. Студенты, в основном первокурсники, корпят над учебниками. Делать нечего, надо идти к начальству. Взбегаю по лестнице на третий, административный, этаж. Декан сидит в отдельном кабинете с приемной. В ней полно народу; секретарша, женщина бальзаковского возраста, фильтрует публику, стараясь не пускать попрошаек. В основном это двоечники, которые пытаются продлить зачетную сессию. А то и вовсе соскочить в академку. Меня, впрочем, долго не маринуют. Я захожу в кабинет, который обставлен совсем не в чиновничьем стиле. Легкая красивая мебель, вместо тяжелых штор – прозрачные занавески. Обязательные портреты основоположников разбавлены Марком Твеном и Джозефом Пулицером. Ах да, они же были самыми известными журналистами своего времени. Смело. Просто огромная библиотека приковывает мой взгляд. С трудом отрываюсь от многочисленных томов, рассматриваю черно-белый телевизор «Рубин».
Наконец дело доходит до Заславского. Высокий, подтянутый, в больших очках с массивной оправой. Уже лысеет.
Декан откладывает какой-то документ, молча разглядывает меня и мой шрам.
– Русин. Алексей. Третий курс.
– Ах, да! – Заславский выходит из-за стола, жмет руку. – Я уже хотел вызвать тебя сам. Звонили из органов. Просили выразить благодарность от лица университета. За активную гражданскую позицию. Что там произошло вчера вечером? Только честно!
Рассказываю о стихотворном вечере на Маяке, потом о драке у Елисеевского. Заславский просит прочитать стихи. Причем и мои, и диссидентов. Внимательно слушает.
– Талантливо, ничего не скажешь, – хмыкает декан, что-то рисуя на листке бумаги. – Есть в тебе что-то…
Заславский делает непонятный жест рукой. Берет трубку телефона, набирает чей-то номер.
– Паша, ты? Заславский беспокоит. Как мы? Да все так же, в трудах праведных. Готовим вам смену. А у вас что нового? Квакаете в своем мелкобуржуазном болоте? Молодцы. Я вот насчет чего звоню. Про вчерашний инцидент на улице Горького слышал? Не слышал. Плохо, плохо работаете.
Декан задумчиво смотрит на меня, прижимая трубку телефона к уху.
– А я тебе вот что скажу. «Комсомолка» должна быть на передовом крае информационного фронта. А не в тылу ошиваться.
Визави ему что-то отвечает, видимо, оправдывается.
– Записывай, – декан начинает пересказывать журналисту мои вчерашние приключения. Причем делает это коротко, лаконично, красиво – просто бери и печатай в газете. Профессионал за работой. Не забывает про стихи и даже предлагает заголовок. Когда только успел придумать? «Комсомол устал терпеть». Смело! Через два года китайские студенты-хунвейбины поднимут восстание в Поднебесной и будут избивать партократов прямо на улицах. Культурная революция! У нас тоже «комсомол устал терпеть»?
– Не пропустит главный? А если ему из Комитета позвонят? Какого комитета? Паша, не тупи. Глубокого бурения. – Заславский хмыкает в трубку. – Да, так и скажи ему! Мне-то позвонили. Если надо, я еще раз наберу ему в приемную. Нет, «вертушку» мне еще не поставили. Хотя уже пора. Поговорить с Русиным? Ну приезжай. Пашка, ты же ленивый черт, задницу от стула не оторвешь, чтобы заехать к нам на Моховую. Ладно, на, поговори с Русиным, он у меня сидит…
Теплая трубка перекочевывает ко мне. Прокуренный мужской голос интересуется подробностями происшествия. Вспоминаю детали, делаю реверансы столичной милиции – в обоих случаях сработали быстро и корректно. Наконец разговор завершается, смотрю на Заславского. Тот опять рисует рогатых чертиков на обратной стороне какого-то документа.
– Отблагодарил? – Декан наконец поднимает на меня взгляд. – В понедельник выйдет в «Комсомолке». Но пока без фотографии. Не дорос еще.
– Отблагодарили, – я прижимаю руку к сердцу и решаю обнаглеть. – Еще две просьбы. Маленькая и большая.
Заславский тяжело вздыхает. Чертики превращаются в отвратительных бесов с огромными животами, кривыми ногами.
– Давай большую.
– Пристройте меня к Аджубею в «Известия». Стажером на лето.
Бесы превращаются в дьяволов с кровавыми косами.
– Ты знаешь, кто такой Аджубей?
– Э… главный редактор «Известий». Ну, еще зять Хрущева.
– Нет, это страшный человек. Знаешь, сколько судеб он сломал?
Я мотаю головой.
– Песни Марка Бернеса слушаешь?
Я, разумеется, кивнул. Кто не знает Бернеса? «Журавли», «Темная ночь», «Шаланды, полные кефали», «Я люблю тебя, жизнь»… А в скольких фильмах он снялся!
– Шесть лет назад Марк влюбился в актрису Изольду Извицкую. Снималась у Чухрая.
– И что здесь такого? – удивился я.
– Помимо того что он был женат? – усмехнулся Заславский.
Я почесал в затылке. Да, брак – это святое. Или нет?
– За Извицкой ухаживал Аджубей. А он, кстати, на тринадцать лет младше Бернеса.
– Извицкая выбрала Марка, – декан скомкал документ с чертиками, выкинул в корзину. Взял новый лист бумаги.
– И Аджубей отомстил. Да как! Он тогда главредом в «Комсомолке» работал. – Ян кивнул на телефон. – А Марк подставился сильно. Скрылся с места дтп. Ребята Аджубея раскопали протокол. И дали в газету фельетон. «Звезда на «Волге». Где-то он у меня даже был.
Заславский покопался в ящиках стола, вытащил папку, куда были подколоты разные вырезки из газет. Фельетон был обведен черным.
«Пятилетний Вовка, крепко держась за мамину руку, возвращался из детского сада домой…» – хорошее начало. Просто фильм ужаса. Я посмотрел на Заславского – он мне лишь покивал сочувствующе. Дальше – больше. Бернес таранит пассажиров, выходящих из трамвая. Скрывается с места преступления. Погоня. Марка догоняет орудовец, пытается открыть дверь. Бернес обещает того задавить… «Десять метров тащила «Волга» за собой инспектора, а потом, освободившись от него, снова пустилась наутек»… Наконец машина останавливается. Но для чего? Правильно, в нее садится пассажирка (намек на Извицкую). Инспекторы вытаскивают Бернеса.
«…Кинозвезда бушевал. Он требовал к себе уважительного отношения как к звезде первой величины. Марк Наумович претендовал на снисходительность в силу его особых заслуг перед советской кинематографией. Кроме того, он ссылался на свою пылкую любовь к автомобилизму. К кому же, как не к нему, владевшему уже шестью различными машинами, работники ОРУДа должны питать особо нежные чувства?
Но нам думается, что для кино- и иных «звезд» ни на московских, ни на ленинградских, ни на одесских перекрестках нет нужды изобретать какие-то особые, персональные светофоры. И совершать прогулки за рулем машины, подвергая опасности жизни прохожих, не уважая наших порядков, непозволительно даже Марку Наумовичу Бернесу».
Я дочитал фельетон и уставился в окно. Это все надо было переварить.
– После этой статьи, – Заславский забрал у меня газету, – Марка прекратили приглашать на концерты и снимать в кино. Изольда его бросила, Бернес перебивался озвучкой ролей.
– Может быть, не стоило таранить пассажиров трамвая? – осторожно поинтересовался я. Наезд Аджубея через газету выглядел отвратительно, но и Бернес тоже повел себя ужасно.
Мы опять помолчали.
– Ты не передумал? – наконец с некоторой обреченностью в голосе спросил Заславский. – Сам Аджубей в разъездах, но его зам мне кое-что должен…
– Не передумал.
– Хорошо, я позвоню, – декан тяжело вздохнул. – Какая вторая просьба?
– Две пачки бумаги.
Заславский настороженно побарабанил пальцами по столу.
– Зачем?
– Идея одного романа в голову пришла.
– Какой роман, Русин?! На дворе сессия.
– У меня уже все зачеты сданы. Половина автоматом, – я вытаскиваю зачетку из портфеля, подаю ее декану. Тот ее бегло просматривает.
– Алексей, скажи мне, что ты не собрался писать что-то… запрещенное или пограничное…
– Мы, пограничники, охраняем границу, но не переходим ее, – я засмеялся.
Заславский тоже улыбнулся.
– Как только черновик будет готов, – декан наставил на меня указательный палец, – тут же копию мне на стол. Тут же! Это понятно?
– Предельно ясно.
Декан опять покопался в ящиках тумбочки, протянул две пачки сероватой бумаги. Я как величайшую драгоценность прижал их к груди и метнулся обратно в библиотеку.
– АААА!
Громкий женский крик выдернул меня обратно в реальность. Рядом с моим столом стояла та самая молодая библиотекарша. Руки прижаты ко рту, глаза круглые, словно блюдца. Вокруг начинают собираться студенты. Подходит пожилая преподавательница. Кажется, русского языка.
– Маша, в чем дело?
– Я иду мимо, а он, – библиотекарша тычет в меня пальцем, – печатает, закрыв глаза.
Вот же засада! Запалили меня. А я ведь так удобно устроился. Дар позволял не только вспомнить любой день и минуту, но и остановить память в нужный момент.
Закрываю глаза. Проматываю пленку кинофильма «Моя жизнь» и останавливаюсь на 14 яая 1978 года.
На меня наваливается тяжелый аромат цветущей возле подъезда сирени. Во дворе сосед заполняет багажник «Москвича» многочисленными свертками. Сегодня воскресенье, и он едет на дачу. Из раскрытой двери балкона доносится мамин голос.
Я резко закидываю голову и вглядываюсь в голубое небо, которое перечеркивает белоснежный след от самолета. В слезящиеся глаза бьет яркое солнце, и я опускаю голову вниз. На коленях лежит раскрытая на первой странице книга Семенова «Майор Вихрь»…
«Председатель имперского народного суда Фрейслер то и дело срывался на крик. Он просто не мог слушать показаний обвиняемого, перебивал его, стучал кулаком по столу и чувствовал, как от гнева холодеют ноги».
Фиксирую в сознании открытый лист книги и начинаю перепечатывать. Только каретку машинки успевай двигать.
– Это специальный метод печати. Называется «слепой», – я начинаю объяснять окружающим. – Пальцы фиксируются на литерах, у каждого пальца есть «свои» буквы.
– Ну так печатают многие машинистки, – соглашается преподавательница.
– Но они же смотрят на лист! – удивляется библиотекарша.
Они-то смотрят, а вот я не могу одновременно разглядывать «скриншот» памяти и лист. Так что приходится закрывать глаза. Ошибок становится больше, но перепечатка спасает.
– Тренируюсь, – туманно отвечаю я. Народ пожимает плечами, расходится. А я разглядываю получившийся результат. Первая глава «Вихря» готова. Кроме названия книги я и псевдоним главного героя поменял. Капитан Шторм. На всякий пожарный.
Закончив работу, спешу на Арбат. Не могу ничего с собой поделать, хочу посмотреть на себя молодого. Переулками прохожу к нашему старому дому. Сажусь на лавочку возле детской площадки. Жду. Дети играют в песочнице, раскачиваются на качелях. Мужики за большим деревянным столом забивают «козла», попутно прихлебывая пиво из трехлитровой банки. Ругают Хрущева. Самая вежливая кличка – «Турист». Никита и правда последнее время не вылезает из загранкомандировок. Все несет коммунизм арабам и прочим народам. Буквально вчера открывал Асуанскую плотину вместе с Насером. В кою плотину СССР закачал миллиарды. Это еще мужики не знают, что Хрущев даст президенту Египта Героя Советского Союза. Что вызовет гнев всех фронтовиков страны.
Наконец из подъезда выбегаю я юный. Вихрастый пацан в трениках и майке. В руках жестяной бидончик. Вспоминаю, что с ним меня мама посылала за сметаной, которую в магазинах наливают в разлив. А вот и она сама:
– Трофим! Не вздумай опоздать! – Мама высунулась в окно третьего этажа. У меня перехватывает дыхание. Молодая, красивая… родная! На голове – бигуди. Я быстро моргаю, на глазах – слезы.
– Будешь играть с парнями из третьего дома в секу – отец ремня даст, – мама захлопывает окно, а «я», расстроенный, бреду к выходу со двора.
– Эй, «Лысенко», – смеются мужики. – Давай с нами в картишки.
«Я» краснею и ускоряю ход. И так всю школу проходил с кличкой «агроном». Невольно сжимаю кулаки. Надо как-то помочь себе молодому. И родителям заодно. С этой мотивирующей мыслью я отправляюсь в общагу. У входа в метро покупаю у какой-то бабули букет красных тюльпанов. Надо реабилитироваться перед Викой. Отдаю последние деньги, в кошельке остается лишь мелочь. Интересно, удастся перехватить из кассы взаимопомощи? Помнится, Пылесос собирала с нас по пятьдесят копеек в прошлом месяце. А если не удастся, то как быстро заработать много денег? Где хранятся клады, у меня в памяти не осталось. У Русина тем более. Кажется, что-то было в Питере, в Константиновском дворце. Ценности царской аристократии. Гастарбайтеры ремонтировали стены и нашли тайник. А в нем фамильное серебро, золотые монеты… Идиоты не нашли ничего лучшего, чем собрать все в обыкновенные магазинные пакеты и потащить в скупку на рынке. Там-то, прямо перед милицейским патрулем, столовые приборы порвали пакеты. Клад вывалился на асфальт. Вот поди менты удивились.
«Нет, Шурик, это не наш путь». Где именно клад, я не знаю, как и кому его продать и не спалиться, тоже не понятно. Лотерея? Не знаю выигрышных комбинаций. Молчащее СЛОВО подтверждает мое решение. А что, если подумать в сторону криминала? Ведь цель явно оправдывает средства. Тем более если выбрать такой криминал, который вовсе и не криминал. Экспроприация экспроприаторов.
Вика цветам рада. На щеках появляются милые ямочки, я удостаиваюсь мимолетного поцелуя. В губы! Боже, как хорошо быть молодым! В приемной медицинского кабинета пусто, поэтому иду в атаку и пытаюсь еще разок потискать девушку в дверях. Получаю по рукам, но так, без энтузиазма, формально. А дело-то продвигается!
Впрочем, радуюсь недолго. Вика осматривает мой шрам и попутно интересуется, сходил ли я к докторам эмгэушной поликлиники.
– Русин! – ноздри девушки гневно раздуваются. – Как можно так наплевательски относиться к собственному здоровью?? Завтра же отправляйся к врачу!
– Зая, ты так очаровательна, когда злишься! – Десятилетия работы в женском коллективе наложили свой отпечаток. Множество романов с учительницами, большой опыт комплиментов, флирта… И да, два брака. Два развода. Увы, Бог детей не дал. Может быть, потому и не дал, что у него были на меня далеко идущие планы?
– Какая я тебе зая? – Вика уже успокоилась, и на ее лице появилась ироничная улыбка.
Правда, на заю она совсем не похожа. Надо срочно придумать что-то другое. Тем более и «капусты»-то у меня нет. Я с грустью подумал о пустом кошельке.
– Как насчет солнышка? – Викины волосы были сегодня как-то по-особому распущены и светились в лучах заходящего солнца.
– Пойдет, – девушка скинула халат, под которым была белая блузка с узкой голубой юбкой. Закрыв кабинет, Вика взяла меня под руку, и мы направились к главному входу МГУ. Цветы остались стоять в вазе на столе.
– Завтра меня будут радовать, – пояснила красавица в ответ на мой недоуменный взгляд.
Спустившись вниз, мы прошли мимо памятника Ломоносову и стали прогуливаться по университетскому парку. Тут также было множество парочек, так что мы особо не выделялись. Иногда мимо проходил патруль дружинников в красных повязках. Молодые парни строго смотрели, чтобы никто не обжимался и не целовался. Руссо студенто! Облико морале!
Прижимаясь к теплому боку девушки, я все размышлял над сакраментальным вопросом «где»? Мы оба живем в общаге, знакомых с московской квартирой у меня нет. Прямо хоть баню арендуй. Тупая шутка, Вика бы не оценила. Да и не пойдет она – ученая. Тут нужно как-то все красиво обставить.
– Леша, девчонки в общаге узнали о твоей вчерашней… стихотворной дуэли, – Вика замялась, заторопилась. – Я ничего не говорила! Честное комсомольское!
Понятно. Москва при всех ее размерах – маленький город. Главный канал информации при тотальной цензуре – слухи. Говорят, даже в КГБ есть специальный отдел, который собирает слухи и вбрасывает в общество нужные.
– И?
– Ты можешь почитать нам свои стихи? Аудитория будет! Ленка обещала.
– Что за Ленка?
– Подруга моя.
Я задумался. Идти по пути Евтушенко и Вознесенского? Греметь в стиле Маяковского:
- Любовь неразделенная страшна,
- но тем, кому весь мир лишь биржа,
- драка, любовь неразделенная смешна,
- как профиль Сирано де Бержерака…[5]
А потом еще найти «собственного Есенина» и устроить с ним «батл»?
– Я подумаю. Меня сегодня декан вызывал.
– По поводу драки? – Вика сжала мой локоть.
– И по поводу нее тоже.
Мы помолчали.
– Леш, мне пора, – вздохнула Вика. – Я к экзаменам готовлюсь на биофак, а еще ужин приготовить нужно…
– Когда мы теперь увидимся? – Я беру девушку за вторую руку.
– В воскресенье? Давай в «Ленком» сходим. Там, говорят, хорошая пьеса идет. «Вам 22, старики».
Я мысленно взвыл. Какой «Ленком»?? Я за день не успею достать билеты. Да и на какие шиши?? Или это такая проверка?
– Конечно, солнышко. – Мой язык – враг мой. – Я все устрою. Тогда до воскресенья?
В совершенно мрачном настроении я возвращаюсь в журфаковскую общагу. В нашей комнате застаю такого же угрюмого Когана с фингалом под глазом. Кузнецов заваривает другу чай и попутно учит жизни.
– …Разорвал дистанцию, двойку в корпус и голову. И опять рывок…
Я рассматриваю тщедушного Леву и понимаю, что для того не то что «двойка» проблема, но даже разорвать дистанцию малореально. Все кроссы на физре проходят по одному сценарию. Мы с Димоном и Петровым занимаем первые места – Коган еле добредает до финишной черты.
– Что случилось? Откуда фингал? – я присаживаюсь за стол, тащу к себе бутерброд, что сердобольный Кузнецов успел настрогать Леве. Мм… Вареная колбаса. Вкуснотища!
– Побили хулиганы. Во дворе дома. – Кузнецов подает Когану чай, присаживается к нам.
– Во дворе дома?? – Я искренне удивляюсь. – Вы живете в высотке на Котельнической! Элитное же место!
– У соседнего дома побили, – уныло отвечает Лева. – Очки разбили.
– И что ты там делал?
– Искал скрипку брата. Дорогую, между прочим. Они хотят пять рублей. Завтра в полдень должен принести.
Совершенно нереальная сумма. При средней зарплате в стране в 80–90 рублей.
В ходе долгих расспросов выяснилось следующее. Коган-младший занимается в музыкальной школе, дорога к которой проходит через соседние полукриминальные кварталы. Где обитают целые банды подростков, которые очень трепетно относятся к тому, что на их территорию попадают чужие. Сначала слегка побили и забрали скрипку у Когана-младшего. Школьника пятого класса. Затем как следует побили Когана-старшего. Третьекурсника МГУ. Вытащили из кошелька всю наличность. Лева демонстрирует нам синяки на теле. Мы сочувствующе киваем. Местные гопники, разумееться, не знают истинной цены скрипки. Им покуражится важнее.
– И что теперь делать? Отец нас прибьет.
– Все рассказать родителям. Или идти в милицию, – в комнату входит Индустрий, который с ходу врубается в ситуацию. – Они быстро приструнят хулиганов.
– Не по-пацански, – грустно отвечает Коган. Даже странно слышать такое от эмгэушного отличника. Насколько же глубоко в нас укоренились криминальные привычки.
– Индустрий прав, – жестко говорит Кузнецов. – Иди в милицию.
Коган набычился, молчит. Мы переглядываемся, пожимаем плечами.
– Ладно, поможем товарищу, – решаюсь я. – Завтра пойдем выручать твою скрипку.
– Я не пойду, – мотает головой Индустрий. – Вы забыли? Завтра консультация у Розенталя! Экзамен по практической стилистике через две недели.
Ох, как же я пропустил такое! Закрываю глаза, погружаюсь в память Русина. Розенталь – главный русский и советский лингвист. Величайший лингвист. Причем польский еврей! Написал больше сотни учебников, словарей и учебных пособий. По его книгам будут преподавать и через сто лет. Живой классик. Если бы я сказал нашей русичке, ратовавшей за Толкина, что увижу Розенталя…
– Мы пойдем выручать скрипку Левы, – я открываю глаза и пристально смотрю на Индустрия. – А ты как хочешь.
Лева сразу приободряется, Кузнецов одобрительно кивает. Индустрий бледнеет, отводит взгляд. Вот так и проверяется мужской характер.
– Парни, я… мне… позаниматься надо.
Пожимаю плечами, доедаю бутерброд. Димка презрительно хмыкает.
Еще четверть часа болтаем ни о чем. Рассказываю Леве о Маяке, свидании с Викой и шраме… Слушаю восторженные охи. Потом провожаем друга и ложимся спать.
Глава 3
И. Губерман
- Вся наша склонность к оптимизму
- от неспособности представить,
- какого рода завтра клизму
- судьба решила нам поставить.
– Лева, а сколько стоит скрипка?
Коган молчит. Долго молчит. Даже Кузнецов начинает беспокоиться, вертеть головой. Мы идем по Котельнической мимо знаменитой сталинской высотки. Солнце в зените, жарит. Я закатал рукава рубашки.
– Ребята, а зачем вам лопаты? – по-еврейски, вопросом на вопрос, отвечает Лева.
Лопаты мы взяли в подсобке университетского парка. Утром она всегда открыта – садовники начинают свою работу.
– Лева, я жду, – приходится немного надавить на Когана.
– Две тысячи, – парень опускает взгляд, мнется. – Она старинная, известного французского мастера Вийома.
Кузнецов качает головой, я тоже в легком шоке.
– Школьник со скрипкой ценой в «Москвич» разгуливает один по городу?
– А что такого? – защищает брата Коган. – Скрипка застрахована. Это во-первых. Во-вторых, у нас спокойно. Было спокойно, пока не выпустили из тюрьмы этого Хриплого.
– Что за персонаж? – интересуется Димон.
– Какой-то блатной. Собрал вокруг себя местных пацанов, травит им тюремные байки, угощает пивом.
Понятно. «Украл, выпил – в тюрьму. Романтика!»
А вот и «джентльмены удачи». Мы заходим во двор серой длинной четырехэтажки и видим шестерых парней, сидящих на спинке скамейки. Вся земля вокруг скамейки заплевана шелухой от семечек. Среди пацанов выделяется главный – высокий худой мужик с испитым лицом. Руки синие от татуировок, в зубах папироса-«беломорина» с мятым мундштуком, на голове заломлена кепка-восьмиклинка.
– О, жиденок пришел, – «испитый» спрыгивает со скамейки. – Принес бабки? А это что за кенты?
Голос у блатного действительно с хрипотцой. Коган делает шаг назад, прячется за нами. Мы с Кузнецовым выдвигаемся вперед, позади главаря встают парни. Все лет пятнадцати-шестнадцати, некоторые уже тоже с татухами.
– Думаешь, привел дружков с лопатами и…
На этой фразе я закручиваю сельхозинструмент вокруг себя. Лопата со свистом режет воздух, парни отшатываются назад. На их лицах страх. Мое движение повторяет Кузнецов. Не зря мы утром вставали и вспоминали комплекс с малой саперной лопаткой. Конечно, к ее «большому брату» не все приемы подходят, точнее, вообще ничего не подходит, но основные перехваты одинаковы хоть для шеста, хоть для нунчаков.
Хриплый с матом вытаскивает нож, делает несколько махов.
– Брось перо, баклан, – я делаю шаг в сторону и одним движением на выдохе срубаю чахлое деревце. Молодой дубок падает на землю, парни Хриплого делают шаг назад.
– Ну что? Отрубить тебе руку? – Я втыкаю лопату в землю и спокойно смотрю на блатного.
– Ладно, фраера́, ваша взяла, – Хриплый убирает нож в карман брюк. – Пятак, сбегай за скрипкой.
Один из парней срывается на бег и через несколько минут приносит футляр. Коган с благоговением заглядывает внутрь.
– Все в порядке. – Мы молча разворачиваемся и идем прочь. Я вижу, что Хриплый нам хочет что-то крикнуть вслед, но сдерживается.
– Пацаны, я ваш должник, – произносит Лева, когда мы уже наконец подходим к сталинской высотке. – Зайдем ко мне чаю выпить.
Я смотрю на часы, потом на Кузнецова.
– На консультацию опоздали, – вздыхает тот. – Пойдем, перехватим чего-нибудь.
– У нас пряники есть и конфеты, – зачастил Коган. – Чай индийский, высший сорт.
– Конфетами ты, Лева, не отделаешься, – засмеялся Димон. – Обед давай.
– Конечно, конечно, – засуетился Коган. – Дома и первое есть, и второе.
Мы поднялись по широкой гранитной лестнице к массивным дубовым дверям. Тяжелые, поди… Но двери открылись неожиданно легко. Внутри был огромный высокий холл. Лева вежливо поздоровался с консьержкой, та на нас подозрительно глянула, но ничего не сказала. Лифт явно произвел сильное впечатление на Димона. Он потрогал красное дерево, медные поручни… Двигался лифт бесшумно, и только меняющиеся цифры лампочек на табло говорили о том, что мы едем вверх.
Вышли на пятнадцатом этаже. Двери квартиры тоже были массивные, дубовые. Лева, покопавшись в кармане, достал ключ. Стоило только ему вставить его в замок, дверь сама открылась. В прихожей стоял пожилой сгорбленный мужчина в красном домашнем халате. Под халатом была белая накрахмаленная рубашка. Уже по его нахмуренному лицу с резкими морщинами я понял, что у нас проблемы:
– Лев, где ты был и кто эти молодые люди?
Мы вошли в прихожую, Коган попытался спрятать за спину футляр со скрипкой.
– Ты вернул Вийома? Твой брат мне все рассказал.
Лицо Когана-старшего расслабилось, он пригладил седые волосы по бокам сверкающей лысины.
– Да, папа. – Лева повесил голову. – Если бы не ребята…
– Ну, представь нас.
Началась процедура знакомства. Коган-старший оказался Марком Наумовичем. Миниатюрная женщина, вышедшая из кухни в переднике, была представлена женой Марка – Миррой Изольдовной.
– А это Давид, – Лева подтолкнул вперед грустного чернявого паренька. – Из-за него все закрутилось.
– Я не виноват!
– А кто виноват?
– Молодые люди, пойдемте в гостиную, – Марк Наумович приглашающе махнул рукой. – Надевайте тапки.
Квартира Коганов поразила даже меня. Четыре большие комнаты – две спальни, гостиная, кабинет-библиотека. Плюс кухня и раздельный туалет. По советским меркам – суперэлитная недвижимость. Круче только правительственные дома.
В гостиной мы с Димоном, мельком глянув на мебельный гарнитур и немецкий телевизор «Грюндиг», сразу принялись рассматривать странно изогнутую маленькую сосну в большом горшке.
– Бонсай, – пояснил Марк Наумович, усаживаясь во главе стола. – Японская декоративная сосна.
– Кучеряво живете, – шепнул на ухо Леве Димон. Я услышал.
– Присаживайтесь, молодые люди. Сейчас будет обед. А пока ждем – расскажите о ваших приключениях.
Мы приземлились за стол напротив Когана-старшего. Я взял на себя роль рассказчика и коротко пересказал инцидент с Хриплым. Лева положил на стол футляр, и Марк Наумович внимательно осмотрел скрипку.
– Хорошо то, что хорошо кончается, – после некоторой паузы произнес Коган-старший. – Вы очень рисковали, Алексей. У этих бандитов не только ножи бывают. Я сделаю несколько звонков, этого Хриплого уберут из нашего района.
– В каком смысле уберут?? – опешил Димон, на чьих глазах моментально решилась судьба человека. – Посадят?
– Зачем же так грубо, – тонко улыбнулся Левин отец. – Вышлют за сто первый километр. Как «прочий» элемент.
Тем временем Мирра Изольдовна стала носить из кухни посуду и накрывать на стол. Сначала хозяйка вынесла пару салатов и сухарики с сырно-яично-чесночной пастой. За ними последовали пирожки из тончайшего слоеного теста с курицей. А потом я чуть не вывернул голову, когда разнюхал божественный аромат – в гостиную важно внесли фарфоровую супницу, и хозяйка лично наполнила мне первому тарелку золотистым бульоном с белой фасолью. Лев пододвинул блюдце с нарезанной петрушкой и укропом. Марк Наумович выставил на стол бутылку коньяка «Арарат». Принялся рассказывать про каждое блюдо лекцию. Коганы-младшие устало закатили глаза.
На второе нас ждал фаршированный судак с печеным картофелем. Обед длился целый час, и под конец я уже еле ворочал вилкой.
– Алексей, можно тебя на несколько минут? – Коган-старший встал из-за стола.
Мы зашли в кабинет, я мысленно охнул от размера библиотеки. Чего тут только не было – энциклопедии Брокгауза и Ефрона, длинные стеллажи подписных изданий… Видно, что книги все читанные, в некоторых торчат закладки.
– Я хотел бы чем-то отблагодарить тебя. Отказа не приму.
Марк Наумович раскурил трубку, пахнул на меня табачным ароматом. Я сел напротив него в кресло, задумался.
– Почему только меня? Кузнецов тоже участвовал.
– Ему я сделаю подарок. Вот хотя бы часы, – Коган встал, достал из ящика стола позолоченную «Победу». – Пойдет?
Я только кивнул, удивленный щедростью Когана. Или нас так банально покупают?
– Ты же достоин большего. – Марк Наумович вернулся в кресло, затянулся трубкой. – Хочешь после института остаться в Москве и работать в «Правде»? Договорюсь о распределении, подумаем насчет служебной квартиры.
Щедрый подарок. Или все-таки Коган меня так дешево хочет купить? Интересно, скрипка правда стоит две тысячи?
– Я уже договорился о стажировке в «Известиях».
– У Аджубея? – Марк Наумович вздохнул. – На ходу подметки режет.
– В каком смысле? – удивился я.
– Такие ценные кадры успел получить, – хмыкнул Коган-старший. – Причем, как я догадываюсь, даже ничего для этого не делал. Уж больно он ушлый. Все лезет везде, в каждой бочке затычка…
Марк Наумович, похоже, сел на любимого конька. Не любит он Аджубея.
– Ты думаешь, он главред «Известий»? Его в «Известиях» месяцами не видят. Он у Хрущева министром иностранных дел работает. Неформальным. Встречается с Папой Римским, гостит в доме Кеннеди, рыбачит с Насером… А потом тестю все докладывает. Громыко уже воет от него – постоянно в дела МИДа лезет.
Я пожимаю плечами. Где я и где Аджубей.
– Это же просто стажировка, на лето.
– Ладно, что же ты все-таки хочешь? Я не могу тебя просто так отпустить.
– Марк Наумович, – пришла мне в голову идея. – Помогите достать два билета в «Ленком». На завтрашний спектакль.
– Какая ерунда, – Коган-старший снял трубку телефона, набрал номер. – Изя, ты? Шалом, дорогой. Да, кряхтим потихоньку. Как тетя Фира? Хорошо? Ну и ладненько. Я чего звоню. Нужно срочно два билета в «Ленком». На завтрашний спектакль. В первый ряд.
Я открыл рот от удивления. Первого ряда я не просил.
– Изя, не делай мне мозг. Я же не в правительственную ложу прошу. Да, я знаю, что ты можешь и в правительственную. Но я не сын Рокфеллера. И даже не внук Ротшильда.
На другой стороне трубки слышен смех.
– Да, запиши на мой счет. Лева сегодня заедет к тебе. Все, спасибо, целуй тетю Фиру.
Коган-старший вешает трубку телефона, усмехается:
– Это такая мелочь, завтра Лева тебе завезет билеты в общежитие.
Я поразился тому, как быстро и легко решился вопрос.
– Алексей, – Марк встал, подошел ко мне. Положил руку на плечо. – Я очень одобряю вашу дружбу с Левой. Знай, что вся наша семья тоже отныне твои друзья.
А вот это обещание дорого стоит. Дороже золотой «Победы» и работы в «Правде».
Вечер субботы я трачу на «Майора Вихря». Опять еду в библиотеку на Моховой, долблю по клавишам как заведенный. Печатаю и перепечатываю. Правлю ошибки. Постоянное удерживание картинки с текстом перед внутренним взором не проходит даром. Снова начинает течь кровь.
