Высокая вода венецианцев
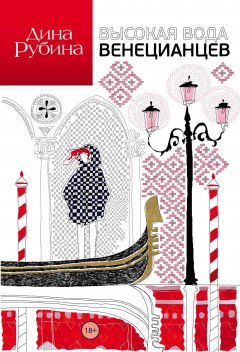
Она догадалась за несколько мгновений до того, как Юрик взял в руки протокол рентгеновского исследования. Просто: вдруг поняла. Такое с ней изредка случалось за игрой в преферанс, она внезапно понимала – видела – карты в прикупе.
Собственно, плохое заподозрила она раньше, когда конверт со снимками не выдали на руки. И сейчас, сидя на кушетке в ординаторской, отметила, как завис в руке у Юрика подробно исписанный листок, отделился, обозначился роковой вестью.
Он продолжал всматриваться в написанное, как будто мог вычитать что-то еще, опровергающее, намекающее на некий чудовищный розыгрыш… В эти несколько секунд она смотрела в его лицо жадно, отчаянно, пытаясь уцепиться за взгляд, как цепляется побелевшими пальцами за карниз человек, выпавший из окна восьмого, скажем, этажа.
– Кутя, – проговорил он наконец (она бессознательно отмечала движения твердых бледных губ столько лет знакомого лица), – тут такое дело… Он видит единичный метастаз в легком…. Значит, будем искать источник… будем обследоваться… Завтра «построгаем» тебя на СТ, и… речь, видимо, пойдет об операции… Ну, сама понимаешь…
Хорошенькую они тут себе взяли моду – сообщать пациенту диагноз. Проклятая этика западной медицины. Впрочем, он и не смог бы от нее ничего скрыть… Слишком прямо смотрит в глаза, молодец, выбрал достойный тон: озабоченный, но без паники… такое профессиональное спокойствие. Наверняка трусит. Он и на контрольных в школе всегда был абсолютно как бы спокоен, особенно когда не знал темы.
Разумеется, ее звали не Кутей. Это была школьная кличка. Во втором классе осенью она приволокла с улицы щенка – мокрого и дрожащего. Носилась с ним по школе весь день, тиская и подвывая: «К-у-утя, к-у-у-тя…» Щенка назвали Артуром, он вырос в громадного пса и прожил в семье шестнадцать лет, застав еще ее дочь, которой тоже уже…
Да, а кличка осталась.
Стоп, но ведь это может быть ошибкой. Мало ли чего видит там этот парень. Подумаешь – рентген!
– Это может быть ошибкой! – сказала она, рывком подавшись к нему с кушетки и по-прежнему жадно следя за его губами. – Юрик, мы знаем миллион таких случаев. Скажем, туберкулез… Его часто путают с…
– Да-да, – сказал он, – да, конечно!
И не выдержал. Обнял, крепко прижал к себе – это была единственная возможность укрыться от ее истошно орущих глаз – и повторил:
– Кутя, Кутя… только не дрейфь, все будет хорошо… Найдем источник, прооперируем…
Она оттолкнула его, ударила кулаком в грудь, закричала:
– Какого черта вы суете мне под нос ваш вонючий диагноз! Ублюдки! Зачем мне знать, что я подыхаю?!
Бросилась прочь от него к двери, но сразу вернулась, вцепилась в отвороты халата:
– МИША! НИЧЕГО! НЕ ДОЛЖЕН! ЗНАТЬ! Ты понял? Ничего!
На Юрика жалко было смотреть. Он совершенно растерялся.
– Но это нельзя, нельзя! Тебя надо срочно обследовать! Завтра ты должна быть здесь, на компьютерной томографии… Успокойся! – Он сильно сжал ее руки. – Кутя, черт бы меня побрал! Подожди, я отпрошусь, отвезу тебя домой.
– Отпусти меня на неделю, – сказала она, задыхаясь, – дай неделю!
– Исключено.
– Пять дней! – крикнула она. – Дай продышаться!
С детства никогда не мог он устоять против ее характера. И это знали они оба.
– Но в понедельник, в восемь, ты должна быть здесь!
– …и насчет Миши… Ты понял!
– Ну, хорошо, – измученно согласился он, – но в понедельник, в восемь…
…Вдруг она обнаружила себя на скамейке с банкой кока-колы в руке. Значит, вышла из здания клиники, подошла к киоску… протянула деньги, что-то сказала… ей дали сдачу… И все это – минуя сознание?!
Стоп! Так можно черт-те до чего дойти.
Она огляделась. Несколько молодых кружевных акаций образовывали скверик… На скамейке напротив девушка, из религиозных, читала карманный молитвенник, шевеля губами. Солнечный иерусалимский полдень, третье ноября, вторник… Жизнь, в сущности, кончена… Да-да, будет, конечно, и пятнадцатое, и двадцать пятое ноября… Не исключено, что будет какое-нибудь шестое апреля, но уже из окна комнаты – уголок, скажем, неба, если повернуть голову на подушке… Рваные мечущиеся мысли: звонить куда-то – куда? Сообщить кому-то – кому? О чем? Что-то важное доделать – что?
Что могло быть важнее и окончательней того, о чем она узнала полчаса назад? И откуда идиотское ощущение, что даже это – не конец? А что же? На что ты надеешься и какие эксперименты собираешься проводить там, на небесных мышах?
Кстати, о мышах.
Она отыскала в сумке телефонную карточку, на обороте которой был напечатан текст национального гимна. Карточка изрядно попользована. Ничего, на две минуты хватит. Зашла в ближайшую телефонную будку и набрала номер лаборатории.
– Юля, слушай внимательно, я с улицы, и на карточке остались копейки. – Это было необходимое вступление. Общительную аспирантку Юлю следовало заткнуть с первого вздоха. – У меня серия рассчитана на неделю, осталось три дня, а мне необходимо исчезнуть. Молчи! Слушай! Я знаю, что ты колоть не сможешь, но упускать нельзя ни в коем случае. Попроси Володю с третьего этажа, он знает, он заколет. Это лысые, те, что сидят в двенадцатом блоке. Образцы в холодильнике слева, на полке… Поняла?
Юля вскинулась что-то объяснять, спрашивать, многословно извиняться…
– Юля, цыц! У меня кончается карточка. Тебе все ясно? Два слова – как там дела?
И Юля, вымуштрованная ею, как солдат на плацу, ответила, что и полагалось отвечать:
– Все хорошо, они умирают!
И, оглушенная этой фразой, привычным девизом ее аспирантов, минуты три она стояла в телефонной будке, не в силах повесить трубку на рычаг.
…И вновь застала себя на той же скамейке. Да что ж ты, как коза на привязи, освоившая свой безопасный ареал – лужок с уже изглоданными кустиками, – проклятье! Откуда это малодушие, эта дрожь, этот детский липкий ужас?!
– Ну, умрешь! – громко сказала она вслух. – И черт с тобой. А ты как думала? Моцарт умер, а ты будешь вечно живая?
«И Моцарт, – подумала она, – и Моцарт, и кое-кто еще, и кое-кто другой, о чем не учат в школе…»
Она сидела в своей привычной позе: лодыжка согнутой левой ноги на колене правой. Дурацкая студенческая привычка, пора изживать, доктор Лурье. Да ничего уже не пора… из-жи-вать. Ибо вот, ты прожила свою жизнь, так и не сменив потертых джинсов на что-то поприличнее. Доктор Лурье.
По тому, что руке стало жарко (солнце переместилось влево), она поняла, что сидит так, по-видимому, уже долго, рассматривая свою загорелую щиколотку сквозь припыленную кожаную плетенку босоножки. Лак на ногтях пооблупился, надо бы снять и покрыть свежим. Она положила ладонь на эту – свою и как бы уже не совсем свою (а чью еще? что за новый хозяин объявился вдруг в ее, целиком ей принадлежащем теле?) – тонкую щиколотку еще молодой женщины. Да-да, тридцать девять, хороший возраст…
Хороший возраст для неконтролируемого деления раковых клеток.
Немедленно встать!
Она поднялась со скамейки…
Теперь куда же? Хорошо, что есть время до вечера, пока Миша не придет с работы и не спросит, была ли она у Юрика и что, тот считает, надо делать с ее вечными бронхитами…
Она сглотнула воздух. Уже несколько раз с того момента, когда, не глядя в листок, исписанный рентгенологом, она вдруг увидела диагноз, – несколько раз за утро плотно ощутимый комок ледяного бабьего ужаса взмывал из желудка к горлу и застревал так, что приходилось сглатывать.
Нет, нет, все вздор! Сотни людей излечиваются. Ну, не излечиваются – тебе ли не знать! – под… подлечиваются. Во всяком случае, еще какое-то количество лет живут дальше, работают, любят, путешествуют…
Путешествуют!
Минут через двадцать она уже сидела в кресле перед столом, за которым ее знакомый турагент Саша элегически перебирал клавиатуру компьютера, рассеянно – так казалось со стороны – поглядывая на экран. На самом деле Саша был профессионалом и видел все.
– Вот, например, – сказал он лениво, – Амстердам, сто девяносто девять, послезавтра.
– Не годится! Я же сказала, Саша, мне надо уехать сегодня.
На людях – и она это с удивлением отметила – ей стало гораздо легче. Мир вокруг нее восстанавливался, собирался, как пазл, заполнялся голосами, звуками улицы, разумными действиями людей. Мир был прекрасно обустроенным, привычным уютным обиталищем, цельной картиной, в которой и она была значительной и необходимой деталью, а значит, не могла не существовать и впредь.
– Ага! – воскликнул Саша с явным удовольствием мастера, любующегося результатом своих усилий. Он даже ласково прошелся ладонью по клавиатуре, как по холке любимой призовой кобылы. – Вот то, за чем я охочусь! Добро пожаловать в Венецию!
– А там не холодно сейчас? – спросила она, уже понимая, что – конечно, конечно Венеция! Именно Венеция! Как она могла жить до сих пор, ни разу не бывав в Венеции! – А что там – карнавал?
– Да нет, – сказал Саша, – карнавал же в феврале. Но сейчас огромные скидки на билеты. Осень, не сезон, возможны наводнения. Возьмите куртку… Я попытаюсь заказать номер в недорогой гостинице в центре, есть такая – «Аль Анжело», прямо на площади Святого Марка.
А она уже вцепилась в эти так сладко звучащие имена, уже поплыла им навстречу, уже поверила, что все будет хорошо сейчас, немедленно и навсегда.
– Черт возьми, Саша! – воскликнула она. – А вы знаете, что в институте два года подряд я брала факультатив итальянского? Да-да! Ни черта, правда, не помню, но где-то у меня валяются учебник и словарь… Мне нравится этот поворот событий, – сказала она решительно. – Мне… ми пьяче[1]. Ми пьяче, Саша!
– Ну, вот видите, как славно, – сказал Саша, сам донельзя довольный. – Я заказываю… Вы успеваете. А билет вас будет ждать в аэропорту, на стойке регистрации.
…Дома она столкнулась с дочерью, хотя надеялась, что успеет улизнуть, оставив веселую извинительную записочку. Впрочем, подумала она, так даже лучше. Миша не будет настолько потрясен и испуган ее необъяснимым отъездом, если сейчас удастся запудрить мозги ребенку.
Она зашла в ванную, включила воду и распустила волосы, что всегда требовало некоторых строительных усилий: неимоверное количество заколок и шпилек держало в каком-то пристойном порядке ее густые длинные волосы редчайшего природного цвета – темно-золотистой меди, того благородного пурпурного оттенка, который невозможно назвать ни рыжим, ни красным, ни просто каштановым… Разделась и встала под душ.
– Ну, что сказал Юрик? – спросила дочь, заглядывая.
– Да так, ерунда… – сказала она, намыливая губку.
– А конкретней? – Дочь унаследовала ее характер, въедливый, настырный, пунктуальный.
– Отвали, – коротко попросила мать, задергивая клеенчатую шторку.
Странно, что дочь – студентка второго курса университета – в это время дня оказалась дома. Не иначе как опять поссорилась с приятелем, этим вялым ничтожеством с бескостным рукопожатием. Девочка утверждает, что он талантлив. Как может быть талантливым человек студенистый, словно устрица? Ее так и подмывало спросить у дочери, чем он трахается. Но Миша, со своим извечным благородством, всю жизнь унимал хулиганские поползновения жены.
– Слушай… – Накинув халат, она завязала мокрый узел волос (серия привычных, почти бессознательных круговых движений пальцев по вколачиванию шпилек и заколок в усмиренного, свернутого кольцами удава на затылке). – Одолжи мне пару свитерков, я тут сбегу от вас дней на пять в более умеренные широты.
– Куда это? – удивилась дочь.
– Не твое дело, – спокойно отозвалась она.
– Ого! – Дочь смотрела на нее с тревожным восхищением. – Уж не романчик ли ты закрутила, бабуля?
Между ними была разница в девятнадцать лет. «Наглая девка», – подумала мать с горьким удовольствием, а вслух повторила коротко:
– Не твое дело!
Дочь помогла ей собрать небольшую дорожную сумку, делая вид, что все о’кей, задавая попутно вполне бытовые вопросы: «А махровый халат берешь?» – «Нет, он тяжелый, положи тот голубой, шелковый», – пытаясь скрыть свое замешательство.
Дочь была ее точным повторением – поразительная копия, с материнской походкой, теми же подростковыми ухватками, той же манерой сидеть задрав ногу на ногу. Вот только цветом волос пошла в Мишу и носила короткую светлую стрижку и поэтому была совершенно иной женщиной.
– Но у тебя же эксперимент, – вспомнила дочь. – Кто закончит? Юля?
– Да нет, у Юли же аллергия на мышей. Есть там один, с третьего этажа… Ничего, справятся, не маленькие.
– Я вам факсовать буду, – пообещала она, когда водитель такси уже вызванивал ее снизу, у подъезда. – Буду писать р-романтические эпистолярии…
– Ты что, и телефона отеля не оставишь? – спросила дочь с явной уже тревогой.
Тогда она чмокнула своего единственного ребенка, что случалось крайне редко, и сказала:
– Вот дура, кто ж в таких случаях телефон оставляет!
Дочь пристально смотрела на нее.
– Но ты отца-то, надеюсь, не бросишь? – спросила она, кривой усмешкой демонстрируя свойский как бы юморок. На самом деле совершенно была обескуражена ситуацией.
Ничего, ничего. Лучше так, чем…
– Может, и брошу! – задорно крикнула она, садясь в такси и захлопывая дверцу.
И уже внутри, откинувшись на сиденье, расслабив лицо: брошу, милые. Я всех вас скоро брошу.
В десятом часу вечера она вышла из здания венецианского вокзала к причалу, где – как ей объяснили в поезде – должна была сесть на речной трамвай, или, как здесь говорили, вапоретто номер один.
Еще в самолете, полистав прихваченный из дому старый институтский учебник итальянского, она обнаружила, что помнит почти все. А что не помнила, то сразу и восстановила. Дедово наследство: его феноменальная память на даты, научные факты, имена и иностранные языки. Любопытно, что оба его сына, люди даровитые, не унаследовали этой цирковой, как говорила бабка Рита, памяти. А вот внуки – и она, и покойный двоюродный брат (классическое третье поколение) – оба в детстве любили демонстрировать фокус: раз прочитанную и тотчас выпаленную наизусть страницу книги.
В поезде она даже заговорила с пожилым учителем физики из Милана, и к удивлению своему, выяснила, что вполне прилично объясняется, а понимает почти все. Но тут сказывались и семь лет музыкальной школы с итальянскими терминами в нотах, и ее отличный английский, и сносный французский.
Минут тридцать она стояла на ступенях вокзала, пытаясь совладать с собой, шагнуть и начать жить в этом сумеречном мире, театрально освещенном светом лиловых фонарей. Этот мир состоял из бликов темной колыхающейся воды, из частокола скользких деревянных свай с привязанными к ним гондолами и катерками, из выхваченных слабым светом невидимой рампы дворцов, встающих прямо из воды…
И когда, пересилив себя, взяла билет и ступила на палубу вапоретто, – словно занавес взмыл, и оркестр вкрадчивым пиццикато струнных заиграл музыку пролога к чудной таинственной пьесе, главным действующим лицом которой она себя сразу обозначила.
На каждом повороте канала – едва из сырого тумана выплывал новый, мягко подсвеченный, смутно-кружевной, с черными провалами высоких венецианских окон дворец, или вдруг вырастал и черной тенью проплывал над головой мост Риальто – сердце ее беззащитно взмывало, губы приоткрывались, выдавливая тихий стон восторга, и она падала, падала, как в детстве в луна-парке, в сладко холодящую живот пропасть…
Она стояла у поручня, возле матроса, который на частых остановках ловко набрасывал на деревянную сваю канат, мгновенно вязал морской узел, подтягивая вапоретто к причалу, и через минуту, когда одна толпа вываливалась на набережную, а другая торопливо заполняла палубу, так же ловко развязывал узел – трамвайчик отчаливал.
– Вам какая остановка нужна? – вдруг спросили рядом по-русски.
Она повернула голову. Девушка, тот простенький российский тип, который ни с каким иным не спутаешь. На туристку не тянет. Такие в прежние времена стояли за прилавком гастронома, в овощном отделе.
– Как вы поняли, что я русская? – спросила она.
– Ничего себе! – рассмеялась та. – Вы ж, как вошли у вокзала, все стонете и, извините, материтесь… И бледная такая. Я думаю – может, помочь надо.
– Спасибо, я примерно знаю, куда мне. Площадь Сан-Марко.
– Ну, еще две остановки… Вы в первый раз, да? Это видно. А я здесь подрабатываю в одной семье, детей смотрю. Знаете, ко всему привыкаешь. Все примелькается…
…На Сан-Марко вапоретто опустел почти полностью, и она вместе с толпой и за толпой пошла по мосткам, потом куда-то направо по набережной, натыкаясь взглядом на четырехцветные шутовские колпаки с бубенцами и маски, напяленные жизнерадостными туристами… И вдруг попала в огромную залу под черным небом, под колоннады, мягко освещенные холодным светом фонарей и теплым оранжево-желтым светом из открытых дверей ресторанов.
И пошла на свет этого праздника, вдоль витрин с горячей, ослепляющей лавиной цветного венецианского стекла, вдоль переливов пурпурно-золотого, лазурного, кипяще-алого, янтарно-изумрудного…
Столкнулась с официантом в белом кителе, с подносом на растопыренных пальцах и, удерживая его умоляющей гримасой, торопливо воскликнула:
– Синьор, пожалуйста, синьор! Где тут гостиница «Аль…» – и забыла вдруг название, беспомощно взмахнула руками…
– «Аль Анжело», – деловито подсказал официант, ловко перебросил поднос на растопыренные пальцы левой руки, а правая заплескалась, как рыба, изгибами подтверждая музыку и очарование латыни:
– Дестра, дестра… синистра[2]…
И она ошалело пошла в указанном направлении, следуя плеску чужой ладони, вдоль огромных темных арок и ниш, и колонн самого собора, в упоении повторяя эту мелодию вибрирующим кончиком языка: «Дестра, синистра, дестра…», уже обожая эту площадь, официантов, туристов, искрометные витрины, мягкие шутовские колпаки и мотивчик старого колченогого фокстрота из открытых дверей полутемного бара.
В переулках за площадью толпа не поредела, а шла плотным медленным косяком, как рыбий косяк.
Она долго блуждала с радостно колотящимся сердцем, пытаясь найти свою гостиницу по номерам домов, но кто-то бестолковый, а может быть, вечно пьяный пронумеровал дома в непостижимой трезвому уму закономерности… Наконец поверх толпы, над фонарями, над витринами она прочла разухабистую неоновую вывеску: «У ангела» – это оказался большой шумный ресторан, забитый публикой, и она испугалась, что Саша все напутал, и ей теперь некуда приткнуться; но вдруг (все происходило мгновенно, хотя и плавно и нереально, как по течению сна) за углом ресторана различила еще одну боковую дверь и ринулась к ней.
На этой стеклянной двери тоже было написано «У ангела» и для наглядности нарисованы скрещенные крылышки, подозрительно смахивающие на долгопалые и долгопятые мужские ноги.
«Да это притон! – сказала она себе весело. – Меня тут ограбят, убьют, скинут в канал, и дело с концом. Смерть в Венеции!»
Но за входной дверью оказался небольшой грязноватый холл, проходной – во всяком случае, мимо то и дело проскакивали официанты из ресторана; справа, в неглубокой нише приткнулась давно не крашенная стойка портье, и вверх на этажи уводили узкие высокие ступени, с которых клочьями свисало затертое ковровое покрытие некогда бордового цвета. Под лестницей она разглядела сваленные небольшой горкой дрова. Выходит, где-то и камин был… Все это ее восхитило.
– Синьор, – с ощутимым удовольствием выговорила она, подойдя к обшарпанной стойке. – Для меня тут заказан номер. – И назвала фамилию.
Забавно, что портье, молодой человек лет двадцати пяти, напомнил ей беспутного двоюродного брата Антошу, погибшего много лет назад от передозировки героина. То же узкое подвижное лицо с густыми бровями, те же «уленшпигельские» складки в углах насмешливого рта и меткий взгляд уличной шпаны.
Он посмотрел в экран компьютера (все же эта вездесущая электроника неуловимо оскверняет собой такие вот старинные дома, надо бы запретить), и любезно улыбнулся:
– Буона сера, синьора! Ваш номер – сто двадцать седьмой. Пятый этаж. Оставьте паспорт, я верну его завтра утром.
Она взяла ключ… и вдруг спросила, сама не зная почему:
– Как вас зовут?
Он замешкался, принимая ее паспорт, глянул из-под густых бровей и сказал:
– Тони… Антонио.
Она удовлетворенно кивнула (так легким кивком подбородка поощряет на репетиции режиссер актера, нашедшего удачный жест или интонацию), и стала подниматься по крутым каменным ступеням вверх.
Ожидая увидеть тесную клетушку недорогой европейской гостиницы, она отворила дверь и застыла на пороге: это была скромных размеров зала с рядом высоких, закрытых ставнями окон, с просторной, в стиле модерн, кроватью, плетеными креслами, зеркальным шкафом… «В чем же причина такой дешевизны? – подумала она озадаченно. – Вероятно, в отсутствии «мест уединенных»…»
Но рядом со шкафом обнаружила еще одну дверь, толкнув которую совершенно уже остолбенела: еще одна зала, поменьше первой, – огромная, на львиных лапах ванна, биде, два зачем-то умывальника и зеркало в золоченой раме от пола до потолка. Старая стертая керамика, прерывистые зеленые стебли по золотистому полю, кое-где треснувшие плитки… Но все облагорожено желтоватым обливным светом трех бронзовых ламп. Сказки Шехерезады, таинственный караван-сарай по дороге в Византию.
– Убьют непременно… – проговорила она вслух медленно, с удовольствием. – Труп выбросят в канал. И дом – притон, и портье – разбойник… Господи, какое счастье, Антоша, Антоша…
Пропащий так нелепо любимый брат всегда был особой болевой областью ее судьбы. Втайне она считала, что эта боль послана ей в противовес слишком благополучной личной жизни и слишком гладкой, слишком удачной научной карьере. Антоша погиб давно, спустя три дня после рождения ее дочери. «Сгинул ни за понюшку табаку, – говорила Рита, сморкаясь и оплакивая его, буквально омывая слезами до конца дней, – и все вот эта их Академия проклятая, их проклятая богема…»
Рита, святая душа, неродная бабка, преданная мачеха их с Антошей отцов, – как она любила, как похвалялась своими внуками: один – ленинградский, другая – московская. В детстве они съезжались к ней на дачу в конце мая, после экзаменов. Сначала приезжала на электричке она – с рюкзачком за худыми лопатками, с плюшевой собакой Натой под мышкой… Затем тянулись несколько дней ожидания Антоши, и наконец – с грохотом отворяемого Ритой ставня – наступало утро его приезда.
Уже за час они с Ритой маялись по клязьминскому перрону, Рита говорила: «Ох, опоздает, ох, чует мое сердце…» Но вот издали уплотнялся слабый гул, вздрагивал перрон, вылетал поезд; в распахнутой двери вагона показывался высокий худой Антоша, и – «Э-эй, бабки!» – в знак восторга швырял на перрон грязный бокастый рюкзак.
Много лет с восхитительного полета этого облепленного вокзальной лузгой рюкзака начинались каникулы…
…Несколько минут она бродила по своей патрицианской зале, присаживалась на кровать, на стул. Осваивалась… Пыталась унять странную дрожь.
– А, поняла! – воскликнула наконец. – Окна выходят на помойку.
Похоже, так оно и было, если хозяева позаботились о том, чтобы ставни всех четырех византийских окон были плотно закрыты. «А вот я сейчас вас быстренько разъясню». Довольно долго она боролась с проржавевшим штырьком, намертво засевшим в отверстии каменного подоконника, и когда совсем потеряла надежду увидеть в этой комнате дневной свет, штырек вдруг выскочил с визгливым щелчком, облупленная, бог весть сколько лет не крашенная ставня вяло приотворилась, и толкнув обеими руками наружу складчатые створки, она ахнула, как час назад, на вапоретто, и сквознячок счастья дунул по сердцу.
Окна ее комнаты выходили в улицу-ущелье, дном которого оказалась мерцающая кварцевыми слитками вода канала. Впереди, метрах в ста, круглился мостик под единственным, манерно изогнутым фонарем. Упираясь в здание гостиницы, канал затем уходил вправо, и там его гребешком седлал еще один мосток под двумя фонарями.
В этот момент, как по знаку помрежа, послышались звуки аккордеона, из-под моста справа показался загнутый турецкой туфлей нос гондолы, выплыли сидящие в ней двое пассажиров, вернее, их колени, укутанные ярким даже в темноте пледом, и аккордеонист, разворачивающий мехи. На корме, смутный, в черных брюках и полосатой тельняшке, ворочал веслом поющий гондольер. Над водой разносилась надрывная «Бесаме мучо»…
