Тимур и его команда (сборник)
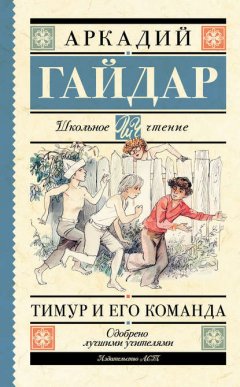
© Камир Б. И., предисловие, 2015
© Мазурин Г. А., Фекляев В. Н., иллюстрации, 2015
© ООО «Издательство ACT». 2015
Слово Гайдара
…Таинственные токи-флюиды неведомым путем облетели тусклый коридор Детского издательства. Двери редакций и соседних с ними бухгалтерий, корректорской, машбюро мгновенно стали раскрываться. Приход Гайдара нарушил размеренную тишь. Еще минута-две – и возле него людей полным-полно. Пятигранной звездочке с лучами – салют! Трогательный гайдаровский знак, украшающий верхний правый угол каждой его рукописи – издавна знаком детгизовцам.
В гимнастерке со стоячим воротником и накладными карманами, в широких полугалифе, заправленных в командирские с блеском сапоги, светловолосый, улыбчивый, он принес сюда на Малый Черкасский ялтинский морской воздух и южное солнце. «Ничего зимнего, январского. Загорал и работал. Готов почитать, если не разбежитесь…»
Он притронулся к карману гимнастерки, но ничего не извлек, и в ритм произносимого, качнув головой, чуть переступал с ноги на ногу. Ни раньше, ни позже ничего подобного мне видеть-слышать не приходилось. Романтическая сказка «Горячий камень» заполонила душу.
С неуемной болью несколько месяцев спустя мы узнали: дивное исповедальное сказание было последним прижизненным произведением Аркадия Петровича.
Константин Григорьевич Паустовский вспоминал: «Писал Гайдар совсем не так, как мы привыкли думать. Он ходил по саду и бормотал, рассказывал самому себе вслух новую главу из начатой книги, тут же на ходу исправлял ее, менял слова, фразы, смеялся или хмурился, потом уходил в свою комнату и там записывал все, что уже прочно сложилось у него в сознании и в памяти».
Гроза войны круто повернула жизнь страны и, естественно, нашего издательства, одного из звеньев культуры сражающегося общества. Вахта – круглосуточная, казарменная. Время спрессовано в часы и минуты. Утро, вечер, день, ночь. В редакционных комнатах непривычные раскладушки, покрытие солдатскими одеялами. Обложки первых военных изданий («За родину, честь и свободу!»), прикладных листовок («Как гасить зажигалки?») увенчаны символом – бойцы-автоматчики, танки, пушки, многоствольные «катюши» рвутся в бой под красным знаменем. Все – для Победы!
Звонок из Главной редакции. «Гайдар здесь, заходи». Без малейшей запинки, с ходу, делюсь с Аркадием Петровичем замыслом – выпустить «летучим дождем брошюр» обращения к детям видных писателей. Алексей Толстой, Самуил Маршак, Ванда Василевская, Илья Эренбург, Янка Купала свои статьи уже дали. «Хотите, чтобы написал я?» – «Да, непременно». Ребятам важно услышать голос любимого писателя, старшего друга, вооружиться советом, поддержкой.
С первых дней гитлеровского нашествия Аркадий Петрович на фронте. В удостоверении «Комсомольской правды» значиться, что «командируется в действующую Красную Армию юго-западного направления в качестве военного корреспондента…».
Жаль, но выполнить просьбу он не может. Сейчас здесь по вызову редакции. «Завтра уезжаю…» Я прошу оставить хотя бы несколько строк, но нет, некогда. Прощаемся, он идет к двери, вдруг оборачивается и со словами: «Впрочем, готов помочь» – вынимает из планшета сложенные вчетверо листки. «Вот вам для сборника, может, подойдет?» – и уходит. На следующий день, 30 августа, Гайдар отбыл в самое пекло, в осажденный гитлеровцами Киев.
Врученные мне странички вскоре стали широко известны. Его записывали на радио и просили выступить еще. Текст он подготовил, но прийти не успел. Это был овеянный мудростью и опытом призыв Гайдара «Берись за оружие, комсомольское племя!». «Комсомолец, школьник, пионер, юный патриот, война еще только начинается и знай, что ты еще нужен будешь в бою. Приходи к нам на помощь не только смелым, но и умелым… Чтобы сразу, быстро отрыл себе надежный окоп, хлопнул по рыхлой груде земли лопатой, закрыл от песка лопухом гранату, метнул глазом – поставил прицел…»
Поздней осенью, в ноябре сорок первого, увидела свет опаленная огнем кровопролитных баталий маленькая книжечка «Советским детям». Писатели, властители дум, говорили в ней о постигшем нас бедствии, о мужестве и бесстрашии сплоченного народа. Завершало это издание заветное слово Гайдара.
В те дни мы не знали, что Аркадия Петровича, увы, нет в живых. 26 октября 1941 годя на Украине у села Лепляева на Подолии в неравном бою, прикрывая пулеметными очередями отход соратников – партизан, пронзенный пулей в самое сердце, он пал смертью героя. Ему выпало прожить 37 лет (родился в 1904 году во Льгове на Курской земле). Роковой возраст русского писателя. Вспомним – Пушкин, Маяковский…
Следуя избранному имени дозорного конника, скачущего, летящего с кличем: «а-й-д-а! а-й-д-а!», Аркадий Гайдар истинное свое призвание нашел в литературе для детей, в этом душевном богатстве, питающим силы ума и сердца не только юных, но взрослых поколений.
Выдающийся мастер, подвижник изящной словесности, он создал целую библиотеку зорких, пытливо-поэтичных книг, устремленных в радужное Завтра. Гайдаровское чтение зовет в неустанный поход «за лучшую долю, за счастье, за братство народов».
Из его уникального творческого наследия назовем вершинное: полуавтобиографическую повесть «Школа» с ее молодыми витязями революции; «Дальние страны» – юнцы мечтают побывать там, где идет большая стройка; «Военная тайна» – люди верны интернациональному братству, ненавидят «квасных» узколобов; «Судьба барабанщика» – мальчик помогает отцу искупить вину; «Голубая чашка» – малышам и старшим чужды разговоры и ссоры, не пускайте в дом «злых, серых мышей»; «Чук и Гек» – история двух славных братишек и, особо, «Тимур и его команда». Эта повесть снискала горячую читательскую любовь у нас и за рубежом. Нельзя остаться равнодушным, знакомясь с беспредельно добрыми делами тимуровцев. Тайная забота о тех, кто страдает. Что может быть возвышеннее этого?..
В книге, которую вы держите в руках, – избранные сочинения автора. Настоящий подарок домашней библиотеке. В образе прославленного Мальчиша-Кибальчиша воздадим должное самому писателю. «Плывут пароходы – привет Мальчишу! Пролетят летчики – привет Мальчишу! Пробегут паровозы – привет Мальчишу!». И всенародно – Гайдару, писателю, воину, благодарность Отечества!..
Борис Камир
Рассказы
Голубая чашка
Мне тогда было тридцать два года. Марусе двадцать девять, а дочери нашей Светлане шесть с половиной. Только в конце лета я получил отпуск, и на последний теплый месяц мы сняли под Москвой дачу.
Мы со Светланой думали ловить рыбу, купаться, собирать в лесу грибы и орехи. А пришлось сразу подметать двор, подправлять ветхие заборы, протягивать веревки, заколачивать костыли и гвозди.
Нам все это очень скоро надоело, а Маруся одно за другим все новые да новые дела и себе и нам придумывает.
Только на третий день к вечеру наконец-то все было сделано. И как раз, когда собирались мы втроем идти гулять, пришел к Марусе ее товарищ – полярный летчик.
Они долго сидели в саду, под вишнями. А мы со Светланой ушли во двор к сараю и с досады взялись мастерить деревянную вертушку.
Когда стемнело, Маруся крикнула, чтобы Светлана выпила молока и ложилась спать, а сама пошла проводить летчика до вокзала.
Но мне без Маруси стало скучно, да и Светлана одна в пустом доме спать не захотела.
Мы достали в чулане муку. Заварили ее кипятком – получился клейстер.
Оклеили гладкую вертушку цветной бумагой, хорошенько разгладили ее и через пыльный чердак полезли на крышу.
Вот сидим мы верхом на крыше. И видно нам сверху, как в соседнем саду, у крыльца, дымит трубой самовар. А на крыльце сидит хромой старик с балалайкою, и возле него толпятся ребятишки.
Потом выскочила из черных сеней босоногая сгорбленная старуха. Ребятишек турнула, старика обругала и, схватив тряпку, стала хлопать по конфорке самовара, чтобы он закипел быстрее.
Посмеялись мы и думаем: вот подует ветер, закружится, зажужжит наша быстрая вертушка. Ото всех дворов сбегутся к нашему дому ребятишки. Будет и у нас тогда своя компания.
А завтра что-нибудь еще придумаем.
Может быть, выроем глубокую пещеру для той лягушки, что живет в нашем саду, возле сырого погреба.
Может быть, попросим у Маруси суровых ниток и запустим бумажного змея – выше силосной башни, выше желтых сосен и даже выше того коршуна, который целый день сегодня сторожил с неба хозяйских цыплят и крольчат.
А может быть, завтра с раннего утра сядем в лодку – я на весла, Маруся за руль, Светлана пассажиром – и уплывем по реке туда, где стоит, говорят, большой лес, где растут на берегу две дуплистые березы, под которыми нашла вчера соседская девчонка три хороших белых гриба. Жаль только, что все они были червивые.
Вдруг Светлана потянула меня за рукав и говорит:
– Посмотри-ка, папа, а ведь, кажется, это наша мама идет, и как бы нам с тобой сейчас не попало.
И правда, идет по тропинке вдоль забора наша Маруся, а мы-то думали, что вернется она еще не скоро.
– Наклонись, – сказал я Светлане. – Может быть, она и не заметит.
Но Маруся сразу же нас заметила, подняла голову и крикнула:
– Вы зачем это, негодные люди, на крышу залезли? На дворе уже сыро. Светлане давно спать пора. А вы обрадовались, что меня нет дома, и готовы баловать хоть до полуночи.
– Маруся, – ответил я, – мы не балуем, мы вертушку приколачиваем. Ты погоди немного, нам всего три гвоздя доколотить осталось.
– Завтра доколотите! – приказала Маруся. – А сейчас слезайте, или я совсем рассержусь.
Переглянулись мы со Светланой. Видим, плохо наше дело. Взяли и слезли. Но на Марусю обиделись.
И хотя Маруся принесла со станции Светлане большое яблоко, а мне пачку табаку, – все равно обиделись.
Так с обидой и уснули.
А утром – еще новое дело! Только что мы проснулись, подходит Маруся и спрашивает:
– Лучше сознавайтесь, озорной народ, что в чулане мою голубую чашку разбили!
А я чашки не разбивал. И Светлана говорит, что не разбивала тоже. Посмотрели мы с ней друг на друга и подумали оба, что уж это на нас Маруся говорит совсем напрасно.
Но Маруся нам не поверила.
– Чашки, – говорит она, – не живые: ног у них нет. На пол они прыгать не умеют. А кроме вас двоих, в чулан никто вчера не лазил. Разбили и не сознаетесь. Стыдно, товарищи!
После завтрака Маруся вдруг собралась и отправилась в город, а мы сели и задумались.
Вот тебе и на лодке поехали!
И солнце к нам в окна заглядывает. И воробьи по песчаным дорожкам скачут. И цыплята сквозь деревянный плетень со двора на улицу и с улицы на двор шмыгают.
А нам совсем не весело.
– Что ж! – говорю я Светлане. – С крыши нас с тобой вчера согнали. Банку из-под керосина у нас недавно отняли. За какую-то голубую чашку напрасно выругали. Разве же это хорошая жизнь?
– Конечно, – говорит Светлана, – жизнь совсем плохая.
– А давай-ка, Светлана, надень ты свое розовое платье. Возьмем мы из-за печки мою походную сумку, положим туда твое яблоко, мой табак, спички, нож, булку и уйдем из этого дома куда глаза глядят.
Подумала Светлана и спрашивает:
– А куда твои глаза глядят?
– А глядят они, Светлана, через окошко, вот на ту желтую поляну, где пасется хозяйкина корова. А за поляной, я знаю, гусиный пруд есть, а за прудом водяная мельница, а за мельницей на горе березовая роща. А что там за горой, – уж этого я и сам не знаю.
– Ладно, – согласилась Светлана, – возьмем и хлеб, и яблоко, и табак, а только захвати ты с собой еще толстую палку, потому что где-то в той стороне живет ужасная собака Полкан. И говорили мне про нее мальчишки, что она одного чуть-чуть до смерти не заела.
Так мы и сделали. Положили в сумку что надо было, закрыли все пять окон, заперли обе двери, а ключ подсунули под крыльцо.
Прощай, Маруся! А чашки твоей мы все равно не разбивали.
Вышли мы за калитку, а навстречу нам молочница.
– Молока надо?
– Нет, бабка! Нам больше ничего не надо.
– У меня молоко свежее, хорошее, от своей коровы, – обиделась молочница. – Вернетесь, так пожалеете.
Загромыхала она своими холодными бидонами и пошла дальше. А где ей догадаться, что мы далеко уходим и, может, не вернемся?
Да и никто об этом не догадывался. Прокатил на велосипеде загорелый мальчишка. Прошагал, наверное, в лес за грибами, толстый дядька в трусах и с трубкой. Прошла белокурая девица с мокрыми после купания волосами. А знакомых мы никого не встретили.
Выбрались мы через огороды на желтую от куриной слепоты поляну, сняли сандалии и по теплой тропинке пошли босиком через луг прямо на мельницу.
Идем мы, идем и вот видим, что от мельницы во весь дух мчится нам навстречу какой-то человек. Пригнулся он, а из-за ракитовых кустов летят ему в спину комья земли. Странно нам это показалось. Что такое? У Светланы глаза зоркие, остановилась она и говорит:
– А я знаю, кто это бежит. Это мальчишка, Санька Карякин, который живет возле того дома, где чьи-то свиньи в сад на помидорные грядки залезли. Он вчера еще против нашей дачи на чужой козе верхом катался. Помнишь?
Добежал до нас Санька, остановился и слезы ситцевым кульком вытирает. А мы спрашиваем у него:
– Почему это, Санька, ты во весь дух мчался и почему это за тобой из-за кустов комья летели?
Отвернулся Санька и говорит:
– Меня бабка в колхозную лавку за солью послала. А на мельнице сидит пионер Пашка Букамашкин, и он меня драть хочет.
Посмотрела на него Светлана. Вот так дело!
Разве же есть в Советской стране такой закон, чтобы бежал человек в колхозную лавку за солью, никого не трогал, не задирал и вдруг бы его ни с того ни с сего драть стали?
– Идем с нами, Санька, – говорит Светлана. – Не бойся. Нам по дороге, и мы за тебя заступимся.
Пошли мы втроем сквозь густой ракитник.
– Вот он, Пашка Букамашкин, – сказал Санька и попятился.
Видим мы – стоит мельница. Возле мельницы телега. Под телегой лежит кудластая, вся в репейниках, собачонка и, приоткрыв один глаз, смотрит, как шустрые воробьи клюют рассыпанные по песку зерна. А на кучке песка сидит без рубахи Пашка Букамашкин и грызет свежий огурец.
Увидал нас Пашка, но не испугался, а бросил огрызок в собачонку и сказал, ни на кого не глядя:
– Тю!.. Шарик… Тю!.. Вон идет сюда известный фашист, белогвардеец Санька. Погоди, несчастный фашист! Мы с тобою еще разделаемся.
Тут Пашка плюнул далеко в песок. Кудластая собачонка зарычала. Испуганные воробьи с шумом взлетели на дерево. А мы со Светланой, услышав такие слова, подошли к Пашке поближе.
– Постой, Пашка, – сказал я. – Может быть, ты ошибся? Какой же это фашист, белогвардеец? Ведь это просто-напросто Санька Карякин, который живет возле того дома, где чьи-то свиньи в чужой сад на помидорные грядки залезли.
– Все равно белогвардеец, – упрямо повторил Пашка. – А если не верите, то хотите, я расскажу вам всю его историю?
Тут нам со Светланой очень захотелось узнать всю Санькину историю. Мы сели на бревна, Пашка напротив. Кудластая собачонка у наших ног, на траву. Только Санька не сел, а, уйдя за телегу, закричал оттуда сердито:
– Ты тогда уже все рассказывай! И как мне по затылку попало, тоже рассказывай. Думаешь, по затылку не больно? Возьми-ка себе да стукни.
– Есть в Германии город Дрезден, – спокойно сказал Пашка, – и вот из этого города убежал от фашистов один рабочий, еврей. Убежал и приехал к нам. А с ним девчонка приехала, Берта. Сам он теперь на этой мельнице работает, а Берта с нами играет. Только сейчас она в деревню за молоком побежала. Так вот, играем мы позавчера в чижа: я, Берта, этот человек, Санька и еще один из поселка. Берта бьет палкой в чижа и попадает нечаянно этому самому Саньке по затылку, что ли…
– Прямо по макушке стукнула, – сказал Санька из-за телеги. – У меня голова загудела, а она еще смеется.
– Ну вот, – продолжал Пашка, – стукнула она этого Саньку чижом по макушке. Он сначала на нее с кулаками, а потом ничего. Приложил лопух к голове – и опять с нами играет. Только стал он после этого невозможно жулить. Возьмет нашагнет лишний шаг, да и метит чижом прямо на кон.
– Врешь, врешь! – выскочил из-за телеги Санька. – Это твоя собака мордой ткнула, вот он, чиж, и подкатился.
– А ты не с собакой играешь, а с нами. Взял бы да и положил чижа на место. Ну вот. Метнул он чижа, а Берта как хватит палкой, так этот чиж прямо на другой конец поля, в крапиву, перелетел. Нам смешно, а Cанька злится. Понятно, бежать ему за чижом в крапиву неохота… Перелез через забор и орет оттуда: «Дура, жидовка! Чтоб ты в свою Германию обратно провалилась!» А Берта дуру по-русски уже хорошо понимает, а жидовку еще не понимает никак. Подходит она ко мне и спрашивает: «Это что такое жидовка?» А мне и сказать совестно. Я кричу: «Замолчи, Санька!» А он нарочно все громче и громче кричит. Я – за ним через забор. Он – в кусты. Так и скрылся. Вернулся я – гляжу: палка валяется на траве, а Берта сидит в углу на бревнах. Я зову: «Берта!» Она не отвечает. Подошел я – вижу: на глазах у нее слезы. Значит, сама догадалась. Поднял я тогда с земли камень, сунул в карман и думаю: «Ну, погоди, проклятый Санька! Это тебе не Германия. С твоим-то фашизмом мы и сами справимся!»
Посмотрели мы на Саньку и подумали: «Ну, брат, плохая у тебя история. Даже слушать противно. А мы-то еще собирались за тебя заступиться».
И только хотел я это сказать, как вдруг дрогнула и зашумела мельница, закрутилось по воде отдохнувшее колесо. Выскочила из мельничного окна обсыпанная мукой, ошалелая от испуга кошка. Спросонок промахнулась и свалилась прямо на спину задремавшему Шарику. Шарик взвизгнул и подпрыгнул. Кошка метнулась на дерево, воробьи с дерева – на крышу. Лошадь вскинула морду и дернула телегу. А из сарая выглянул какой-то лохматый, серый от муки дядька и, не разобравшись, погрозил длинным кнутом отскочившему от телеги Саньке:
– Но, но… смотри, не балуй, а то сейчас живо выдеру!
Засмеялась Светлана, и что-то жалко ей стало этого несчастного Саньку, которого все хотят выдрать.
– Папа, – сказала она мне. – А может быть, он вовсе не такой уж фашист? Может быть, он просто дурак? Ведь правда, Санька, что ты просто дурак? – спросила Светлана и ласково заглянула ему в лицо.
В ответ Санька только сердито фыркнул, замотал головой, засопел и хотел что-то сказать. А что тут скажешь, когда сам кругом виноват и сказать-то, по правде говоря, нечего.
Но тут Пашкина собачонка перестала вдруг тявкать на кошку и, повернувшись к полю, подняла уши.
Где-то за рощей хлопнул выстрел. Другой. И пошло, и пошло!..
– Бой неподалеку! – вскрикнул Пашка.
– Бой неподалеку, – сказал и я. – Это палят из винтовок. А вот слышите? Это застрочил пулемет.
– А кто с кем? – дрогнувшим голосом спросила Светлана. – Разве уже война?
Первым вскочил Пашка. За ним помчалась собачонка. Я подхватил на руки Светлану и тоже побежал к роще.
Не успели мы пробежать полдороги, как услышали позади крик. Мы обернулись и увидели Саньку.
Высоко подняв руки, чтобы мы его скорее заметили, он мчался к нам напрямик через канавы и кочки.
– Ишь ты, как козел скачет! – пробормотал Пашка. – А чем этот дурак над головой размахивает?
– Это не дурак. Это он мои сандалии тащит! – радостно закричала Светлана. – Я их на бревнах позабыла, а он нашел и мне их несет. Ты бы с ним помирился, Пашка!
Пашка насупился и ничего не ответил. Мы подождали Саньку, взяли у него желтые Светланины сандалии. И теперь уже вчетвером, с собакой, прошли через рощу на опушку.
Перед нами раскинулось холмистое, поросшее кустами поле. У ручья, позвякивая жестяным бубенчиком, щипала траву привязанная к колышку коза. А в небе плавно летал одинокий коршун. Вот и все. И больше никого и ничего на этом поле не было.
– Так где же тут война? – нетерпеливо спросила Светлана.
– А сейчас посмотрю, – сказал Пашка и влез на пенек.
Долго стоял он, щурясь от солнца и закрывая глаза ладонью. И кто его знает, что он там видел, но только Светлане ждать надоело, и она, путаясь в траве, пошла сама искать войну.
– Мне трава высокая, а я низкая, – приподнимаясь на цыпочках, пожаловалась Светлана. – И я совсем не вижу.
– Смотри под ноги, не задень провод, – раздался сверху громкий голос.
Мигом слетел с пенька Пашка. Неуклюже отскочил в сторону Санька. А Светлана бросилась ко мне и крепко схватила меня за руку.
Мы попятились и тут увидели, что прямо над нами, в густых ветвях одинокого дерева, притаился красноармеец.
Винтовка висела возле него на суку. В одной руке он держал телефонную трубку и, не шевелясь, глядел в блестящий черный бинокль куда-то на край пустынного поля.
Еще не успели мы промолвить слова, как издалека, словно гром с перекатами и перегудами, ударил страшный орудийный залп. Вздрогнула под ногами земля. Далеко от нас поднялась над полем целая туча черной пыли и дыма. Как сумасшедшая, подпрыгнула и сорвалась с мочальной веревки коза. А коршун вильнул в небе и, быстро-быстро махая крыльями, умчался прочь.
– Плохо дело фашистам! – громко сказал Пашка и посмотрел на Саньку. – Вот как бьют наши батареи.
– Плохо дело фашистам, – как эхо повторил хриплый голос.
И тут мы увидели, что под кустами стоит седой бородатый старик.
У старика были могучие плечи. В руках он держал тяжелую суковатую дубинку. А у его ног стояла высокая лохматая собака и скалила зубы на поджавшего хвост Пашкиного Шарика.
Старик приподнял широченную соломенную шляпу, важно поклонился сначала Светлане, потом уже всем нам. Потом он положил дубинку на траву, достал кривую трубку, набил ее табаком и стал раскуривать.
Он раскуривал долго, то приминая табак пальцем, то ворочая его гвоздем, как кочергой в печке.
Наконец раскурил и тогда так запыхтел и задымил, что сидевший на дереве красноармеец зачихал и кашлянул.
Тут снова загремела батарея, и мы увидели, что пустое и тихое поле разом ожило, зашумело и зашевелилось. Из-за кустарника, из-за бугров, из-за канав, из-за кочек – отовсюду с винтовками наперевес выскакивали красноармейцы.
Они бежали, прыгали, падали, поднимались снова. Они сдвигались, смыкались, их становилось все больше и больше; наконец с громкими криками всей громадой они ринулись в штыки на вершину пологого холма, где еще дымилось облако пыли и дыма.
Потом все стихло. С вершины замахал флагами еле нам заметный и точно игрушечный сигналист. Резко заиграла «отбой» военная труба.
Обламывая тяжелыми сапогами сучья, слез красноармеец-наблюдатель с дерева. Быстро погладил Светлану, сунул ей в руку три блестящих желудя и торопливо убежал, сматывая на катушку тонкий телефонный провод.
Военное учение закончилось.
– Ну, видал? – подталкивая Саньку локтем, укоризненно сказал Пашка. – Это тебе не чижом по затылку. Тут вам быстро пособьют макушки.
– Странные я слышу разговоры, – двигаясь вперед, сказал бородатый старик. – Видно, я шестьдесят лет прожил, а ума не нажил. Ничего мне не понятно. Тут, под горой, наш колхоз «Рассвет». Кругом это наши поля: овес, гречиха, просо, пшеница. Это на реке наша новая мельница. А там, в роще, наша большая пасека. И над всем этим я главный сторож. Видал я жуликов, ловил и конокрадов, но чтобы на моем участке появился хоть один фашист – при советской власти этого еще не бывало ни разу. Подойди ко мне, Санька грозный человек. Дай я на тебя хоть посмотрю. Да постой, постой, ты только слюни подбери и нос вытри. А то мне и так на тебя взглянуть страшно.
Все это неторопливо сказал насмешливый старик и с любопытством заглянул из-под мохнатых бровей… на вытаращившего глаза изумленного Саньку.
– Неправда! – шмыгнув носом, завопил оскорбленный Санька. – Я не фашист, а весь советский. А девчонка Берта давно уже не сердится и вчера откусила от моего яблока больше половины. А этот Пашка всех мальчишек на меня натравливает. Сам ругается, а у меня пружину зажулил. Раз я фашист, значит, и пружина фашистская. А он из нее для своей собаки какую-то качалку сделал. Я ему говорю: «Давай, Пашка, помиримся», – а он говорит: «Сначала отдеру, а потом помиримся».
– Надо без дранья мириться, – убежденно сказала Светлана. – Надо сцепиться мизинцами, поплювать на землю и сказать: «Ссор, ссор никогда, а мир, мир навсегда». Ну, сцепляйтесь! А ты, главный сторож, крикни на свою страшную собаку, и пусть она нашего маленького Шарика не пугает.
– Назад, Полкан! – крикнул сторож. – на землю и своих не трогай!
– Ах, вот это кто! Вот он, Полкан-великан, лохматый и зубатый.
Постояла Светлана, покрутилась, подошла поближе и погрозила пальцем:
– И я своя, а своих не трогай!
Поглядел Полкан: глаза у Светланы ясные, руки пахнут травой и цветами. Улыбнулся и вильнул хвостом.
Завидно тогда стало Саньке с Пашкой, подвинулись они и тоже просят:
– И мы свои, а своих не трогай!
Подозрительно потянул Полкан носом: не пахнет ли от хитрых мальчишек морковкой из колхозных огородов? Но тут, как нарочно, вздымая пыль, понесся по тропинке шальной жеребенок. Чихнул Полкан, так и не разобравши. Тронуть – не тронул, но хвостом не вильнул и гладить не позволил.
– Нам пора, – спохватился я. – Солнце высоко, скоро полдень. Ух, как жарко!
– До свидания! – звонко попрощалась со всеми Светлана. – Мы опять уходим далеко.
– До свидания! – дружно ответили уже помирившиеся ребятишки. – Приходите к нам опять издалека.
– До свидания, – улыбнулся глазами сторож. – Я не знаю, куда вы идете и чего ищете, но только знайте: самое плохое для меня далеко – это налево у реки, где стоит наше старое сельское кладбище. А самое хорошее далеко – это направо, через луг, через овраги, где роют камень. Дальше идите перелеском, обогнете болото. Там, над озером, раскинулся большущий сосновый лес. Есть в нем и грибы, и цветы, и малина. Там стоит на берегу дом. В нем живут моя дочь Валентина и ее сын Федор. И если туда попадете, то от меня им поклонитесь.
Тут чудной старик приподнял свою шляпу, свистнул собаку, запыхтел трубкой, оставляя за собой широкую полосу густого дыма, и зашагал к желтому гороховому полю.
Переглянулись мы со Светланой – что нам печальное кладбище! Взялись мы за руки и повернули направо, в самое хорошее далеко.
Перешли мы луга и спустились в овраги.
Видели мы, как из черных глубоких ям тащат люди белый, как сахар, камень. И не один какой-нибудь завалящийся камешек. Навалили уже целую гору. А колеса все крутятся, тачки скрипят. И еще везут. И еще наваливают.
Видно, немало всяких камней под землей запрятано.
Захотелось и Светлане заглянуть под землю. Долго, лежа на животе, смотрела она в черную яму. А когда оттащил я ее за ноги, то рассказала она, что видела сначала только одну темноту. А потом разглядела под землей какое-то черное море, и кто-то там в море шумит и ворочается. Должно быть, рыба акула с двумя хвостами, один хвост спереди, другой – сзади. И еще почудился ей Страшила в триста двадцать пять ног. И с одним золотым глазом. Сидит Страшила и гудит.
Хитро посмотрел я на Светлану и спросил, не видала ли она там заодно пароход с двумя трубами, серую обезьянку на дереве и белого медведя на льдине.
Подумала Светлана, вспомнила. И оказывается, что тоже видала.
Погрозил я ей пальцем: ой, не врет ли? Но она в ответ рассмеялась и со всех ног пустилась бежать.
Шли мы долго, часто останавливались, отдыхали и рвали цветы. Потом, когда тащить надоедало, оставляли букеты на дороге.
Я один букет бросил старой бабке в телегу. Испугалась сначала бабка, не разобравши, что такое, и погрозила нам кулаком. Но потом увидала, улыбнулась и кинула с воза три больших зеленых огурца.
Огурцы мы подняли, вытерли, положили в сумку и весело пошли своей дорогой.
Встретили мы на пути деревеньку, где живут те, что пашут землю, сеют в поле хлеб, садят картошку, капусту, свеклу или в садах и огородах работают.
Встретили мы за деревней и невысокие зеленые могилы, где лежат те, что свое уже отсеяли и отработали.
Попалось нам дерево, разбитое молнией.
Наткнулись мы на табун лошадей, из которых каждая – хоть самому Буденному.
Увидали мы и попа в длинном черном халате. Посмотрели ему вслед и подивились тому, что остались еще на свете чудаки-люди.
Потом забеспокоились мы, когда потемнело небо. Сбежались отовсюду облака. Окружили они, поймали и закрыли солнце. Но оно упрямо вырывалось то в одну, то в другую дыру. Наконец вырвалось и засверкало над огромной землей еще горячей и ярче.
Далеко позади остался наш серый домик с деревянной крышей.
И Маруся, должно быть, давно уже вернулась. Поглядела – нет. Поискала – не нашла. Сидит и ждет, глупая!
– Папа! – сказала наконец уставшая Светлана. – Давай с тобой где-нибудь сядем и что-нибудь поедим.
Стали искать и нашли мы такую полянку, какая не каждому попадется на свете.
С шумом распахнулись перед нами пышные ветки дикого орешника. Встала острием к небу молодая серебристая елка. И тысячами, ярче, чем флаги в Первое мая – синие, красные, голубые, лиловые, – окружали елку душистые цветы и стояли не шелохнувшись.
Даже птицы не пели над той поляной – так было тихо.
Только серая дура-ворона бухнулась с лету на ветку, огляделась, что не туда попала, каркнула от удивления: «Карр… карр…» – и сейчас же улетела прочь к своим поганым мусорным ямам.
– Садись, Светлана, стереги сумку, а я схожу и наберу в фляжку воды. Да не бойся: здесь живет всего только один зверь – длинноухий заяц.
– Даже тысячи зайцев я и то не боюсь, – смело ответила Светлана, – но ты приходи поскорее все-таки.
Вода оказалась не близко, и, возвращаясь, я уже беспокоился о Светлане.
Но она не испугалась и не плакала, а пела.
Я спрятался за кустом и увидел, что рыжеволосая толстая Светлана стояла перед цветами, которые поднимались ей до плеч, и с воодушевлением распевала такую только что сочиненную песню:
- Гей!.. Гей!..
- Мы не разбивали голубой чашки.
- Нет!.. Нет!..
- В поле ходит сторож полей.
- Но мы не лезли за морковкой в огород.
- И я не лазила, и он не лез.
- А Санька один раз в огород лез.
- Гей!.. Гей!..
- В поле ходит Красная Армия.
- (Это она пришла из города.)
- Красная Армия – самая красная,
- А белая армия – самая белая.
- Тру-ру-ру! Тра-та-та!
- Это барабанщики,
- Это летчики,
- Это барабанщики летят на самолетах.
- И я, барабанщица… здесь стою.
Молча и торжественно выслушали эту песню высокие цветы и тихо закивали Светлане своими пышными головками.
– Ко мне, барабанщица! – крикнул я, раздвигая кусты. – Есть холодная вода, красные яблоки, белый хлеб и желтые пряники. За хорошую песню ничего не жалко.
Чуть-чуть смутилась Светлана. Укоризненно качнула головой и, совсем как Маруся, прищурив глаза, сказала:
– Спрятался и подслушивает. Стыдно, дорогой товарищ!
Вдруг Светлана притихла и задумалась.
А тут еще, пока мы ели, вдруг спустился на ветку серый чиж и что-то такое зачирикал.
Это был смелый чиж. Он сидел прямо напротив нас, подпрыгивал, чирикал и не улетал.
– Это знакомый чиж, – твердо решила Светлана. – Я его видела, когда мы с мамой качались в саду на качелях. Она меня высоко качала. Фють!.. Фють!.. И зачем он к нам прилетел так далеко?
– Нет! Нет! – решительно ответил я. – Это совсем другой чиж. Ты ошиблась, Светлана. У того чижа на хвосте не хватает перьев, которые выдрала ему хозяйкина одноглазая кошка. Тот чиж потолще, и он чирикает совсем не таким голосом.
– Нет, тот самый! – упрямо повторила Светлана. – Я знаю. Это он за нами прилетел так далеко.
– Гей, гей! – печальным басом пропел я. – Но мы не разбивали голубой чашки. И мы решили уйти насовсем далеко.
Сердито чирикнул серый чиж. Ни один цветок из целого миллиона не качнулся и не кивнул головой. И нахмурившаяся Светлана строго сказала:
– У тебя не такой голос. И люди так не поют. А только медведи.
Молча собрались мы. Вышли из рощи. И вот мне на счастье засверкала под горой прохладная голубая река.
И тогда я поднял Светлану. И когда она увидала песчаный берег, зеленые острова, то позабыла все на свете и, радостно захлопав в ладоши, закричала:
– Купаться! Купаться! Купаться!
…Чтобы сократить путь, мы пошли к речке напрямик через сырые луга.
Вскоре мы оказались перед густыми зарослями болотного кустарника. Возвращаться нам не хотелось, и мы решили как-нибудь пробраться. Но чем дальше мы продвигались, тем крепче стягивалось вокруг нас болото.
Мы кружили по болоту, поворачивали направо, налево, перебирались по хлюпким жердочкам, прыгали с кочки на кочку. Промокли, измазались, но выбраться не могли никак.
А где-то совсем неподалеку за кустами ворочалось и мычало стадо, щелкал кнутом пастух и сердито лаяла почуявшая нас собачонка. Но мы не видели ничего, кроме ржавой болотной воды, гнилого кустарника и осоки.
Уже тревога выступила на веснушчатом лице притихшей Светланки. Чаще и чаще она оборачивалась, заглядывая мне в лицо с молчаливым упреком: «Что ж это, папка? Ты большой, сильный, а нам совсем плохо!»
– Стой здесь и не сходи с места! – приказал я, поставив Светлану на клочок сухой земли.
Я завернул в чащу, но и в той стороне оказалась только переплетенная жирными болотными цветами зеленая жижа.
Я вернулся и увидел, что Светлана вовсе не стоит, а осторожно, придерживаясь за кусты, пробирается мне навстречу.
– Стой, где поставили! – резко сказал я.
Светлана остановилась. Глаза ее замигали, и губы дернулись.
– Что же ты кричишь? – дрогнувшим голосом тихо спросила она. – Я босая, а там лягушки – и мне страшно.
И очень жалко стало мне тогда попавшую из-за меня в беду Светланку.
– На, возьми палку, – крикнул я, – и бей их, негодных лягушек, по чему попало! Только стой на месте! Сейчас переберемся.
Я опять свернул в чащу и рассердился. Что это? Разве сравнить это поганое болотце с бескрайними камышами широкого Приднепровья или с угрюмыми плавнями Ахтырки, где громили и душили мы когда-то белый врангельский десант!
С кочки на кочку, от куста к кусту. Раз – и по пояс в воду. Два – и захрустела сухая осина. Вслед за осиной полетело в грязь трухлявое бревно. Тяжело плюхнулся туда же гнилой пень. Вот и опора. Вот еще одна лужа. А вот он и сухой берег.
И, раздвинув тростник, я очутился возле испуганно подскочившей козы.
– Эге-гей! Светлана! – закричал я. – Ты стоишь?
– Эге-гей! – тихо донесся из чащи жалобный тоненький голос. – Я сто-о-ю!
Мы выбрались к реке. Мы счистили всю грязь и тину, которые облепили нас со всех сторон. Мы выполоскали одежду, и, пока она сохла на раскаленном песке, мы купались.
И все рыбы с ужасом умчались прочь в свою глубокую глубину, когда мы с хохотом взбивали сверкающие пенистые водопады.
И черный усатый рак, которого я вытащил из его подводной страны, ворочая своими круглыми глазами, в страхе забился и запрыгал: должно быть, впервые увидал такое нестерпимо яркое солнце и такую нестерпимо рыжую девчонку.
И тогда, изловчившись, он злобно хватил Светлану за палец. С криком отбросила его Светлана в самую середину гусиного стада. Шарахнулись в стороны глупые толстые гусята.
Но подошел сбоку старый серый гусь. Много он видал и пострашней на свете. Скосил он голову, посмотрел одним глазом, клюнул – тут ему, раку, и смерть пришла.
…Но вот мы выкупались, обсохли, оделись и пошли дальше.
И опять нам всякого по пути попадалось немало: и люди, и кони, и телеги, и машины, и даже серый зверь – еж, которого мы прихватили с собой. Да только он скоро наколол нам руки, и мы его столкнули в студеный ручей.
Фыркнул еж и поплыл на другой берег. «Вот, – думает, – безобразники! Поищи-ка теперь отсюда свою нору».
И вышли мы наконец к озеру.
Здесь-то и кончалось самое далекое поле колхоза «Рассвет», а на том берегу уже расстилались земли «Красной зари».
Тут мы увидели на опушке бревенчатый дом и сразу же догадались, что здесь живет дочь сторожа Валентина и ее сын Федор.
Мы подошли к ограде с той стороны, откуда караулили усадьбу высокие, как солдаты, цветы – подсолнухи.
На крыльце, в саду, стояла сама Валентина. Была она высокая, широкоплечая, как и ее отец, сторож. Ворот голубой кофты был распахнут. В одной руке она держала половую щетку, а в другой – мокрую тряпку.
– Федор! – строго кричала она. – Ты куда, негодник, серую кастрюлю задевал?
– Во-на! – раздался из-под малины важный голос, и белобрысый Федор показал на лужу, где плавала груженная щепками и травой кастрюля.
– А куда, бесстыдник, решето спрятал?
– Во-на! – все так же важно ответил Федор и показал на придавленное камнем решето, под которым что-то ворочалось.
– Вот погоди, атаман!.. Придешь домой, я тебя мокрой тряпкой приглажу, – пригрозила Валентина и, увидав нас, одернула подоткнутую юбку.
– Здравствуйте! – сказал я. – Вам отец шлет поклон.
– Спасибо! – отозвалась Валентина. – Заходите в сад, отдохните.
Мы прошли через калитку и улеглись под спелой яблоней.
Толстый сын Федор был только в одной рубашке, а перепачканные глиной мокрые штаны валялись в траве.
– Я малину ем, – серьезно сообщил нам Федор. – Два куста объел. И еще буду.
– Ешь на здоровье, – пожелал я. – Только смотри, друг, не лопни.
Федор остановился, потыкал себя кулаком в живот, сердито взглянул на меня и, захватив свои штаны, вперевалку пошел к дому.
Долго мы лежали молча. Мне показалось, что Светлана уснула. Я повернулся к ней и увидел, что она вовсе не спит, а, затаив дыхание, смотрит на серебристую бабочку, которая тихонько ползет по рукаву ее розового платья.
И вдруг раздался мощный рокочущий гул, воздух задрожал, и блестящий самолет, как буря, промчался над вершинами тихих яблонь.
Вздрогнула Светлана, вспорхнула бабочка, слетел с забора желтый петух, с криком промелькнула поперек неба испуганная галка – и все стихло.
– Это тот самый летчик пролетел, – с досадой сказала Светлана, – это тот, который приходил к нам вчера.
– Почему же тот? – приподнимая голову, спросил я. – Может быть, это совсем другой.
– Нет, тот самый. Я сама вчера слышала, как он сказал маме, что он улетает завтра далеко и насовсем. Я ела красный помидор, а мама ему ответила: «Ну, прощайте. Счастливый путь»…
– Папка, – усаживаясь мне на живот, попросила Светлана, – расскажи что-нибудь про маму. Ну, например, как все было, когда меня еще не было.
– Как было? Да все так же и было. Сначала день, потом ночь, потом опять день, и еще ночь…
– И еще тысячу дней! – нетерпеливо перебила Светлана. – Ну, вот ты и расскажи, что в эти дни было. Сам знаешь, а притворяешься…
– Ладно, расскажу, только ты слезь с меня на траву, а то мне рассказывать тяжело будет. Ну, слушай!..
Было тогда нашей Марусе семнадцать лет. Напали на их городок белые, схватили они Марусиного отца и посадили его в тюрьму. А матери у ней давно уж не было, и осталась наша Маруся совсем одна…
– Что-то ее жалко становится, – подвигаясь поближе, вставила Светлана. – Ну, рассказывай дальше.
– Накинула Маруся платок и выбежала на улицу. А на улице белые солдаты ведут в тюрьму и рабочих и работниц. А буржуи, конечно, белым рады, и всюду в ихних домах горят огни, играет музыка. И некуда нашей Марусе пойти, и некому рассказать ей про свое горе…
– Что-то уже совсем жалко, – нетерпеливо перебила Светлана. – Ты, папка, до красных скорее рассказывай.
– Вышла тогда Маруся за город. Луна светила. Шумел ветер. И раскинулась перед Марусей широкая степь…
– С волками?
– Нет, без волков. Волки тогда от стрельбы все по лесам попрятались. И подумала Маруся: «Убегу я через степь в город Белгород. Там стоит Красная Армия товарища Ворошилова. Он, говорят, очень храбрый. И если попросить, то, может быть, и поможет».
А того не знала глупая Маруся, что не ждет никогда Красная Армия, чтобы ее просили. А сама она мчится на помощь туда, где напали белые. И уже близко от Маруси продвигаются по степи наши красноармейские отряды. И каждая винтовка заряжена на пять патронов, а каждый пулемет – на двести пятьдесят.
Ехал я тогда по степи с военным дозором. Вдруг мелькнула чья-то тень и сразу – за бугор. «Ага! – думаю. – Стой: белый разведчик. Дальше не уйдешь никуда».
Ударил я коня шпорами. Выскочил за бугор. Гляжу – что за чудо: нет белого разведчика, а стоит под луной какая-то девчонка. Лица не видно, и только волосы по ветру развеваются.
Соскочил я с коня, а наган на всякий случай в руке держу. Подошел и спрашиваю: «Кто ты и зачем в полночь по степи бегаешь?»
А луна вышла бо-ольшая, большущая! Увидала девчонка на моей папахе красноармейскую звезду, обняла меня и заплакала.
Вот тут-то мы с ней, с Mapусей, и познакомились. А под утро из города белых мы выбили. Тюрьмы раскрыли и рабочих выпустили.
Вот лежу я днем в лазарете. Грудь у меня немного прострелена. И плечо болит: когда с коня падал, о камень ударился.
Приходит ко мне мой командир эскадрона и говорит:
«Ну, прощай, уходим мы дальше за белыми. На тебе в подарок от товарищей хорошего табаку и бумаги, лежи спокойно и скорее выздоравливай».
Вот и день прошел. Здравствуй, вечер! И грудь болит, и плечо ноет. И на сердце скучно. Скучно, друг Светлана, одному быть без товарищей!
Вдруг раскрылась дверь, и быстро, бесшумно вошла на носках Маруся! И так я тогда обрадовался, что даже вскрикнул.
А Маруся подошла, села рядом и положила руку на мою совсем горячую голову и говорит:
«Я тебя весь день после боя искала. Больно тебе, милый?»
А я говорю:
«Наплевать, что больно, Маруся. Отчего ты такая бледная?»
«Ты спи, – ответила Маруся. – Спи крепко. Я около тебя все дни буду».
Вот тогда-то мы с Марусей во второй раз встретились и с тех пор уж всегда жили вместе.
– Папка, – взволнованно спросила тогда Светлана. – Это ведь мы не по правде ушли из дома? Ведь она нас любит. Мы только походим, походим и опять придем.
– Откуда ты знаешь, что любит? Может быть, тебя еще любит, а меня уже нет.
– Ой, вре-ешь! – покачала головой Светлана. – Я вчера ночью проснулась, смотрю, мама отложила книгу, повернулась к тебе и долго на тебя смотрит.
– Эко дело, что смотрит! Она и в окошко смотрит, на всех людей смотрит! Есть глаза, вот и смотрит.
– Ой, нет! – убежденно возразила Светлана, – Когда в окошко, то смотрит совсем не так, а вот как…
Тут Светлана вздернула тоненькие брови, склонила набок голову, поджала губы и равнодушно взглянула на проходившего мимо петуха.
– А когда любят, смотрят не так.
Как будто бы сияние озарило голубые Светланкины глаза, вздрогнули опустившиеся ресницы, и милый задумчивый Марусин взгляд упал мне на лицо.
– Разбойница! – подхватывая Светлану, крикнул я. – А как ты на меня вчера смотрела, когда разлила чернила?
– Ну, тогда ты меня за дверь выгнал, а выгнатые смотрят всегда сердито.
Мы не разбивали голубой чашки. Это, может быть, сама Маруся как-нибудь разбила. Но мы ее простили. Мало ли кто на кого понапрасну плохое подумает? Однажды и Светлана на меня подумала. Да я и сам на Марусю плохое подумал тоже. И я пошел к хозяйке Валентине, чтобы спросить, нет ли нам к дому дороги поближе.
– Сейчас муж на станцию поедет, – сказала Валентина. – Он вас довезет до самой мельницы, а там уже и недалеко.
Возвращаясь в сад, я встретил у крыльца смущенную Светлану.
– Папа, – таинственным шепотом сообщила она, – этот сын Федор вылез из малины и тянет из твоего мешка пряники.
Мы пошли к яблоне, но хитрый сын Федор, увидав нас, поспешно скрылся в гуще подзаборных лопухов.
– Федор! – позвал я. – Иди сюда, не бойся.
Верхушки лопухов закачались, и было ясно, что Федор решительно удаляется прочь.
– Федор! – повторил я. – Иди сюда. Я тебе все пряники отдам.
Лопухи перестали качаться, и вскоре из чащи донеслось тяжелое сопение.
– Я стою, – раздался наконец сердитый голос, – тут без штанов, везде крапива.
Тогда, как великан над лесом, зашагал я через лопухи, достал сурового Федора и высыпал перед ним все остатки из мешка.
Он неторопливо подобрал все в подол рубашки и, не сказав даже «спасибо», направился в другой конец сада.
– Ишь какой важный, – неодобрительно заметила Светлана, – снял штаны и ходит как барин!
К дому подкатила запряженная парой телега. На крыльцо вышла Валентина:
– Собирайтесь, кони хорошие – домчат быстро.
Опять показался Федор. Был он теперь в штанах и, быстро шагая, тащил за шиворот хорошенького дымчатого котенка. Должно быть, котенок привык к таким ухваткам, потому что он не вырывался, не мяукал, а только нетерпеливо вертел пушистым хвостом.
– На! – сказал Федор и сунул котенка Светлане.
– Насовсем? – обрадовалась Светлана и нерешительно взглянула на меня.
– Берите, берите, если надо, – предложила Валентина. – У нас этого добра много. Федор! А ты зачем пряники в капустные грядки спрятал? Я через окно все видела.
– Сейчас пойду еще дальше спрячу, – успокоил ее Федор и ушел вперевалку, как важный косолапый медвежонок.
– Весь в деда, – улыбнулась Валентина. – Этакий здоровила. А всего только четыре года.
Мы ехали широкой ровной дорогой. Наступал вечер. Шли нам навстречу с работы усталые, но веселые люди.
Прогрохотал в гараж колхозный грузовик.
Пропела в поле военная труба.
Звякнул в деревне сигнальный колокол.
Загудел за лесом тяжелый-тяжелый паровоз. Туу!.. Ту!.. Крутитесь, колеса, торопитесь, вагоны, дорога железная, длинная, далекая!
И, крепко прижимая пушистого котенка, под стук телеги счастливая Светлана распевала такую песню:
- Чики-чики!
- Ходят мыши.
- Ходят с хвостами,
- Очень злые.
- Лезут всюду.
- Лезут на полку.
- Трах-тарарах!
- И летит чашка.
- А кто виноват?
- Ну, никто не виноват.
- Только мыши
- Из черных дыр.
- – Здравствуйте, мыши!
- Мы вернулись.
- И что же такое
- С собой несем?..
- Оно мяукает,
- Оно прыгает
- И пьет из блюдечка молоко.
- Теперь убирайтесь
- В черные дыры,
- Или оно вас разорвет
- На куски,
- На десять кусков,
- На двадцать кусков,
- На сто миллионов
- Лохматых кусков.
Возле мельницы мы спрыгнули с телеги.
Слышно было, как за оградой Пашка Букамашкин, Санька, Берта и еще кто-то играли в чижа.
– Ты не жульничай! – кричал Берте возмущенный Санька. – То на меня говорили, а то сами нашагивают.
– Кто-то там опять нашагивает, – объяснила Светлана, – должно быть, сейчас снова поругаются. – И, вздохнув, она добавила: – Такая уж игра!
С волнением приближались мы к дому. Оставалось только завернуть за угол и подняться наверх.
Вдруг мы растерянно переглянулись и остановились.
Ни дырявого забора, ни высокого крыльца еще не было видно, но уже показалась деревянная крыша нашего серого домика, и над ней с веселым жужжанием крутилась наша роскошная сверкающая вертушка.
– Это мамка сама на крышу лазила! – взвизгнула Светлана и рванула меня вперед.
Мы вышли на горку.
Оранжевые лучи вечернего солнца озарили крыльцо. И на нем, в красном платье, без платка и в сандалиях на босу ногу, стояла и улыбалась наша Маруся.
– Смейся, смейся! – разрешила ей подбежавшая Светлана. – Мы тебя все равно уже простили.
Подошел и я, посмотрел Марусе в лицо.
Глаза Маруси были карие, и смотрели они ласково. Видно было, что ждала она нас долго, наконец-то дождалась и теперь крепко рада.
«Нет, – твердо решил я, отбрасывая носком сапога валявшиеся черепки голубой чашки. – Это все только серые злые мыши. И мы не разбивали. И Маруся ничего не разбивала тоже».
…А потом был вечер. И луна и звезды.
Долго втроем сидели мы в саду, под спелой вишней, и Маруся нам рассказывала, где была, что делала и что видела.
А уж Светланкин рассказ затянулся бы, вероятно, до полуночи, если бы Маруся не спохватилась и не погнала ее спать.
– Ну что?! – забирая с собой сонного котенка, спросила меня хитрая Светланка. – А разве теперь у нас жизнь плохая?
Поднялись и мы.
Золотая луна сияла над нашим садом.
Прогремел на север далекий поезд.
Прогудел и скрылся в тучах полуночный летчик.
– А жизнь, товарищи… была совсем хорошая!
1935 г.
Чук и Гек
Жил человек в лесу возле Синих гор. Он много работал, а работы не убавлялось, и ему нельзя было уехать домой в отпуск.
Наконец, когда наступила зима, он совсем заскучал, попросил разрешения у начальников и послал своей жене письмо, чтобы она приезжала вместе с ребятишками к нему в гости.
Ребятишек у него было двое – Чук и Гек.
А жили они с матерью в далеком огромном городе, лучше которого и нет на свете.
Днем и ночью сверкали над башнями этого города красные звезды.
И, конечно, этот город назывался Москва.
Как раз в то время, когда почтальон с письмом поднимался по лестнице, у Чука с Геком был бой. Короче говоря, они просто выли и дрались.
Из-за чего началась эта драка, я уже позабыл. Но помнится мне, что или Чук стащил у Гека пустую спичечную коробку, или, наоборот, Гек стянул у Чука жестянку из-под ваксы.
Только что оба эти брата, стукнув по разу друг друга кулаками, собирались стукнуть по второму, как загремел звонок, и они с тревогой переглянулись. Они подумали, что пришла их мама! А у этой мамы был странный характер. Она не ругалась за драку, не кричала, а просто разводила драчунов по разным комнатам и целый час, а то и два не позволяла им играть вместе. А в одном часе – тик да так – целых шестьдесят минут. А в двух часах и того больше.
Вот почему оба брата мигом вытерли слезы и бросились открывать дверь.
Но, оказывается, это была не мать, а почтальон, который принес письмо.
Тогда они закричали:
– Это письмо от папы! Да, да, от папы! И он, наверное, скоро приедет.
Тут, на радостях, они стали скакать, прыгать и кувыркаться по пружинному дивану. Потому что хотя Москва и самый замечательный город, но когда папа вот уже целый год как не был дома, то и в Москве может стать скучно.
И так они развеселились, что не заметили, как вошла их мать.
Она очень удивилась, увидав, что оба ее прекрасных сына, лежа на спинах, орут и колотят каблуками по стене, да так здорово, что трясутся картины над диваном и гудит пружина стенных часов.
Но когда мать узнала, отчего такая радость, то сыновей не заругала.
Она только турнула их с дивана.
Кое-как сбросила она шубку и схватила письмо, даже не стряхнув с волос снежинок, которые теперь растаяли и сверкали, как искры, над ее темными бровями.
Всем известно, что письма бывают веселые или печальные, и поэтому, пока мать читала, Чук и Гек внимательно следили за ее лицом.
Сначала мать нахмурилась, и они нахмурились тоже. Но потом она заулыбалась, и они решили, что это письмо веселое.
– Отец не приедет, – откладывая письмо, сказала мать. – У него еще много работы, и его в Москву не отпускают.
Обманутые Чук и Гек растерянно глянули друг на друга. Письмо оказалось самым что ни на есть распечальным.
Они разом надулись, засопели и сердито посмотрели на мать, которая неизвестно чему улыбалась.
– Он не приедет, – продолжала мать, – но он зовет нас всех к себе в гости.
Чук и Гек спрыгнули с дивана.
– Он чудак человек, – вздохнула мать. – Хорошо сказать – в гости! Будто бы это сел на трамвай и поехал…
– Да, да, – быстро подхватил Чук, – раз он зовет, так мы сядем и поедем.
– Ты глупый, – сказала мать. – Туда ехать тысячу и еще тысячу километров поездом. А потом в санях лошадьми через тайгу. А в тайге наткнешься на волка или на медведя. И что это за странная затея! Вы только подумайте сами!
– Гей-гей! – Чук и Гек не думали и полсекунды, а в один голос заявили, что они решили ехать не только тысячу, а даже сто тысяч километров. Им ничего не страшно. Они храбрые. И это они вчера прогнали камнями заскочившую во двор чужую собаку.
И так они говорили долго, размахивали руками, притопывали, подпрыгивали, а мать сидела молча, все их слушала, слушала. Наконец рассмеялась, схватила обоих на руки, завертела и свалила на диван.
Знайте, она давно уже ждала такого письма, и это она только нарочно поддразнивала Чука и Гека, потому что веселый у нее был характер.
Прошла целая неделя, прежде чем мать собрала их в дорогу. Чук и Гек времени даром не теряли тоже. Чук смастерил себе кинжал из кухонного ножика, а Гек разыскал себе гладкую палку, забил в нее гвоздь, и получилась пика, до того крепкая, что если бы чем-нибудь проколоть шкуру медведя, а потом ткнуть этой пикой в сердце, то, конечно, медведь сдох бы сразу.
Наконец все дела были закончены. Уже запаковали багаж. Приделали второй замок к двери, чтобы не обокрали квартиру воры. Вытряхнули из шкафа остатки хлеба, муки и крупы, чтобы не развелись мыши. И вот мать уехала на вокзал покупать билеты на вечерний завтрашний поезд.
Но тут без нее у Чука с Геком получилась ссора.
Ах, если бы только знали они, до какой беды доведет их эта ссора, то ни за что бы в этот день они не поссорились!
У запасливого Чука была плоская металлическая коробочка, в которой он хранил серебряные бумажки от чая, конфетные обертки (если там был нарисован танк, самолет или красноармеец), галчиные перья для стрел, конский волос для китайского фокуса и еще всякие очень нужные вещи.
У Гека такой коробочки не было. Да и вообще Гек был разиня, но зато он умел петь песни.
И вот как раз в то время, когда Чук шел доставать из укромного места свою драгоценную коробочку, а Гек в комнате пел песни, вошел почтальон и передал Чуку телеграмму для матери.
Чук спрятал телеграмму в свою коробочку и пошел узнать, почему это Гек уже не поет песни, а кричит:
- Р-ра! Р-ра! Ура!
- Эй! Бей! Турумбей!
Чук с любопытством приоткрыл дверь и увидел такой «турумбей», что от злости у него затряслись руки.
Посреди комнаты стоял стул, и на спинке его висела вся истыканная пикой, разлохмаченная газета. И это ничего. Но проклятый Гек, вообразив, что перед ним туша медведя, яростно тыкал пикой в желтую картонку из-под маминых ботинок. А в картонке у Чука хранилась сигнальная жестяная дудка, три цветных значка от Октябрьских праздников и деньги – сорок шесть копеек, которые он не истратил, как Гек, на разные глупости, а запасливо приберег в дальнюю дорогу.
И, увидав продырявленную картонку, Чук вырвал у Гека пику, переломил ее о колено и швырнул на пол.
Но, как ястреб, налетел Гек на Чука и выхватил у него из рук металлическую коробку. Одним махом взлетел на подоконник и выкинул коробку через открытую форточку.
Громко завопил оскорбленный Чук и с криком: «Телеграмма! Телеграмма!» – в одном пальто, без калош и шапки, выскочил за дверь.
Почуяв неладное, вслед за Чуком понесся Гек.
Но напрасно искали они металлическую коробочку, в которой лежала еще никем не прочитанная телеграмма.
То ли она попала в сугроб и теперь лежала глубоко под снегом, то ли она упала на тропку и ее утянул какой-либо прохожий, но, так или иначе, вместе со всем добром и нераспечатанной телеграммой коробка навеки пропала.
Вернувшись домой, Чук и Гек долго молчали. Они уже помирились, так как знали, что попадет им от матери обоим. Но так как Чук был на целый год старше Гека, то, опасаясь, как бы ему не попало больше, он придумал:
– Знаешь, Гек: а что, если мы маме про телеграмму ничего не скажем? Подумаешь – телеграмма! Нам и без телеграммы весело.
– Врать нельзя, – вздохнул Гек. – Мама за вранье всегда еще хуже сердится.
– А мы не будем врать! – радостно воскликнул Чук. – Если она спросит, где телеграмма, – мы скажем. Если же не спросит, то зачем нам вперед выскакивать? Мы не выскочки.
– Ладно, – согласился Гек. – Если врать не надо, то так и сделаем. Это ты хорошо, Чук, придумал.
И только что они на этом порешили, как вошла мать. Она была довольна, потому что достала хорошие билеты на поезд, но все же она сразу заметила, что у ее дорогих сыновей лица печальны, а глаза заплаканы.
– Отвечайте, граждане, – отряхиваясь от снега, спросила мать, – из-за чего без меня была драка?
– Драки не было, – отказался Чук.
– Не было, – подтвердил Гек. – Мы только хотели подраться, да сразу раздумали.
– Очень я люблю такое раздумье, – сказала мать.
Она разделась, села на диван и показала им твердые зеленые билеты: один билет большой, а два маленьких. Вскоре они поужинали, а потом утих стук, погас свет, и все уснули.
А про телеграмму мать ничего не знала, поэтому, конечно, ничего не спросила.
Назавтра они уехали. Но так как поезд уходил очень поздно, то сквозь черные окна Чук и Гек при отъезде ничего интересного не увидели.
Ночью Гек проснулся, чтобы напиться. Лампочка на потолке была потушена, однако все вокруг Гека было озарено голубым светом: и вздрагивающий стакан на покрытом салфеткой столике, и желтый апельсин, который казался теперь зеленоватым, и лицо мамы, которая, покачиваясь, спала крепко-крепко. Через снежное узорное окно вагона Гек увидел луну, да такую огромную, какой в Москве и не бывает. И тогда он решил, что поезд уже мчится по высоким горам, откуда до луны ближе.
Он растолкал маму и попросил напиться. Но пить ему она по одной причине не дала, а велела отломить и съесть дольку апельсина.
Гек обиделся, дольку отломил, но спать ему уже не захотелось. Он потолкал Чука – не проснется ли. Чук сердито фыркнул и не просыпался.
Тогда Гек надел валенки, приоткрыл дверь и вышел в коридор.
Коридор вагона был узкий и длинный. Возле наружной стены его были приделаны складные скамейки, которые сами с треском захлопывались, если с них слезешь. Сюда же, в коридор, выходило еще десять дверей. И все двери были блестящие, красные, с желтыми золочеными ручками.
Гек посидел на одной скамейке, потом на другой, на третьей и так добрался почти до конца вагона. Но тут прошел проводник с фонарем и пристыдил Гека, что люди спят, а он скамейками хлопает.
Проводник ушел, а Гек поспешно направился к себе в купе. Он с трудом приоткрыл дверь. Осторожно, чтобы не разбудить маму, закрыл и кинулся на мягкую постель.
А так как толстый Чук развалился во всю ширь, то Гек бесцеремонно ткнул его кулаком, чтобы тот подвинулся.
Но тут случилось нечто страшное: вместо белобрысого, круглоголового Чука на Гека глянуло сердитое усатое лицо какого-то дядьки, который строго спросил:
– Это кто же здесь толкается?
Тогда Гек завопил что было мочи. Перепуганные пассажиры повскакали со всех полок, вспыхнул свет, и, увидав, что он попал не в свое купе, а в чужое, Гек заорал еще громче.
Но все люди быстро поняли, в чем дело, и стали смеяться. Усатый дядька надел брюки, военную гимнастерку и отвел Гека на место.
Гек проскользнул под свое одеяло и притих. Вагон покачивало, шумел ветер.
Невиданная огромная луна опять озаряла голубым светом вздрагивающий стакан, оранжевый апельсин на белой салфетке и лицо матери, которая во сне чему-то улыбалась и совсем не знала, какая беда приключилась с ее сыном.
Наконец заснул и Гек.
- …И снился Геку странный сон:
- Как будто ожил весь вагон,
- Как будто слышны голоса
- От колеса до колеса.
- Бегут вагоны – длинный ряд —
- И с паровозом говорят.
- ПЕРВЫЙ.
- Вперед, товарищ! Путь далек
- Перед тобой во мраке лег.
- ВТОРОЙ.
- Светите ярче, фонари,
- До самой утренней зари!
- ТРЕТИЙ.
- Гори, огонь! Труби, гудок!
- Крутись, колеса, на Восток!
- ЧЕТВЕРТЫЙ.
- Тогда закончим разговор,
- Когда домчим до Синих гор.
Когда Гек проснулся, колеса, уже без всяких разговоров, мерно постукивали под полом вагона. Сквозь морозные окна светило солнце. Постели были заправлены. Умытый Чук грыз яблоко. А мама и усатый военный против распахнутых дверей хохотали над ночными похождениями Гека. Чук сразу же показал Геку карандаш с наконечником из желтого патрона, который он получил в подарок от военного.
Но Гек до вещей был не завистлив и не жаден. Он, конечно, был растеря и разиня. Мало того что он ночью забрался в чужое купе, – вот и сейчас он не мог вспомнить, куда засунул свои брюки. Но зато Гек умел петь песни.
Умывшись и поздоровавшись с мамой, он прижался лбом к холодному стеклу и стал смотреть, что это за край, как здесь живут и что делают люди.
И пока Чук ходил от дверей к дверям и знакомился с пассажирами, которые охотно дарили ему всякую ерунду – кто резиновую пробку, кто гвоздь, кто кусок крученой бечевки, – Гек за это время увидел через окно немало.
Вот лесной домик. В огромных валенках, в одной рубашке и с кошкой в руках выскочил на крыльцо мальчишка. Трах! – кошка кувырком полетела в пушистый сугроб и, неловко карабкаясь, запрыгала по рыхлому снегу. Интересно, за что это он ее бросил? Вероятно, что-нибудь со стола стянула.
Но уже нет ни домика, ни мальчишки, ни кошки – стоит в поле завод. Поле белое, трубы красные. Дым черный, а свет желтый. Интересно, что на этом заводе делают? Вот будка, и, укутанный в тулуп, стоит часовой. Часовой в тулупе огромный, широкий, и винтовка его кажется тоненькой, как соломинка. Однако попробуй-ка, сунься!
Потом пошел танцевать лес. Деревья, что были поближе, прыгали быстро, а дальние двигались медленно, как будто их тихо кружила славная снежная река.
Гек окликнул Чука, который возвращался в купе с богатой добычей, и они стали смотреть вместе.
Встречались на пути станции большие, светлые, на которых шипело и пыхтело сразу штук по сто паровозов; встречались станции и совсем крохотные – ну, право, не больше того продуктового ларька, что торговал разной мелочью на углу возле их московского дома.
Проносились навстречу поезда, груженные рудой, углем и громадными, толщиной в полвагона, бревнами.
Нагнали они эшелон с быками и коровами. Паровозишко у этого эшелона был невзрачный, и гудок у него тонкий, писклявый, а тут как один бык рявкнул: му-у!.. Даже машинист обернулся и, наверное, подумал, что это его большой паровоз нагоняет.
А на одном разъезде бок о бок остановились они рядом с могучим железным бронепоездом. Грозно торчали из башен укутанные брезентом орудия. Красноармейцы весело топали, смеялись и, хлопая варежками, отогревали руки.
Но один человек в кожанке стоял возле бронепоезда молчалив и задумчив. И Чук с Геком решили, что это, конечно, командир, который стоит и ожидает, не придет ли приказ от Ворошилова открыть против врагов бой.
Да, немало всякого они за дорогу повидали. Жаль только, что на дворе бушевали метели и окна вагона часто бывали наглухо залеплены снегом.
И вот наконец утром поезд подкатил к маленькой станции.
Только-только мать успела ссадить Чука с Геком и принять от военного вещи, как поезд умчался.
Чемоданы были свалены на снег. Деревянная платформа вскоре опустела, а отец встречать так и не вышел.
Тогда мать на отца рассердилась и, оставив детей караулить вещи, пошла к ямщикам узнавать, какие за ними отец прислал сани, потому что до того места, где он жил, оставалось ехать еще километров сто тайгою.
Мать ходила очень долго, а тут еще неподалеку появился страшенный козел. Сначала он глодал кору с замороженного бревна, но потом противно мемекнул и что-то очень пристально стал на Чука с Геком поглядывать.
Тогда Чук и Гек поспешно укрылись за чемоданами, потому что кто его знает, что в этих краях козлам надо.
Но вот вернулась мать. Она была совсем опечалена и объяснила, что, вероятно, отец телеграмму о их выезде не получил и поэтому лошадей на станцию он за ними не прислал.
Тогда они позвали ямщика. Ямщик длинным кнутом огрел козла по спине, забрал вещи и понес их в буфет вокзала.
Буфет был маленький. За стойкой пыхтел толстый, ростом с Чука, самовар. Он дрожал, гудел, и густой пар его, как облако, поднимался к бревенчатому потолку, под которым чирикали залетевшие погреться воробьи.
Пока Чук с Геком пили чай, мать торговалась с ямщиком: сколько он возьмет, чтобы довезти их в лес до места. Ямщик просил очень много – целых сто рублей. Да и то сказать: дорога и на самом деле была не ближняя. Наконец они договорились, и ямщик побежал домой за хлебом, за сеном и за теплыми тулупами.
– Отец и не знает, что мы уже приехали, – сказала мать. – То-то он удивится и обрадуется!
– Да, он обрадуется, – прихлебывая чай, важно подтвердил Чук. – И я удивлюсь и обрадуюсь тоже.
– И я тоже, – согласился Гек. – Мы подъедем тихонько, и если папа куда-нибудь вышел из дома, то мы чемоданы спрячем, а сами залезем под кровать. Вот он приходит. Сел. Задумался. А мы молчим, молчим, да вдруг как завоем!
– Я под кровать не полезу, – отказалась мать, – и выть не буду тоже. Лезьте и войте сами… Зачем ты, Чук, сахар в карман прячешь? И так у тебя карманы полны, как мусорный ящик.
– Я лошадей кормить буду, – спокойно объяснил Чук. – Забирай, Гек, и ты кусок ватрушки. А то у тебя никогда ничего нет. Только и знаешь у меня выпрашивать!
Вскоре пришел ямщик. Уложили в широкие сани багаж, взбили сено, укутались одеялами, тулупами.
Прощайте, большие города, заводы, станции, деревни, поселки! Теперь впереди только лес, горы и опять густой, темный лес.
…Почти до сумерек, охая, ахая и дивясь на дремучую тайгу, они проехали незаметно. Но вот Чуку, которому из-за спины ямщика плохо была видна дорога, стало скучно. Он попросил у матери пирожка или булки. Но ни пирожка, ни булки мать ему, конечно, не дала. Тогда он насупился и от нечего делать стал толкать Гека и отжимать его к краю.
Сначала Гек терпеливо отпихивался. Потом вспылил и плюнул на Чука. Чук обозлился и кинулся в драку. Но так как руки их были стянуты тяжелыми меховыми тулупами, то они ничего не могли поделать, кроме как стукать друг друга укутанными в башлыки лбами.
Посмотрела на них мать и рассмеялась. А тут ямщик ударил кнутом по коням – и рванули кони. Выскочили на дорогу и затанцевали два белых пушистых зайца. Ямщик закричал:
– Эй, эй! Ого-го!.. Берегись: задавим!
Весело умчались в лес озорные зайцы. Дул в лицо свежий ветер. И, поневоле прижавшись друг к другу, Чук и Гек помчались в санях под гору навстречу тайге и навстречу луне, которая медленно выползала из-за уже недалеких Синих гор.
Но вот безо всякой команды кони стали возле маленькой, занесенной снегом избушки.
– Здесь ночуем, – сказал ямщик, соскакивая в снег. – Это наша станция.
Избушка была маленькая, но крепкая. Людей в ней не было.
Быстро вскипятил ямщик чайник; принесли из саней сумку с продуктами.
Колбаса до того замерзла и затвердела, что ею можно было забивать гвозди. Колбасу ошпарили кипятком, а куски хлеба положили на горячую плиту.
За печкой Чук нашел какую-то кривую пружину, и ямщик сказал ему, что это пружина от капкана, которым ловят всякого зверя. Пружина была ржавая и валялась без дела. Это Чук сообразил сразу.
Попили чаю, поели и легли спать. У стены стояла широкая деревянная кровать. Вместо матраца на ней были навалены сухие листья.
Гек не любил спать ни у стены, ни посредине. Он любил спать с краю. И хотя еще с раннего детства он слыхал песню «Баю-баюшки-баю, не ложися на краю», Гек все равно всегда спал с краю.
Если же его клали в середку, то во сне он сбрасывал со всех одеяла, отбивался локтями и толкал Чука в живот коленом.
Не раздеваясь и укрывшись тулупами, они улеглись: Чук у стенки, мать посредине, а Гек с краю.
Ямщик потушил свечку и полез на печь. Разом все уснули. Но, конечно, как и всегда, ночью Геку захотелось пить, и он проснулся.
В полудреме он надел валенки, добрался до стола, глотнул воды из чайника и сел перед окном на табуретку.
Луна была за тучками, и сквозь маленькое окошко сугробы снега казались черно-синими.
«Вот как далеко занесло нашего папу!» – удивился Гек. И он подумал, что, наверное, дальше, чем это место, уже и не много осталось мест на свете.
Но вот Гек прислушался. За окном ему почудился стук. Это был даже не стук, а скрип снега под чьими-то тяжелыми шагами. Так и есть! Вот во тьме что-то тяжело вздохнуло, зашевелилось, заворочалось, и Гек понял, что это мимо окна прошел медведь.
– Злобный медведь, что тебе надо? Мы так долго едем к папе, а ты хочешь нас сожрать, чтобы мы его никогда не увидели?.. Нет, уходи прочь, пока люди не убили тебя метким ружьем или острой саблей!
Так думал и бормотал Гек, а сам со страхом и любопытством крепче и крепче прижимался лбом к обледенелому стеклу узкого окошка.
Но вот из-за быстрых туч стремительно выкатилась луна. Черно-синие сугробы засверкали мягким матовым блеском, и Гек увидел, что медведь этот вовсе не медведь, а просто это отвязавшаяся лошадь ходит вокруг саней и ест сено.
Было досадно. Гек залез на кровать под тулуп, а так как только что он думал о нехорошем, то и сон к нему пришел угрюмый.
- Приснился Геку странный сон:
- Как будто страшный Турворон
- Плюет слюной, как кипятком,
- Грозит железным кулаком.
- Кругом пожар! В снегу следы!
- Идут солдатские ряды.
- И волокут из дальних мест
- Кривой фашистский флаг и крест.
– Постойте! – закричал им Гек. – Вы не туда идете! Здесь нельзя!
Но никто не постоял, и его, Гека, не слушали.
В гневе тогда выхватил Гек жестяную сигнальную дуду, ту, что лежала у Чука в картонке из-под ботинок, и загудел так громко, что быстро поднял голову задумчивый командир железного бронепоезда, властно махнул рукой – и разом ударили залпом его тяжелые и грозные орудия.
– Хорошо! – похвалил Гек. – Только стрельните еще, а то одного раза им, наверное, мало…
Мать проснулась оттого, что оба ее дорогих сына с двух сторон нестерпимо толкались и ворочались.
Она повернулась к Чуку и почувствовала, как в бок ей ткнуло что-то твердое и острое. Она пошарила и достала из-под одеяла пружину от капкана, которую запасливый Чук тайно притащил с собой в постель.
Мать швырнула пружину за кровать. При свете луны она заглянула в лицо Геку и поняла, что ему снится тревожный сон.
Сон, конечно, не пружина, и его нельзя выкинуть. Но его можно потушить. Мать повернула Гека со спины на бок и, покачивая, тихонько подула на его теплый лоб.
Вскоре Гек засопел, улыбнулся, и это означало, что плохой сон погас.
Тогда мать встала и в чулках, без валенок, подошла к окошку.
Еще не светало, и небо было все в звездах. Иные звезды горели высоко, а иные склонялись над черной тайгой совсем низко.
И – удивительное дело! – тут же и так же, как маленький Гек, она подумала, что дальше, чем это место, куда занесло ее беспокойного мужа, наверное, и не много осталось мест на свете.
Весь следующий день дорога шла лесом и горами. На подъемах ямщик соскакивал с саней и шел по снегу рядом. Но зато на крутых спусках сани мчались с такой быстротой, что Чуку с Геком казалось, будто бы они вместе с лошадьми и санями проваливаются на землю прямо с неба.
Наконец под вечер, когда и люди и кони уже порядком устали, ямщик сказал:
– Ну, вот и приехали! За этим мыском поворот. Тут, на поляне, и стоит ихняя база… Эй, но-о!.. Наваливай!
Весело взвизгнув, Чук и Гек вскочили, но сани дернули, и они дружно плюхнулись в сено.
Улыбающаяся мать скинула шерстяной платок и осталась только в пушистой шапке.
Вот и поворот. Сани лихо развернулись и подкатили к трем домишкам, которые торчали на небольшой, укрытой от ветров опушке.
Очень странно! Не лаяли собаки, не было видно людей. Не валил дым из печных труб. Все дорожки были занесены глубоким снегом, а кругом стояла тишина, как зимой на кладбище. И только белобокие сороки бестолково скакали с дерева на дерево.
– Ты куда же нас привез? – в страхе спросила у ямщика мать. – Разве нам сюда надо?
– Куда рядились, туда и привез, – ответил ямщик. – Вот эти дома называются «Разведывательно-геологическая база номер три». Да вот и вывеска на столбе… Читайте. Может быть, вам нужна база под названием номер четыре? Так то километров двести совсем в иную сторону.
– Нет, нет! – взглянув на вывеску, ответила мать. – Нам нужна эта самая. Но ты посмотри: двери на замках, крыльцо в снегу, а куда же девались люди?
– Я не знаю, куда б им деваться, – удивился и сам ямщик. – На прошлой неделе мы сюда продукт возили: муку, лук, картошку. Все люди тут были: восемь человек, начальник девятый, со сторожем десять… Вот еще забота! Не волки же их всех поели… Да вы постойте, я пойду посмотрю в сторожку.
И, сбросив тулуп, ямщик зашагал через сугробы к крайней избушке.
Вскоре он вернулся:
– Изба пуста, а печка теплая. Значит, здесь сторож, да, видать, ушел на охоту. Ну, к ночи вернется и все вам расскажет.
– Да что он мне расскажет! – ахнула мать. – Я и сама вижу, что людей здесь уже давно нету.
– Это я уж не знаю, что он расскажет, – ответил ямщик. – А что-нибудь рассказать должен, на то он и сторож.
С трудом подъехали они к крыльцу сторожки, от которого к лесу вела узенькая тропка.
Они вошли в сени и мимо лопат, метел, топоров, палок, мимо промерзлой медвежьей шкуры, что висела на железном крюку, прошли в избушку. Вслед за ними ямщик тащил вещи.
В избушке было тепло. Ямщик пошел задавать лошадям корм, а мать молча раздевала перепуганных ребятишек.
– Ехали к отцу, ехали – вот тебе и приехали!
Мать села на лавку и задумалась. Что случилось, почему на базе пусто и что теперь делать? Ехать назад? Но у нее денег оставалось только-только заплатить ямщику за дорогу. Значит, надо было ожидать, когда вернется сторож. Но ямщик через три часа уедет обратно, а вдруг сторож возьмет да не скоро вернется? Тогда как? А ведь отсюда до ближайшей станции и телеграфа почти сто километров!
Вошел ямщик. Оглядев избу, он потянул носом воздух, подошел к печке и открыл заслонку.
– Сторож к ночи вернется, – успокоил он. – Вот в печи горшок со щами. Кабы он ушел надолго, он бы щи на холод вынес… А то как хотите, – предложил ямщик. – Раз уж такое дело, то я не чурбак. Я вас назад до станции бесплатно доставлю.
– Нет, – отказалась мать. – На станции нам делать нечего.
Опять поставили чайник, подогрели колбасу, поели, попили, и, пока мать разбирала вещи, Чук с Геком забрались на теплую печку. Здесь пахло березовыми вениками, горячей овчиной и сосновыми щепками. А так как расстроенная мать была молчалива, то Чук с Геком молчали тоже. Но долго молчать не намолчишься, и поэтому, не найдя себе никакого дела, Чук и Гек быстро и крепко уснули.
Они не слышали, как уехал ямщик и как мать, забравшись на печку, улеглась с ними рядом. Они проснулись уже тогда, когда в избе было совсем темно. Проснулись все разом, потому что на крыльце послышался топот, потом что-то в сенях загрохотало – должно быть, упала лопата. Распахнулась дверь, и с фонарем в руках в избу вошел сторож, а с ним большая лохматая собака. Он скинул с плеча ружье, бросил на лавку убитого зайца и, поднимая фонарь к печке, спросил:
– Это что же за гости сюда приехали?
– Я жена начальника геологической партии Серегина, – сказала мать, соскакивая с печки, – а это его дети. Если нужно, то вот документы.
– Вон они, документы: сидят на печке, – буркнул сторож и посветил фонарем на встревоженные лица Чука и Гека. – Как есть в отца – копия! Особо вот этот толстый. – И он ткнул на Чука пальцем.
Чук и Гек обиделись: Чук – потому, что его назвали толстым, а Гек – потому, что он всегда считал себя похожим на отца больше, чем Чук.
– Вы зачем, скажите, приехали? – глянув на мать, спросил сторож. – Вам же приезжать было не велено.
– Как не велено? Кем это приезжать не велено?
– А так и не велено. Я сам на станцию возил от Серегина телеграмму, а в телеграмме ясно написано: «Задержись выезжать на две недели. Наша партия срочно выходит в тайгу». Раз Серегин пишет «задержись» – значит и надо было держаться, а вы самовольничаете.
– Какую телеграмму? – переспросила мать. – Мы никакой телеграммы не получали. – И, как бы ища поддержки, она растерянно глянула на Чука и Гека.
Но под ее взглядом Чук и Гек, испуганно тараща друг на друга глаза, поспешно попятились глубже на печку.
– Дети, – подозрительно глянув на сыновей, спросила мать, – вы без меня никакой телеграммы не получали?
На печке захрустели сухие щепки, веники, но ответа на вопрос не последовало.
– Отвечайте, мучители! – сказала тогда мать. – Вы, наверное, без меня получили телеграмму и мне ее не отдали?
Прошло еще несколько секунд, потом с печки раздался ровный и дружный рев. Чук затянул басовито и однотонно, а Гек выводил потоньше и с переливами.
