Похищенная весна. Петроград – Ленинград
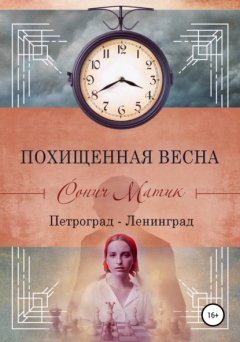
Глава первая. Добро пожаловать!
Андрей шел навстречу по темному длинному коридору. Нет, даже не шел. Он будто выплывал из далекой темноты и надвигался на Олю.
– Не может быть! Ты же умер! – услышала Оля собственный голос, но рта она не открывала. Голос закричал. – Я знаю, что ты мертв! Я убила тебя!
Фигура Андрея все нарастала, становилась четче. Оля уже могла рассмотреть в сумерках лохмотья тины, налипшие на его мокрое пальто, и капельки воды на краях мятой шляпы; на бурой щетке усов сгустки крови; перекошенный подбородок; под треснутой оправой вытекший глаз.
Оля хотела зажмуриться, но не могла оторвать взгляда от приближающегося мужа. Ее челюсти сжались, плечи поднялись, а пальцы спрятались в кулаки, готовясь защищать голову. Колени загородили обнаженные бедра, и только тут Оля ощутила, что совершенно нагая парит в воздухе. Безвольно плывет по сумрачному коридору навстречу Андрею. Силой мысли она попыталась лететь прочь от него, прикрываясь и сжимаясь в комочек. Но безжалостный рок притягивал их друг к другу! Все ближе и ближе…
– Нет! Не хочу! Я не вернусь к тебе! Оставь меня в покое! – снова закричал ее голос, – Уйди! Прочь!
Оля сопротивлялась, но Андрей все увеличивался. Она уже не могла видеть его целиком, только огромное лицо с бульдожьей улыбкой. И когда сквозь стекло битых очков она четко увидела его единственный зрачок, его чернота поглотила ее…
***
– Мама! Мама, проснись! Ты пугаешь меня, мамочка!
Ольга резко открыла глаза и увидела красный носик и влажные глаза дочери.
– Мамочка, не кричи! Пожалуйста.
– Все-все, мое солнышко. Я проснулась. – Ольга потянулась к дочери и обняла заплаканную Катю. Свободной рукой вытащила из-под девочки одеяло и укрыла ее, прижав к себе. – Все, моя милая, все. Мне уже не страшно. И ты не бойся.
Еще несколько минут они лежали обнявшись. Катя перестала всхлипывать, дыхание выровнялось, и она уютно засопела.
Ольга любила слушать, как спит дочь. И хотя внутренние часы ей подсказывали, что пора вставать, она хотела еще хоть минуточку чувствовать этот успокаивающий сонный ритм: вдох – выдох, вдох – выдох.
Катины короткие волосы щекотали Ольге нос, она провела рукой по непослушным рыжим завитушкам, прижалась к ним губами и понюхала. Так сладко пахнет детство!
Сон про бывшего мужа преследует ее уже лет восемь. И должно бы уже все забыться, но у грехов нет срока давности.
Ольга потрогала низ живота – даже через льняную рубашку она почувствовала грубый бугор шрама. Она еще раз погладила Катю по волосам и, оставив ее под одеялом, встала с кровати.
Панцирная сетка предательски скрипела при каждом движении, но пригревшаяся девочка продолжала спать под привычные звуки. Еще мгновение Ольга задержалась возле Кати, пытаясь забыть навязчивое видение, потом посмотрела в окно. Слева между синим льдом залива и уже серым небом светилась узкая полоска зарницы. Сегодня не надо идти на работу в «Лепони», но дел хватит и без грязного белья постояльцев.
Часы короткой фальшивой нотой отстучали половину часа. Ольга, не глядя, прикинула: «Полвосьмого». До выхода у них с Катей есть еще как минимум шесть часов. Все успеется!
Ее, как всегда бывает, притянул к окну рассвет. Есть в этом что-то непостижимое и обнадеживающее. Будто бог открывает глаза и слушает нас. Ольга облокотилась на подоконник и прошептала в стылое стекло:
– Пусть с ними все хорошо. Пусть сегодня мы встретимся и…, и…, – она очень хотела приплести к своей внезапной молитве Сашу, но даже сейчас ей было стыдно произносить его имя, – и никогда не расстанемся. Мамочка, папочка, – она снова сделала паузу, – я люблю вас. Аминь. – Ольга прижала к губам крестик, закрыла глаза и со всем жаром предвкушения скорой встречи три раза повторила «Отче наш» про себя.
Затем открыла глаза. Лед посветлел. Еще невидимый луч солнца отразился от далекого Кронштадтского собора. Купол засиял, и как маяк, поманил Ольгу домой, в Россию.
Засияли и Олины глаза. Первые морщинки вокруг этих сияющих глаз тянулись светлыми лучиками и преображали ее худое блеклое лицо.
Ольга встрепенулась и, закрутив растрепанные кудри в тугую кичку, с привычной тихой ловкостью за три шага пересекла комнату. Круглая печка еще хранила тепло. Да и стоит ли сегодня топить, если днем они уже уйдут. Совершенно автоматически Ольга отметила, что дров в корзине на топку хватит. Стряхнула пыль с этажерки, проверила пальцем землю Катиной цветущей фиалки и, обойдя мешки, связку книг и старый чемодан, села за низенький столик на трехногую табуретку. Под столиком в коробке из-под бакалейных склянок лежали Катины и Олины сокровища – цветные карандаши, оставшиеся еще от предыдущей хозяйки. Та была учительницей. Теперешний хозяин, Виртанен, спокойно относился к оставленным русской дамой излишествам. Будь то карандаши, книги или пианино. Его жилички смело пользовались всем имуществом в своих комнатах. Просто надо было поддерживать порядок и вовремя платить.
Ольга, не глядя, запустила руку в коробку и нащупала заточенный карандаш. С удивлением она обнаружила, что снова вытащила бордовый. Последние четыре недели попадается именно этот гнетущий цвет. Но зато он хорошо ложится на рыхлую почтовую бумагу.
Последнее письмо. Доходят они или нет, Ольга не знала. Но каждую неделю уже больше пяти лет писала в Петроград – теперь уже Ленинград, – отцу. Ответов не было. Ни одного. Но сегодня это не важно. Все равно, по ее расчетам они с Катей обгонят почтовый поезд, и свое письмо получит дома уже она сама.
Ольга растерла воспалившиеся опять костяшки на указательных и средних пальцах. Пожалуй, держать карандаш – это было самое неприятное, когда стали болеть руки. Она даже стирать приспособилась, чтобы меньше сгибать пальцы. А вот писать было тяжело. Да она почти и не писала.
Не торопясь, с детской скоростью, Ольга выводила:
«Дорогой папа!
У нас все хорошо. Документы мы получили спокойно, как и обещал Виртанен. Все-таки он очень добр!
Вещи почти все уложены. И уже сегодня мы едем домой.
Мы за последние четыре года с Катюшей разжились изрядным количеством книг и вещей. Комнатка наша как-то незаметно накопила столько всего. Мы и не поняли, как это все вмещается. В чемодан, конечно, все не влезло. Не то, что в двадцать первом при отъезде!
Мне пришлось оставить Виртанену почти всю библиотеку, собранную здесь по крупицам. Я тебе писала, что у него тут были хорошие книги от прежней хозяйки. Я и стала дополнять помаленьку эту коллекцию. Уверена, он ее продаст за бесценок. Сердце кровью обливается. Но я все же кое-что забираю с собой. Толстого – помнишь, я сама сожгла его в девятнадцатом? – «Война и мир». Интересное издание «Бесов» нашла, 1876 года –удивительная сохранность! – пара томиков поэзии уже наших лет. А впрочем, вечером все покажу.
По большому счету, нет ничего такого, что бы я должна была тебе написать. Хочется уже…»
– А-а-ам! – Катя подкралась сзади и накинула на Олю шерстяное одеяло.
– Ой-ой-ой! – Ольга взмахнула руками, бросив карандаш. Обняла дочку и пощекотала.
Катя взвизгнула, захохотала, отскочила от матери и так, с одеялом на голове, запрыгнула на лязгнувшую металлом высокую кровать.
– Выспалась, сонная тетеря? Смотри, какое солнышко! Сегодня замечательный день! – Ольга поправила растрепавшуюся кичку.
– Мам, а кому ты пишешь? – Катя вылезла из-под одеяла.
– Папе. Дедушке твоему.
– Но ведь мы сегодня уже приедем, – Катя начала тихонько раскачиваться на кровати, постепенно увеличивая амплитуду. – Зачем писать? – панцирная сетка скрипела все звонче.
– Ну-ка слезай! Нечего шуметь и пружины ломать! – Ольга привстала, чтобы спустить дочь с кровати, но та уже спрыгнула сама и подошла к матери. Та села обратно на табуретку и взяла дочь за руку. – Да я и сама не знаю, зачем пишу. Просто сегодня вторник. Я привыкла. Да и почтальон все равно зайдет…
– А какой он, твой папа? На кого он больше похож? На старика Виртанена, отца Георгия или… – Катя ткнула на фотографию в газете, разложенной на полу для упаковки, – или на мистера Вотинена?
Ольга засмеялась:
– Нет не похож. Ни на Виртенена, ни на Вотинена, ни на кого-то другого. Папа седой, сколько его помню. Он строг, спокоен. Носит опрятную бороду и шерстяной жилет. Мне иногда казалось, что у него два сердца, потому что в нагрудном кармане справа у него тикали часы. Тик-так, тик-так… А еще от него пахло сиреневым мылом и невским ветром.
– А мой папа?
От неожиданности Ольгу качнуло на неустойчивом табурете.
– Что, твой папа?
– Чем пах мой папа?
Ольга с трудом подавила рвотный комок. Память предательски воссоздала запах потного тела, мокрой псины, тухлого дыхания и алкогольного перегара. Отводя взгляд от лица дочери, она захлопала глазами, будто это могло смахнуть тошнотворное воспоминание. Она искала в мерзком ощущении лазейку, что могла бы вывести ее на ровную почву. «Псина, мокрая шерсть, шинель, да! Шинель! Потное тело, но холодные ноги, конечно! … Это лучше, да! Саша лучше…»
– Ну?! – Катя снова поймала блуждающий взгляд матери. Когда же Ольга смогла сосредоточиться на ее лице, заметила, что дочь так же хлопает ресницами, как и она.
«Повторюшка» – подумала Ольга и улыбнулась. Приступ прошел.
– Катюша, отчего ты такая нетерпеливая? Дай подумать… Он был высокий, – Ольга уже знала, что планирует врать. Пусть это ложь, но такая сказка будет греть душу маленькой Кате, а потом уж…, – он красивый, и его гимнастерка пахла свежестью весны, цветущей черемухой, а осенью шинель пахла теплом костра. У него одно сердце. Одно огромное сердце. Однажды он придет, – ты еще, засоня, конечно, будешь спать, – а когда откроешь глаза он уже будет рядом.
– Да? – Катя стала перетаптываться с ноги на ногу, теребить в руках подол платья. Но Ольга уже видела, в глазах дочери поселилась надежда. Ольге и самой очень не хватало такой надежды. Она гнала эту мысль, но Саша снова оказывался в ее голове. Ольга нежно сжала неуверенную руку дочери. Они были одинаково растеряны и одинаково хотели верить.
«Первый раз она так настойчиво спрашивала про него. Может, и не надо было сочинять сказку? Может, надо было правду: злодей, распутник, пьяница, убит твоей матерью? Нет! Нельзя такое говорить. Ни в семь, ни в двадцать. Это сломает мою девочку. Она над комарами-то убитыми плачет! Я все правильно сделала. С мечтой жить лучше» – Ольга пыталась оправдаться перед собой. Опять пыталась, но опять не получалось. Она только больше ссутулилась, будто на плечи положили еще один кирпич.
Ольга поцеловала озябшие Катины пальчики:
– Ну-ка одевайся! Полы холодные. Время… – Часы услужливо профальшивили десять. – Видишь уже десять. Бегом умываться, и захвати наш хлеб из сеней. А я сейчас допишу и принесу кофе.
Шустрая Катя прыгнула на полосатый половичок, и, скользя ногами, дошаркала на нем до сундука с аккуратно разложенной для поездки одеждой. Ольга сначала хотела одернуть дочь за шалость, но умиление победило. Она с наслаждением наблюдала, как ловко шестилетка натягивала чулки, теплые панталоны, надевала платьишко; шнуровала отданные соседкой поношенные ботиночки. Как быстро же она выросла!
– Валенки обувать? – спросила она у замершей с улыбкой матери.
– Да иди так. Не так уж там и холодно. Заодно пофорсишь в своих модных чибриках.
– Ну ма-ам! Они не модные! Их же до меня весь пансион, наверное, носил! – Катя смешно закатила глаза, явно подражая своим более взрослым подругам, и с удовольствием громко стукая каблучками, протопала на первый этаж в кухню.
Ольга развернулась к столику, размяла больные пальцы, пока перечитывала написанное, и добавила пару слов.
«Может и не надо было писать…» – подумала она, запечатывая конверт.
Пока Ольга искала по карманам своего пальто монетки для почтальона, на лестнице раздался шум: детские крики, смех и радостный финский. Застучали торопливые шаги, и в открытую дверь вбежала раскрасневшаяся Катя. Буханка за пазухой была надломана, а в подоле она придерживала что-то очень ценное. На мокрые ботики налип снег, значит успела и к финским соседкам забежать.
Катя метнулась к столику, высыпала на него ленточки, конфеты и какие-то железячки, положила сверху хлеб, подскочила к матери, что-то вспомнила и выбежала обратно. Ольга не успела даже пальто повесить.
Катя перегнувшись через перила закричала на финском:
– Сама без обеда останешься!
Снизу раздались крики протеста, и до Кати долетела чья-то ушанка. Она взвизгнула, убежала в комнату, захлопнула дверь и прижала ее спиной.
– Чего вы там обеды делите? – Спросила Ольга, раздумывая, надеть уже пальто и спуститься к почтальону, или еще рано, и можно все же пальто повесить.
– А говоришь, не знаешь финский! – Победно заявила Катя, разбирая принесенные сокровища.
– Ну почему, не знаю? Знаю кухонные слова какие-то. Точнее, понимаю. Сказать не могу. У них язык, как у лесных фей – я так считала в детстве.
– Значит, я фея? – Катя зазвенела смехом, будто и вправду дитя из сказки. – И все-таки странная ты. – Перешла на финский. – Родилась в Суоми. Суоманланнен, как я.
– Мои мама и папа говорили на русском, моя няня тоже говорила на русском. У нас вся прислуга из русских была. Соседи тоже русские. Откуда мне было финский знать? – Ольга, продолжая держать в одной руке пальто, задумчиво переложила хлеб с края стола на этажерку, чтобы Катя его случайно не смахнула, – друзей, как у тебя, в моем детстве не было… Ты посиди, я выскочу на минутку.
Ольга все-таки накинула пальто, зажала конверт и несколько пенни в ладонь и выскользнула за дверь.
Ей опять стало невыносимо тоскливо. Как тогда, в пятнадцать лет в Выборге, когда ее единственными товарками были лошадка Маревна и пачка столичных журналов. Она устала жить в Финляндии и сейчас. Язык действительно никогда ей не давался. Даже почтальону она может сказать только «здравствуйте», «спасибо», «до свидания».
Несмотря на то, что с ней была Катя, соседки-жилички, Ольга снова чувствовала себя чужой в этой стране. А ведь она отлично устроилась в Териоках по современным меркам! Работы не было, говорят, до самого Хельсинки. А у нее была! К тому же повезло взять комнату в пансионе у самого моря.
Почтальон, поклонившись, пошел к городу, держа велосипед за руль. Тонкие колеса вязли в снегу, подтаявшем на солнце. Ольга глядела на мокрые по щиколотку ноги молодого финна и представила, как ему сейчас холодно. Она тоже зябла. Или ее знобило от волнения.
Ольга сделала вдох – пахло чем-то новым, свежим. Пахло молодостью, ее далекой юностью. Лед блестел на солнце совсем по-весеннему. Немногочисленные отдыхающие скользили вдоль берега на финских санях. И это было как-то по-особенному. Сегодня многое казалось особенным и каким-то бессмысленным. Хотелось бросить все и бежать на вокзал. Поесть и поболтать можно и дома! Но она сейчас соберется с духом и сделает все, как должно.
Ее все пугали, что в Ленинграде с работой еще хуже, – статьи подсовывали, – что там такая разруха, бандитизм, что жить невозможно, людей хватают на улицах. Но ей не было страшно. Чего греха таить, последние пару лет им с Катюшей здесь нравилось в спокойствии и уюте. Платили вполне прилично, в три раза больше. И работы в три раза меньше, чем в магазине у Юли Хенриксон в 1924 году. Да и все прочее. Вот после тех лет Ольге нечего бояться. Все как-нибудь устроится. Мир не без добрых людей.
«Лишь бы Катя и родители были рядом. А может и Саша… Хотя нет. Конечно, Сашу не стоит беспокоить. Без меня ему лучше. И все-таки сегодня все особенное!» – думала Ольга, поднимаясь на второй этаж с кофейником и кувшинчиком молока. Катя, не дождавшись матери уже терзала зубами горбушку.
– Кахви? – блеснула Ольга знанием финского перед дочерью.
Катя улыбнулась, спрятав за щеку кусок хлеба, и кивнула.
Весь завтрак со спорами и беготней в кухню занял часа полтора. Ведь надо было сразу решить, что из съестного и посуды им может понадобиться. Но Ольга была непреклонна и разрешила взять только конфеты, подаренные в дорогу Катиными товарками. Из утвари она ничего брать не хотела, у них на Церковной отличная кухня и у кухарки все есть!
После такого смелого решения Ольга объявила Кате, что игрушек тоже брать не надо, потому как в людской сберегали сундук еще с Олиными куклами.
– Ага! Мне не брать «мои деревяшки», а ты себе, вон, две связки книг берешь? – протестовала Катя.
Обе посмотрели на груду собранных вчера вещей. Чемодан, холщовый мешок с обувкой, второй – с Катиными вещами, две связки книг и небольшой ридикюль с самым необходимым. Еще один мешок Катя, взлохмаченная, как фурия, трясла перед Ольгой. В нем стучали Катины любимцы, вырезанные из вишневого дерева.
Ольга поняла, что все им не донести. Даже если до вокзала взять извоз. «Но Катя упертая! – подумала она, и сама себе добавила. – Как я…»
– Ладно, Катюша. Ты права, – капитулировала Ольга, а плечи ее опустились еще ниже. – Я поступаю не совсем честно. Но ты же знаешь, эти книги мне очень дороги…
– Мне тоже дорога моя лошадь! – капризно прервала ее Катя.
– Дослушай, пожалуйста. – Ольга дрожащим голосом старалась успокоить распалившуюся дочь. – Мы обе должны пойти на уступки, так?
– Та-ак… – подтвердила Катя, ожидая подвох.
– Ты бери только одну свою дорогую лошадь, а я возьму только одну связку дорогих мне книг! Хорошо?
Такое решение Катю устроило, она победно вытащила деревянную лошадку размером с буханку хлеба и показушно впихнула в мешок со своей одеждой. По пути будто случайно задев стопки книг, тут же завалившихся на половичок.
Ольга же немного посокрушалась по поводу двенадцати томиков, так заботливо накануне отобранных и увязанных. Но, вздохнув, распустила бечевку и расставила книги из второй связки на узкие доски вдоль стены, служившие им библиотекой.
Как бы хорошо они вчера ни уложились, а хлопоты перед выездом заняли без малого два часа. Время начало поджимать.
– Все! Хватит перебирать пожитки! – скомандовала Ольга, скорее себе, чем Кате.
Через десять минут они стояли в валенках и пальто возле собранных вещей.
– Давай-ка присядем. Помнишь, в дорогу что прочесть надо?
Катя кивнула:
– Ангел-хранитель, служитель Христов, крылатый и бестелесный… – тараторила Катя, как учил ее Отец Григорий перед отъездом два года назад. Под шустрый ручеек Катиной молитвы Ольга осмотрела комнату в последний раз. Почти идеальный порядок. Будет не стыдно перед въезжающими завтра новенькими. Виртенен предупредил, что комната, если что, будет уже занята. То на вдохе, то на выдохе Катя дошептала. – Смиренно молю тебя о сем и уповаю на помощь твою. Аминь!
– Аминь! Ну, с Богом!
Ольга и Катя Петровы не спеша спустились со своими вещами в кухню, затем – во двор. Никто не вышел их провожать. Кто хотел, попрощался заранее. А попусту лясы точить здесь было не принято.
Распределив по тяжести ношу, Петровы отправились к Виертотие. Чемодан и торба с обувкой, хоть и были тяжелые, но книги нести оказалось намного сложнее. Бечевка резала больные Олины пальцы, и ей приходилось постоянно переменять руки. Больно было смотреть и на Катю, закинувшую на плечо свой мешок. Слишком длинный для нее ридикюль раскручивался под ногами и не давал идти. Она отводила его от себя, неестественно вытягивая руку, но то и дело снова задевала ридикюль ногой.
Так они вышли по растоптанной дорожке недалеко от русской школы. А когда подошли к аптеке, Ольга поняла, что на поезд в таком темпе они не успеют.
– Мне тяжело, – призналась Катя, потупив глаза.
– Постой! Давай отдохнем.
– Вижу, моя хорошая. Присядь-ка пока.
Ольга поставила чемодан и мешок на очищенные от снега ступеньки рядом с Катей, тяжело вздохнула и решительно потянула тяжелую дверь на тугой пружине. С трудом протискивая в нее связку книг, она зашла к аптекарю. Минут через десять вышла, перебирая в ладони монеты.
– Не замерзла, Катюша?
– Не-а! Ты книги забыла! – заботливо напомнила Катя.
– Нет, мое солнышко, я их управляющему оставила. Он мне даже на извозчика дал. – Ольга засыпала мелочь в варежку, примерила имевшийся багаж и забрала у Кати ридикюль. – Махнем до вокзала с ветерком?
Катино живое лицо изобразило одновременно удивление, радость и расстройство, но, пожалуй, четче бросалось в глаза удивление:
– А как?.. Ладно… Только тебе обидно, наверное, да? Хочешь я аптекарю и лошадку свою оставлю?
– Все хорошо, Катюша. Не надо таких жертв. Лошадь твою мы довезем. – Ольга хотела бы ее сейчас погладить по голове и успокоить волнение, но руки были заняты, и она только и могла, что многозначительно и ободряюще посмотреть в широко распахнутые глаза дочери. Светлые и чистые, озаренные низким солнцем, пробивавшимся между зданиями общественного парка и кронами сосен. – Ну так что, едем?
Катино удивление все-таки переросло в расстройство. Глаза заблестели и совсем по-взрослому она ответила:
– Давай пешком. Мне теперь ни капельки ни тяжело! Хочу попрощаться с Териоками.
От этих слов у Оли защипало нос и подступили слезы. Она как-то не думала о том, что именно для Кати этот финский городок. Для Ольги Териоки – перевалочный пункт из Виипури в Ленинград. Затянувшаяся, но временная остановка. А Катюша выросла здесь. Да, ей всего шесть. Все забудется, все изменится. Вся жизнь, жизнь в России, еще впереди. Но для ее дочери Териоки – это не просто привычка, это ее маленькая вселенная. Здесь она впервые себя осознала, здесь у нее появились друзья. Только здесь она знает жизнь. Как бы Ольга ни рвалась в Ленинград к мифическим дедушке и бабушке, для Кати это только сказки, легенды, рассказанные на ночь матерью.
Она настолько была поглощена своей грезой о семье, что совсем забыла, как может к переезду отнестись ее дочь. Ольга выдавила из себя единственное, что сейчас могла сказать:
– Конечно. Давай пешком, – и уверенно проговорила. – Все – будет – хорошо.
Петровы пошли вверх по Виертотие, мимо Казанской церкви, мимо почты. Передохнули у парникового хозяйства, круглый год пахнущего летним костром. У Кирхи полюбовались изгибами Большой дороги, оставшейся позади, и больше уже не оглядывались.
Ольга видела, что Катя запыхалась. Из-под ушанки торчали прилипшие ко лбу потемневшие кудряшки. Но девочка молча шла, быстро перебирая ногами, не отставая от матери. Не разглядывала витрины, не восторгалась разномастными лошадками, запряженными в пролетающие мимо коляски. А когда Ольга остановилась пропустить торопливого ездока на Антинкату, Катя, не глядя, врезалась ей в спину.
Но уже на следующем перекрестке все изменилось. Катя увидела пыхтящий паровоз у вокзала и оживилась:
– Вот это да! Такой большой! А почему вагоны разного цвета? Какие колеса! А как мы заберемся? Там же высоко. Смотри сколько людей! А мы влезем?
Катя не ждала ответа. Живое переживание всего лишь значило, что прощание прошло успешно, и Катя с любопытством встречает неизбежное. «Как бы научиться этому у нее?» – Ольгу наоборот с каждым шагом все больше обуревали страхи. После злосчастного 1924 года она ни разу не ходила в эту часть Териоков, чтобы не встречаться с жадной и властной бывшей хозяйкой Юлей, жившей в этом районе. Чтобы не думать о ее добром дяде – Алане, которого по ее вине выслали куда-то вглубь Финляндии.
«Будто иду по спирали. Снова на вокзале. Снова обратной дороги нет… Надо собраться…»
Оля размякла. Чемодан стал тяжелее, ноги деревенели. Вокзал – то, что для многих предвестник путешествия и приятных впечатлений, для нее же – символ боли и необратимости.
«Надо собраться…»
Катя убежала вперед. И только под железнодорожным мостом, пока она пропускала три шумных таксомотора подряд, Ольга сумела нагнать ее.
– Не убегай от меня, Катюша! Еле догнала!
Но та не слушала, как только проехали авто, она рванула к вокзалу.
Ольга полностью увязла в своих чувствах. Они сжимали ей горло, заставляли руки трястись, и на каждый гулкий шаг по залу ожидания подкашивались ноги. Еще в полуобморочном состоянии она объясняла финке в кассовом окошке, что нужны два билета до Раяйоки. Но когда они с Катей вышли к платформам, стало легче.
Она горстью сняла снег с деревянных перил и обтерла покрытое испариной лицо. Ей уже было не до внешнего вида. Морозный ветер ободряюще охладил грудь, пробежал мурашками по мокрой спине под телогрейкой.
Катя испуганно смотрела на мать в распахнутом пальто с лицом в снегу.
– А мне есть снег не разрешаешь. И застегнись! – Деловито распорядилась Катя, подобрав брошенные Ольгой ридикюль и торбу.
В вагоне третьего класса сидели группками удивительно счастливые люди. Несколько компанией по четыре–пять человек с приличным скарбом. Они улыбались, смеялись, и что самое радостное, они шутили по-русски. Настроение передавалось и Ольге. До молчаливых пассажиров ей не было дела, а вот за развеселыми путешественниками ей навязчиво хотелось подглядывать.
После проверки документов, Ольга услышала, что они возвращаются в Союз из САСШ. Кроме удивления, вдруг подумалось, что может, ей даже повезло, что судьба не закинула ее так далеко, как их.
– Ленинград – лянинхра – йанис хра – мистер зайчик? – играла словом Катя. Она стояла между скамеек, прижавшись носом к стеклу. Усадить ее было невозможно. – Где начинается Советский Союз? А Ленинград? А какие там дома? Как пивоварня, да? Йохан говорил, что там много пивоварен и других заводов. Представляю, как там вкусно пахнет! А у меня будет своя комната, как у Лары? Лара нос задирает, что у нее отдельная комната. Вот я ей напишу! А ты меня отдашь в школу? Девочки в школу ходят. Я тоже хочу. Смотри, мама! Обозы. Ну и совсем не отличаются от наших! А… Так это финны и есть. А где Советский Союз-то начинается?..
Ольга даже если бы захотела, не смогла бы вставить слово в водопад Катиных вопросов. Это был просто поток озвученных мыслей. Хорошо, что вагон был полупустым и Катина непоседливость не могла никому помешать.
В Раяйоки таможенный досмотр был чисто символический, только попросили марки отдать, если есть. Или так получилось, потому что с ними не было мужчин.
В зале ожидания Ольга старалась не думать о том, что это снова вокзал. Она смотрела, как над стеклянным потолком небо сначала побелело, потом порозовело: «Два приступа за один день – это слишком» – думала она. Когда начинали трястись руки, она старалась дышать медленнее и глубже…
Наконец, небо из фиолетового окончательно посинело.
Подошла большая группа переселенцев, в том числе те три компании, что сидели с ними в одном вагоне. На них и переключила внимание Ольга. Судя по их помрачневшим лицам, пришли они не из ресторана второго класса, а, вероятно, с таможенного досмотра.
С группой подошла крикливая женщина. Она предупредила о скорой подаче поезда на ту сторону Сестры и просила товарищей не разбредаться, а то пойдут пешком.
Ольга решила держаться рядом с этой организованной группой, чтобы больше ни у кого ничего не спрашивать. Синие сумерки в стеклянных квадратиках потолка начали вселять уверенность, что путь уже наполовину пройден.
Локомотив, действительно подполз почти сразу. В натопленном зале после легкого перекуса Катю разморило, и Ольга с трудом ее растолкала. Поэтому, как только пробрались в вагон и устроились на узкой скамеечке у тамбура, Катя уткнулась Ольге в плечо и снова заснула.
Задорные разговоры пассажиров сменились более тихими душевными переживаниями, воспоминаниями и тяжелыми вздохами. Стук колес убаюкивал. Ольга стала вязнуть в русской речи, которая вскоре совсем стихла. От качки задремала и сама Ольга. Казалось, она только на минуточку закрыла глаза, как уже скрип тормозов локомотива и гудки встречных поездов возвещали, что вот-вот будет остановка. Пассажиры повскакивали со своих мест и облепили окна.
Вечер заставший их еще в Раяйоки, вдруг стал зыбким. В запотевших окнах появлялись то целые кварталы заводских построек, дремлющих в тусклом свете вахтерских огней, то оживленные улицы, освещенные электрическими фонарями. Периодически состав начинал грохотать, тут же в окнах вырастали железные фермы мостов, под которыми бежали разгоряченные кони, автомобили, коляски и грузовые подвозы.
Параллельно с поездом из-под насыпи вынырнул широкий проспект, где одновременно в несколько рядов уместились два конных экипажа, их обгонявший таксомотор и дружка за дружкой три телеги с сонными лошадьми в попонах. Из-за поворота выскочил красненький вагон трамвая с разноцветными фонарями над кабиной. Люди в теплых тулупах и легких пальто мельтешили вдоль и поперек по вычищенной от снега проезжей части. Многоэтажные дома подмигивали освещенными окнами, первые этажи подсвечивали приветливые входы: «Пивная», «Парфюмерный магазинъ», «Какао Жоржъ Борманъ». Тумбы и заборы были увешаны цветастыми плакатами. И снова люди, кони, автомобили.
Катя тоже проснулась:
– Ого! Вот это да! Сколько же здесь людей?! Вот это домик! Один, два, три, шесть… – считала она пальчиком этажи. – Мам-мам, а у нас такой? Лошадка, лошадка… Смотри, какой коняка! А у дедушки есть лошадь? Машин-то! А вот это чего? Чего там светится? Да нет же! С другой стороны, за тем темным пятном…
Ольга опять теряла ход Катиной мысли. Она сама удивленно крутила головой и пыталась узнать город, из которого уехала с Андреем семь с половиной лет назад. Район ей был незнаком, но по карте она знала, что где-то там, куда тыкала возбужденная Катя, ее остров. Петроградский остров. Что там на четвертом этаже сидят мама и папа, смотрят в окно и ждут весточки от своей милой Оленьки.
Локомотив издал пугающий звериный крик и дернул состав. Пассажиры отскочили от окон, похватали пожитки и кинулись в тамбур. Поезд еще раз дернулся, и толпа у дверей стала похожа на раков, цепляющихся за сеть, когда их вытряхивают из рачевни. Каждый схватился за что мог, кто-то навалился на кого-то, кто-то кому-то треснул, кого-то придавили чемоданом, и при этом одновременно по вагону разнеслось «О-о-о…», кряканье и меткое матерное.
Как же Ольга давно не слышала русских грубых слов! И хотя она стыдливо посмотрела на ничего не понявшую Катю, сдержать радушной улыбки она не смогла: «Дом стал еще ближе».
Как только народ высыпал под навес платформы, стало понятно, на улице сильно похолодало. Ольга шумно вдохнула. Угольная пыль и креозот смешивались с выхлопами моторов и запахом навоза. После душного вагона, даже такой воздух казался свежим.
Пока потуже затягивала Катину шапку и капор, помогала натянуть рукавицы, Ольга совсем замерзла. Голые руки задеревенели, заныли больные суставы. Негнущимися пальцами она надела пуховый платок и еще не остывшие варежки.
Холод пробрал их обеих. Катя с красным носом и посиневшими губами ждала мать.
– Мам, пойдем уже! – она нетерпеливо подпрыгивала и подергивала плечами.
– Нам туда, – сориентировалась Ольга по последним спинам, удаляющимся с дебаркадера.
На выходе их ждала шумная площадь. Извозчики укладывали багаж пассажиров, кто-то еще сговаривался о цене. Горланили задержавшиеся торговки, мальчишки с вечерними газетами оглашали политические заявления высокими голосами. А за ними тренькающий трамвай и опять люди, кони, авто…
Катя с испугу вцепилась в Олин рукав, то и дело дергала его и повторяла: «Мама… Мама… Мама…». Ольга бы и сама кому-нибудь вцепилась за руку, но кроме ручки чемодана, ничего более прочного ей не светило.
«Еще немного, еще немного…» – уговаривала она себя быть взрослой.
Виртенен сказал, что по Симбирской трамвай ходит до Петроградки. Да и сама Ольга помнила, что по Александровскому бегали трамвайчики к Финляндской железной дороге.
… «Красная-финляндская аптека», «Колбасная» …
Ольга ридикюлем указала Кате путь вдоль фасадов вокзала, где по карте, – она помнила, – должна быть Симбирская улица. Через несколько десятков метров они вышли к памятнику на тумбе и ожидаемо к трамвайному рефюжу.
… «Выборгский рабочий», «Табакъ. Штейнбергъ», «Союзпечать» …
У одной из сворачивающихся торговок Ольга спросила:
– Вечер добрый! Скажите, это Симбирская? До Церковной на Петроградской доеду на трамвае?
Старуха прищурившись посмотрела на растерянную Ольгу, перевела взгляд на Катю, и тогда в ее глазах мелькнула добрая искорка:
– Симбирскай-то – нету! Вишь! – она махнула на памятник лысеватому мужчине, – теперече все по-другому. Как оне – Комсомольцы-те черти! Комсомола улица! А тогу району, Петроградскагу, я не знаю. Вон, у Паши спроси. Праско-овья! – с сильным ударением на «о» крикнула старуха куда-то в сторону будки Союзпечати.
– Оу! – отозвалась полная обмотанная платками баба из-за кутылей с корзинками и берестяными поделками.
– Слышь! Как, гришь, к доче на Петроградское на транвае добирайиси?
– Дык, это, с Финскаго надо. Там… – Цокот копыт и грохот пролетавшего экипажа заглушил подробности. Ольге было неудобно переспрашивать, но, видимо, по ее лицу Прасковья поняла, что дама ничего не поняла. Торговка рукой показала. – В обратную сторону, говорю, надо. За площадью сядете. Там не ошибетесь.
А старуха беззубо улыбнулась, вытащила из ящика кулек и сунула Кате в руку.
– На-ко семочек.
Катя смутилась и спряталась за Ольгу. Та недовольно вытянула Катю обратно и пристально на нее посмотрела.
– Спасибо, – почти шепотом проговорила Катя.
Старуха покивала, хохотнула и влажно закашлялась.
– Спасибо вам, – повторила Ольга и быстрым шагом пошла обратно на площадь мимо стоянки извозчиков. Катя виновато засеменила следом, стараясь запихнуть газетный кулек в карман полушубка.
Почти сразу вдогонку затрезвонил трамвай.
Забраться с вещами на подножку оказалось даже сложнее, чем в поезд. Узкий проход, высокий поручень и поджимающая толпа желающих стать пассажирами.
Катя с испугу проскочила вперед. А Ольга со своим чемоданом продолжала сдерживать толпу.
– Товарищ женщина, поднимите багаж с подножки! Вы же видите, он мешает гражданам, – гремел густой женский голос из глубины вагона.
– Да-да, секундочку… – Ольга крутила громоздкий груз, нежелающий помещаться в проход.
– Заканчивается посадка… Да помогите же ей, товарищи! А то так и не сядет никто! – командовала кондукторша.
Сразу четыре руки подняли Олин чемодан и поставили на заднюю площадку. Ольга встала рядом. Из-за спин вынырнула Катя со своим мешком.
– Спасибо, господа, спасибо! Благодарю! – Повторяла Ольга, глядя на устало ухмыляющихся мужчин в ватных стеганках.
– Не за что, гражданочка. Добро пожаловать в Союз! – Сказал тот, который был помоложе, и подмигнул. Ольгу это удивило. «Как он узнал, что я только приехала в Россию? Наверное, по одежде, – она кокетливо сдвинула на затылок неопределенного цвета шаль. Но тут же ее озарило. – Они же чемодан наш ворочали. На вокзале-то!» – и смущенно сдвинула платок обратно на лоб.
Пышногрудая кондукторша, перетянутая гирляндой цветных катушек, как украшением, обилетила заднюю площадку, дала пару громогласных объявлений и неведомым способом просочилась вперед. Ольга с Катей удачно расположившись у окна, смотрели на советский таинственный Ленинград. Большой, темный и спокойный. Подсвеченные фонарем часы на фронтоне розоватого дома показывали начало восьмого. Ольга рассчитывала к девяти уже уложить Катю дома.
«Хотя какое там уложить. И мама, и Фрося начнут кудахтать вокруг: «Как же так! Надо молочка. Такая худенькая», будут причитать и плакать. Чаи гонять начнут. А Кате же все захочется послушать. Нет, наверное, не смогу ее сегодня утихомирить до полуночи. А как папа спать пойдет, вот тогда все и улягутся!»
Ольга вспоминала свои юные годы в Петрограде. Обычные будни и дни, когда приезжали гости. Затем Переворот, Гражданскую… Ольга смотрела на город, и ей казалось, что он знакомый, и какой-то чужой. Он стал чище с 1921 года, нет темных теней нищих, одетых во что придется. Нет пугающих свор собак с ввалившимися боками и с вечным оскалом. Конные постовые в новых шинелях и без ружей. Лошадки, как Катя любит, плотные, блестящие с остриженными по одинаковому канону гривами, а не голоребрые несчастные работяги. Прохожие по-деловому бегут из дверей в двери, и по-прогулочному, не спеша, фланируют под фонарями…
«Что в них поменялось? В этих прохожих. Улыбаются? Да нет. И тогда улыбались. Одеты лучше? Обуты? Моложе? Нет. Пожалуй, дело в уверенности шага, уверенности в завтра», – и подражая им, Ольга невольно расправила плечи и выпрямилась. Секундочку так постояла, и, словно ее кто-то одернул, вернула свою привычную сгорбленность.
Трамвай выполз на набережную.
– По двадцать шестому идет трамвай. Товарищи, кому в Центр, пересаживаемся на двадцаточку за мостом.
Ольга забеспокоилась. Она не очень любила лишний раз спрашивать что-то у людей, но сейчас ее приободряли две вещи. Во-первых, все говорят по-русски. Во-вторых, трамвай ехал над Невой. А за ней – дом! Если они сели на правильный номер.
Ольга обратилась к молоденькой девушке в изящной, но холодной шляпке:
– Извините, вы не знаете, этот маршрут идет до Церковной?
Девушка шмыгнула носиком, прижала к нему кружевной платок:
– Не знаю. Это за Смоленкой, на Васильевском?
– Нет. На Петроградском… Собор Владимира там рядом…
Девушка выразительно думала.
– Александровский проспект? – Уточнила Ольга.
– Не соображу я что-то… Смотрите, женщина, трамвай идет по 1-й Бедноты, затем Красных зорь, на Кронверский…
– Вокруг крепости?
– Да.
– И сворачивает на Александровский?
– Нет. На Добролюбова.
Теперь обе женщины выразительно задумались. Девушка извиняющимся тоном предположила:
– Я в Ленинграде всего год, может раньше так и назывался? – пожала плечами, шмыгнула и отвернулась.
«В любом случае, буду держаться Кронверкского, а там посмотрим», – подумала Ольга и поблагодарила попутчицу.
– Ма-ам? Так куда нам ехать-то? – спросила Катя после странного диалога.
– Катюша, все будет хорошо, – уклончиво ответила Ольга.
Трамвай действительно выехал на знакомые улицы. Олино сердце отзывчиво убыстрилось, когда на повороте мелькнули темные вышки минаретов. А когда на фоне запечатанной льдом Невы Ольга узнала бастионы Петропавловской крепости, ей уже хотелось выскочить и бежать бегом.
Трамвай миновал погашенный купол Народного дома, и Ольга решительно потащила чемодан к выходу. Пассажиров к этому времени стало значительно меньше.
Остановка. Ольга подтолкнула Катю вперед со словами: «Наша! Вперед!». Сама почти выпрыгнула с подножки. Каким-то чудом протиснула чемодан между поручней под нужным углом. И вот уже трамвай номер «26» удаляется к Неве, побренькивая и повиливая красным задом.
– Ну, наконец-то! – выдохнула Ольга целое облачко. И пока поправляла пальто, платок и Катин капор, объяснила, – Смотри, дом за перекрестком. В пять этажей. Отсюда как раз видно окна гостиной и моей комнаты. Видишь, свет на четвертом этаже? Родители дома, – подбодрила она себя, – нам вон туда, на угол. Так что, почти пришли!
Преодолев черный сугроб и желтую от конской мочи проезжую часть, Ольга перешла на быстрый шаг. Ей не терпелось, к тому же изрядно похолодало. Февраль – злой месяц. И чем ближе был дом, тем скорее хотелось попасть внутрь.
Церковная, или как там ее теперь, была пустынной. Только снег под ногами хрустел. Не опасаясь на тихой улице за следом идущую Катю, Ольга метнулась к угловой парадной, дернула дверь и чудом остановилась в сантиметре от заостренного лезвия раскрытых ножниц.
–Че хоть ты?! – не то спросил, не то окрикнул огромный седой бородач в светлом тулупе и кожаном фартуке.
– Извините, я тут живу, мне надо… – Ольга настырно обогнула старика, не замечая ни инструментов, развешанных по стенам, ни стола с колодками, подметками и кучками гвоздиков. Ольга толкнула вторую дверь – та была заперта.
– Ну? И чаво? – спросил старик, медленно протягивая точилом по режущей кромке ножниц.
– Заперто…
– Ага, – подтвердил старик с улыбкой где-то в недрах усов.
– А как же? – спросила Ольга.
– Дык, со двора все ходют.
– А… Понятно. Извините…
– Ну, чаво, бывает… – пожал широкими плечами сапожник и продолжил звонко точить ножницы.
Ольга вышла из парадной. Катя послушно стояла снаружи.
– Мне идти? – спросила она растерянную мать.
– Нет, не сюда. Налево, к подъезду.
Катя так же послушно пошла к арке подъезда. Они обе уже устали. Хотелось, конечно, побыстрее зайти, стряхнуть снег, согреться и попить чего-нибудь теплого. Желудок уже давно просил хоть что-то и, наверное, согласился бы даже на холодное.
В подворотне было не очень. Запах отхожего места сильно бил в нос. Дрова лежали навалом, а проходы были не чищены, будто дворника в доме вовсе нет. На месте ледника целая гора стропил и толстых обугленных бревен, вмерзших в грязь и снег.
Но к черной лестнице дорожка протоптана. Дверь открыта. Даже трепыхается сквозняком, выстуживая квартиры.
Ольга редко ходила этой лестницей. Она узкая, под неудобным углом и темная даже днем.
Сейчас по ней идти, да еще с ребенком и вещами было совсем неприятно. Снизу Ольга слышала Катины «ой-ой» и только повторяла: «Осторожнее».
На небольшой площадочке четвертого этажа Ольга набралась храбрости и мысленно загадала, чтобы открыл папа, ведь он не начнет сходу шуметь и закатывать свадебные горевания.
Ольга постучала. С кухни не донеслось ни звука. Она постучала еще громче. Дома точно кто-то есть. В окнах же горел свет! Ольга постучала еще раз, к этому времени она привыкла к сумраку лестницы и увидела электрический звоночек на витом проводе. Аккуратно повернула его ручку. За дверью противно зажужжало, и послышались торопливые шаги. Дверь распахнулась:
– Вам кого? – спросила из ярко освещенного проема девочка, чуть старше Кати. На голове у нее была красная косынка, такая же, как в газетах про Советский Союз, что иногда попадались у постояльцев «Лепони».
– Алексея и Софью Кирисповых ищу.
– Эта квартира Большаковых. Кирисповых тут нет.
– Раньше здесь жили. А куда они переехали?
– А! Раньше жили? Всех буржуев из этого дома расстреляли, – весело пояснила девчушка. – Вам, наверно, к папе? Он будет поздно.
Ольга, не в силах произнести ни слова, хлопала глазами на незнакомую девочку. Катя хлопала глазами на обездвиженную мать.
Девочка, видимо, устала от немой сцены и решила идти по своим делам.
– До свидания! Приходите лучше завтра, – она закрыла дверь. Из кухни Большаковых донесся знакомый стук щеколды.
Глава вторая. Когда надежда пожирает мечты
Не выпуская Катину руку Ольга села на шаткий чемодан. Вся лестница вдруг стала шаткой. Внизу ритмично бухала входная дверь, эхо удваивало или даже утраивало ее стук и доносило до пролета четвертого этажа давящий гул. «Буржуев расстреляли, буржуев расстреляли…» – повторяла про себя Ольга, пытаясь понять, что это значит. Что это значит для нее, для Кати, пялящейся ей в глаза сквозь темноту.
Вдруг в голове всплыл образ отца, такого, как она помнила. В потертых на коленях рабочих брюках, в нательной рубахе, сутулого и сильно похудевшего, как тогда, когда его первый раз арестовали в 1918. Рядом – мать, обнимающая Ефросинью за плечи. Тоже, как тогда, с той лишь разницей, что Ольга представила их на холодном февральском ветру под дулами армейских винтовок.
«Бах!» – разнеслось в голове. «Бах! Бах!» – повторились ритмичные выстрелы. Весь лестничный пролет заполнился эхом, вторящим то ли бухающей входной двери, то ли этим выстрелам в Олиной голове.
– Мама? – Катя подергала одеревеневшую руку матери. – Мама, нас не пустят? Бабушки с дедушкой там нет?
– О, Боже! – Горячий ужас поднялся от сердца, брызнул из глаз. Ольга подтащила к себе Катю вцепилась в нее и взвыла на такой ноте, что казалось, будто по кафелю протащили враз дюжину буфетов. Короткий вой оборвался, и, повисая на Катиных плечах, Ольга беззвучно сотрясалась всем телом.
– Мамочка, – хныкала Катя, – Мамочка… Не надо! Мамочка… – она не могла пошевелиться, сжатая тисками материнских объятий.
Сколько тяжелых вдохов сделала Ольга, сколько горячих нежданных слез из нее вылилось на Катин полушубок, сколько прошло времени в темноте на шатком чемодане, Ольга не знала. Казалось, бесконечно много. Дверь снизу очередной раз хлопнула «Бах!» и вместе с эхом по лестнице стал разноситься стук металлических подметок по ступеням. Ольга прислушалась. Стыд взял верх, и истерика отпустила.
Со второго этажа долетело неразборчивое бурчание, и клацанье подметок приостановилось. Ольга краем колючего воротника обтерла глаза и нос, сгребла вещи и молча, подталкивая Катю, начала спускаться. Та послушно шла впереди, прощупывая по одной узкие ступеньки.
Ольга слышала, как хозяин квартиры второго этажа топтался у двери, затем шумно ворочал ключ в замке, снова бурчал что-то нечленораздельное, скрипнула раззевающаяся дверь. Уже спускаясь с соседней площадки, Ольга видела отсвет на пестром кафеле от быстро закрывающейся двери чужой квартиры. Пахнуло теплом кухни и на лестнице опять стало темно. К выходу казалось, что тьма еще больше сгустилась.
За входной дверью их ждала ясная ночь. Светлая от снега, но холодная, пустая и чужая.
Катя обернулась и увидела мамино лицо. Даже не лицо. На секундочку она увидела перекошенную маску, как у артистов Казино: сильно заломленные брови с вертикальной складкой на лбу, красные обводы вокруг глаз, переходящие по скулам в изогнутый книзу рот.
Ей стало страшно, она отвернулась и просто шла вперед по узкой скользкой тропке.
Шаг в шаг по своим следам Катя шла в обратную сторону, за ней – ничего не видящая Ольга.
Катя боялась заговорить с ней, чтобы опять не вызвать слез. И думала, что надо просто вернуться назад. На трамвай, на вокзал, в поезд, домой.
На улочке, озираясь, откуда же они пришли, Катя увидела бородатого великана в светлом тулупе и фартуке поверх. Он стоял на углу дома и смотрел в упор. Поймав Катин взгляд, покачал головой и показал ей язык. Катя ответила тем же. Тогда он сделал Кате козу и сказал странное: «Дю-дю-дю-дю». Катя засмеялась – что он с ней, как с маленькой?! – остановилась и притопнула на странного старика.
Ольга сзади налетела на дочь и вынырнула из черноты отчаяния. Она тоже увидела сапожника, к которому вломилась в коморку парадной полчаса назад.
– Чего ревешь? – без обиняков спросил старик взрослую Олю.
– Дом пропал, – откровенно ответила Ольга.
– Бывает… – сапожник опустил глаза, – калошек-то нету, что ли? – ткнул он на облепленные желтым снегом Катины и Олины валенки.
– Ничего нету, – подытожила Ольга.
– Бывает, – подтвердил дед. – Есть куда пойти-то?
Она молча помотала головой.
– Ага… – уяснил сапожник. – У меня, это…, невеста, – Ольга почувствовала, что в глубине седой бороды он улыбается. – Это…, у нее две комнаты в Гавани. Пойдешь до тудова? Недорого возьмет. Это… Она у меня добрая.
Ольга посмотрела на окна бывшего дома, на замерзшую голодную Катю и кивнула. Разве был у нее сейчас выбор?
– Ща! – сказал добрый великан и зашел в свою каморку.
Через минуту он уже вышел без фартука и со свертком под мышкой. Навесил на дверь замок с кулак величиной и довольно живо подхватил у Ольги чемодан и мешок, всучив без лишних слов сверток.
Ольга запротестовала. Но старик лукаво глянул из-под косматых белых бровей и сделал широкий шаг к набережной. Чтобы продолжить с ним спор, Ольге бы пришлось его обежать. Сил на это у нее не было.
Великан шагал быстро. Катя семенила следом, еле поспевая. Ольга перехватила дедов сверток поудобнее, взяла дочь на буксир и тоже вошла в скорый ритм.
На набережной стало заметно тише. Лошадей почти не было. Редкие сонные клячи тащили повозки со спящими кучерами. Трамваи уже не бегали, и шумные автомобили в этой тишине пугали своим резким рыком.
Нева лежала под крепким льдом. Во все стороны по ней разбегались черные натоптанные дорожки. Там же раскатанные следы полозьев образовывали еще одну улицу.
«Какая же Нева большая! Какой же огромный Петроград! Я и забыла! – от хруста снега под ногами на душе вдруг стало спокойнее. Ольга разглядывала, подсвеченную фонарями и отсветами снега, печать жизни многолюдного Ленинграда. – Будто его мелом на грифельной доске рисовали!»
Когда они подходили к Биржевому, ей привиделось, что Стрелка похожа на нос корабля, прикованного к набережной мостами. Городские, такие родные и такие давно потерянные пейзажи трогали душу, рвали забытой радостью. И эта радость растворяла жуткие образы в голове. А может, образы утонули в тех слезах на черной лестнице? В любом случае, на морозе от быстрого шага делалось легче.
«Почему я не верю, что их нет? – поймала себя на мысли Ольга. – Не может быть такого, что бы их не стало, а я не почувствовала. Нет. Не может быть такого. Я бы знала. И с чего это девчонка взяла?! И с чего это я поверила какой-то девчонке, живущей в моей комнате?!» – Ольга распалялась и ускоряла шаг. Она уже почти догнала сапожника, мерившего саженью обледенелые доски моста, но тянувшаяся сзади Катя начала активно поскальзываться и повисать на маминой руке. Ольга чуть сбавила шаг, но не обернулась, не давая Кате возможности остановиться и пожаловаться.
А Ольгу уже обуревало новое беспокойство. Вдруг широкоплечий старик не такой уж доброжелатель? Вдруг он забрал у безропотных матери с ребенком последние вещи и скроется в темноте Ленинградских дворов? А может он тот самый бандит из финляндских газет, который заманивает несчастных жертв за город? А там… А там!.. У Ольги даже фантазии не хватало придумать самое-самое страшное, но ледяные мурашки побежали по покрытой испариной от быстрой ходьбы спине.
Сапожник сошел с моста и дождался своих подопечных.
– Меня, кстати, Иваном звать, – протянул он правую руку Ольге.
– Ольга. Дочь моя Катя, – Ольга пожала крепкую и теплую мозолистую ладонь. Подозрения ее тут же стали менее значительными. И совсем рассеялись, когда Иван наклонился к Кате, поправил сползший капор и сказал:
– Катюнька, запыхалась совсем? Зато, это…, согрелась. Потерпи чуток. Ты, это…, сильная, вижу! – он поднялся и пояснил уже для Ольги. – Я-то привычный. Это…, кажный день хожу. Тут по набережной, до мосточка, а там уж напрямки. Версты четыре, это…, не больше.
Ольга посмотрела на тихую Катю, оглядела темные махины кварталов засыпающего чужого родного города и кивнула. Сапожник помог перелезть им сугроб и выйти на набережную и также размашисто пошагал вперед. Он останавливался у тех фонарей, которые не горели, давая Ольге с дочерью пройти неосвещенные участки мостовой в безопасности, и опять размеренно и быстро опережал их на несколько домов. Они вышли на проспект уходящий вглубь острова. Здесь встречались трактирные огни и быстро трезвеющие на холоде завсегдатаи.
Ветер с Невы начал стихать, движение и шум на мостовой почти прекратились. Колясок и моторов уже совсем не попадалось. Здесь город был такой, как она его помнила. А может, от усталости ей все казалось одинаковым. Васильевский сейчас походил одновременно и на Петроградку, и на Лиговку. Ступенчатые стены домов с арками: два этажа, пять этажей, глухие брандмауэры, сад, сквер, фонарные столбы, водосточные жестянки, каменные панели и дощатые заборы и снова брандмауэры, три этажа, два этажа, пять… Город жив. Город жил без нее и даже церкви, вопреки россказням с той стороны границы, стоят. То справа, то слева из-за домов выглядывали луковки.
«Господи, прости!»
Перекрестилась Ольга, проходя вдоль ограды кладбища. За ним вышли на узкую улицу к покосившимся деревянным домикам, новым в бесконечное количество окон баракам и заснеженным изгородям, за которыми поднимались целые горы белого, серого, коричневого чего-то.
В квартале от кладбища Иван остановился у высокого забора, за которым был поворот в неосвещенный проулок:
– Вот почти и добрались! Это… – он поставил чемодан под фонарем, – тут постойте чуток. Я ейного разрешения спрошу. Да это так, для порядку! – в бороде снова чувствовалась улыбка, – и вернусь за вами.
Катя плюхнулась на чемодан. Капор сполз, из-под ушанки валил пар и поднимался к фонарю.
– Вот это прогулочка! – неожиданно бодро сказала Катя. – Это ж как до молочницы в Ваммельсуу?
Ольга улыбнулась, она вспомнила, как под новый год их отправили на хозяйский хутор вместе с другими служанками, дворовыми и кухонными работниками с их многочисленными детьми. После Рождества такой подарок устроил директор Морского курорта. Постояльцев на вилле Лепони почти не было. И он дал задание проинспектировать молочника в Ваммельсуу. Снег еще не выпал, но мороз уже стоял задиристый. Детям показали ясли с телятами и жеребятами, разрешили залезть к курам в зимовье и накормили жирными пирогами. А такого вкусного молока Ольга не пила, наверное, со своего детства.
Стукнула калитка. Старик в телогрейке и шароварах выскочил из-за угла.
– Давай-давай! – скомандовал он, подгоняя Катю. Забрал вещички и нырнул обратно. Катя и Ольга пошли за ним. За забором обнаружилась одноэтажная хибарка с четырехскатной крышей, к ней примыкала низкая постройка с дверями и полуподвальными окнами, плотно завешенными изнутри. Напротив у забора, аж до самого его края темнела огромная куча.
В хибаре приветливо горел свет, от нее пахло печным дымом, но старик проскочил мимо крыльца, подбежал к одной из дверей пристройки, ногой постучал. Двери приотворились, выпустив в стужу клубы пара.
В полутемном жарко натопленном помещении по стенам танцевали отсветы огня из буржуйки. Хозяйка комнаты в ночнушке и кудлатом платке заспанно щурилась на гостей.
Чуть не сделав привычный книксен, Ольга спохватилась и скромным поклоном поприветствовала старикову невесту. Та вроде кивнула, если это не игра света.
По безрадостному приему Ольга подумала, что надо срочно расплатиться, начала копошиться в ридикюле, протянула деду его сверток и несколько бумажек, но старик отмахнулся. Он закинул еще пару дровишек в печурку, потрогал чайник, котелок на плите и сказал:
– Завтра-завтра разберемси, поздно уже… Эта… – он накидал в маленькую плошку картофелин из чугунка, – мы пошли в другую комнату, а вы ложитесь, – миской показал на настил у стены с одеялами, из-под которых явно только вылезла хозяйка. – Печку не студите, а то замерзнете к утру. Домишко, это…, совсем тепло не держит.
Как только дверь хлопнула, Катя подбежала к котелку и схватила горячую картошку, обожглась, уронила на стол и скинула полушубок на пол. Прыгнула на стол за укатившимся клубнем, как лиса за мышью, и перекидывая из руки в руку, кусала картошку прямо с кожурой.
Пока мать доставала нужное из чемодана, Катя забралась на полати, развязала ботики и дожевывала картофелину уже под одеялом. Еще через пару минут Ольга оглянулась и поняла, что дочь уже спит.
Ольга села за стол на единственный стул в комнате. Она обняла голову руками, закрыла глаза и слушала, как трещит в печке огонь. Не так она представляла сегодняшнюю ночь.
«Зачем?! – вопрошал внутренний голос, – На что ты надеялась? Все семь лет никто не отвечал, надо было думать?!»
– Что делать-то? – прошептала она в ответ своему умному внутреннему голосу, – Сил нет никаких. Попали неизвестно куда. Вот заставят завтра меня и Катюшу отрабатывать в ресторане, каком-нибудь! – Ольга придумывала работу попротивнее, будто специально хотела заставить себя страдать еще больше. – Мою девочку, мое солнышко! Отберут, и будет она с другими голодными оборванцами побираться!
Ольга заплакала, тихо, почти по-детски, чтобы не разбудить Катю. Но ей так хотелось выть в голос, разгромить чужое жилье и бежать к дому, орать той девчонке гадости. Или к черным водам Невы. Как жаль, что она подо льдом!
Чайник чуть затих и зафырчал, окутывая трубу печурки густым паром и стреляя в раскаленную печку брызгами. Оля аккуратно сняла его на железку. Котелок с картошкой она отодвинула подальше от раскаленного очага. Да и прихватила одну. Жевать и горевать было сложнее. В голову лезло что-то более жизненное. Где тут уборная, например. Как вернуться в Терийоки, или уж тут найти работу. Прачки везде нужны. Оля заметила до сих пор лежащий на столе сверток. Протянула свободную руку и задрала край бумаги, потом тряханула – на стол вывалились две пары калош. По размеру было похоже, что они идеально подойдут на Олины и Катины валенки. Ольга прикинула, что надо будет добавить хозяевам за заботу, и денег у нее с такими тратами надолго не хватит. Она заботливо убрала обновку под стол и продолжила есть.
Водянистая картошка отдавала сладостью и конским навозом. «Мерзлая» – Ольга не любила такую. Но сейчас так хотелось есть, что даже эта еда ее успокаивала. Она налила в оставленный на столе стакан кипятку. Посмотрела на спящую в одежде Катю на чужой простыне и часто заморгала. Жар от сердца подступал уже к горлу, но горячий стакан отвлек. Она одернула руку и сосредоточилась на ниточках пара, тянувшихся от кипятка вверх в свете красного печного зева.
– Допустим, родителей нет, – прошептала Ольга, – дома нет, но ведь хоть кто-то остался? – Она стала вспоминать, кто из прошлой жизни мог бы ей помочь.
Коллеги отца с фабрики. Его шофер Степан с семьей. Сосед – аптекарь, что брал на работу после революции. Юра Анненков, он всегда ей помогал, не откажет же он ей сейчас, когда она в таком положении?! Друзья семьи. Участники ее недолгого литературного кружка. Павел Павлович…
«Нет! Родителей Андрея точно нельзя вмешивать! Нельзя с ними встречаться. Ни за что! Нельзя, чтобы они знали, что Катюша его дочь! И Кате не стоит знать ни кто ее отец, ни его родственников! Что они знают про нас? Что мы пропали по дороге в Париж? Вот пусть так и будет!» – Оля, сидя напротив раскаленной печи, чувствовала, как к ногам тянулись ледяные языки февральского холода. Она задрожала, одернула поглубже истерзанные шерстяные манжеты, положила руки на теплый живот. Наткнувшись на шрам, она отняла оплошавшие пальцы. Нервно встала – ее передернуло – скормила алым углям еще одно полено, проверила, можно ли плотнее закрыть облезлую дерматиновую дверь. Накатила усталость. Потратив последние силы Ольга привалилась спиной к скрипнувшему косяку.
Катя спала глубоко и беззащитно, раскинув руки и ноги на широкой лежанке.
«Катюша только моя! Никому ее не отдам! – Ольга сжала похолодевшие кисти до хруста костяшек. Боль не заставила себя ждать. Она отрезвила и заставила думать. – Тогда, что? Тогда, как? Лучше бы Катюша была Сашиной дочкой! Причем здесь Саша?! Мало я ему крови попортила?! Нет, Саша ни при чем! Так, так, так…» Ольга начала судорожно метаться в узком проходе между столом, лежанкой, перекошенным буфетом, в нутро которого были втиснуты дрова. Она чувствовала себя как в капкане. Попалась по собственному недомыслию, еще и ребенка привезла. А ведь ее предупреждали!
Как поступить, Ольга не понимала. Сколько пролетело времени в раздумьях – тоже. Она только знала, что топка сожрала двенадцать поленьев, но руки ей было не согреть. В сырых валенках и ноги продолжали коченеть.
Сон подступал. Она решила прилечь. Только на минуточку закрыть глаза, потом встать и подбросить, чтобы очаг не угас. Ольга заслонила дверцей прожорливое зево печки и устроилась на краю полатей, стараясь не будить нежно сопящую дочь.
«Завтра. Завтра будет новый день. Иван ведь хороший человек? Вот у него и спрошу, что подскажет. Может он аптекаря знает или Степана… Надо идти домой… Там найдется знакомый, кто-то, кто знает. Поможет…»
Мысли путались, кружились, перетекали. Они были то теплыми, как лучики солнца, то ледяными, как вода из колонки. Набирались, наполняли собой все вокруг, волновались… Оля почувствовала, что стоит в лодке над ними. У борта свернувшись калачиком, лежала Катя. Она таращилась зелеными глазищами и повторяла: «Мама, Мама». Сердце сжалось.
Оля посмотрела по сторонам. Под лодкой – только морская плоть, поднимающая и опускающая свинцовые мышцы. Над лодкой – от пепельного до цвета сажи обрывки туч. Они мчались во всех направлениях, и где-то выше них, в редких промежутках, мелькал восково-холодный свод.
Лодку болтало. Казалось, она сейчас сорвется с гребня и полетит верх тормашками, вытряхнув из себя напуганных девочек. Оля схватилась за весла. Но грести не могла. Весла или не дотягивались до воды, или застревали в ее толще, будто она – гранит. Лодка кружила на месте.
В одной из нарастающих волн Оле почудилась знакомая шляпа. Волна выросла и, обмякнув, поднырнула под лодку. Что-то большое шурша и лязгая прокатилось под днищем. И с другого борта Оля увидела, как по удаляющейся водной глади скользит Андреево клетчатое пальто.
Оля зажала рот, чтобы не закричать. Посмотрела на Катю. Та продолжала разевать рот: «Мама-мама», но Ольга ее не слышала. Только вой ветра, и рокот перетирающихся между собой волн.
В страхе Оля озиралась, и в следующей нарастающей волне она увидела изуродованного мужа. Он приближался, приближался…
Брызги от волн уже долетали до Оли. Они обжигали ее кожу и губы холодом и солью, перемешивались с горячими слезами. Оля видела перекошенную улыбку Андрея, вода еще больше исказила его черты – нельзя было разобрать глаз. Но еще чуть-чуть, и Оля поняла, на лице под волной нет глаз, только черные ледяные глазницы.
Андрей вытянул из воды серо-зеленые руки и потянулся к лодке. Оля стала вытаскивать весло из уключины, дергая из стороны в сторону. Она не собиралась сдаваться Андрею без сопротивления.
Вдруг из-за Олиной спины вздыбленную совсем близко волну пронзил луч света. Страшные руки тут же опали безобидными барашками. Оля оглянулась, в поисках источника спасения. Катя стояла на корме и, улыбаясь, смотрела на маяк.
Бледное небо оголилось. Вода выровнялась и показала светлый горизонт. Оля замерла, прислушиваясь к течению. Луч маяка, нежно покачивая, настойчиво подтягивал лодку к безопасному месту. Оля покорно присела рядом с Катей, прикрыла глаза и позволила себя убаюкать.
Глава третья. Кроличья нора
Проснулась Ольга сразу. Не успев открыть глаза, она спохватилась, что проворонила печку, но тут же услышала, что очаг дружелюбно трещит и посвистывает. Не меняя позы она решила оглядеться. В таких же сумерках, как накануне, за столом Ольга увидела спину в кудлатом платке. К дровяному сладкому запаху примешался привкус жженного керосина. В комнате горела лампа, но пока вне Олиного поля зрения.
– Будочка во дворе налево – не оглядываясь, махнула зажатой в руке картой хозяйка в сторону за окно. – Твоя деваха-то не обосцицца? Седьмой час ведь дрыхните.
Ольгу передернуло от такого вопроса, но она поспешила успокоить хозяйку:
– Нет. За ней никогда не водилось. – Ольга, погладила сопящую Катю по руке и прошептала ей, что сейчас придет, чтобы та не испугалась.
Валенки просохли. Пока Ольга накидывала на плечи пальто, исподтишка разглядывала невесту сапожника. Крупная сутулая женщина. То ли седая, то ли светло-русая. Сдвинутые суровые брови и поджатые губы. Она не смотрела на Ольгу, а сосредоточенно раскладывала пасьянс, нависая над необыкновенно маленькой коптящей лампой.
Когда Ольга вернулась, Катя уже сидела, поджав ноги, на стуле, а старуха внаклонку натягивала калоши на Катины валенки.
– Чего он вам дал-то?! Тюк-в-тюк! Не на вырост, ничего! Это же муки ацкия кажный раз на просушку сымать! На! – Старуха протянула Кате валенки. – Проводи-ка свою вертлявку до нужника. А то поскользнется. Сегодня туману… сырости… И давайте уже поскорее. Чайник ставлю!
«Не такая уж и суровая» – подумала Ольга, выходя с Катей во двор.
После вынужденной утренней прогулки хозяйка выдала ушат с ковшом и строгий выговор, за то, что Ольга снова замочила валенки, не надев данные дедом калошки. Ольга извинялась, послушно и тщательно умывалась. Была готова уши показать хозяйке на проверку, так уж она напомнила ей кормилицу.
– Вас случайно не Фросей зовут? – с улыбкой спросила она хозяйку, предположив, что всех грозных воспитательниц должны звать Фросей.
– Нинкою! – отмахнулась женщина. – Ниной Михалной, – поправилась она многозначительно приосанившись. – А вас Олькой и Катькой звать? Мне Ваня сказал. Что ж девчоночки, позавтракаем, чем бог послал! Ты, длинная, на полати седай. Ты, мелкая, – на стуле, а я вот тут полешко потолще… – Нина Михайловна вытянула какой-то трухлявый пенек из буфета без дверец. – А чего? Вот-те и табурет! – Она засмеялась, оголив редкие, но белые зубы. Плюхнулась на шаткое свое сиденье, ойкнула и залилась пуще прежнего. Катя, вторя, заливисто засмеялась, и тоже чуть не слетела со стула. – Ну, неча ржать! Олька я пока раскладу, а ты рассказывай, кто вы, откудова и куда следуете. А то от этого сапожника ничего не добъесси. Он только «давай погреимси, давай погреимси» … – старуха подмигнула Ольге и глумливо хохотнула.
Нина Михайловна разложила по алюминиевым мискам разогретую вчерашнюю картошку. Плюхнула кулаком по каждой, так что мякоть разорвала кожицу и превратилась в подобие пюре. Хозяйка раздала всем по деревянной ложечке, пока Ольга вкратце рассказала, что родилась в Финляндском княжестве, потом жила на Церковной, бежала, потом Катюша родилась…
– От святого духа, что ль?.. – нескромно спросила Нина Михайловна.
Ольга быстро вскинула взгляд на старуху, потом на Катю, потом на печку и снова на хозяйку:
– Понимаете… Это грустная история, я бы не хотела… – она покосилась на слушавшую ее дочь.
– А-а-а… Понятно! Ну раз устроилась там, у буржуёв этих, чего ж не сиделось?
Ольга уставилась на плавающий по цветастой скатерти круг света от лампы:
– Я там чужая. Меня там никто не понимает. Катюша без отца. Мужчины там все…
– Да что ж ты будешь делать! – старуха всплеснула руками, остатки картошки с ложки полетели в темный угол. – Опять все из-за них! – Нина Михайловна облизала ложку, затем выбрав картофельные шкурки на стол, облизала и миску. – Все из-за них, супостатов! Вы доедать будете? – Она расценила неторопливость Ольги и Кати за отсутствие аппетита.
Катя, слушавшая до этого мать, разинувши рот, убыстрилась и в завершении, облизала тарелку так же, как это сделала хозяйка.
Ольга, закатила глаза от того, что вытворяет Катя, но тоже решила не обижать хозяйку и ускорила поедание постного блюда. Облизывать миску правда не стала.
– Благодарю, – передала она посудину Нине Михайловне, та скептически поковыряла ногтем остатки картошки по краю, помуляла пару раз в ушате, где только что умывались девочки. И протерев посуду тряпицей, висящей на поясе, убрала на верхнюю полку буфета.
– Ага. Значицца, понятно все с вами! – Нина Михайловна нависла над столом, уперев в него руки. Денег сегодня за постой не возьму. Я за младенчиком смотрю, мне там плотют пока. Да и какой постой. У нас тут стыдоба, а не постой. Расход токмо на дрова, а Ваня уж на дрова, слава богу, наберет с подметок-то! Своих будешь искать аль нет, это ты уже опосля решишь. А первым делом на службу надо. Откудова, говоришь? Церковная – эт на Петербурской стороне?
– Да. У Кронверкского.
– Вот и славненько. Биржу знаешь?
Оля похлопала ресницами.
– У Сытного рынка…
– А-а-а… Напротив Народного дома? Где хвосты всегда стоят?
– Да-да. Вот в хвост и вставай. Вот прямо сейчас езжай, и попробуй работенку найти. Говоришь, грамоте обучена? Попробуй в контору какую, ну или как раньше – прачкой… А за вертлявку не боись. Пригляжу. Она мне по дому поможет. Поможешь, Катюха?!
Хозяйка весело глянула на Катю. Та – на мать. А в глазах – не то страх, не то любопытство. Как всегда, по живому лицу дочери Ольга прочла целую гамму переживаний.
– Ну что, Катюшенька? Побудешь с Ниной Михайловной?
Катя прикусила нижнюю губу и кивнула. Она была необыкновенно тихая этим утром, но очень смелая.
– Надо было тебя пораньше-то поднять. Э-э-эх! Пока добересси, уже и местов может не быть! Ну, хотя бы оглядисси! Поезжай-поезжай! – Хозяйка убрала «табурет» в поленницу, освобождая Ольге проход к выходу. – Документы не забудь. И деньги. Деньги отсюдова забери! Чтобы никаких тут! – она потрясла указательным пальцем. – Чтобы без подозрений тут! – Ольга уже стояла в пальто и с изрядно похудевшим ридикюлем. – Ну ступай с богом. Тут трамвайчик сразу идет, огоньки: оранжевый да красный, 26 – Нина Михайловна в воздухе нарисовала цифру. – Тебе туда. Он долго-долго, но как раз к месту довезет.
– Так я знаю. Мы на нем вчера с Финляндского ехали!
– Вот видишь как?! Ступай. Ступай… – Старушка открыла дверь, выпустив тепло на улицу, подтолкнула в спину нерешительную Ольгу.
Остановка, действительно была, но трамвай шел совсем в другую сторону, противоположную той, откуда они вчера пришли с Иваном. Представилась отличная возможность поприветствовать город юности, осмотреть его.
В этот раз билет обошелся дороже, но кондуктор была точь-в-точь, как вчера. Ну или очень похожа. В вагоне почти никого не было. Ольга села на деревянный диван, сняла варежку и прогрела на заиндевелом окне глазок. Сумерки рассеивались. А вместе с ними рассеивался плотный туман с примесью горьковатой угольной сажи. Через собственноручно сделанное окошко Ольга уже видела не только мостовую и углы почерневших промышленных зданий, но и окна, трубы, улицы, удаляющиеся и пересекающие проспект.
Трамвай тренькнул и повернул налево. И справа в вагон залился белый слепящий свет. Солнце вот-вот взойдет, но лед и снег залива, до которых здесь было рукой подать, казалось, уже напитались этим предрассветным сиянием и готовы излучать его еще до восхода. Также неожиданно в вагоне потемнело. Справа и слева то появлялись, то расступались серые или бурые махины домов; бегущие вдоль проспекта, заборы; деревья с корявыми черными руками, нависающие над мостовой; обнажались из-под пороши некрасивые желто-коричнево-черным сугробы на пустырях.
Город прятал свою гармоничную красоту от пассажиров. Как Ольга ни жалась к стеклу, общей картины не уловить. Только тени, расплывающиеся за цветами мерзлых окон, или частности, как детали мозаики, – в протаянный глазок.
Слева вдруг показался ухоженный сад с дорожками и скамеечками, почти сразу за ним кирпичная пожарная вышка и улицы-линии – стрелы, разлетающиеся в белый февральский небосклон. Пешеходы снуют по широкой панели и по утоптанным тропинкам скверов. Деловитые и рабочие, которых можно было определить по добротным пальто, застегнутым на все пуговицы, или распахнутым парящим телогрейкам. Насколько меньше стало франтов, настолько же меньше стало людей в обносках.
Рядом сели две девушки над ними нависли молодые люди с длинными шеями, начинавшимися откуда-то от третьей пуговицы пальто. Они изогнулись, словно вопросительные знаки, повиснув на руке, и активно участвовали в разговоре со своими пассиями. Смеялись и громко обсуждали неудачников «непманов» и «пятилетку за три года». А Ольга вих возрасте мечтала стать поэтессой…
Ольге уже не так были интересны посторонние разговоры. Слишком много всего: звуков, голосов, моторов, рельс, людей… Все слилось в однородный бессмысленный шум. Как шум волн на Финском заливе. Она погрузилась в эту мысль, и вспомнила, что сегодня утром проснулась удивительно умиротворенной, несмотря на вчерашние переживания, да и, собственно, не смотря на сегодняшнее ее положение. Точно! Она хотела ехать домой и искать знакомых, поговорить с хозяевами квартиры…
«Может так и сделать?»
Замедлив ход, трамвай перебрался через Неву.
– Добролюбова проспект, – пробасила кондуктор.
За мостом трамвай повернул направо, и Ольга увидела часовню, Соборный сквер, Владимирский собор.
«Кресты! Кресты на месте! Прости меня, Господи! – перекрестилась Ольга, вглядываясь в глазок. – Врали в газетах! Не сбили кресты! – В вагоне было уже людно. Сердце стучало, чуть не выпрыгивало – жарко нестерпимо – и хотелось выйти вот здесь, сейчас дойдет до угла и… Дом – вот тут! Рядом совсем. Надо бы выйти! Ольга встала и стала протискиваться к выходу. Ридикюль застревал. Ольга прижимала его ближе, извинялась. За два человека до двери… – Но дальше что?! Опять придумки? А дочка в трущобах гаванских?.. Нет. Нина Михайловна права. До биржи надо. Найду работу, прокормлю Катю. А там уже и про знакомых можно подумать…»
Ольга проводила взглядом махину своего дома и, отвернулась.
– Биржа! – будто пушечным выстрелом ухнула кондуктор. Полвагона высыпало на панель к скверу, и, волной огибая трамвай с обеих сторон, народ кинулся наперегонки занимать хвосты.
Трамвай нервно застрекотал и за последним пешеходом спешно дернул набирать скорость. Ольга одна стояла на панели и смотрела, как удаляющийся трамвай ловко выскальзывает из сети, расставленной тенями корявых ветвей. Она не спешила. Зачем спешить, не зная, куда именно надо? И спокойно встала за смешанной группой, притаптывающих будто в танце, мужчин и женщин. Попасть бы внутрь, а там уж она разберется.
Солнце дарило тепло и воспоминания. По большому счету город почти не изменился. Прогулка в Зоосаду. Кажется, это был девятьсот шестнадцатый. Так же по-весеннему солнечно, только вечерело. К ней присоединились Жанна, Андрей и Саша. Как жестоко их потом столкнула судьба!
Тучка накрыла Кронверкский. Ольга отогнала мысли о том, что стало с каждым из тех, кто тогда здесь с ней гулял. Прекрасная тогда пришла весна, жаль, что короткая…
Очередь не сдвинулась и на сажень. Ольга продолжала отвлекать себя прошлым от холода. Она вглядывалась в лица прохожих родного квартала. И некоторые ей казались будто знакомыми.
– Курсантики пошли, – хихикнули за спиной молодые девицы.
Ольга подняла глаза в сторону Народного дома. По панели вдоль сквера шагали в вольном порядке молодые ребята. Счастливые и улыбающиеся, не то, что в Гражданскую. Чувствовалось, что они не новобранцы совсем. Форма уже прикипела к ним. По размеру шинель, ладно подогнанная под стройные фигуры ремнями. У некоторых ребят назатыльники на шлемах были застегнуты вокруг шеи, а у некоторых залихватски отогнуты, оголяя красные от мороза уши.
«Мальчишки! Что кадеты, что курсантики. Всегда хорошенькие! – Ольга разглядывала освещенные солнцем лица. – У этого глаза веселые, как у Саши. Этот ростом с него. У этого рот такой же, особенно когда смеется», – она улыбалась курсантикам и всему миру. К реальности ее вернул грубый окрик и толчок под локоть:
– Ну двигай, давай! Гражданочка! – мужчина ниже Ольги ростом в клетчатой кепочке щурился в ее сторону и сплюнул на панель рядом.
Ольга поспешила извиниться и прошла в сторону умахнувшего хвоста. Она долго еще провожала взглядом ребят в шинелях/
«А что если бы все тогда было по-другому. Жанна осталась бы жива. Андрей бы укатил в свою Францию и тоже был бы жив. А Саша успел бы испросить моей руки. Да! Сделался бы мне мужем и отцом Кати… Он бы так любил ее! У нее ротик с такими пухлыми губками, наверное, как у него в детстве. По выходным мы бы ходили в Зоосад. – Ольга прищурилась, не видно ли ворот. Ей казалось, что даже сюда доносится запах зверинца. – Саша сажал бы ее на плечи и нес к пруду с бегемотами. Катя бы испугалась, но схвативши его за голову, не визжала бы, а внимательно смотрела. Екатерина Александровна Точилина…»
