Генерал и его армия. Лучшие произведения в одном томе
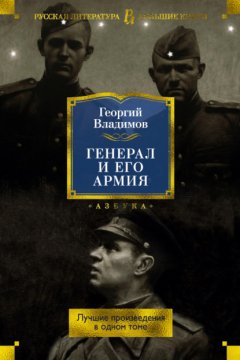
© Г. Н. Владимов (наследник), 2021
© Р. Волигамси, иллюстрация на обложке, 2021
© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2018
Издательство АЗБУКА®
Генерал и его армия
Простите вы, пернатые войска
И гордые сражения, в которых
Считается за доблесть честолюбье —
Все, все прости! Прости, мой ржущий конь,
И звук трубы, и грохот барабана,
И флейты свист, и царственное знамя,
Все почести, вся слава, все величье
И бурные тревоги славных войн!
Простите вы, смертельные орудья,
Которых гул несется по земле.
Вильям Шекспир. «Отелло, венецианский мавр», акт III
Глава первая
Майор Светлооков
1
Вот он появляется из мглы дождя и проносится, лопоча покрышками, по истерзанному асфальту – «виллис», король дорог, колесница нашей Победы. Хлопает на ветру закиданный грязью брезент, мечутся щетки по стеклу, размазывая полупрозрачные секторы, взвихренная слякоть летит за ним, как шлейф, и оседает с шипением.
Так мчится он под небом воюющей России, погромыхивающим непрестанно – громом ли надвигающейся грозы или дальнею канонадой, – свирепый маленький зверь, тупорылый и плосколобый, воющий от злой натуги одолеть пространство, пробиться к своей неведомой цели.
Подчас и для него целые версты пути оказываются непроезжими – из-за воронок, выбивших асфальт во всю ширину и налитых доверху темной жижей, – тогда он переваливает кювет наискось и жрет дорогу, рыча, срывая пласты глины вместе с травою, крутясь в разбитой колее; выбравшись с облегчением, опять набирает ход и бежит, бежит за горизонт, а позади остаются мокрые простреленные перелески с черными сучьями и ворохами опавшей листвы, обгорелые остовы машин, сваленных догнивать за обочиной, и печные трубы деревень и хуторов, испустившие последний свой дым два года назад.
Попадаются ему мосты – из наспех ошкуренных бревен, рядом с прежними, уронившими ржавые фермы в воду, – он бежит по этим бревнам, как по клавишам, подпрыгивая с лязгом, и еще колышется и скрипит настил, когда «виллиса» уже нет и следа, только синий выхлоп дотаивает над черной водою.
Попадаются ему шлагбаумы – и надолго задерживают его, но, обойдя уверенно колонну санитарных фургонов, расчистив себе путь требовательными сигналами, он пробирается к рельсам вплотную и первым прыгает на переезд, едва прогрохочет хвост эшелона.
Попадаются ему пробки – из встречных и поперечных потоков, скопища ревущих, отчаянно сигналящих машин; иззябшие регулировщицы, с мужественно-девичьими лицами и матерщиною на устах, расшивают эти пробки, тревожно поглядывая на небо и каждой приближающейся машине издали угрожая жезлом, – для «виллиса», однако ж, отыскивается проход, и потеснившиеся шоферы долго глядят ему вслед с недоумением и невнятной тоскою.
Вот он исчез на спуске, за вершиной холма, и затих – кажется, пал он там, развалился, загнанный до издыхания, – нет, вынырнул на подъеме, песню упрямства поет мотор, и нехотя ползет под колесо тягучая российская верста…
Что́ была Ставка Верховного главнокомандования – для водителя, уже закаменевшего на своем сиденье и смотревшего на дорогу тупо и пристально, помаргивая красными веками, а время от времени, с настойчивостью человека давно не спавшего, пытаясь раскурить прилипший к губе окурок. Верно, в самом этом слове – «Ставка» – слышалось ему и виделось нечто высокое и устойчивое, вознесшееся над всеми московскими крышами, как островерхий сказочный терем, а у подножья его – долгожданная стоянка, обнесенный стеною и уставленный машинами двор, наподобие постоялого, о котором он где-то слышал или прочел. Туда постоянно кто-нибудь прибывает, кого-нибудь провожают, и течет промеж шоферов нескончаемая беседа – не ниже тех бесед, что ведут их хозяева-генералы в сумрачных тихих палатах, за тяжелыми бархатными шторами, на восьмом этаже. Выше восьмого – прожив предыдущую свою жизнь на первом и единственном – водитель Сиротин не забирался воображением, но и пониже находиться начальству не полагалось, надо же как минимум пол-Москвы наблюдать из окон.
И Сиротин был бы жестоко разочарован, если б узнал, что Ставка себя укрыла глубоко под землей, на станции метро «Кировская», и ее кабинетики разгорожены фанерными щитами, а в вагонах недвижного поезда разместились буфеты и раздевалки. Это было бы совершенно несолидно, это бы выходило поглубже Гитлерова бункера; наша, советская Ставка так располагаться не могла, ведь германская-то и высмеивалась за этот «бункер». Да и не нагнал бы тот бункер такого трепету, с каким уходили в подъезд на полусогнутых ватных ногах генералы.
Вот тут, у подножья, куда поместил он себя со своим «виллисом», рассчитывал Сиротин узнать и о своей дальнейшей судьбе, которая могла слиться вновь с судьбою генерала, а могла и отдельным потечь руслом. Если хорошо растопырить уши, можно бы кой-чего у шоферов разведать – как вот разведал же он про этот путь заранее, у коллеги из автороты штаба. Сойдясь для долгого перекура, в ожидании конца совещания, они поговорили сперва об отвлеченном – Сиротин, помнилось, высказал предположение, что, ежели на «виллис» поставить движок от восьмиместного «доджа», добрая будет машина, лучшего и желать не надо; коллега против этого не возражал, но заметил, что движок у «доджа» великоват и, пожалуй, под «виллисов» капот не влезет, придется специальный кожух наращивать, а это же горб, – и оба нашли согласно, что лучше оставить как есть. Отсюда их разговор склонился к переменам вообще – много ли от них пользы, – коллега себя и здесь заявил сторонником постоянства и, в этой как раз связи, намекнул Сиротину, что вот и у них в армии ожидаются перемены, буквально-таки на днях, неизвестно только, к лучшему оно или к худшему. Какие перемены конкретно, коллега не приоткрыл, сказал лишь, что окончательного решения еще нету, но по тому, как он голос принижал, можно было понять, что решение это придет даже не из штаба фронта, а откуда-то повыше; может, с такого высока, что им обоим туда и мыслью не добраться. «Хотя, – сказал вдруг коллега, – ты-то, может, и доберешься. Случаем Москву повидаешь – кланяйся». Выказать удивление – какая могла быть Москва в самый разгар наступления – Сиротину, шоферу командующего, амбиция не позволяла, он лишь кивнул важно, а втайне решил: ничего-то коллега толком не знает, слышал звон отдаленный, а может, сам же этот звон и родил. А вот вышло – не звон, вышло и вправду – Москва! На всякий случай Сиротин тогда же начал готовиться – смонтировал и поставил неезженые покрышки, «родные», то есть американские, которые приберегал до Европы, приварил кронштейн для еще одной бензиновой канистры, даже и этот брезент натянул, который обычно ни при какой погоде не брали, – генерал его не любил: «Душно под ним, – говорил, – как в собачьей будке, и рассредоточиться по-быстрому не дает», то есть через борта повыскакивать при обстреле или бомбежке. Словом, не так уж вышло неожиданно, когда скомандовал генерал: «Запрягай, Сиротин, пообедаем – и в Москву».
Москвы Сиротин не видел ни разу, и ему и радостно было, что внезапно сбывались давнишние, еще довоенные, планы, и беспокойно за генерала, вдруг почему-то отозванного в Ставку, не говоря уже – за себя самого: кого еще придется возить, и не лучше ли на полуторку попроситься, хлопот столько же, а шансов живым остаться, пожалуй что, и побольше, все же кабинка крытая, не всякий осколок пробьет. И было еще чувство – странного облегчения, даже можно сказать, избавления, в чем и себе самому признаться не хотелось.
Он был не первым у генерала, до него уже двое мучеников сменилось – если считать от Воронежа, а именно оттуда и начиналась история армии; до этого, по мнению Сиротина, ни армии не было, ни истории, а сплошной мрак и бестолочь. Так вот, от Воронежа – самого генерала и не поцарапало, зато под ним, как в армии говорилось, убило два «виллиса», оба раза с водителями, а один раз и с адъютантом. Вот о чем и ходила стойкая легенда: что «самого» не берет, он как бы заговоренный, и это как раз и подтверждалось тем, что гибли рядом с ним, буквально в двух шагах. Правда, когда рассказывались подробности, выходило немного иначе: «виллисы» эти убило не совсем под ним. В первый раз – при прямом попадании дальнобойного фугаса – генерал еще не сел в машину, призадержался на минутку на КП[1] командира дивизии и вышел уже к готовой каше. А во второй раз – когда подорвались на противотанковой мине – он уже не сидел, вылез пройтись по дороге, понаблюдать, как замаскировались перед наступлением самоходки, а водителю велел отъехать куда-нибудь с открытого места; а тот возьми и сверни в рощу. Между тем дорога-то была разминирована, а рощу саперы обошли, по ней движение не планировалось… Но какая разница, думал Сиротин, упредил генерал свою гибель или опоздал к ней, в этом и была его заговоренность, да только на его сопровождавших она не распространялась, она лишь с толку сбивала их, она-то и была, если вдуматься, причиной их гибели. Уже подсчитали знатоки, что на каждого убитого в эту войну придется до десяти тонн истраченного металла, Сиротин же и без их подсчетов знал, как трудно убить человека на фронте. Только бы месяца три продержаться, научиться не слушаться ни пуль, ни осколков, а слушать себя, свой озноб безотчетный, который чем безотчетнее, тем верней тебе нашепчет, откуда лучше бы загодя ноги унести, иной раз из самого вроде безопасного блиндажа, из-под семи накатов, да в какой-нито канавке перележать, за ничтожной кочкой, – а блиндаж-то и разнесет по бревнышку, а кочка-то и укроет! Он знал, что спасительное это чувство как бы гаснет без тренировки, если хотя б неделю не побываешь на передовой, но этот генерал передовую не то чтобы сильно обожал, однако и не брезговал ею, так что предшественники Сиротина не могли по ней слишком соскучиться, – значит, по собственной дурости погибли, себя не послушались!
С миной – ну это смешно было. Стал бы он, Сиротин, съезжать в эту рощицу, под сень берез? Да хрена с два, хоть перед каждым кустом ему воткни: «Проверено, мин нет», – кто проверял, для того и нет, он свои ноги унес уже, а на твою долю, будь уверен, хоть одну «пэтээмку»[2] оставил в спешке; да хотя б он всю рощу пузом подмел – известное же дело, раз в год и незаряженная винтовка стреляет! Вот со снарядом было сложнее – на мину ты сам напоролся, а этот тебя выбрал, именно тебя. Кто-то неведомый прочертил ему поднебесный путь, дуновением ветерка подправил ошибку, отнес на две, на три тысячных вправо или влево, и за какие-нибудь секунды – как почувствуешь, что твой единственный, родимый, судьбой предназначенный, уже покинул ствол и спешит к тебе, посвистывая, пожужживая, да ты-то его свиста не услышишь, другие услышат – и сдуру ему покланяются. Однако зачем же было ждать, не укрыться, когда что-то же задержало генерала на том КП? Да то самое, безотчетное, и задержало, вот что надо было почувствовать! В своих размышлениях Сиротин неизменно ощущал превосходство над обоими предшественниками – но, может статься, всего лишь извечное сомнительное превосходство живого над мертвым? – и такая мысль тоже его посещала. В том-то и дело, что закаяно его чувствовать, оно еще хуже сбивает с толку, прогоняя спасительный озноб; наука выживания требовала: всегда смиряйся, не уставай просить, чтоб тебя миновало, – тогда, быть может, и пронесет мимо. А главное… главное – тот же озноб ему шептал: с этим генералом он войну не вытянет. Какие причины? Да если назвать их можно, то какая же безотчетность… Где-нибудь оно произойдет и когда-нибудь, но произойдет непременно – вот что над ним всегда висело, отчего бывал он часто уныл и мрачен; лишь искушенный взгляд распознал бы за его лихостью, за отчаянно-бравым, франтоватым видом – скрываемое предчувствие. Где-то веревочке конец, говорил он себе, что-то долго она вьется и слишком счастливо, – и уж он мечтал отделаться ранением, а после госпиталя попасть к другому генералу, не такому заговоренному.
Вот, собственно, о каких своих опасениях – ни о чем другом – поведал водитель Сиротин майору Светлоокову из армейской контрразведки Смерш, когда тот его пригласил на собеседование, или – как говорилось у него – «кое о чем посплетничать». «Только вот что, – сказал он Сиротину, – в отделе у меня не поговоришь, вломятся с какой-нибудь хреновиной, лучше – в другом каком месте. И пока – никому ни слова, потому что… мало ли что. Ладненько?» Свидание их состоялось в недальнем от штаба леске, на опушке, там они сошлись в назначенный час, майор Светлооков сел на поваленную сосну и, сняв фуражку, подставил осеннему солнышку крутой выпуклый лоб с красной полоскою от околыша, – чем как бы снял и свою начальственность, расположив к откровенной беседе, – Сиротина же пригласил усесться пониже, на травке.
– Давай выкладывай, – сказал он, – что тебя точит, о чем кручина у молодца? Я же вижу, от меня же не укроется…
Нехорошо было, что Сиротин рассказывал о таких вещах, которые наука выживания велит держать при себе, но майор Светлооков его тут же понял и посочувствовал.
– Ничего, ничего, – сказал он без улыбки, тряхнув энергично своими льняными прядями, забрасывая их подальше назад, – это мы понимать умеем, всю эту мистику. Все суеверию подвержены, не ты один, командующий наш – тоже. И скажу тебе по секрету: не такой он заговоренный. Он про это вспоминать не любит и нашивок за ранения не носит, а было у него по дурости в сорок первом, под Солнечногорском. Хорошо отоварился – восемь пуль в живот. А ты и не знал? И ординарец не рассказывал? Который, между прочим, при сем присутствовал. Я думал, у вас все нараспашку… Ну, наверно, запретил ему Фотий Иванович рассказывать. И мы тоже про это не будем сплетничать, верно?.. Слушай-ка, – он вдруг покосился на Сиротина веселым и пронзающим взглядом, – а может, ты мне тово… дурочку валяешь? А главное про Фотия Иваныча не говоришь, утаиваешь?
– Чего мне утаивать?
– Странностей за ним не наблюдаешь в последнее время? Учти, кой-кто уже замечает. А ты – ничего?
Сиротин подернул плечом, что могло значить и «не замечал», и «не моего ума дело», однако неясную еще опасность, касающуюся генерала, он уловил, и первым его внутренним движением было отстраниться, хотя б на миг, чтоб только понять, что могло грозить ему самому. Майор Светлооков смотрел на него пристально, взгляд его голубых пронзительных глаз нелегко было выдержать. Похоже, он разгадал смятение Сиротина и этим строгим взглядом возвращал его на место, которого обязан был держаться человек, состоящий в свите командующего, – место преданного слуги, верящего хозяину беспредельно.
– Сомнения, подозрения, всякие мерихлюндии ты мне не выкладывай, – сказал майор твердо. – Только факты. Есть они – ты обязан сигнализировать. Командующий – большой человек, заслуженный, ценный, тем более мы обязаны все наши малые силы напрячь, поддержать его, если в чем-то он пошатнулся. Может, устал он. Может, ему сейчас особое душевное внимание требуется. Он ведь с просьбой не обратится, а мы не заметим, упустим момент, потом локти будем кусать. Мы ведь за каждого человека в армии отвечаем, а уж за командующего – что и говорить…
Кто были «мы», отвечающие за каждого человека в армии, он ли с майором или же весь армейский Смерш, в глазах которого генерал в чем-то «пошатнулся», этого Сиротин не понял, а спросить почему-то не решался. Ему вспомнилось вдруг, что и дружок из автороты штаба тоже эти слова обронил: «пошатнулся малость», – так он, стало быть, не звон отдаленный слышал, а прямо-таки гудение земли. Похоже, генеральское пошатновение, хоть ничем еще не проявленное, уже и не новостью было для некоторых, и вот из-за чего и вызвал его к себе майор Светлооков. Разговор их становился все более затягивающим куда-то, во что-то неприятное, и смутно подумалось, что он, Сиротин, уже совершил малый шажок к предательству, согласившись прийти сюда «посплетничать».
Из глубины леса тянуло предвечерней влажной прохладой, и с нею вкрадчиво сливался вездесущий приторный смрад. Чертовы похоронщики, подумал Сиротин, своих-то подбирают, а немцев – им лень, придется генералу доложить, даст он им прикурить. Неохота было свежих подобрать – теперь носы затыкайте…
– Ты мне вот что скажи, – спросил майор Светлооков, – как он, по-твоему, к смерти относится?
Сиротин поднял к нему удивленный взгляд:
– Как все мы, грешные…
– Не знаешь, – сказал майор строго. – Я вот почему спрашиваю. Сейчас предельно остро ставится вопрос о сохранении командных кадров. Специальное указание Ставки есть, и Верховный подчеркивал неоднократно, чтоб командующие себя не подвергали риску. Слава богу, не сорок первый год, научились реки форсировать, личное присутствие командующего на переправе – ни к чему. Зачем ему было под обстрелом на пароме переправляться? Может, сознательно себя не бережет? С отчаяния какого-нибудь, со страху, что не справится с операцией? А может, и тово… ну, свих небольшой? Оно и понятно до некоторой степени – операция оч-чень все-таки сложная!..
Пожалуй, Сиротину не показалось бы, что операция была других сложнее, и развивалась она как будто нормально, однако там, наверху, откуда к нему снисходил майор Светлооков, могли быть иные соображения.
– Может быть, единичный случай? – размышлял между тем майор. – Так нет же, последовательность какая-то усматривается. Командующий армией свой КП выносит поперед дивизионных, а комдиву что остается? Еще поближе к немцу придвинуться? А полковому – прямо-таки в зубы противнику лезть? Так и будем друг перед дружкой личную храбрость доказывать? Или еще пример: ездите на передовую без охраны, без бронетранспортера, даже радиста с собой не берете. А вот так и нарываются на засаду, вот так и к немцу заскакивают. Иди потом выясняй, доказывай, что не имело места предательство, а просто по ошибке… Это же все предвидеть надо. И предупреждать. И нам с тобой – в первую очередь.
– Что ж от меня-то зависит? – спросил Сиротин с облегчением. Предмет собеседования стал ему наконец понятен и сходился с его собственными опасениями. – Шофер же маршрут не выбирает…
– Еще б ты командующему указывал!.. Но знать заранее – это в твоей компетенции, верно? Говорит же тебе Фотий Иваныч минут за десять: «Запрягай, Сиротин, в сто шестнадцатую подскочим». Так?
Сиротин подивился такой осведомленности, но возразил:
– Не всегда. Другой раз в машину сядет и уж тогда путь говорит.
– Тоже верно. Но он же не в одно место едет, за день в трех-четырех хозяйствах побываете: где полчаса, а где и все два. Можешь же ты у него спросить: а куда потом, хватит ли горючего. Вот у тебя и возможность созвониться.
– С кем это… созвониться?
– Со мной, «с кем». Мы наблюдение организуем, с тем хозяйством свяжемся, куда вы в данный момент путь держите, чтоб выслали встречу. Я понимаю, командующему иной раз хочется нахрапом подъехать, застать все как есть. Так это одно другому не мешает. У нас – своя линия и своя задача. Комдив того знать не будет, когда Фотий Иваныч нагрянет, лишь бы мы знали.
– А я-то думал, – сказал Сиротин, усмехаясь, – вы шпионами занимаетесь.
– Мы всем занимаемся. Но сейчас главное, чтоб ни на минуту командующий из-под опеки не выпадал. Это ты мне обещаешь?
Сиротин усиленно морщил лоб, выгадывая время. Как будто ничего плохого не было, если всякий раз, куда бы ни направились они с генералом, об этом будет известно майору Светлоокову. Но как-то коробило, что ведь придется ему сообщать скрытно от генерала.
– Это как же так? – спросил Сиротин. – От Фотия Иваныча тайком?
– У-у! – прогудел майор насмешливо. – Кило презрения у тебя к этому слову. Именно тайком, негласно. Зачем же командующего в это посвящать, беспокоить?
– Не знаю, – сказал Сиротин, – как это так можно…
Майор Светлооков вздохнул долгим печальным вздохом:
– И я не знаю. А нужно. А приходится. Так что же нам делать? Раньше вот в армии институт комиссаров был – куда как просто! Чего я от тебя уже час добиваюсь, комиссар бы мне не думая пообещал. А как иначе? Комиссар и контрразведчик – первые друг другу помощники. Теперь – больше доверия военачальнику, а работать стало куда сложнее. К члену Военного совета не подкатись, он тоже теперь «товарищ генерал», ему это звание дороже комиссарского, станет он такой «чепухой» заниматься! Ну а мы, скромные людишки, обязаны заниматься, притом – тихой сапой. Да уж, Верховный нам осложнил задачу. Но – не снял ее!
Эта печаль и озабоченность в голосе майора, и его откровенность, да и бремя задачи, исходившей не от кого-нибудь, от Верховного, – все складывалось так, что Сиротину как будто уже и не во что было упираться.
– Звонить, ведь оно, знаете… У связиста линия занята. А когда и свободна, тоже так просто не соединит. Ему и сообщить же надо, куда звонишь. Так до Фотия Иваныча дойдет. Нет, это…
– Что «нет»? – Майор Светлооков приблизил к нему лицо. Он враз повеселел от такой наивности Сиротина. – Ну, чудак же ты! Неужели так и попросишь: «А соедини-ка меня с майором Светлооковым из Смерша?» Не-ет, так мы все дело провалим. Но можно же по холостой части. В смысле – по бабьей. Эта линия всегда выручит. Ты Калмыкову из трибунала знаешь? Старшую машинистку.
Сиротину вспомнилось нечто рыхлое, чересчур грудастое и, на его двадцатишестилетний взгляд, сильно пожилое, с непреклонно начальственным лицом, с тонко поджатыми губами, властно покрикивающее на двух подчиненных барышень.
– Что, не объект для страсти? – Майор улыбнулся быстро порозовевшим лицом. – Вообще-то, на нее охотники имеются. Даже хвалят. Что поделаешь, любовь зла! К тому же у нас не женский монастырь. Вот в Европу вступим – не в этот год, так в следующий, – там такие монастыри имеются, специально женские. Точней сказать, девичьи. Потому как монашки эти, кармелитки называются, клятву насчет девственности дают – до гроба. Во какая жертва! Так что невинность гарантируется. Бери любую – не ошибешься.
Сверхсуровые эти кармелитки, в сиротинском воображении соотнесясь почему-то с карамельками, выглядели куда как маняще и сладостно. Что же до той, грудастой, все-таки не представилось ему, как бы он стал приударять за ней или хотя бы трепаться по телефону.
– Зер гут, – согласился майор. – Избираем другой варьянт. Как тебе – Зоечка? Не та, не из трибунала, а которая в штабе телефонисткой. С кудряшками.
Вот эти пепельные кудряшки, свисавшие из-под пилотки спиральками на выпуклый фаянсовый лобик, и взгляд изумленный – маленьких, но таких ярких, блестящих глаз, – и ловко пригнанная гимнастерка, расстегнутая на одну пуговку, никогда не на две, чтоб не нарваться на замечание, и хромовые, пошитые на заказ сапожки, и маникюр на тонких пальчиках – все было куда поближе к желаемому.
– Зоечка? – усомнился Сиротин. – Так она же вроде с этим… из оперативного отдела. Чуть не жена ему?
– У этого «чуть» одно тайное препятствие имеется – супруга законная в Барнауле. Которая уже письмами политотдел бомбит. И двое отпрысков нежных. Тут придется какие-то меры принимать… Так что Зоечка не отпадает, советую заняться. Подкатись к ней, наведи переправы. И – звони ей откуда только можно. Что, тебя связист не соединит? Шофера командующего? Дело ж понятное, можно сказать – неотложное. Ты только – понахальнее, место свое в армии нужно знать. В общем, ты ей: «Трали-вали, как вы спали?» – и, между прочим, так примерно: «К сожалению, времени в обрез, через часик ждите, от Иванова звякну». Много болтают по связи, одним трепом больше… Ну, и это не обязательно, мы в дальнейшем шифр установим, на каждое хозяйство свой пароль. Что тебе еще неясно?
– Да как-то оно…
– Что «как-то»? Что?! – вскричал майор сердито. И Сиротину не показалось странным, что майор уже вправе и осерчать на него за непонятливость, даже отчитать гневно. – Для себя я, по-твоему, стараюсь? Для сохранения жизни командующего! И твоей, между прочим, жизни. Или ты тоже смерти ищешь?!
И он в сердцах, со свистом, хлестнул себя по сапогу невесть откуда взявшимся прутиком – звук как будто ничтожный, но заставивший Сиротина внутренне съежиться и ощутить холодок внизу живота, тот унылый мучительный холодок, что появляется при свисте снаряда, покинувшего ствол, и его шлепке в болотное месиво – звуках самых первых и самых страшных, потому что и грохот лопающейся стали, и фонтанный всплеск вздымающейся трясины, и треск ветвей, срезанных осколками, уже ничем тебе не грозят, уже тебя миновало. Этот дотошный, прилипчивый, всепроникающий майор Светлооков углядел то, что сидело в Сиротине и не давало жить, но он же углядел и большее: что с генералом и впрямь происходит что-то опасное, гибельное – и для него самого, и для окружающих его. Когда, стоя во весь рост на пароме в заметной своей черной кожанке, он так картинно себя подставлял под пули с правого берега, под пули пикирующего «юнкерса», это не бравада была, не «пример личной храбрости», а то самое, что время от времени постигало иных и называлось – человек ищет смерти.
Вовсе не в отчаянном положении, не в кольце охвата, не под дулами заградотряда, но часто в успешном наступлении, в атаке человек делал бессмысленное, непостижимое: бросался врукопашную один против пятерых, или, встав во весь рост, бросал одну за другой гранаты под движущийся на него танк, или, подбежав к пулеметной амбразуре, лопаткой рубил прыгающий ствол – и почти всегда погибал. Опытный солдат, он отметал все шансы уклониться, выждать, как-нибудь исхитриться. Было ли это в помешательстве, в ослепляющем запале, или так источил ему душу многодневный страх, но слышали те, кто оказывались поблизости, его крик, вмещавший и муку, и злобное торжество, и как бы освобождение… А накануне – как припоминали потом, а может быть, просто выдумывали – бывал этот человек неразговорчив и хмур, жил как-то невпопад, озирался непонятным, в себя упрятанным взглядом, точно уже провидел завтрашнее. Сиротин этих людей не мог постичь, но то, что их повлекло умереть так поспешно, было, в конце концов, их дело, они за собой никого не звали, не тащили, а генерал и звал, и тащил. Чего ему, спрашивается, не сиделось в скорлупе бронетранспортера, который был же рядом на пароме? И не подумалось ему, что так же картинно под те же пули подставляли себя и люди, обязанные находиться при нем неотлучно? Но вот нашелся же один, кто все понял, разглядел зорким глазом генеральские игры со смертью и пресечет их своим вмешательством. Как это ему удастся, ну вот хотя бы как отведет он в небе шальной снаряд, почему-то Сиротина не озадачивало, как-то само собою разумелось, хотелось лишь всячески облегчить задачу этому озабоченному всесильному майору, рассказать поподробнее о странностях генеральского поведения, чтобы учел в каких-то своих расчетах.
Майор его слушал, не перебивая, понимающе кивал, иной раз вздыхал или цокал языком, затем далеко отшвырнул свой прутик и передвинул на колени планшетку. Развернув ее, стал разглядывать какой-то листок, упрятанный под желтым целлулоидом.
– Так, – сказал он, – на этом покамест закруглимся. На-ка вот, распишись мне тут.
– Насчет чего? – споткнулся разлетевшийся Сиротин.
– Насчет неразглашения. Разговор у нас, как ты понимаешь, не для любых ушей.
– Так… зачем же? Я разглашать не собираюсь.
– Тем более, чего ж не расписаться? Давай, не ломайся.
Сиротин, уже взяв карандашик, увидел, что расписаться ему следует в самом низу листка, исписанного витиеватым изящным почерком, наклоненным влево.
– Тезисы, – пояснил майор. – Это я схемку набросал, как у нас примерно пойдет беседа. Видишь – сошлось, в общем и целом.
Сиротина удивило это, но отчасти и успокоило. В конце концов, не сообщил он этому майору ничего такого, чего тот не знал заранее. И он расписался нетвердыми пальцами.
– И всего делов. – Майор, усмехаясь Сиротину, застегнул аккуратно планшетку, откинул ее за спину и встал. – А ты, дурочка, боялась. Пригладь юбку, пошли.
Он вышагивал впереди, крепко переступая налитыми, обтянутыми мягким хромом ногами балетного танцовщика, планшетка и пистолет елозили и подпрыгивали на его крутых ягодицах, и у Сиротина было то ощущение, что у девицы, возвращающейся из лесу вслед за остывшим уже соблазнителем и которая тем пытается умерить уязвление души, что сопротивлялась как могла.
– А кстати, – майор вдруг обернулся, и Сиротин едва не налетел на него, – раз уже нас на эти темы клонит… Может, ты мне сон объяснишь? Умеешь сны отгадывать? Значит, прижал я хорошего бабца в подходящей обстановке. В уши ей заливаю – про сирень там, про Пушкина, Лермонтова, а под юбкой шурую – вежливо, но неотвратимо, с честными намерениями. И все, ты понимаешь, чинненько, вот-вот до дела дойдет. Как вдруг – ты представляешь? – чувствую: мужик! Мать честная, с мужиком это я обжимался, чуть боекомплект не растратил. Что скажешь? В холодном поту просыпаюсь. И к чему бы это?
Сиротин, ошарашенный, распяливал лицо глупой и жаркой ухмылкой. Майор смотрел на него, вылупив простодушно голубые свои глаза и полуоткрыв рот. Не дождавшись ответа, он двинулся дальше, сам себе отвечая:
– А я так думаю – пора эту войну кончать. Скорей по домам – своих баб щупать. А то, наблюдаю, у всех уже шарики за кубики заходят.
Там, где тропинка впадала в просеку и где могли бы их увидеть вместе, он снова остановился:
– Ну, тебе направо, мне налево. Вот что я тебе скажу, Сиротин. Ты это, о чем мы условились, не рассматривай, как будто тебя употребили. У меня ведь в желающих сотрудничать недостатка нет. Так что я это тебе доверил как честь. Вижу, тебя коробит что-то. Понимаю. Но ничего, привыкнешь. Ты все обдумай как следует, прикинь, план себе наметь, как будешь со мной работать. И приступай. Покеда!
Приступить Сиротину, однако ж, не выпало повода. Не пришлось никуда ездить с генералом – в последние дни тот сиднем засел в своем убежище, которое выбрал сразу после переправы, отдельно от штаба армии, в разбитом вокзальчике станции Спасо-Песковцы, и к нему туда подъезжали с докладами и из штаба, и с левого берега, и со всего плацдарма, теперь до того разросшегося, что его все реже называли плацдармом. Сиротин же только дежурил у «виллиса», и постепенно то мутное, гадливое ощущение, что испытал он в леске, рассеивалось, сменяясь избавительной надеждой, что надобность в нем у майора Светлоокова, может статься, уже и отпала.
Оно явилось опять, это ощущение, когда майор Светлооков, проходя по каким-то своим делам к генералу, призадержался возле Сиротина и, ткнув его легонько пониже груди своей планшеткой, весело пожурил:
– Ты что ж это мне девку изводишь? Жалуется мне на тебя.
– Какую девку?
– «Какую»! Зоечку. Охмурил, а не звонишь. Столько, говорит, я в него души вложила, а он прохиндеем оказался.
– Так ведь… об чем говорить пока?
– Вот, еще научи его, о чем с прекрасным полом беседуют. Ты позвони, а там видно будет. Позвони, позвони, не стесняйся.
И прошел, весело оглядываясь на оторопевшего Сиротина, заговорщицки подмигивая.
Два дня Сиротин собирался с силами и все же позвонил, позвонил этой Зоечке, с которой до этого едва ли десятком слов перекинулся, и теперь не мог вспомнить без жгучего стыда, от которого влажно делалось лицу, свой голос, то жидкий, то деревянный, свои косноязычные упреки этой Зоечке, что вот, мол, бывают некоторые, которые своих знакомых забывают, зазнались, а Зоечка-то и не зазналась ничуть, Зоечка его моментально узнала, и этого звонка очень даже ждала, и на каждый его попрек отвечала таким щебетом, что у него в ушах звенело. Едва сведя разговор к концу, он лишь потом сообразил, не без натуги, что она ведь ему и свидание назначила, предложила хоть сегодня улучить минутку и заглянуть.
Он шел к ней робея и с чувством вины, как идут к начальству на выволочку. Зоечка и начала с выговора: завидя его из окна телефонного узла, из автобуса, к которому сходились с разных сторон провода, подвешенные на шестах и ветках, она выпорхнула к Сиротину и заговорила сердитым полушепотом, хотя и с улыбающимся лицом:
– Ты что ж это делаешь, недотепа! Сначала приходят, а уж потом звонят. А ты все наоборот. Ни с того ни с сего: «Позовите мне Зоечку». Какая я тебе Зоечка, если нас вместе не видели? Вот тебе – первый прокол!
– Так мне ж так майор сказал, – стал оправдываться Сиротин.
– Тише ты, дурень. Так, да не так, – прошипела Зоечка, но тут же, однако, смягчилась. – Пройдемся, чтоб нас увидели.
Они сперва покружились по опушке, в пятнистой тени маскировочных сетей, дабы Зоечкины подружки-телефонистки, поглядывавшие из автобуса, могли себе уяснить характер их отношений. Из другого автобуса, где трещали пишущие машинки и сочинялась армейская газета, тоже на них поглядывали. Сиротин не находил, что сказать, Зоечка тоже не говорила, а только обращала к нему снизу вверх улыбающееся лицо. Со стороны показалось бы, что они от неожиданности встречи и нахлынувшего чувства просто не находят слов.
– Ну что, так и будем по одному месту кружить? – сказала Зоечка. – Хоть бы увлек меня куда-нибудь.
– Куда? – спросил Сиротин. И даже вспотел от своей глупости.
– Закудакал! С девушками не знаешь, как обращаться? Можешь меня взять за плечо. Господи, не за погон, а за плечо!
Рука Сиротина, и без того не чересчур чистая, сразу взмокла. По Зоечкиному фаянсовому личику промелькнула брезгливая гримаска.
– Ты хоть не тискай…
– Так чо, убрать? – спросил он так же глупо.
Она лишь сердито дернула плечиком. Несколько погодя взяла его руку и обвила вокруг своей талии.
– Перемещать надо время от времени, а то, глядишь, приклеится. Только это надо делать украдкой, тогда похоже на правду. – Еще погодя, сбросила его руку совсем. – А вот теперь у нас другое настроение. Просто смотри себе под ноги задумчиво и молчи.
В этот ясный предосенний день их могли видеть в разных местах среди редколесья, где новый плацдарм успел утвердить свою бивачную жизнь, прихватив себе то пространство, что зовется вторым эшелоном. Видели из столовой Военного совета, расположившейся в огромной палатке с завернутыми полами, где стоял общий длинный стол и рядом, под своим навесом, дымила походная кухня на дутиках; повар, в белой куртке и колпаке, и обедавшие офицеры-штабисты провожали влюбленную пару усмешливыми взглядами. Зоечка, мечтательно улыбаясь, склоняла голову к плечу Сиротина и покусывала травинку, порой щекотала его этой травинкой по щеке.
Зенитчики, полеживавшие на травке возле своих счетверенных пулеметов, белыми животами к солнышку, тоже их видели – они хоть и накрыли глаза пилотками, но головы поворачивали вслед, все трое одновременно.
Могли их видеть возле танковых мастерских, где чинились под маскировочным пятнистым тентом две пригнанные из боя «тридцатьчетверки»; ремонтники, в черных промасленных комбинезонах, обстукивали кувалдами разрывы брони, пригоняли заплаты, приваривали их шипучей дугой от передвижного генератора; один, повязав тряпкой рот и нос, счищал надетой на палку скоблилкой с почерневшей башни комки прикипевшего горелого мяса.
Видели около медсанбата, нескольких таких же огромных палаток, но далеко не вместивших всех пациентов; койки и носилки плотными рядами стояли снаружи, под шумящими кронами; санитарки, делая спешные перевязки и уколы, привычно-ласково уговаривали стонущих потерпеть немного, и, невольно впадая в их тон, такими же причитаниями, почти бабьими голосами, разговаривали санитары-мужчины. У входа в крайнюю палатку, прислонясь к трубчатой опоре и зажав под мышкой желтые резиновые перчатки, торопливо-жадно курила врачиха в клеенчатом мясницком фартуке, заляпанном ржавыми потеками, порою оборачивалась внутрь палатки и хриплым осевшим голосом отдавала распоряжения, а порой по измученному ее лицу пробегала улыбка – когда она смотрела, как двое легкораненых, уже выздоравливающих, помогая один другому, осваивали тяжелый немецкий велосипед. Время от времени выносили в оцинкованных тазах и выплескивали здесь же, в бомбовую воронку, красную жидкость с комьями размокшей ваты. Шагах в десяти, присев на корточки, в такой же таз доил корову седой рыжеусый солдат в белесой заплатанной гимнастерке.
Кровавая и костоломная работа передовой шла безостановочно – то и дело подъезжали наполненные своим стонущим, слабо шевелящимся грузом телеги, бортовые машины и фургоны. И запахи смерти и страдания смешивались в чистом воздухе с запахами кухни, еды – от этого делалось особенно тяжело, тошнотно. Поморщась, Зоечка предложила:
– Ну все, программу выполнили. Можем теперь удалиться куда-нибудь в тихое местечко. Мне надо кой-чего дополнительно тебе сказать.
Так они пришли к той поваленной сосне, и Зоечка, усевшись на нее, сбросила наконец ей самой уже надоевшую улыбку и аккуратно обтянула юбкой круглые коленки. Он подумал, что она здесь не раз уже побывала с майором Светлооковым, перед которым, наверное, не так уж прикрывала скрещенье ног.
– А ты… давно с ним? – глухо, пересыхающим ртом, спросил Сиротин.
– Что – «с ним»? – Зоечка поглядела на него поверх носа, отчего ее лицо сделалось надменным. – Живу, что ли?
– Работаешь, – смущенно поправился Сиротин.
– Надо ясно выражаться. Ты что думаешь – тут все вместе может быть? О нет! Работать и спать – две вещи несовместимые.
– Это почему ж так? – Он искренне удивился.
– А потому. Фиктивных романов не бывает. Кто-нибудь обязательно по правде влюбится, и это всю конспирацию нарушит. У нас с ним характер работы такой, что этого – не нужно. С тобой – характер другой. Но мы же ни к чему такому, в общем, не стремимся, правда? Меня твоя личная жизнь не касается, а тебя – моя.
– Тем более что у тебя другой есть. Покуда жена далече. В Барнауле, – съязвил Сиротин, сам немного уязвленный.
Тот, о ком он говорил, был едва не всей армии известный майор Батлук из оперативного отдела штаба, живописный полнеющий красавец-брюнет, любитель поесть и попить, а также попеть украинские песни – голосом ненатуральным, зато чрезвычайно громким.
– Ах этот… – сказала Зоечка небрежно, однако матово-белые ее щеки стали медленно розоветь. – Это была ошибка. То есть, в общем… это тоже была работа. Его одно время подозревали.
– В чем? – Сиротин опять подивился: в чем уж таком могли подозревать майора Батлука. Разве что в уклонении от алиментов трем семьям.
– В ротозействе. Показалось, что есть утечка оперативных данных. Но выяснилось, что это ошибка. Во всех смыслах ошибка, – добавила Зоечка со значением и загадочно помолчала, и Сиротину показалось, что эти мгновения она все же посвятила воспоминанию о своем певучем майоре. – Я смотрю, ты все знаешь. Ну, в общем, я им действительно увлеклась. Мужчина что надо. Только самомнения много. На наш роман смотрел как на временный. Ну, может быть, так и надо смотреть. Потому что в Европе все равно все переменится.
– Как это?
– А так, очень просто. Это здесь мы у вас считаные, боевые подруги. А там вы себе баб найдете каких угодно и сколько угодно. И не только офицеры, а последние обозники. Даже кто из себя ничего не представляет, ноль без палочки, у него ведь оружие, кто ж устоит. В общем, как майор говорит, Светлооков: «Спешите жить, девочки, надвигается на вас девальвация». Ладно, закруглимся. На первом плане должно быть дело. А романы – побоку.
Ему тоже – наверное, впервые в жизни, – говоря с женщиной, молодой и не совсем ему безразличной, захотелось перевести разговор на другое.
– И что тебя потянуло… к этой работе? – спросил он угрюмо.
– А что? – Она улыбнулась мечтательно. – Скажешь, тут нечем увлечься? Хотя бы сознание, что можешь большие дела делать, столько пользы принести… Ты об этом не думал?
– Я думал, каждый, куда его поставили, пускай свое делает как следует. И того с головой хватит.
– Ну а мне этого мало. Что я такое? Телефонистка. Приложение к коммутатору. Ты тоже приложение – к «виллису». А майор мне такие перспективы открыл, что голова кружится, честное слово. Ты даже не представляешь, сколько в наших рядах скрытых врагов, как люди в большинстве настроены. Кто неправильно, а кто и враждебно. Иногда и высокие люди, с такими званиями, и орденов полно. Пока что они воюют, исполняют свой долг, и мы сейчас не можем ими заниматься вплотную. Еще не время. Пока что нужно о каждом узнать побольше. И с каждым работать – терпеливо, упорно и в то же время беспощадно.
– Он мне совсем другое говорил, – сказал Сиротин растерянно.
– Что же ты хочешь, чтоб тебя сразу во все тонкости посвятили? Я вот уже три месяца с ним… работаю, а он мне только краешек приоткрыл. Но и краешек – это ого как много! Просто у меня к этой работе сразу вкус проявился. Он говорит, что я даже, может быть, будущая Мата Хари. Такая была всемирная разведчица. Ну а у тебя, значит, пока что вкуса не обнаружилось.
Явное и пугающее ощущение, что его уже втянули куда-то, откуда не так просто выбраться, отрезвило его.
– При чем тут вкус? – сказал он, нахмурясь. – Мы с ним совсем о другом говорили. Позаботиться, чтоб командующий себя риску не подвергал…
Зоечка поглядела на него искоса и насмешливо, но быстро ее лицо сделалось серьезным.
– Ну кто ж спорит, чудак. Это такая задача, что по сравнению с ней все остальное чепуха, суета сует. Но мы же для этого и встретились.
Он уловил в ее голосе разочарование. Как будто она совсем другого ждала от этого свидания.
Ей стало откровенно скучно с ним. Разбросав руки по стволу и приподняв плечики, так что на них изогнулись погоны, и вытянув скрещенные ноги в хромовых сапожках и нитяных, телесного цвета чулках, она вертела головой, поглядывая вверх, провожала глазами летящие клочья паутины и напевала вполголоса:
- Дует теплый ветер, развезло дороги,
- И на Южном фронте оттепель опять.
- Тает снег в Ростове, тает в Таганроге.
- Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать…
…Она не знала, как права была. Через много лет она будет вспоминать этот ясный день бабьего лета, когда что-то не удалось ей, на что она рассчитывала; она впервые вспомнит об этом дне, войдя с армией в освобожденную Прагу и фотографируясь в группе друзей-смершевцев на многолюдной, усыпанной цветами Вацлавской площади, сама уже в лейтенантских погонах, с орденом и медалями на груди; она изредка, но все острее и грустнее будет его вспоминать потом лет восемь, исполняя работу, для которой так много у нее проявилось вкуса, что ее даже выдвинут в столичный аппарат; затем, когда надобность в ее ретивости несколько поубавится, и Зоечку выставят за порог аппарата, и ей придется избегать встреч с таким множеством людей, что проще окажется уехать из Москвы, она будет вспоминать этот день все чаще и чаще в чужом для нее городе, верша человеческие судьбы уже в ином качестве, – потому что вершить их составляет единственное ее призвание и потому что надо же куда-то приткнуть дебелую партийную бабенку, переспавшую со всеми инструкторами обкома, – поэтому в качестве расторопной хитрой судьихи, ценимой за ее талант писать приговоры, полные птичьего щебета и совершенно бесспорные ввиду отсутствия в них какой бы то ни было логики; она его будет вспоминать – опустившейся бабищей, с изолганным, пустоглазым, опитым лицом, с отечными ногами, с задом, едва помещающимся в судейском кресле, – вот этот солнечный день на днепровском плацдарме и этого парня, первого ею погубленного, и однажды четко сформулирует: «Он был в меня влюблен!» – после чего ей все больше будет казаться, что между ними было тогда что-то настоящее, идеальное, кристально чистое, единожды даримое человеку в жизни, что парень этот был и остался ее единственной, хоть и неизреченной, любовью…
Зоечка поднялась на ноги и потянулась, едва не до хруста, всей стройной, тонкой фигуркой, выгнув стан, перетянутый офицерским ремнем с портупеей.
– Мне пора, – сказала она, тряхнув прелестными пепельными локонами, свисавшими из-под пилотки спиральками. – Завтра опять встретимся, шифр надо согласовать. Сказал тебе майор?
– Говорил.
– Я кое-что там разработала, к завтрему закончу. У меня быстро освоишь. Да не боги горшки обжигают.
Он возвращался, сбитый с толку, с тревожной раздвоенностью в душе. Он думал о Зоечке с азартной самонадеянностью здорового парня – что наперекор всякой работе у них вполне может наметиться что-то другое, – и с опаской: как бы не сделать завтра какой-нибудь промах, не ступить уже ни на полшага в то зыбкое и пугающее, в чем она уже сильно погрязла и куда его тоже могло затянуть. Сохранить себя и ее вытащить – вот с чем он решил прийти к ней и объявить напрямик.
А назавтра – и случилось вот это, все преломившее: «Запрягай, Сиротин. В Москву!» Однако еще одна встреча была у них с майором Светлооковым – последним в армии, кого видел Сиротин и с кем говорил. Разогревая мотор, он разглядел неясное отражение в лобовом стекле и обернулся. Майор Светлооков стоял за его спиной, чуть поодаль, смотрел на него своим простодушным взглядом и легонько похлопывал себя прутиком по сапогу.
– Вот, отбываем, – сказал Сиротин, разведя руками, отчего-то виновато. – Выходит, служба наша кончается?
– Знаю, знаю, – ответил майор. – С богом, как говорится… А служба наша не кончается. Она начинается, но никогда не кончается.
Перебирая все это в памяти – сидя слева от генерала, во весь путь молчаливого и сумрачного, – Сиротин вдруг понял, с упавшим сердцем, что ведь, наверное, те разговоры в леске, у поваленной сосны, имели какое-то отношение к внезапному этому отъезду. И может быть, предупреди он генерала – который ведь был ему не чужее этого майора Светлоокова и чертовой этой Зоечки! – признайся он тогда же, генерал предпринял бы какие-то свои меры, и отъезда, вовсе для него не радостного, могло и не быть. Но вместе со своим признанием Сиротин представил себе удивленный и брезгливый взлет генеральских бровей и бьющий в лицо вопрос: «И ты согласился? Шпионить за мной согласился!» Чем было бы ответить? «Для вашего же сохранения»? А на это он: «Скажи лучше – для своего. О своей шкуре заботился!» И после этого – ничего Сиротин бы не сумел объяснить генералу.
Глядя на дорогу, летящую в забрызганное слякотью стекло, он постигал то, чего не успел постичь по молодости: так не бывает, чтоб кто бы то ни было, вызвавшись разгрузить часть нашей души, разделить бремя, другую ее часть не нагрузил бы еще тяжелей, не навалил бы еще большее бремя. И еще одно постигал водитель Сиротин, изъездивший тьму дорог: если пересеклись твои пути с интересами тайной службы, то, как бы ни вел ты себя, что бы ни говорил, какой бы малостью ни поступился, а никогда доволен собой не останешься.
2
И эта же Ставка совсем иной представлялась генеральскому адъютанту, так же мало знавшему о станции метро «Кировская». Дорога шла под уклон, к мостку через невидимый еще ручей, с обеих сторон бежали полосатые красно-белые столбики – крохотный уголок земли, по которому война прошлась безобидно, – а за обочиной выстроились коридором бежевые стволы тополей, и, наверное, в этот миг воображению майора Донского открывался коридор Ставки, по которому он проходил с генералом, – вот, как сидел, позади и левее. Тот коридор был широк и сумрачен, с высокими сводами и весь выстлан ковровой дорожкой, в которой тонул тяжкий переступ генеральских сапог, только чуть позвякивали шпоры. Ноги адъютанта, упиравшиеся в железный вибрирующий пол «виллиса», явственно ощущали ворсистую мягкость той дорожки, трехцветной, как флаг неведомой республики, и мысленно он проходил по ней дважды: сначала – как генерал, посередине, наклонив голову, чтобы уж поэтому не кланяться знакомым встречным, а лишь бровями обозначать приветствие, – именно так ничего не ронялось из достоинства и покоряющей красоты, которой, что ни говори, исполнено поверженное могущество. А затем проходил и сам, шаг в шаг с генералом, не отдаляясь, чтоб это не выглядело отмежеванием. Ведь коридор полон глаз, офицеры из отделов и управлений показываются в бесчисленных дверях или пробегают мимо, прижав локтем папку с докладом. Не взглянуть на майора Донского они, естественно, не могут, и как же сильно они ему завидуют – его усталой, но и четкой походке, его полинялой гимнастерке с неяркими полевыми погонами, его утомленным, но и спокойным глазам, повидавшим все то, о чем они только вычитывают из сводок. Больше, пожалуй, и не нужно поводов для зависти – никаких орденов, ни даже колодок, только гвардейский знак, – но это ведь и не личная награда. Как-никак его судьба теперь зависит от них – штабных, тыловых, завидующих.
В приемной, обшитой дубовыми панелями и светло-зеленым линкрустом, вставал им навстречу величественный дежурный – не ниже полковника, – принимал от них личное оружие и сопроводительные документы, после чего генерал усаживался ждать в кресло, отворотясь к окну, адъютант же, которому здесь уже незачем было находиться, понятными жестами показывал дежурному, что отлучается в курилку, а тот кивал в ответ, что вызовет при надобности.
В тот же час, когда за двойными дверьми того кабинета решалась судьба генерала, решалась и адъютантская – в просторной белокафельной курилке, где, надо полагать, стильные полумягкие стулья вдоль стен и никелированные, на подставках, пепельницы – и еще одна общая, малахитовая, на огромном низком столе черного дерева, – и где совершенно не пахнет ни табачным дымом, ни близрасположенным сортиром и ровно гудит приточно-вытяжная вентиляция, не мешающая двоим-троим говорить вполголоса и так, что не обязательно слышно остальным. К этому часу следовало приготовить слова рассеянно-доброжелательные, улыбку сожалеющую и слегка ироничную, весь облик верного, исполнительного и знающего себе цену офицера для поручений, переживающего за ошибки начальства, но не так уж согласного за них отвечать своей карьерой. Не начинать разговора самому, ни о чем не спрашивать, но скромно войти, всем кивнуть глубоко и сесть отдельно или стать у окна – и не может быть, чтоб не заметили, не завязали бы разговора с милым застенчивым фронтовиком, выуживающим пожелтевшими заскорузлыми пальцами папироску из самодельного портсигара, на котором что-то интересное выколото сапожным шилом, а именно – скрещение штыка и пропеллера, перевитое гвардейской лентой, с надписью: «Давай закурим, товарищ, по одной!» – и пониже: «Будем в Берлине, Андрюша!» С портсигара только начать и тут же его упрятать смущенно – баловство, плод окопного безделья. И чутким ухом ловить вопросы, из них-то и выуживая недостающие сведения насчет генерала, намеками, полувопросами дать понять, что готов принять братскую руку помощи, кто протянет ее – не пожалеет. Чего в принципе хотелось бы? Самостоятельности. Быть кем-то, а не при ком-то, осточертел этот горький хлеб. Конечно, остаться здесь он и не мечтает, хотя за ним кое-какой оперативный опыт, и если б взялись его поднатаскать… но нет, мечтать не приходится, скорее мечтал бы – стать на бригаду, не обижен был бы и полком. Чертовски трудна задача – и всего час на нее, на переустройство всей жизни. Когда вызовет дежурный и узнается наконец, что там решено с генералом, поздно будет что бы то ни было переигрывать, придется покориться решению, принятому без тебя.
Длинным ногам адъютанта было тесно за спинкой водительского сиденья, приходилось колени скашивать к борту, и левое, упершееся во влажный брезент, сильно холодило; казалось, слякоть просачивается сквозь галифе, и от этого, вместе с брезгливостью к себе, возникала обида на генерала – за то, что в своем грехе или в своей ошибке не принимал в расчет участь его, майора Донского, всегда вынужденного примащиваться обочь и позади генеральского кресла. Жгла в который раз досада, что засиделся на этом месте, засиделся в майорах, когда надо делать свою игру. Вспомнилось, кстати, как обошел его генерал наградою за форсирование Десны – и как еще обидно обошел! Он передал с Донским личные инструкции командиру батальона, оборонявшегося на плацдарме; инструкции эти нельзя было доверить рации и передать по проводу, который еще не протянули, но и везти их самому тоже не было надобности, хватало сообщить их любому расторопному офицеру, переправлявшемуся на тот берег; Донской, однако ж, их никому не доверил, а переправился сам на плоту, под чувствительным обстрелом, и втолковывал их батальонному, вконец замороченному и полуоглохшему, покуда тот их связно не повторил. Потом, в тихой прохладной избе, он рассказывал генералу, с легким юмором и не выделяя себя, каких мучений стоило несчастному батальонному стоять перед ним в полный рост в неглубоком окопе, не моргая от близких разрывов и не втягивая голову в плечи. Генерал, сидевший в галифе со спущенными подтяжками и в нижней белой рубахе, слушал насупясь, отхлебывая молоко из крынки и шевеля пальцами босых мог, потом вдруг сказал: «Значит, говоришь, он кланяется? – хотя Донской говорил как раз обратное. – А надо его к Герою представить, тогда кланяться не посмеет. Ты мне напомни завтра – в список его вставить». Получилось, рассказом о своих действиях Донской выхлопотал награду другому и еще обязан был про это напоминать; ему же, главному действующему лицу в рассказе, отвели его всегдашнее второе место. Однако то был лишь первый укол: напоминать пришлось не однажды, а чуть не десять раз – генерал все отмахивался: «Не до него сейчас, завтра напомнишь». В конце концов это надоело Донскому, и он сам позвонил в политотдел, чтоб не обошли там этого батальонного. Ему ответили, что список уже дней пять как ушел в политуправление фронта и капитан Сафонов там есть, вставлен самим командующим. Донской только и нашелся пролепетать: «Это я и хотел проверить», – и всего обиднее было теперь вспоминать этот лепет.
Из темного своего угла он с неприязнью разглядывал мощный затылок генерала, с краснотою от воротника, и по привычке мысленно сажал на его место себя. Побывав в его естестве, адъютант несколько смягчался, поскольку приходил к выводу, для себя лестному, что сам он в подобной ситуации держался бы много лучше. Ну хоть не сидел бы всю дорогу нахохленной вороной, подумал бы о том, каким его запомнят спутники – на всю жизнь. Зачем-то же в старой армии гвардейские офицеры брились перед тем, как застрелиться, распивали перед дуэлью шампанское…
То было маленькой тайной адъютанта – ставить себя в положение генерала, пребывать в его сущности, как судно с погашенными огнями пребывает в чужих территориальных водах. Притом он генерала не копировал, не подражал его интонациям и жестам, это было бы примитивно, да и смешно: генерал был высок, но грузен, адъютант же отличался «типично английскими» долговязостью и сутулостью; лицо генерала было – откормленного кота, с фатовскими усиками ниточкой по всей губе, глаза – буркалы, не поймешь даже, какого цвета, адъютант же гордился своим чеканным профилем, тонким «волевым» ртом и холодными, «металлического оттенка», глазами. По «внешним данным» он себе ставил плюсы, а генералу минусы, хотя и признавал за ним «очаровательную кабанью грацию с известной долей импозантности», а в поведении отмечал «обаятельную солдатскую непосредственность, временами переходящую в хамство». Он старался понять, так ли уж сложно быть тем, кому предназначено повелевать, и почему бы и ему не принадлежать к этой категории. Возраст был ни при чем, в его летах – слегка за тридцать – командовали полками, а то и дивизиями; стало быть, находились в генеральской должности. Да оно и выходило в девяти случаях из десяти, что он, Донской, поступил бы выигрышней генерала, сказал бы умнее, тоньше, выглядел бы привлекательнее. Наверно, и в последней ситуации, кончившейся отъездом из армии и о которой Донской был, правда, недостаточно осведомлен, он, пожалуй, не сплоховал бы, не дал бы легко свалить себя, превратить, по сути, в ничто. То есть генерал оставался еще при своих звездах и со свитой, но, в сущности, что он был теперь? «Восемь пудов чистого негодования и обиды», не более того.
Теперь, пожалуй, можно было подбить итоги, что адъютант и делал, в мыслях обращаясь к генералу на «ты». Честно сказать, жаль мне с тобой расставаться: со скрипом, но приспособился я к тебе. Гонял ты меня по-божески, с другим побольше было бы гону… но ведь побольше и славы! Ты и сам звезд не нахватал, и мне на грудь – одни «разновесы», а мог бы за ту же Десну и к золоту представить, все-таки – плацдарм, там время по-другому течет, за один час трое суток следует засчитывать. И при этом еще глазом не моргни, в позвоночнике не согнись, ведь тобою послан, тебя представлял. Сам теперь испытываешь, каково это, когда заслуг не отмечают. Это тебе наука – вперед цени людей по достоинству. Но я не держу обиды. Я своего стиля не меняю. А стиль у меня – невозмутимость и скромность. Это надо ценить особо, эту незаметность замечать надо. И, между прочим, посторонний человек, майор Светлооков из Смерша, тот заметил: «Хорошо держишься, Донской, скромно. Но надо, чтоб от твоей скромности пар валил – и прямо Фотию в глаза». Все же он тонкий человек, Светлооков, и наблюдательности не лишен, хотя, разумеется, дубина. Пар – это как раз для него, а настоящий аристократизм – о, это совсем другое!..
Как ни мечталось майору Донскому стать на бригаду, однако же со своим адъютантством приходилось мириться и, стало быть, находить в нем свой особый смысл. Среди немногих книг, которые он таскал в чемодане по своим фронтовым путям, были неполные «Война и мир», и то обстоятельство, что адъютант командующего был чуть не главным героем эпопеи и его любила чуть не главная героиня, определенно вселяло гордость. Из своего века князь Андрей Николаевич Болконский протягивал свою маленькую руку Андрею Николаевичу Донскому и одобрительно похлопывал по плечу. Что князь Андрей был небольшого роста и слабый, это Донской заносил ему в минус, а себе в плюс, по «усталому скучающему виду» и по «тихому мерному шагу» их достижения уже примерно сравнялись, но вот своим чертовским умением «по привычке переходить на французский» князь его оставлял далеко позади, хотя Донской себя оправдывал, что воюет не с французами, а с немцами. Оно, правда, и на немецкий «перейти по привычке» не выходило, но кое-что другое уже удавалось у князя при случае перенять: его манеру говорить с женщинами «с своим нежным и вместе высокомерным видом», а с мужчинами – «с спокойной властию в голосе» и вот в особенности «презрительно сощурившись (с тем особенным видом учтивой усталости, которая ясно говорит, что коли бы не моя обязанность, я бы минуты с вами не стал разговаривать)». Не сказать чтобы со стилем всегда выходило гладко, все-таки князь Андрей умел здорово его варьировать: с одними «морщить лицо в гримасу, выражающую досаду», других «ласково притягивать за рукав, чтобы тот не вставал»; у Донского это либо выходило невпопад, либо он отступал от стиля по забывчивости и в спешке, и весь эффект не то что пропадал, а был прямо противоположный. К примеру, хотелось ему перенять у князя его частенько упоминавшийся «неприятный смех», как бы это сгодилось при случае! Но, сколько он этот смех ни культивировал, а выходило либо наоборот, даже еще приятнее, и собеседники умилялись и расплывались ответными улыбками, либо уж так фальшиво, что взглядывали с опаской – не рехнулся ли. И вообще, обнаруживалось, к удивлению Донского, скорее печальному, что и война эта, и люди на войне были не совсем те, что в 1812-м.
Взять того же майора Светлоокова, который с некоторых пор занимал его мысли даже посильнее кутузовского адъютанта. Вот кто загадкою был для Донского – хотя бы странным своим воздействием на генерала, да и всей своей непостижимо стремительной карьерой. Донской его знавал старшим лейтенантом, командиром батареи тяжелых гаубиц – должность как бы с трагическим ореолом, почти во всей ствольной артиллерии, бьющей с закрытых позиций, офицеры гибнут чаще солдат, поскольку свои НП[3] выдвигают обычно вплотную к противнику, в особенно же героических эффектных случаях вызывают огонь на себя. Со Светлооковым такого красивого случая не произошло, но корректировщик он был грамотный, славился быстрым счетом и изобретательностью. Как-то, застряв на передовой, Донской у него заночевал в крохотной землянке, вмещавшей лишь односпальные нары и столик; Светлооков был донельзя прост, мил, гостеприимен, выложил все свои припасы и выставил полфляжки водки-сырца, читал, приятно смущаясь, стихи собственного изготовления, говорил задушевно и романтично – о том, что никогда еще не жил такой наполненной жизнью, как в этой собачьей конуре, в ста шагах от немецких позиций, что у него со своими батарейцами, помимо телефонной связи, связь братская и как бы сверхчувственная. При таких обстоятельствах горючего не хватило, и Светлооков сбегал к старшине стрелковой роты и вернулся еще с полфляжкою, к некоторому даже удивлению Донского: на передовой, да посреди ночи, водки очень не всякому отольют; Светлооков, как видно, был здесь свой и любим. В том, как он вел себя, не чувствовалось ни фанаберии бывалого окопника, ни заискивания перед чинами, Донской для него был не адъютант командующего, а желанный терпеливый слушатель, к тому же разбирающийся в литературе. Спать улеглись под утро, при этом хозяин уступил свои нары гостю почти насильно, а сам улегся на полу, головою под столик, говоря, что так ему даже лучше: для головы – не лишняя защита.
Этой весной, когда стали организовываться в армиях отделы Смерша, брали туда, кроме прежних особистов, и некоторых боевых офицеров с наградами. Желающих не много нашлось, большинство уклонилось; не уклонился, для всех неожиданно, старший лейтенант Светлооков. С братьями-батарейцами, заодно и с полной жизнью в собачьей конуре, он расстался без грусти и боли, одним объяснив, что «надо же и отдохнуть от грохота», другим – что «надо ж расти, тут, глядишь, через пару месяцев в капитаны выйдешь», а третьим – совсем коротко: «Родина велит». Месяца через два-три и правда он возвысился в звании, даже, сверх ожидания, перескочив капитана; новые начальники провели его в старшие же лейтенанты госбезопасности, а это уже соответствовало армейскому майору. Впрочем, настоящее его звание было как-то расплывчато: в малопонятных конспиративных целях, а скорее из чистого шерлокхолмства, он появлялся то в форме саперного капитана, то лейтенанта-летчика, но чаще – все же майора-артиллериста.
Оставшись таким же простым, шутливым, он претерпел, однако, быстрые изменения. Как-то невозможно стало Донскому поверить, что это он некогда бегал за водкой и спать укладывался на полу, а нары предоставлял гостю. Не пополнев, он как-то больше места занимал теперь в пространстве – ноги ли разбрасывал пошире, локти ли раздвигал, но с ним стало не разойтись в дверях – прежде легко расходились. Еще и прутик его неизменный потребовал своего пространства, которое он со свистом иссекал замысловатыми траекториями. Со стихами тоже пошло успешно: уже так мило не смущаясь, он ими заваливал армейскую газетку «За счастье Родины», а как набралась солидная подборка, послал ее на отзыв Илье Эренбургу и получил определенное «добро», вкупе с советами учиться побольше у классиков – Пушкина, Некрасова. После этого в газетке даже отдельную рубрику завели – «Поэтическая страничка Ник. Светлоокова», – и он говорил, ухмыляясь, не совсем в шутку:
– А придется еще Светлову другой псевдоним искать, а то путать начнут.
Перед праздничными днями и в особо ответственных случаях газетку приносили на подпись к генералу. Тогда же являлся без вызова автор поэтической рубрики и с нетерпением ждал, когда генеральский красно-синий карандаш дойдет до его «Казачьей лирической» и отметит наиболее ударные строки:
- Мы идем, любимая, в беспощадный бой,
- Чтобы в дни победные встретиться с тобой.
- С этой думкой радостной седлаю я коня.
- Милая, хорошая, не забудь меня!
– По линии рифмы, – говорил генерал, – претензий не имею. Но я что-то не понял, товарищ Светлооков, вы в этот самый… беспощадный-то бой – пешим ходите или конным? Потом – вот они уже идут, а вы еще только седлаете…
Майор Светлооков красиво зарумянивался, весь его крутой выпуклый лоб вспыхивал и озарялся до корней белесых волос.
– Неудачный эпитет, товарищ командующий? Можно заменить.
У него в стихах каждое слово было «эпитет», а генерал, по-видимому, не знал, что это значит. Он вздыхал и подписывал номер.
И все же что-то странное, на взгляд Донского, установилось меж этими двумя. Наверное, генерал, хозяин армии, мог бы со Светлооковым выбрать и другой тон, кроме насмешливой, но безобидной пикировки, однако он неуловимо пасовал перед вчерашним старшим лейтенантом, а тот неуловимо, все раздвигая локти, осваивал новые пространства. Никто не знал точно границ его власти; должность его была – «уполномоченный контрразведки при управлении армии», но что значило это – наблюдает ли он за людьми штаба? или выше того – контролирует штабную работу? Передвигался он вместе со штабом, вытребывая из его помещений для себя и своих сейфов отдельное и с надежными замками. Стал являться и на Военный совет – задавал обыкновенно два-три вопроса: сначала по своей, артиллерийской, части, попозже – с накоплением оперативных познаний – и о том, как увязано взаимодействие с поддерживающей авиацией и не слишком ли при таком-то продвижении оголятся фланги. Тут же присутствовавший начальник армейского Смерша, полковник, не пресекал его любопытства: может быть, гордился такой дотошностью своего подчиненного, а могло быть, что подчиненный обрел над своим начальником некую тайную власть. Светлоокову терпеливо отвечали, не глядя в его сторону, что с авиацией увязано так-то и о флангах тоже побеспокоились, никогда не отвечал – сам командующий, но неизменно заканчивал совещание шуткой: «У товарища Светлоокова нет вопросов? Тогда – всем ясно». Но – как ни смешно было предположить – не от него ли сбежал генерал в разбитый вокзальчик на Спасо-Песковцах, чтоб вызывать к себе нужных ему людей, а у майора Светлоокова не было бы частой причины туда являться?
С ощущением, будто задел едва зажившую болячку, Донской вспоминал давнишний, ранним летом, бой под Обоянью, когда впервые встретился с другим Светлооковым, не тем, с каким пили водку и говорили о стихах. Сложилась обычная ситуация, когда неясно, кто кого окружает. «Съезди-ка выясни, – велел генерал, – кто там кого за причинное место ухватил», – выяснилось, что ухватили наши, но немцы этого не поняли и пытались зайти в тыл нашему вклинившемуся полку, отчего только углубились безнадежнее в клещи охвата. Связь восстановилась еще до прибытия Донского, и генералу уже обо всем доложили, Донского же кто-то позвал поглядеть на пленных…
Не было нужды адъютанту командующего идти в ту заповедную страшную зону, на неубранное поле, с еще краснеющими не впитавшимися лужицами, где бродили пожилые дядьки из трофейно-похоронной команды, легонько сапогами пиная лежащих. Все же он туда направился – повинуясь ли общему возбуждению от успеха или рассчитывая увидеть важных чинов, интересных для генерала, – но не оказалось даже фельдфебеля, одни солдаты. Они стояли, тесно сгрудясь, человек восемь-десять, в окружении разгоряченных, но отчего-то примолкших победителей, не говоря им привычно-заученного «Гитлер капут», не говоря и между собою ни слова, и понуро смотрели себе под ноги, изредка поднимая злобно-затравленный взгляд исподлобья. Двоих мучили пулевые раны, однако они не стонали, а лишь, закрыв глаза, втягивали воздух сквозь стиснутые зубы. Никто не спешил им помочь, увести. При виде Донского пленные слегка оживились, взгляды сошлись на нем, на его погонах. Составив загодя подходящую немецкую фразу, он вдруг отчего-то понял, догадался, что она не понадобится, эти немцы его не поймут. Другие были у них лица, другие глаза, хоть на немецкий манер засучены рукава и расстегнуты на груди мундиры. Тот, кто позвал его, сыграл с ним невинную, но злую шутку, уготовил непредвиденное испытание. Он чувствовал тягучую, с каждой секундой все более расслабляющую растерянность, не знал, что приказать, о чем спросить этих пленных, которые как будто ждали от него вопроса – со страхом, но и с какой-то надеждой. Машинальное движение военного – оправить под ремнем гимнастерку – он продолжил другим движением, безотчетным и которого не ждал от себя: задвинуть пистолет подальше за спину, – и увидел, как застыли напряженно их лица в начале этого жеста и расслабились – в конце. И от этого еще больше он растерялся и не знал, что делать.
Тогда-то и подоспел на помощь к нему Светлооков – невесть откуда взявшийся, подходивший не торопясь, с улыбкой, похлопывая себя прутиком по сапогу.
– Что ж оружие побросали, земляки? – спросил он, улыбаясь ободряюще, простецки, но с легким упреком. – С оружием надо было сдаваться, это бы вам зачлось. А так – и не поймешь: может, у вас его из рук выбили. Тогда – не считается, что сдались добровольно…
Легкое движение, неясный говор прошли среди пленных и своих. Светлооков в тот день был чином капитан, но, должно быть, внушила большее впечатление его гимнастерка американского желто-зеленого габардина, почему-то в нем признали старшего, все взгляды обратились к нему, к его веселой улыбке.
– А может, вы его и в руках не держали, оружие? Обозниками служили? Или же переводчиками? – Никто соврать не решился или не успел понять, спасительней ли такой вариант, и сам же Светлооков его отверг. – Дурацкие вопросы задаю. Таких ребят в обозе держать, когда они столько своих перестрелять могут, – не-ет, это не дело!.. Так что, земляки, молчать будем? Такая встреча радостная – и молчим. Самое время поговорить… Смоленские среди вас есть?
Двое пленных подались к нему, вытолкнутые безумием надежды.
– Гляди, понимают. – Светлооков, как сообщнику, подмигнул Донскому. – А среди вас, герои? Нешто смоленских не найдется?
Внимательно, испытующе он оглядывал лица своих, изгвазданные, в грязи, в копоти и в поту, с ярко блестевшими белками глаз, в которых еще доцветали злоба и азарт боя. Смоленские нашлись, и Светлооков их подбодряюще похлопал по плечам. Нашлись, с той и другой стороны, и калужские. Также и воронежские. Все больше людей включалось в захватывающую и зловещую игру, и Донской не знал, как пресечь ее, хоть и догадывался уже, к чему она приведет.
– Что ж, поговорите, земляки с земляками, – сказал Светлооков и прутиком показал куда-то мимо Донского. – Во-он в тех кустиках…
Донской, чувствуя на своей щеке горящие взгляды пленных, повернул все лицо к Светлоокову. И, понимая, как он сейчас бессилен, как нелеп и жалок, жгуче себя презирая, а все же переступая, переступая онемевающими подошвами, повернулся к нему весь, так что пленные оказались за спиною.
– Куда торопишься? – спросил он хрипло. Во рту появились неодолимая сухость и какой-то медный вкус. – Их допросить нужно… назначить конвой…
– Так я же и назначил, – удивился Светлооков. – Ты разве не слышал?
– Я не это имел в виду…
– Ты только в виду имел, а я уже распорядился. А куда тороплюсь? Тороплюсь, покуда ребятки горячие, с боя не остыли.
Все же у Донского еще было время, коротких несколько секунд, и будь это немцы, он бы знал и что приказать, и как этого Светлоокова все-таки поставить на место, а сейчас не знал и терял эти секунды. Кто-то там, за его спиной, рванулся бежать, послышались топот сапог и хрипение погони, борьбы, удары по телу и треск кустов, бессвязная мольба, замирающий стон, короткое безмолвие – и затем звенящий, убойный грохот винтовок. Ему казалось, вспышки тех выстрелов отражаются у него на лице – так внимательно, с любопытством, смотрел на него Светлооков.
– Там двое раненых, – сказал Донской с запоздалым слабым упреком.
Светлооков, не переставая глядеть в глаза ему, кивнул согласно:
– Вылечат их. Уже вылечили.
Все так же не оборачиваясь взглянуть, Донской лишь вытянулся во весь свой рост и, оказавшись выше Светлоокова на полголовы, слабым подергиванием плеч выказал ему все презрение, какое чувствовал к себе. И медленно побрел прочь.
Весь день была давящая тяжесть на душе, суетливо подрагивали руки, не хотелось есть, не хотелось даже курить. И не хватало духу пожаловаться генералу на Светлоокова, который преступно превысил свою власть, да еще так демонстративно, в присутствии адъютанта командующего. За подобную жалобу однажды уже досталось – самому Донскому. «Что ты мне жалуешься? – мгновенно рассвирепев, закричал генерал. – У тебя на поясе пистолет болтается или хрен запасной? Вооруженный мужчина жалуется! Чтоб я этого от тебя не слышал». К вечеру, однако, вернулась способность докладывать сухо, деловито и как бы между прочим, не выказывая личного отношения. То, как воспринял его доклад генерал, несказанно удивило Донского. Он слушал насупясь, но не перебивая, лишь несколько раз в продолжение рассказа взглянул на Донского почти умоляюще, как бы прося его не продолжать. Затем встал и заходил по комнате, странно ссутулясь и заложив руки назад, как полагается арестованному ходить под конвоем.
– Видишь ли, в чем дело, Донской, – сказал он после долгого молчания. – Они, как бы сказать… не пленные. Конечно, нехорошо это – в смысле воспитательном, для солдат. Но для них, пожалуй, лучше так. Чем еще суток десять трибунала ждать, да потом вся эта церемония… По мне – так лучше сразу…
Донской, обретя уверенность, осмелясь возражать, заговорил пространно, красиво и с задушевным пафосом – о том, что эти бессудные расправы, о которых он слышал доселе из чужих рассказов, а вот сегодня оказался свидетелем, расправы эти не только порочны в смысле воспитательном, но прежде всего не достигают цели, даже производят обратное действие. Предателей, перебежчиков нужно судить открыто, показательным судом, чтобы все видели, в чем их вина перед родиной и как глубоко падение. Но солдат-фронтовиков втягивать в исполнение, чтобы они участвовали в казнях, – ведь это не укрепляет, а разрушает психику. Улягутся в их солдатской памяти и штыковые бои, с распоротыми животами, с проломленными черепами, простится себе и тот раненый, которого ты всмерть добивал саперной лопаткой или каской, – то было в бою, не ты его, так он тебя, – но никогда не простится, не забудется бессильная жертва, схваченная за локти, чтобы ты мог спокойно взвести затвор, а прежде разбить ему губы в кровь или, сняв ремень, свободно замахиваясь, пряжкой крест-накрест располосовать лицо. Это не покинет тебя ни в снах, ни во хмелю и до конца жизни будет маячить перед глазами. Озверевший садист может всего этого не предвидеть, или ему наплевать на последствия, но те, кому власть дана…
– Не дана, – глухо откликнулся генерал. И Донскому даже показалось, что он ослышался. Генерал уже не ходил по комнате, а смотрел, не отрываясь, в окно. – И ты вот что, братец… мне обо всем этом докладывать необязательно.
Донской умолк и более никогда об этом не докладывал. И с этого дня явственно зазвучали в нем слова, обращенные к генералу: «И ты такой же», – что-то не слишком определенное, в чем были и понимание, и сочувствие, и легкая насмешка, и оправдание себя самого. Увы, есть такого рода страх, которому все подвержены без исключения, и даже – вооруженные мужчины.
А страх такого рода, посетивший его самого, вовсе не труса, все не выветривался. В столовой Военного совета он не мог заставить себя сесть рядом со Светлооковым, лишь украдкой, с неприятным чувством, поглядывал издали на его руки, точно бы это они держали тогда оружие, когда говорилось с ясной улыбкой: «Смоленские среди вас есть?..»
Но вот, несколько дней назад, Светлооков неожиданно оказался против него за столом и сказал вполголоса, глядя прямо в глаза:
– Охота мне, майор, с тобой посплетничать.
– Здесь? – почему-то спросил Донской, едва не поперхнувшись.
– Можно и здесь. Было время, мы стихи читали и водку до утра кушали. Но лучше в другом месте.
Странным показалось, что для «сплетен» он назначил свидание в леске, неподалеку от штаба, хотя мог бы, кажется, к себе пригласить, коли так дороги были ему воспоминания. И еще неприятно покоробила эта его уверенность, что Донской придет, куда ему укажут. В довершение всего он еще выговорил Донскому, когда тот с намеренным опозданием явился к поваленной сосне:
– Опаздываешь, адъютант. Это не годится. От бабы, что ли, никак оторваться не мог?
Для таких случаев князь-Андреева наука предусматривала, как отбросить это прилипчивое «ты», переменить нанизываемый тон, – для этого следовало состроить на лице выражение, которое Донской мог бы сформулировать наизусть: «Вы хотите оскорбить меня, и я готов согласиться с вами, что это очень легко сделать, коли вы не будете иметь достаточно уважения к самому себе, но согласитесь, что и время и место весьма дурно для этого выбраны».
– Простите, – сказал Донской с таким именно выражением, еще усиленным холодностью тона, – как вас по имени-отчеству? Не имел до сих пор чести…
– Николай Васильич. Как Гоголя, – ответил Светлооков готовно, не оценив этой холодности. – Садись, потолкуем.
Донской, однако, остался на ногах и то прохаживался, то останавливался против Светлоокова, не сняв фуражки, как сделал он, и не расстегнув воротника.
– Ты чего-нибудь понимаешь, Донской, что происходит?
– Что вы имеете в виду? – Донской все же не оставил усилий вернуться к допустимому «вы». – И где именно «происходит», как вы изволили выразиться?
– Ты чо это ершишься? – спросил Светлооков весело. – Вот, будем мерихлюндии разводить. «Не имею чести», «изволите». Кстати, можешь меня на «ты», мы вроде одногодки и в чинах одних. – Он вынул из кармана перочинный ножик и огляделся по сторонам. – Нагни-ка мне веточку.
– Какую веточку?
– Какая тебе понравится.
Донской, подернув плечами, пригнул ему вершинку молодого вяза. Светлооков ловко отхватил ее и стал выделывать прутик, срезая боковые побеги.
– Я понять не могу, какой у него следующий шаг, у Фотия. Ну, повезло ему с плацдармом, это все признают, а дальше что? Есть у него в голове план или же торричеллиева пустота?
– Я попросил бы!.. – сказал Донской, вытягиваясь. – Я попросил бы вас о командующем…
– Брось, – перебил Светлооков. – Тут тебя не слышат. Намерен он этот Мырятин брать или ему сразу Предславль подавай?
– Все возможно. Командующий наш – человек масштабный.
– Чепуха, – отрезал Светлооков. – Кто о Предславле не мечтает, не клянчит у Ватутина[4], чтоб позволили взять? И масштабные, и не масштабные – все хотят и все могут. А только подавиться можно, хапнешь горяченького – а не проглотишь. Силенок-то у Фотия и на Мырятин не хватает, так ведь получается объективно? Считай, три недели армия топчется возле вшивого городишки.
– Простите, – Донской опять подернул плечами, – не предполагал, что и вопросы оперативные вас так живо интересуют.
– Меня все интересует. Потому тебя и позвал.
– Но вам, насколько я знаю, по роду деятельности доступны оперативные документы, даже совершенно секретные.
– Это когда они есть, документы. А когда их нету, еще не составлены? Как тогда?
– Что же может знать адъютант? Спросили бы у начальника штаба.
– Спрашивал. Начштаба он игнорирует, Фотий. Или же они в сговоре. А только ни хрена от начштаба путем не добьешься. Может и так быть, что Фотий его заранее не посвящает. А кого он вообще посвящает? Ты ж помнишь, чего он тогда, накануне переправы, с танками учудил. Переполох устроил во фронтовом масштабе: сутки никто не знал – ни в армии, ни в штабе фронта, – куда танковая колонна делась, шестьдесят четыре машины! Один он знал, да распорядиться не мог. Во дает! Собственные танки у себя, можно сказать, украл, только бы другим не достались. – Он поглядел искоса, снизу вверх, на Донского и быстро спросил: – А ты тогда – знал про эти танки, куда он их погнал?
– Ну, предположим…
– Знал все-таки?
– Простите, – сказал Донской, не отвечая на вопрос, – а что, у нас, в Тридцать восьмой армии[5], секретность подготовки отменена?
– Секреты секретами, а если б что случилось? В одном «виллисе» ездите, всех поубивало – с кого тогда за танки спросить?
– Насколько я в курсе, вопрос был заранее согласован с командованием фронта.
– А насколько я в курсе, Ватутин перед представителем Ставки оплошал. На вопрос, где танки Тридцать восьмой армии, ответить не мог. То же и Хрущев[6] – ни бе ни ме.
– Что ж, бывают у командующего и странности.
– Дурь наблюдается, одним словом?
– Ну, если вам угодно применить такой термин…
– Дурь – это хорошо, – перебил Светлооков. Он говорил: «храшо-о». – Дурь, она способствует украшению генеральского звания. – Донской подумал, что этот афоризм, пожалуй, следует прихватить в свою коллекцию метких фраз. – Только что у него еще имеется, кроме дури?
– Знаете, не могу поддерживать в таком тоне…
– Брось! – сказал Светлооков, хлестнув себя прутиком по сапогу, отчего Донской слегка вздрогнул и выпрямился. – Еще раз говорю – брось. Ты же не попка, не чурка с глазами. И знаешь прекрасно, что и командармы вашим умом живут – штабистов, оперативников, адъютантов. Да, и адъютантов. Нет-нет да подскажете ему чего-нибудь путное. Да еще внушите, что он это сам придумал, иначе же он из ваших рук не возьмет.
Майор Донской, по правде, не припомнил бы случая, когда бы он что-то подсказал генералу, но услышать это было лестно. И все же если не здравый смысл и его положение офицера для поручений, то по крайней мере хороший стиль требовал возразить.
– И вы не делаете исключения для генерала Ко́брисова?
Светлооков посмотрел на него с простодушным удивлением в голубых глазах.
– А почему это для него исключение? Имеются и погромче командармы. Ты присядь-ка. – Он похлопал ладонью по стволу, на котором сидел, и Донской, к удивлению своему, подчинился. – Что у тебя за преклонение такое? Да в твоем возрасте, при твоих данных, другие бригадами командуют. А то и дивизиями.
– Умишком, значит, не вышел.
– Умишка тут много не требуется. А просто мямля ты. И тем, кто тебе мог бы помочь, сам руку не протянешь. Ты хорошо держишься, майор, скромно. Но нужно, чтоб от твоей скромности пар валил. И прямо Фотию в глаза. Тогда он тебя оценит. А может, и нет… Я-то вот – безусловно тебя оценил.
Сердце Донского ощутимо дрогнуло. Было приятно узнать, что за ним наблюдали пристально и так неназойливо, что он этого не замечал, и однако ж, не замечая, совершенно естественно, произвел выгодное впечатление. Он понемногу оттаивал и проникался расположением к той силе, которую представлял новый Светлооков, к неожиданной ее проницательности, и вместе с тем испытывал некую почтительную робость перед ним самим, – которую, впрочем, все снобы испытывают перед людьми тайной службы.
– Вы сказали – «руку протянуть». Что это значит? Мы как будто и так делаем общее дело…
Светлооков опять хлестнул по сапогу – точно с досады:
– Все ты из себя непонятливого строишь. Ты же умный мужик.
– Предпочел бы все-таки, чтоб было четко сказано…
– Скажу. – Светлооков закрыл глаза, как бы в раздумье, и, широко открыв их, весело огляделся по сторонам. – Природа хороша тут, верно? Нам бы любоваться – может, последняя в жизни. А мы тут черт-те чем занимаемся, интригами… А ты вправду не знаешь, что он там решил насчет Мырятина? Брать его или обойти?
– Не знаю.
– Ни слова при тебе не говорил?
– Не говорил.
– Верю. И вообще знай – мы тебе верим. Ну, если скажет что про Мырятин – я про это должен знать. Сразу. Буквально через час.
Донской выпрямил стан и сделал строгое лицо. Ему показалось, что он уступает слишком рано – и оставленная позиция уже почти невозвратима.
– Вы понимаете, что вы мне предлагаете?
– Я-то понимаю, – сказал Светлооков, – ты пойми. Мы Кобрисова терпим, все же у него заслуги имеются. Может, я тут кой-чего зря про него, надо быть объективным. Он и заместителем командующего фронтом был, и он же армию формировал, это нельзя не учитывать. Но боимся, дров он наломает. Надо за ним послеживать неусыпно. Понимаешь? Предупреждать нежелательные решения. Ватутин не всегда знает, что у Фотия на уме, куда его завтра занесет. Он одно говорит, а делает другое. Он этим славится. Тут одна тонкость имеется… не знаю, известно тебе или нет. Он же из этих… ну, репрессированных.
Донской, со строгим лицом, важно кивнул.
– Знаю, – сказал он. Хотя услышал впервые. Однако он и не врал, в нем явственно прозвучало: «Ах, вот оно что!», словно бы подтвердились его догадки и все наконец стало на свои места. – Но ему же как будто простили?
– А чего там прощать было? Ни за что попал. Да я не в том смысле, что ему не доверяют. Кто б его тогда на армию поставил? Но он-то себя обиженным считает, ему реванш нужен, реванш! Беда с этими репрессированными. Уже сказали ему: «Ошиблись, ступай домой», – нет, он вокруг себя сто раз перевернется, чтоб всем доказать, кто он и что. Почему он на Предславль и нацелился: Мырятин – это шестерка, это его не устроит, а там – туз козырный, как минимум две звезды – и на погон, и на грудь. А вдуматься – это же карьеризм чистый, надо же прежде всего о людях думать, о потерях. Одной дури и желания непомерного мало, еще талант нужен. И учет сил. Силами одной армии Предславль же не взять. Значит, надо координироваться с соседями. А он все хочет единолично. Не получится это – одному банк сорвать!.. Моя бы власть, я б таким командования не доверял. С кем один раз ошиблись – тот для нас уже пропащий. Но – где-то повыше нас думали. И вот приходится нам возиться. Поэтому и прошу тебя – помоги нам. Давай уж вместе как-нибудь…
– Как я понимаю, – сказал Донской, сочтя уместным сделать шажок к оставленной позиции, – одних ваших сил недостаточно?
Светлооков покосился на него с насмешливым одобрением:
– Ну, не управимся без тебя. Это хочешь услышать? Молодец, майор, научился цену себе набивать.
Донской обошел эту похвалу, не подобрав ее:
– Могу я знать, кто такие «мы»? Это ваш Смерш или что-то другое?
– Одного Смерша мало тебе?
– Я только уточняю.
– А стоит ли уточнять? Чем дальше в лес – дорожка назад труднее.
Легко читаемую угрозу Донской пропустил; предприятие уже захватывало его, и голова кружилась не от страха – от возникающих перспектив.
– Бутылка вскрыта, – сказал он игриво, – надо пить вино.
– Это пожалста, – сказал Светлооков добродушно. – Хозяин – барин. «Мы» кто, хотел знать? Штаб фронта, ежели угодно. Некоторые представители Ставки. Такие, брат, инстанции, что вся твоя биография может круто перемениться. – И тут же быстро нахмурился. – Теперь понимаешь, что разговор у нас – смертельно секретный? Вот про этот лесок ни одна собака знать не должна. Ни шофер Фотия, ни ординарец чтоб не почуяли. У них, ты это учти, носы по ветру стоят.
Он передвинул на колени планшетку, и у Донского заныло под ложечкой – от предчувствия, что ему сейчас будет предложено дать подписку и вряд ли он сумеет выкрутиться элегантно, не осердив Светлоокова отказом.
Донской кашлянул и сказал пересыхающим ртом:
– Понимаю, все сказанное оглашению не подлежит. Меня об этом даже предупреждать не надо.
Светлооков, разворачивая планшетку, усмехнулся едва заметно:
– Знаю, тебя не надо. Все торопишься, майор… Я тебе чистую карту приготовил, держи у себя в сумке. В случае чего – съешь. Здесь будешь отмечать все его задумки. Именно все. Он стрелу нарисует, после зачеркнет – ты тоже нарисуй и зачеркни. И таким же цветом. Карандаши есть?
– Попрошу в штабе.
– Вот это не надо. Эх ты, стратег… На, держи. Все понял? Ходить ко мне, звонить – не надо. В столовой не садись рядом. Я сам назначу, где встретиться. Мог бы я тебе дать явочного человека – для экстренных сообщений. Но мы этой детективщины избежим, будешь только со мной дело иметь. Потому что тут все важно, мелочей в нашем деле нет.
Пряча карту – торопливыми и неловкими движениями, – Донской неуклюже пошутил:
– Теперь буду знать, как становятся агентами.
Светлооков, внимательно и хмуро наблюдавший, как он застегивает сумку, сказал сухо:
– Успокойся, ты еще не агент. До этого много воды утечет.
– И только тогда, – спросил Донской в том же своем тоне, – последует награда?
Светлооков резко поднялся и зашвырнул свой прутик в кусты:
– Пошли. Вот что я скажу тебе, Донской. Ничего конкретно я тебе не обещал. Мы этого не делаем. Это не значит, что мы заслуг не отмечаем. Но вот чего мы не любим – это когда с нами торгуются.
Было похоже, как если бы смазали небрежно по лицу – вялой, потной ладонью. Донской даже ощутил очертания этой ладони, загоревшиеся неудержимым румянцем.
Светлооков, шедший впереди, вдруг остановился и, взяв его за портупею, приблизил к нему враз переменившееся лицо с простодушно вылупленными глазами:
– Слушай, Донской. Ты у нас образованный, вон книжки в сумке таскаешь. Может быть, умеешь странные явления объяснять. Вот сны, например. Погоди плечами вертеть, выслушай. Значит, такой сюжет – всю ночку я с бабой барахтаюсь. Не то что она мне не уступает, а – вроде увертюры, удовольствие оттягивает. Потом же, ты ж знаешь, только лучше от этого. И, значит, только-только я позицией овладеваю, еще не овладел, но к первой линии определенно пробился, все заграждения преодолел – и надо же! Оказывается, не баба это, а мужик! Что за плешь?
Молча, отупело Донской смотрел в эти простодушные изумленные глаза, где в самой глубине, в расширившихся зрачках, таилось что-то больное, зверино тоскливое.
– Не объяснишь мне? – спросил Светлооков печально. – К чему бы это, а?
Донской, выпрямившись, приняв надменный вид, ответил брезгливо:
– Н-не знаю…
– Жалко! – Светлооков еще подержался за его портупею, поцокал языком и вздохнул. – Ну, тогда разойдемся. Счастливо! И кто ж мне это все объяснит?
Говорилось ли это всерьез или в шутку, но ощущение потной ладони на щеке не проходило, только еще усилилось. «Черт бы тебя побрал, с дурацкими откровениями!» – рассердился Донской, но тайный голос ему говорил, что откровения были вовсе не дурацкими, они имели какую-то цель, уже хотя бы ту, чтобы смутить его, дать почувствовать, что он опутан – мерзкой, тягостной, нерасторжимой связью.
Еще об одном вспоминалось теперь с неясной тревогой – о том, как впервые после той встречи в леске он вошел к генералу, в комнату вокзальчика, лучше других сохранившуюся, где на двери уцелела табличка под стеклом: «Комната матери и ребенка», где генерал спал и ел, откуда он командовал армией. Он сидел за столом, над картой, в черной кожанке, накинутой на белую рубашку, и, глядя на него со спины, на его напруженный раздумьем затылок, Донской вдруг отчетливо почувствовал странное свое превосходство над ним – превосходство ли тайного знания? скрытой ли силы, осознавшей себя? – и, кажется, впервые догадался, отчего так много значит для генерала какой-то вчерашний старлей. Да ведь он имел доступ, он знакомился с делом, он проник в подноготную, – может быть, прочел, какие применялись на допросах меры воздействия к подследственному и как тот себя вел, – вот в чем была его власть! Эту власть обретает даже читающий чужие письма к любовнице – как бы это ни осуждали моралисты. И то, что считалось зазорным когда-то, за что не подавали руки, отказывали от дома, били по морде подсвечниками, сделалось теперь как бы графским титулом, княжеским достоянием. Ставило майора вровень с генералом, а чем-то и повыше…
Генерала тяготил его взгляд, это стало видно по тому, как он плечами привздернул кожанку, чтобы прикрыть затылок, и как резко прочертил изогнутую стрелу – так резко, что сломал карандашный грифель.
– Ах ты… – Он длинно выругался и, полуоборотясь к Донскому, показал ему сломанный кончик. – Ножичка нет – очинить?
Не думая, Донской вытащил из бокового кармашка сумки отточенный красно-синий карандаш – и помертвел, встретив удивленный, поверх очков, взгляд генерала.
– Уже успел? Ловкий ты, брат. Умелец!
То была мелочь, о которой генерал, наверное, тут же забыл, снова углубясь в карту, но которая обозначила для Донского все тернии извилистой тропы, выбранной им чересчур поспешно.
Впрочем, он по ней прошел не далее первого шага. Оказалось, не так просто исполнить просимое Светлооковым. Не вычертив плана целиком, генерал свою карту от себя не отпускал и никому смотреть на нее не позволял. И Донскому пришлось испытать чувство унизительное, когда Светлооков, против их договоренности, вдруг сам подошел к нему в столовой – только, впрочем, спросить вполголоса:
– Насчет Мырятина есть решение?
– Нет, – быстро ответил Донской, косясь по сторонам.
Но людей из штаба не было в столовой. Два приезжих корреспондента, в полковничьих погонах, отоваривали свои аттестаты, шумно и придирчиво выясняя у начальника столовой, полагается ли им водка и по какой норме.
– Так я и думал. – Светлооков кивнул удовлетворенно и даже с каким-то торжеством. – А чем он вообще занимается?
– Читает Вольтера.
– Что-о? – У Светлоокова от мгновенного раздражения побелели глаза.
– Я не шучу – Вольтера.
– Ну-ну. Это хорошо. Это вот им скажи, – он кивнул на корреспондентов, – непременно вставят в свою писанину. А мне бы – чего посущественней. Если будет. Хотя – навряд ли…
Следовало ли так понять, что силы, нуждавшиеся в нем, Донском, уже обошлись без него? Или мечтательные размышления о ковровых дорожках Ставки все-таки имели какое-то основание?
…А «виллис», яростно подвывая, мчался под серым промозглым небом, и неудержимо адъютантские размышления съезжали с ковровых дорожек к предметам иного свойства, о которых так сладостно думается в сырости и на ветру, – к стакану водки и тарелке дымящихся щей где-нибудь в тыловой комендатуре, к теплой постели с чистыми простынями, а перед тем, черт побери, к жаркому блаженству бани. Или же он принимался думать о радостях этого случайного отпуска, о том, что удастся все-таки побыть в Москве денька три-четыре и, может быть, оторвать у судьбы суровый роман, маленькое приключение с горьковатым привкусом неизбежной разлуки. А если оно и не состоится, эти три дня все равно пойдут на пользу – рыжая Галочка из поарма[7], которая все еще колеблется, непременно спросит, как он провел их, и можно будет ответить: «Ох, Галочка, лучше не вспоминать…» А если она спросит, не скучно ли было в Москве, можно улыбнуться многозначительно, утомленно: «Москва – живет!»
Эта Галочка, правда, слабо вязалась с расчетами на новое назначение, но обращался он все же к ней. Что-то ему говорило, что в эту армию он еще вернется. «Со щитом, – прибавлял он, – непременно со щитом!»
Князь Андрей, из своего века, подсказывал тоже недурной вариант: «Это будет мой Тулон!»
Глава вторая
Три командарма и ординарец Шестериков
1
Что же мог думать о Ставке третий – ординарец, сидевший за спиной генерала? Какой он ее себе представлял – скуластый крепышок с лычками младшего сержанта, с замкнутым лицом, жестко обтянутым задубевшей кожей, со складкой на лбу, отражавшей сосредоточенность на невеселой мысли? А ничего он про эту Ставку не думал, не занимало его, где она там расположилась – в кремлевской ли башне, в глубоком ли бункере, и какие там стены и потолки; да хоть золотые, хоть и хрустальные; ему, Шестерикову, она хорошего не обещала, она была лишь тем местом, где генерала будут изводить дурацкими расспросами, издеваться над ним и насмехаться – ни за что ни про что. Заведомо все неприятности, готовые пасть на эту седеющую и лысеющую голову, казались Шестерикову несправедливыми, и он единственный мог бы заплакать от жалости к генералу, он и взаправду, хоть и без видимых слез, оплакивал его судьбу, а заодно и свою собственную.
Скорчась в тесном углу «виллиса», он держал на коленях вещмешок и противогазную сумку, набитые разными твердыми вещами, на ухабах его швыряло и колотило, но все было ничто в сравнении с тем сознанием, что лучшее в его жизни – кончилось; то, что делало ее осмысленной и стоящей страданий, – теперь уж невозвратимо.
И, как перебираем мы в памяти первую любовь, давно отлетевшую от нас, – день за днем, все ближе к сладостному ее началу, – так угрюмый Шестериков приближался к тому морозному дню под Москвой, когда их пути с генералом пересеклись. Удивительное то было пересечение! Кто бы это мог так распорядиться, расставить вехи, чтобы ни он, Шестериков, ни генерал не опоздали ко встрече, и еще столько потом сплести событий, чтоб не показалась им эта встреча случайной? Как-то в душевную минуту, за водочкой, он даже высказал генералу свое удивление по этому поводу, и вот что ответил генерал: «А знаешь, Шестериков, оно иначе и быть не могло. Три генерала, три командарма в твоей судьбе поучаствовали». Ну, двоих-то из них Шестериков так и не увидел, а лишь своего командующего, Кобрисова, когда тот вышел в зверский мороз на крылечко избы, а Шестериков как раз и проходил мимо того крылечка, с котелком щей и с кашей в крышечке – для старшины своей роты.
За три дня до того батальон, в котором воевал Шестериков и где их осталось человек сорок, был причислен к армии, стоявшей на Московском полукольце обороны, – рассчитывали повидать столицу, за которую, может, и погибнуть предстояло, хоть отдохнуть в ней, отдышаться, да вот не вышло – и как хорошо, что не вышло! И мог бы старшина роты сам за своим обедом сходить, но прихворнул чего-то, лежал в избе под кожушком, глядя в потолок, – и хорошо, что захворал! Мог бы он кого другого послать на кухню, но Шестериков перед ним провинился, ответил грубо, и это ему вышло как наряд вне очереди, – и, господи, как хорошо, что провинился! Ну, наконец, и генерал мог бы не выйти тогда на крылечко – в бекеше и в бурках, с маузером на ремне через плечо, готовый к дальнему пешему пути, – а вот это, пожалуй, и не мог бы, потому что был приглашен на коньяк, и не на какой-нибудь – на французский.
Он еще и не обосновался в той избе, и комната его пуста была, из хозяевых вещей оставили один топчан, все вынесли, а письменный стол из штаба еще не привезли, и связисты устанавливали телефон прямо на полу – от них-то Шестериков и вызнал потом все подробности.
Только подключили аппарат – заверещал зуммер, и генералу подали трубку. Телефонисты, проверяя качество связи, слушали по другой трубке, отводной.
– Рад тебя слышать, Свиридов, – сказал генерал. Звонил ему командир дивизии, полковник, с которым отступали полгода, от самой границы. – Опережаешь начальство, в принципе я тебе должен первым звонить[8]. Как ты там? Больше всех ты меня беспокоишь.
Свиридов спросил, с чего это он больше других беспокоит.
– Как же, ты у меня крайний. Локтевой связи справа у тебя же нет ни с кем.
Свиридов подтвердил, что какая уж там локтевая связь, правый сосед у него – чистое поле.
– Должна еще бригада прибыть, – сказал генерал. – Из Москвы, свеженькая. Вот справа ее и поставишь, я ее тебе отдаю.
Свиридов поблагодарил, но намекнул, что лучше бы дарить, что имеешь, а не то, что обещано.
– Рад бы, да сам пока обещаниями сыт, – сказал генерал. – Ну докладывай. Может, чем утешишь…
Свиридов его утешил, что к нему на участок обороны прибыло пополнение – два батальона ополченцев из Москвы: артисты, профессора, писатели – одним словом, интеллигенция, очкарики, сплошь пожилые, одышливые, плоскостопных много, – а вооружил их Осоавиахим учебными винтовками, с просверленными казенниками, со спиленными бойками, выстрелить – при испепеляющей ненависти к врагу и то мудрено, только врукопашную. Еще у них по две гранаты есть, сейчас как раз обучают бросать – пусть не далеко, но хоть не под ноги себе. Знакомят некоторых, кто посмышленей, с минометом – мину они опускают в ствол стабилизатором кверху, но, слава богу, забывают при этом отвинтить колпачок взрывателя.
– Ясно, – сказал генерал со вздохом. – Но настроение, конечно, боевое?
Свиридов подтвердил, что прямо-таки жаждут боя. Ни шагу назад, говорят, не ступят, позади Москва.
– Ясно, – сказал генерал. – Пороху, значит, совсем не нюхали. Но это же еще не все, Свиридов, должен же быть заградотряд.
Верно, Свиридов подтвердил, заградительный не задержался, прибыл батальон НКВД, да только он расположился во второй линии, за спиной у ополченцев, так что фронт растянуть не удается.
– А в первую линию ты их не приглашал?
– Как же, – сказал Свиридов, – ходил к ним, предлагал участок. Комбат отказался наотрез: «У нас другая задача».
– А ты ополченцев обрадовал, что бежать им некуда?
Да, Свиридов их обрадовал.
– И как отнеслись?
– Обиделись даже. А мы, говорят, бежать не собираемся.
– Правильно, – сказал генерал. – Назад не побегут. Что у них за спиной не одна Москва, а еще заградотряд имеется, это они не забудут. Поэтому, как немец напрет, они в стороны расползутся. И придется тогда уж заградотряду принять удар. Все хорошо складывается, Свиридов. Рассматривай этих энкавэдистов как свой резерв. Им тоже бежать некуда. В случае чего они друг дружку перестреляют.
Свиридов помолчал и спросил:
– Не приедете поглядеть, как мы тут стоим?
– Да что ж глядеть… Хорошо стоите. Не сомневаюсь, ты все возможное сделал.
– Тем более, – продолжал Свиридов голосом вкрадчивым, – есть одно привходящее обстоятельство. В красивой упаковке. Из провинции Cognac. Парле ву франсе?
– Что ты говоришь! – Генерал сразу взвеселился. – Ах проказник!.. Где ж добыл?
– Противник оставил. В Перемерках.
– Постой, ты что? Ты его из Перемерок выбил? Что ж не похвастался, скромник? Ай-яй-яй!
Но кроме «ай-яй-яй», упреков Свиридову не было. Оба же понимали, что лучше не спешить докладывать. Ведь это, глядишь, и до Верховного дойдет – а ну как эти чертовы Перемерки отдать придется? С тебя же, кто их брал, голову свинтят.
Генерал положил трубку на пол, походил по горнице, бросил рядом с телефоном развернутую карту и, глядя в нее, опять трубку взял:
– Свиридов, тут их двое, Перемерок – Малые и Большие. Ты в каких?
– В Больших, Фотий Иванович, в главных. Малые пока у него.
– Ты это… не финти, ты мне скажи четко: выбил ты его или он сам ушел? Я тебя так и так к награде представлю, только по правде.
– Да как сказать? Желания у него особого не было за них держаться. Ну, и я со своей стороны помог. Во всяком случае – коньяк он забыл. Аж четыре ящика, представляете?
Генерал опять положил трубку, успокоился и снова взял:
– Знаешь, Свиридов… Пожалуй, мне твоя оборона нравится. Хорошего мало, а нравится. А может, он это… отравленный?
– На пленных испытали.
– Так ты и пленных взял? Ну и как?
– Согрелись. Дают показания.
Генерал поглядел в карту совсем уже веселыми глазами, уже как бы отведав того «привходящего обстоятельства»:
– Слушай, а ты сам-то где сидишь?
– Да в Перемерках же. От вас километров шесть. Могу лошадей выслать.
– Все не приучишься «кони» говорить, Свиридов. Кони и у меня есть, только они с утра снаряды возили, пристали кони. Ведь не люди они – устают…
– Так все-таки ждать вас? Опять же, День Конституции страна отмечает…
– Разболтались мы с тобой, Свиридов, – сказал генерал построжавшим голосом. – День Конституции выдаем. А враг подслушивает. У тебя все? До свиданья.
Генерал, заложив руки за спину, походил взад-вперед по горнице, погуживая себе под нос свое любимое: «Мы ушли от пр-роклятой погони, пер-рестань, моя радость, др-ро-жать!..», и стал против красного угла, разглядывая иконы.
– Это сей же час уберем, – поспешил к нему ординарец. – Это живенько!
– Зачем? – удивился генерал. – Чем они мешают?
– Мешают думать командующему, – тот ему отвечал молодецки, с восторгом в голосе. – Мысли отвлекают в ненужное направление.
Ординарец этот был, что называется, деланый дурак, то есть не от природы глупый, а для своего же удовольствия. Не рохля, а вполне даже расторопный, но говорил часто невпопад и еще очень этим гордился. Особо раздражало генерала, что он вместо «Слушаюсь» усвоил отвечать: «С большим нашим пониманием!» – и никак его было не отучить. Ответил и на сей раз, когда генерал велел ничего в красном углу не трогать, оставить как есть.
Уже закипая, поджав губы недовольно, генерал разглядывал темные лики – Спасителя, великомученицы Варвары, Николы Чудотворца, – подержал палец над лампадкой, потрогал черное потресканное дерево киота:
– Вот это – как называется?
– Это? – Ординарец не понял еще, что осердил генерала, и отвечал так же молодецки, с восторгом: – А это, Фоть Иваныч, никак не называется!
– Вот те раз! – даже ошеломился генерал. – Мастер их делал – может, три тыщи за свою жизнь, – и это у него никак не называлось?
– Ящичек – и все.
– Тьфу! – сказал генерал. – Подай мне бекешу. А шинель свою – оставь дома. И чтоб к моему приходу знал бы точно, как этот ящичек называется.
И ординарец, все понявши, только ему и ответил «большим нашим пониманием». Более генерал ничего от него не услышал и самого его не увидел никогда.
Настала минута Шестерикова вступить в сектор генеральского наблюдения – с котелком и с крышечкой.
– Боец, подойдите, – услышал он голос с высокого крыльца, недовольный и обиженный, но это не к Шестерикову относилось, а к морозу, какого начальство, угревшееся в избе, не ожидало, – так уже должно было на кого-нибудь обидеться. Незнакомый грозный человек стоял, поеживаясь, подергивая плечами, картинно при этом расставив ноги в бурках и утвердив руку на кобуре маузера.
– Слушаюсь, товарищ командующий! – Шестериков подошел резво и доложился по форме, чему котелок и крышечка не помешали. Всю остальную жизнь он изумлялся, каким это чутьем признал он под бекешей без петлиц не просто генерала, а – командующего, и объяснения не находил. Разве что маузер в деревянной кобуре его надоумил, какой он видал в кино у революционных братишек и комиссаров.
– Будете меня сопровождать, – объявил генерал, оглядывая серое небо. – Автомат у вас полный? Пару бы дисочков иметь в запас…
Сердце Шестерикова стронулось и сладко покатилось куда-то. Все же он возразил, что связан приказанием – отнести обед захворавшему старшине. Генерал поморщился, но внял, согласно кивнул. И произнес волшебные слова:
– Валяйте. Я подожду.
С этими словами река судьбы генерала и малая речка Шестерикова начали сливаться в одно.
– Я по-быстрому, – обещал он генералу не совсем по уставу и, зачем-то ему показав котелок, метнулся исполнять это самое «валяйте».
– А сам-то пообедал? – спросил генерал вдогонку. И, отсылая дальше рукою, себе же ответил: – Хотя ладно, там нас накормят.
С крупного шага история перешла на рысь. Но не таков был Шестериков, чтоб еще пехаться до этого старшины, будь он неладен со своей хворобой, однако и вылить обед на снег он тоже не мог. Заскочив за угол, в проулок, он малость отхлебал из котелка через край, ссыпал в рот горсточки три каши, отломил полгорбушки хлеба и положил за пазуху, чтоб не обмерзла. Там еще когда накормят, успокоил он шевеление совести, а пока дела серьезные предстоят, не под кожушком лежать, считать тараканов на потолке. На его счастье, двое дружков из своей же роты топали по проулку, сопровождая местную деву и стараясь наперебой, с обеих сторон, ее насмешить. Шестериков напал на них диким коршуном и с ходу распатронил, отобрал два тяжелых диска, а взамен отдал свой неполный, заодно и обед им вручил – с приказанием от имени командующего доставить срочно. Спустя лишь минуту предстал он снова пред генералом – и в самое время успел: в заиндевевшем окошке углядел он продышанный уголок, а в нем чей-то обиженный и завидущий глаз – поди, ординарца, на которого генерал за что-то прогневался. И еще подумалось, что не к добру этот глаз окошко сверлит, – хотя и не верил Шестериков ни в понедельник, ни в число тринадцатое, ни в черного кота, но верил в порчу и сглаз.
– Уже? – спросил генерал и поглядел с одобрением на Шестерикова, готового к черту в зубы идти. – Ну, потопали.
И так-то они – хрум-хрум – начали свой путь по снежку: генерал – впереди, при каждом шаге отбрасывая маузер бедром, Шестериков – приотстав шагов на восемь. За околицей набросился на них степной ветер, стало уныло и даже страшновато, но генерал шага не убавлял, что-то его изнутри грело и двигало вперед.
Сперва шли по проводу, от шеста к шесту, потом кончилась шестовка, провод ушел под снег. Однако ж тропинка, пробитая связистами и всякими посыльными, ясно виднелась – со склона в низинку и опять на бугор, так что – хрум да хрум – шли уверенно, и солнышко хоть и туманное, а бодрило, а леса поодаль хоть и черные, а не страшили неизвестностью. Поле и поле, Шестерикову было не привыкать. Да все ничего, только вскорости, едва версту отмахали, мороз начал под шинелькой продирать насквозь, сил не стало терпеть, не хлопать рукавицами по груди, по плечам. И сперва Шестериков стеснялся при генерале, но, видно, и тому мороз не нравился, то и дело он руки в перчатках прижимал к ушам, и этими-то моментами Шестериков и пользовался, а то терпел.
– Не там хлопаешь! – закричал ему генерал. Все же, значит, услышал. – Там тебя молодость греет. Ногами, ногами тупоти. Тут главное – не упустить.
Шестериков и не упускал, но в ногах-то еще терпимо было, а вот душа заледенела.
– Большевистскую родную печать использовал? – спрашивал генерал, оборачиваясь с веселостью и некоторое время идя спиной вперед. – Газетку поверх портянок не намотал? А зря.
Так наставление советовало: читаное еще раз использовать – против обморожений, но Шестериков в эти чудеса не верил, печать он пускал на курево и по другому делу, а больше доверял шерстяному платку, который ему жена прислала – разодрать на портянки.
Генерал про платок выслушал и развел руками:
– Все гениальное – просто. Кто это сказал?.. И я тоже не знаю.
Потом он придержал шаг немного, чтоб Шестериков его нагнал.
– Ты в бильярд не играешь? Учти, кто в бильярд играет – на местности лучше ориентируется. Вот как ты думаешь, километра четыре прошли уже?
По Шестерикову, так и все десять отхрумкали, а в бильярд он не играл сроду, потому, наверно, и вовсе не ориентировался.
– Ничего, потерпи, – утешил генерал. – Еще полстолька пройти, и встретят нас в Больших Перемерках. Французский коньяк пил когда-нибудь? Попьешь!
Генерал, видать, всю карту держал в голове, шагал без задержки, на развилке решительным образом вправо шагнул, хотя, отчего-то показалось Шестерикову, так же решительно можно бы было и влево. Но, пожалуй, это уже потом он себе приписал такое предчувствие, а на самом деле во весь их путь ни разу не догадался, что история уже притормозила свой бег, плетется шагом, а зато круто набирала ход – география.
Они с генералом шли в Большие Перемерки – и правильно шли, а идти-то им нужно было – в Малые. Свиридову, который по величине судил и с картою второпях не сверялся, в голову не пришло, что тут, как часто оно на Руси бывает, все обстояло наоборот. Малые Перемерки, возникшие после Больших, то есть настоящих, первых, и считавшиеся как бы пониже чином, понемногу раздобрели вокруг фабрички валяной обуви и давно уже переросли Большие, да названия уже не менялись; местные и так различали, а на приезжих было наплевать, и их это тоже не тяготило. Ну и то правда, названия селам сменить – это же сколько вывесок надо перемалевать, да всяких бланков перепечатать, да и надписи переписать на тех ящиках, в которых малоперемеркинские валенки ехали во все концы отечества. Опять же, глядишь, захудалые Большие, в свой черед, подтянутся, стекольный заводик отгрохают – и Малым, в Большие переименованным, опять догонять? А совсем другое название – откуда взять? Еще и похуже выйдет – в Стеклозаводе каком-нибудь жить. Вот разве одни, предположим, Ждановском назвать, а другие Шкирятовом или Кагановичами, так ведь на все населенные пункты дорогих вождей не хватит…
Уже сумерки начали сгущаться, когда они с генералом дохрумкали наконец и на задах этих Перемерок увидели встречных. Человечков тридцать высыпало. Но как-то не торопились подскочить, доложиться. Генералу это понравиться не могло, он им еще издали, шагов за полста, приказал сердито:
– Полковника Свиридова ко мне!
А встречные и тогда не зачесались. Переглянулись и отвечали со смехом:
– Карашо, Ванья! Давай-давай!
Генерал стал столбом и скомандовал Шестерикову:
– Ложись!
И только Шестериков упал, у одного из тех встречных быстро-быстро запыхало в руках впереди живота, и долетел сухой треск – будто жареное лопалось на плите. Генерал, свою же команду выполняя с запозданием, повалился всей тушей вперед. Не помнил Шестериков, как оказался рядом с ним и о чем в первый миг подумал, но никогда забыть не мог, как, нашаривая в снегу слетевшую рукавицу, вляпался в липкое и горячее, вытекающее из-под генеральского бока.
– Товарищ командующий, – позвал он жалобно. – А товарищ командующий?
Генерал только хрипел и кашлял, вжимаясь лицом в сугроб.
– Вот и бильярд! – сказал Шестериков, отирая ладонь о льдистый снег. – Ах беда какая!..
Но какая случилась беда, он все же не осознал еще. В голове его так сложилось, что это свои обознались спьяну или созорничали, придравшись, что им не сказали пароля. Таких дуболомов он повидал в отступлении – страшное дело, когда им оружие попадет в руки. И в ярости, чтоб их проучить, заставить самих поваляться на снегу, он выбросил автомат перед собою и чесанул по ним длинной очередью – над самыми головами. Дуболомы зале�
