Правдивая история
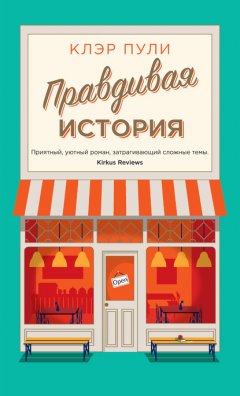
Clare Pooley
THE AUTHENTICITY PROJECT
Copyright © Quilson Ltd., 2020
Endpapers illustrations © Nathan Burton
This edition published by arrangement with Madeleine Milburn Ltd and The Van Lear Agency LLC
All rights reserved
Перевод с английского Ирины Иванченко
Оформление обложки Виктории Манацковой
Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».
© И. В. Иванченко, перевод, 2020
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2020
Издательство Иностранка®
Моему отцу Питеру Пули,
научившему меня любить слова
Звони в колокола – те, что еще звонят,
Забудь о приношении напрасном.
Но хочешь этого иль нет,
Сквозь трещинку проникнет свет.
Леонард Коэн
Моника
Она пыталась вернуть тетрадь. Едва обнаружив, что тетрадь забыли, она схватила ее и бросилась за необычным владельцем. Но мужчина уже ушел. Он двигался удивительно быстро для человека столь преклонного возраста. Возможно, он действительно не хотел, чтобы его нашли.
Это была обыкновенная школьная тетрадь в бледно-зеленой обложке, похожая на те, что Моника брала с собой в школу и где прилежно записывала домашние задания. Ее подруги разрисовывали обложки тетрадей сердечками, цветами и именами своих последних увлечений, но Моника не была настолько глупа. Она слишком уважала добротные канцелярские принадлежности.
На обложке тетради красивым каллиграфическим почерком выведены слова:
В нижнем углу более мелкими буквами поставлена дата: «Октябрь 2018». Может быть, подумала Моника, в тетради есть адрес или хотя бы фамилия, и тогда она сможет вернуть ее. Несмотря на всю непритязательность, тетрадь несла на себе отпечаток какой-то значимости.
Моника открыла тетрадь. На первой странице было лишь несколько абзацев:
Насколько хорошо вы знаете живущих рядом с вами людей? Насколько хорошо они знают вас? Вы хотя бы знаете имена соседей? Вы поймете, если они окажутся в беде или много дней не будут выходить из дому?
Каждый лжет о своей жизни. Что произойдет, если вместо этого говорить правду? Единственное, что отличает вас, что позволяет поставить все на свои места? Не в Интернете, а с живыми людьми вокруг вас?
Возможно, ничего не произойдет. Или может быть, рассказанная история изменит вашу жизнь или жизнь пока незнакомых вам людей.
Именно это я и собираюсь выяснить.
На следующей странице было написано что-то еще, и Монике не терпелось прочитать, но в кафе как раз была запарка, и она знала, что нельзя выбиваться из графика. Хлопотная работа. Она сунула тетрадь на полку рядом с кассой, где лежали меню и флаеры от разных поставщиков. Прочтет позже, когда сможет нормально сосредоточиться.
Моника растянулась на диване у себя в квартире над кафе, держа в одной руке большой бокал «Совиньон блан», а в другой – найденную тетрадку. Монику изводили вопросы, которые она прочла утром, они требовали ответов. Весь день она провела, общаясь с посетителями, подавая им кофе с пирожными, болтая о погоде и обмениваясь последними сплетнями о знаменитостях. Но когда она рассказывала кому-нибудь о себе что-то действительно важное? И что она на самом деле знает о них, помимо того что один любит кофе с молоком, а другой – чай с сахаром? Моника открыла тетрадь на второй странице:
Меня зовут Джулиан Джессоп. Мне семьдесят девять лет, и я художник. Последние пятьдесят семь лет я живу в апартаментах «Челси стьюдиос» на Фулхэм-роуд.
Это основные факты, но правда заключается вот в чем: Я ОДИНОК.
Частенько я целыми днями ни с кем не разговариваю. По временам, когда мне все-таки приходится говорить – например, мне позвонили по поводу страхования платежей, – я начинаю издавать какие-то каркающие звуки, ибо голос у меня почти пропал.
Возраст превратил меня в невидимку. Для меня это особенно трудно, потому что прежде на меня всегда смотрели. Все знали, кто я такой. Мне не было нужды представляться. Стою, бывало, в проеме двери, а мое имя шепотом передают по цепочке через всю комнату, и я ловлю на себе взгляды, брошенные украдкой.
Порой я задерживался у зеркал и медленно проходил перед витринами магазинов, разглядывая свой силуэт и волнистые волосы. Теперь, натыкаясь на свое отражение, я едва себя узнаю. По иронии судьбы Мэри, которая безропотно приняла бы неизбежность старения, умерла относительно молодой, в шестьдесят, а я вот все еще здесь – вижу, как постепенно рассыпаюсь на части.
Будучи художником, я наблюдал за людьми. Я анализировал их взаимоотношения, замечая, что всегда существует равновесие сил. Один партнер более любим, другой – более любящий. Я предпочитал быть любимым. Теперь я понимаю, что воспринимал присутствие Мэри как нечто само собой разумеющееся – с ее неброской миловидностью, розовыми щечками и неизменной заботливостью и надежностью. Я научился ценить ее только после того, как ее не стало.
Моника прервалась, чтобы перевернуть страницу и отхлебнуть вина. Пожалуй, Джулиан ей не очень нравился, хотя и было его жаль. Она догадывалась, что жалости он предпочел бы неприязнь. Моника продолжила читать:
Когда здесь жила Мэри, в нашем небольшом коттедже всегда было полно народу. Повсюду сновали местные ребятишки, и Мэри угощала их историями, советами, а также шипучкой и чипсами «Монстр манч». Мои менее успешные друзья-художники постоянно без приглашения являлись на обед вместе со своими новыми моделями. Мэри искусно разыгрывала из себя гостеприимную хозяйку, и, наверное, только я замечал, что этим женщинам никогда не предлагали к кофе шоколадных конфет.
Мы всегда были чем-то заняты. Наша светская жизнь вращалась вокруг Арт-клуба Челси, бистро и бутиков Кингс-роуд и Слоун-сквер. Мэри много часов проводила на работе – она была акушеркой, а я колесил по стране и писал портреты людей, посчитавших себя достойными быть запечатленными для потомков.
Каждую пятницу вечером, начиная с конца шестидесятых, мы приходили к пяти часам на расположенное поблизости Бромптонское кладбище, бывшее удобным местом встречи для всех наших друзей, поскольку четыре его угла соединяли между собой Фулхэм, Челси, Южный Кенсингтон и Эрлс-Корт. Бывало, мы планировали свои выходные на могиле адмирала Ангуса Уайтуотера. Мы не знали этого Адмирала, просто случилось так, что над местом его последнего упокоения лежала внушительная плита из черного мрамора, являвшая собой превосходный стол для выпивки.
Во многих отношениях я умер вместе с Мэри. Я перестал отвечать на телефонные звонки и письма. Я дал краскам засохнуть на палитре и однажды, одной невыносимо долгой ночью, уничтожил все свои неоконченные полотна – разорвал их на многоцветные узкие ленты, а потом накрошил из них конфетти портновскими ножницами Мэри. Когда примерно пять лет спустя я наконец-то вылез из своего кокона, соседи переехали, друзья от меня отказались, мой агент списал меня со счетов, и тогда я понял, что стал незаметным. Со мной произошла обратная метаморфоза из бабочки в гусеницу.
Каждую пятницу я по-прежнему поднимаю рюмку «Бейлиса», любимого ликера Мэри, на могиле Адмирала, но теперь это только я и призраки прошлого.
Такова моя история. Пожалуйста, не стесняйтесь выбросить ее в мусорное ведро. Или, может быть, вы решитесь рассказать на этих страницах собственную правдивую историю и передать дальше мою тетрадку. Может быть, для вас, как и для меня, это станет катарсисом.
То, что произойдет дальше, зависит от вас.
Моника
Конечно же, она погуглила его в «Википедии». Джулиана Джессопа описывали как художника-портретиста, оказавшегося на пике известности в шестидесятые и семидесятые. Он был учеником Люсьена Фрейда в Школе изобразительного искусства Слейда. Оба они, если верить слухам, на протяжении многих лет обменивались взаимными оскорблениями (и, как следствие, женщинами). У Люсьена было преимущество его великой славы, зато Джулиан был на семнадцать лет моложе. Моника размышляла о Мэри, которая приходила домой, измученная после долгой смены, когда она принимала роды, и не знала даже, куда подевался ее муж. Монике она казалась немного «тряпкой». Почему она просто не бросила мужа? Моника часто напоминала себе, что есть вещи похуже одиночества.
Один из автопортретов Джулиана некоторое время висел в Национальной портретной галерее, на выставке «Лондонская школа Люсьена Фрейда». Моника кликнула на картинку, чтобы увеличить ее, и вот он – мужчина, которого она видела у себя в кафе вчера утром, весь разглаженный, словно изюмина, вновь превратившаяся в виноградину. Джулиан Джессоп, лет тридцати от роду, с зачесанными назад белокурыми волосами, выступающими скулами, чуть насмешливым ртом и пронзительными голубыми глазами. Когда он вчера взглянул на Монику, ей показалось, он заглядывает ей прямо в душу. Немного сбивает с толку, когда пытаешься объяснить клиенту преимущества черничного кекса перед «печеньем миллионера».
Моника взглянула на часы: 16:50.
– Бенджи, можешь с полчасика или типа того присмотреть за кафе?
Не дожидаясь его ответного кивка, она накинула на себя куртку. Проходя через зал, Моника оглядела столы и остановилась, чтобы подобрать со стола № 12 остатки шоколадного торта. Как это они проглядели? Выйдя на Фулхэм-роуд, она бросила кусочек голубю.
Она редко поднималась на верхнюю площадку автобуса и гордилась своей приверженностью правилам здорового образа жизни и безопасности, а взбираться по лесенке движущегося транспортного средства казалось ей неоправданным риском. Но в данном случае ей нужен был хороший обзор.
Моника следила, как голубая точка на гугл-карте медленно перемещается по Фулхэм-роуд в сторону «Челси стьюдиос». Автобус остановился у «Фулхэм-Бродвей», потом покатил дальше, к стадиону «Стэмфорд-Бридж». Впереди маячила современная махина здания футбольного клуба «Челси», и там, в ее тени, немыслимым образом стиснутый между двумя отдельными входами для своих и приезжих фанатов, располагался аккуратный квартальчик апартаментов и коттеджей – за неприметной стеной, мимо которой Моника, вероятно, проходила сотни раз.
В кои-то веки радуясь медленному движению транспорта, Моника попыталась угадать, какой из домов – Джулиана. Один стоял немного на отшибе и выглядел чуть более потрепанным, чем остальные, как и сам Джулиан. Она поспорила бы на свою дневную выручку, а это с учетом ее финансовых возможностей было не так уж мало, что это его дом.
На следующей остановке Моника спрыгнула с подножки автобуса и почти сразу повернула налево, к Бромптонскому кладбищу. День клонился к вечеру, тени удлинялись, и в воздухе чувствовалась осенняя прохлада. Это кладбище было одним из излюбленных мест Моники – вневременной оазис покоя в большом городе. Ей нравились богато украшенные надгробия – последняя демонстрация превосходства над другими. Я увижу твою мраморную плиту с причудливым библейским изречением и подниму тебя на крест, как настоящего Иисуса. Ей нравились каменные ангелы, у многих из которых теперь отсутствовали жизненно важные части тела, а также старомодные имена на викторианских надгробиях: Этель, Милдред, Алан. Когда мальчиков перестали называть именем Алан? Кстати, а называют ли сейчас девочек Мониками? Даже тогда, в 1981-м, ее родители отличались от других тем, что отвергали такие имена, как Эмили, Софи и Оливия. Моника – вымирающее имя. Она представила себе заголовок на киноэкране: «Последняя из Моник».
Торопливо проходя мимо могил павших солдат и русских белоэмигрантов, Моника чувствовала, что где-то прячутся обитатели дикой природы: серые белки, городские лисы и черные во́роны, охраняющие могилы, подобно душам умерших.
Где же Адмирал? Моника свернула налево, высматривая старика с зажатой в руке бутылкой ликера «Бейлис». Она сама не понимала зачем. Ей не хотелось разговаривать с Джулианом, по крайней мере сейчас. Она догадывалась, что, обратившись к нему напрямую, она наверняка смутит его. Не хотелось с самого начала произвести неблагоприятное впечатление.
Моника направилась в северную часть кладбища, на миг задержавшись, как и всегда, у могилы Эммелин Панкхёрст и молчаливо возблагодарив ее. Обогнув пригорок, Моника пошла по пустынной дорожке к выходу с другой стороны, когда заметила справа какое-то движение. Там, на мраморной могильной плите, со стаканом в руке сидел Джулиан, и в этом было нечто кощунственное.
Моника прошла мимо, опустив голову, чтобы не встретиться с ним взглядом. Потом, минут через десять, он ушел, она вернулась назад, чтобы прочитать надпись на надгробии.
АДМИРАЛ АНГУС УАЙТУОТЕРС ПОНТ-СТРИТСкончался 5 июня 1963 г. в возрасте 74 лет.Уважаемый командир, любимый мужи отец и верный друг
БЕАТРИС УАЙТУОТЕРСкончалась 7 августа 1964 г. в возрасте 69 лет
Монику возмутило, что за именем Адмирала следовало несколько хвалебных слов, в то время как его жена удостоилась лишь даты смерти и пространства для вечности под могильной плитой мужа.
Окутанная тишиной кладбища, Моника немного постояла. Она представила себе группу красивых молодых людей и девушек со стрижками, как у Битлз, в мини-юбках и расклешенных брюках, которые спорили и подшучивали друг над другом, и ей вдруг стало одиноко.
Джулиан
Джулиан носил свое одиночество и неприкаянность, как тесноватые башмаки. Он к ним привык, во многих отношениях они стали для него удобными, но со временем начали раздражать, вызывая появление мозолей и наростов, от которых было не избавиться.
Было десять часов утра, и Джулиан шел по Фулхэм-роуд. Лет пять после кончины Мэри он частенько вообще не вылезал из постели, и день плавно перетекал в ночь, неделя шла за неделей. Потом Джулиан обнаружил, что определенный режим очень важен, что он расставляет буйки, за которые можно ухватиться, чтобы остаться на плаву. По утрам в одно и то же время он выходил и примерно час прогуливался по окрестным улицам, по пути покупая необходимые продукты. В тот день в его список входили:
яйца,
молоко (одна пинта),
по возможности, «Энджел дилайт» со вкусом карамели.
Надо сказать, Джулиану не всегда удавалось найти этот десерт. К тому же была суббота, и он намеревался купить журнал мод. На этой неделе подошла очередь «Вог». Его любимого журнала.
Иногда, если продавец в газетном киоске бывал не слишком занят, они обсуждали последние новости или погоду. В такие дни Джулиан ощущал себя почти полноправным членом общества со своими знакомыми, знавшими его по имени, и своим мнением, с которым считались. Однажды он даже записался на прием к зубному врачу – просто для того, чтобы с кем-то убить часть дня. Но, проведя все это время с открытым ртом, лишенный возможности поговорить с мистером Пателем, который бог знает что вытворял с ним с помощью набора металлических инструментов и трубки, издававшей жуткие сосущие звуки, Джулиан понял, что эта идея была не слишком умной. Он ушел от врача, но в ушах у него продолжали звенеть назидательные слова о гигиене рта, и он решил как можно дольше не возвращаться туда. Если он потеряет зубы, то так тому и быть. Он уже потерял все остальное.
Джулиан остановился, чтобы заглянуть в окна кафе «У Моники», уже заполненного посетителями. Он ходил по этой улице столько лет, что мог мысленно представить себе различные реинкарнации этого кафе – подобно тому как при косметическом ремонте комнаты снимаются слои старых обоев. В шестидесятые здесь располагался магазин по продаже угрей и пирогов, но потом угри впали в немилость, и открылся магазин пластинок. В восьмидесятые тут был прокат видео, а затем – кондитерская, закрывшаяся несколько лет назад. Угри, виниловые пластинки и видеокассеты – все отправилось на свалку истории. Даже сласти теперь демонизируются, их обвиняют в том, что дети постоянно толстеют. Наверняка не сласти в этом виноваты, а сами дети или их матери.
Определенно он выбрал правильное место для «Правдивой истории». Джулиану нравилось, что, когда он заказывал чай с молоком, ему не задавали разные замысловатые вопросы по поводу желаемого сорта чайного листа или сорта молока. Чай приносили в приличной фарфоровой чашке, и никто не спрашивал его имени. Джулиан привык подписывать свое имя в нижней части холста. Вряд ли уместно было бы нацарапать свое имя на кружке навынос, как это делают в «Старбаксе». При мысли об этом он поморщился.
Он уселся в мягкое обшарпанное кожаное кресло, стоявшее в дальнем углу кафе Моники, увешанном книжными полками, которые она называла Библиотекой. В мире, где царила электроника и бумага как носитель информации быстро исчезала, Джулиан нашел Библиотеку. В этом месте запах старых книг смешивался с ароматом только что смолотого кофе, вызывая ностальгические чувства.
Интересно, думал Джулиан, что стало с тетрадью, которую он здесь оставил? Он не мог отделаться от ощущения, что сам постепенно исчезает без следа. Однажды, в не столь отдаленном будущем, его голова наконец скроется под водой, оставив едва заметную рябь. Благодаря этой тетради по крайней мере один человек увидит его в истинном свете. Изливать душу было облегчением, словно он ослабил шнурки неудобных башмаков и ногам стало свободней.
Он пошел дальше.
Хазард
Был поздний вечер понедельника, однако Тимоти Хазард[1] Форд, известный всем как Хазард, не спешил домой. Он по опыту знал, что единственный способ избежать отходняка после выходных – не останавливаться. Он принимался отодвигать начало недели все дальше и дальше назад, а уик-энд двигал вперед, пока они почти не встречались посредине. Ближе к среде ненадолго накатывала интерлюдия ужаса, а потом он начинал сначала.
В тот вечер Хазарду не удалось уговорить ни одного из коллег пройтись по барам Сити, и вместо этого он вернулся в Фулхэм и зашел в местный винный бар. Выискивая знакомых среди редких посетителей, он приметил тонкую как тростинка блондинку, обвившую ногами высокий табурет и склонившуюся над стойкой бара. Она напоминала гибкую гламурную соломинку для коктейля. Хазард был почти уверен, что она ходит на фитнес вместе с девушкой его приятеля Джейка, но понятия не имел, как ее зовут. Однако она была в тот момент единственной, с кем можно выпить, и от этого становилась его лучшим другом.
Хазард подошел к ней с улыбкой, бывшей у него наготове для такого рода случаев. Какое-то шестое чувство заставило ее повернуться к нему, и она улыбнулась в ответ и помахала рукой. Бинго! Каждый раз срабатывало.
Как оказалось, ее звали Бланш. Дурацкое имя, подумал Хазард, можно было и догадаться. Он лениво взгромоздился на табурет рядом с ней, то и дело кивая с улыбкой, пока она знакомила его с друзьями, имена которых поднимались в воздух, как пузырьки, а потом лопались и исчезали без следа. Хазарда не интересовали их имена, а лишь их выносливость и, возможно, нравственность. Чем меньше, тем лучше.
Хазард легко включился в свой обычный регламент. Вынув из кармана пачку банкнот, он начал с помпой угощать присутствующих выпивкой, выполняя заказы от стакана до бутылки и от вина до шампанского. Он озвучил несколько из своих проверенных анекдотов. Затем постарался убедить новую компанию, что у них с ним есть общие знакомые, после чего обрушил на них шквал непристойных сплетен, возможно даже выдуманных.
Как это обычно бывало, компания сгрудилась вокруг Хазарда, но по мере перемещения стрелок больших вокзальных часов на стене за баром толпа постепенно редела. Они говорили: «Пора идти, еще только понедельник», или «Завтра важный день», или «Надо очухаться после выходных, знаешь, каково это». В конечном итоге остались только Хазард и Бланш, а было всего лишь девять вечера. Хазард почуял, что Бланш собирается уйти, и запаниковал:
– Эй, Бланш, еще рано. Почему бы тебе не заглянуть ко мне? – Он положил руку ей на плечо жестом, предполагавшим все остальное, но ничего не обещавшим.
– Конечно. Почему бы и нет? – откликнулась она, как он и ожидал.
Вращающаяся дверь бара вытолкнула их на улицу. Хазард обхватил Бланш рукой, и они перешли проезжую часть и двинулись по тротуару, не обращая внимания на то, что занимают всю его ширину.
Он заметил стоявшую на пути, наподобие дорожного заграждения, миниатюрную брюнетку, когда было уже слишком поздно. Он налетел на нее, не сразу разглядев у нее в руке бокал красного вина, которое теперь довольно комично стекало по ее лицу и, что более важно, разливалось кинжальной раной по его рубашке, купленной на Сэвил-роу.
– Ох, твою мать! – сердито глядя на преступницу, воскликнул он.
– Эй, это ты на меня налетел! – ответила она хриплым от негодования голосом.
На кончике ее носа, как нерешительный парашютист, висела капелька вина, но потом упала.
– Ну и что же ты делала посреди тротуара с бокалом вина? – прорычал он в ответ. – Нельзя, что ли, пить в баре, как все нормальные люди?
– Перестань! Пойдем уже, – сказала Бланш со смешком, действующим ему на нервы.
– Тупая сучка, – повернувшись к Бланш, вполголоса произнес Хазард, но так, чтобы упомянутая тупая сучка услышала.
Бланш снова захихикала.
Когда Хазарда разбудил резкий сигнал будильника, в голове у него возникло сразу несколько мыслей. Первая: «Я спал не более трех часов». Вторая: «Сегодня я чувствую себя даже хуже, чем вчера, и о чем я вообще думал?» И третья: «В моей постели лежит блондинка, с которой я больше не хочу иметь дела и чье имя я не в состоянии вспомнить».
К счастью, Хазард и раньше попадал в подобные ситуации. Он хлопнул по будильнику, а девушка продолжала спать с открытым, как у японской секс-куклы, ртом. Потом он осторожно снял со своей груди ее руку, повисшую, как дохлая рыба, и опустил ее на смятые, пропитанные потом простыни. Похоже, она оставила на его подушке изрядную часть своего лица: красную губную помаду, черную тушь для ресниц и тональный крем цвета слоновой кости, и он удивился, что у нее еще что-то сохранилось. Он выбрался из постели, морщась от боли, ему казалось, что мозг ударяется о череп, как бильярдный шар. Хазард подошел к комоду в углу комнаты, и там, как он и рассчитывал, лежал клочок бумаги с нацарапанными словами: «ЕЕ ЗОВУТ БЛАНШ». Боже, до чего же он умен!
Хазард быстро, стараясь не шуметь, принял душ и оделся, потом нашел чистый лист бумаги и написал записку:
Дорогая Бланш, во сне ты выглядела такой мирной и красивой, что было жалко тебя будить. Спасибо за прошлую ночь. Ты была потрясающей. Когда будешь уходить, не забудь плотно закрыть дверь. Позвони мне.
Была ли она потрясающей? Поскольку он фактически ничего не помнил примерно с десяти часов вечера, когда появился его дилер, – даже раньше, чем обычно случалось по понедельникам, – это вряд ли имело значение. Внизу он приписал номер своего сотового, но, чтобы им никак нельзя было воспользоваться, аккуратно поменял местами две цифры и оставил записку на подушке рядом с непрошеной гостьей. Он надеялся, что, вернувшись, не найдет даже ее следа.
Хазард дошел до станции метро на автопилоте. И хотя стоял октябрь, на нем были темные очки, защищавшие глаза от тусклого света нового дня. Дойдя до места вечернего столкновения, Хазард остановился. Он был почти уверен, что различил на тротуаре несколько пятнышек кроваво-красного вина, словно напоминание о потасовке. Перед ним всплыла непрошеная картина: на него злобно, с неподдельной ненавистью смотрит хорошенькая вздорная брюнетка. Женщины никогда так на него не смотрели. Хазарду не нравилось, когда его ненавидели.
Потом его вдруг кольнула мысль, содержащая в себе неприятную правду: он себя тоже ненавидит. Вплоть до мельчайшей молекулы, ничтожнейшего атома, самой микроскопической субатомной частицы.
Надо что-то менять. Фактически всё менять.
Моника
Моника всегда любила цифры. Ей нравились их логика, их предсказуемость. Она находила глубокое удовлетворение в решении уравнений с двумя неизвестными, x и y. Но сейчас цифры на бумаге перед ней не хотели слушаться. Сколько бы она ни складывала цифры в левом столбце (доход), они были не в состоянии покрыть сумму в правом (расходы).
Она вспоминала дни работы корпоративным юристом, когда складывание цифр было рутиной, никогда не лишавшей ее ночного сна. Она составляла контракты, печатая их мелким шрифтом, пролистывала бесконечные тома законов и выставляла клиенту счет в двести пятьдесят фунтов. Теперь для получения тех же денег ей нужно продать сто средних чашек капучино.
Зачем ей понадобилось с такой поспешностью предпринимать столь важное изменение в жизни, руководствуясь эмоциональными мотивами? Ей, кому для выбора начинки для сэндвича надо было мысленно рассмотреть все за и против, сравнить цены, питательные свойства и количество калорий?
Моника обследовала все кафе на пути между своей квартирой и офисом. Ей попадались в основном скучные, неопрятные и однотипные сетевые кафе. Каждый раз, переплачивая за посредственный кофе, она представляла себе свое идеальное кафе. Там не будет раскрашенного бетона, заплесневелого пластика, выступающих из стен труб или ламп и столов в индустриальном стиле, – скорее, вы почувствуете, что вас пригласили к кому-то домой. Там будут уютные, не сочетающиеся друг с другом кресла, эклектичные картины на стенах, газеты и книги. Книги повсюду – не просто для вида, но чтобы их можно было снять с полки, почитать и забрать с собой домой, коль скоро оставишь на месте одной другую. Бариста не станет спрашивать вашего имени, чтобы с ошибками написать его на вашей чашке. Он уже будет его знать. Он осведомится об имени ваших детей и вашей кошки.
Однажды, идя по Фулхэм-роуд, она заметила, что пропыленная старая кондитерская, испокон века бывшая там, наконец закрылась. На фасаде красовалась большая вывеска: «АРЕНДА».
Каждый раз, проходя здесь, Моника слышала голос своей матери. В те последние несколько недель, пропитанных запахом болезни и распада, перемежавшихся электронным писком медицинского оборудования, мать настойчиво пыталась, пока еще не поздно, передать дочери накопленную десятилетиями жизненную мудрость. Послушай меня, Моника. Запиши, Моника. Не забудь, Моника. Не для того Эммелин Панкхёрст надела на себя эти оковы, чтобы мы всю жизнь чувствовали себя маленькими винтиками большой машины. Будь сама себе начальником. Создавай что-то. Нанимай людей. Дерзай. Занимайся любимым делом. Сделай его значимым. И Моника вняла этому совету.
Моника сожалела, что не может назвать кафе в честь матери, ведь ее звали Чарити[2], а назвать кафе словом, не предполагавшим необходимость платить, едва ли было удачным деловым решением. Как оказалось, все было не так-то просто.
Кафе было ее мечтой, но это не означало, что ее мечту кто-то еще обязательно разделит с ней. Или, по крайней мере, таких было недостаточно, чтобы покрыть все расходы, а она не могла вечно восполнять недостачу – банк этого не допустил бы. Голова у нее шла кругом. Моника направилась к бару, чтобы налить себе в большой бокал остатки красного вина из бутылки.
Быть боссом – очень здорово, мысленно говорила она матери, и она всем сердцем любила свое кафе, но ощущала себя одинокой. Ей не хватало офисных сплетен около кулера с водой, компании коллег, собирающихся на вечерних рабочих совещаниях с пиццей на столе. Она даже ловила себя на том, что с нежностью вспоминает эти нелепые корпоративные вылазки на природу, офисный жаргон и малопонятные акронимы из трех букв. Монике нравилась ее команда в кафе, но между ней и ими всегда существовала некоторая дистанция, поскольку она отвечала за их жалованье, а в данный момент даже ее собственное жалованье ставилось под сомнение.
Она вспомнила о вопросах, которые задавал тот мужчина – Джулиан – в тетради, оставленной на этом самом столе. Она одобряла его выбор. Моника поневоле судила о людях по тому месту, которое они выбирали в ее кафе. Насколько хорошо вы знаете живущих рядом с вами людей? Насколько хорошо они знают вас?
Она думала обо всех людях, которые придут и уйдут сегодня под беспечный звон колокольчика. Все они связаны, больше чем когда бы то ни было, с тысячами людей – друзьями из социальных сетей, друзьями друзей. И все же не чувствуют ли они, как и она, что им не с кем поговорить? Поговорить не о недавнем изгнании знаменитости из дому, с острова или из джунглей, но о важных вещах, которые не дают уснуть. Например, о цифрах, не подчинявшихся твоей команде.
Моника засунула бумаги в папку и, взяв телефон, загрузила Facebook и стала его просматривать. По-прежнему никаких следов Дункана – парня, с которым она познакомилась в социальных сетях, а в последний раз виделась несколько недель назад. Дункан, веган, который отказывался есть авокадо, потому что фермеры для опыления используют пчел, но считал абсолютно приемлемым заниматься с ней сексом, а затем просто исчезнуть. Его больше волновали чувства пчелы, чем чувства Моники.
Она продолжала прокручивать экран, хотя и знала, что это не только не принесет утешения, но и слегка растравит душу. Хейли изменила статус своих отношений на «помолвлена». Ух ты! Пэм поместила свои снимки с тремя детьми – плохо и неумело завуалированное под самоуничижение бахвальство. Салли показала УЗИ своего ребенка – двенадцать недель.
УЗИ плода в утробе. Зачем вообще это присылать? Все они выглядят одинаково, ни один не похож на реального ребенка, скорее, все это напоминает погодную карту, предсказывающую область высокого давления над Северной Испанией. И тем не менее каждый раз при виде подобной картинки у Моники перехватывало дыхание, на нее накатывали острая тоска и унизительный приступ зависти. Иногда она ощущала себя старым разбитым «фордом-фиеста», брошенным на обочине дороги, когда другие машины проносятся мимо по скоростной полосе.
Кто-то оставил сегодня на столе экземпляр «Хелло!». В глаза Монике бросился кричащий заголовок об одной голливудской актрисе, испытавшей счастье материнства в сорок три года. Во время кофе-брейка Моника пролистала журнал, выискивая объяснение того, как это удалось той актрисе. ЭКО? Донорство яйцеклеток? Заморозила ли она свои яйцеклетки несколько лет назад? Или это произошло легко? Сколько времени оставалось в запасе у ее яичников? Пакует ли уже счастливая семья чемоданы для уединенного отдыха на Коста-Брава?
Взяв бокал с вином, Моника обошла кафе, выключая все светильники и расставляя по местам криво стоявшие стулья. Она вышла на улицу – ключи в одной руке, бокал в другой, – заперла дверь кафе и повернулась, чтобы отпереть дверь своей квартиры этажом выше.
И тут возникший неизвестно откуда здоровенный малый, тащивший на себе, как коляску от мотоцикла, какую-то блондинку, со всей силы налетел на Монику, и содержимое бокала выплеснулось ей в лицо и на блузку. Задохнувшись на миг, она почувствовала, как по ее носу стекают ручейки «Риохи» и вино капает с подбородка. Она ждала его смиренного извинения.
– Ох, твою мать! – ругнулся он.
Моника ощутила, как из ее груди поднимается жар, приливая к лицу и заставляя стиснуть зубы.
– Эй, это ты на меня налетел! – возмутилась она.
– Ну и что же ты делала посреди тротуара с бокалом вина? – прорычал он в ответ. – Нельзя, что ли, пить в баре, как все нормальные люди?
Его лицо с идеально правильными чертами могло показаться классически красивым, если бы его не искажала отвратительная, презрительная гримаса. Блондинка, глупо хихикая, тащила его прочь.
– Тупая сучка, – услышала Моника его слова, умышленно произнесенные достаточно громко.
Моника вошла к себе в квартиру. «Милая, ты дома», – как всегда, беззвучно сказала она непонятно кому, на миг решив, что сейчас заплачет. Поставив пустой бокал на сушилку в кухоньке, она посудным полотенцем стерла с лица вино. Ей отчаянно хотелось с кем-нибудь поговорить, но она не знала, кому позвонить. Подруги все были погружены в свою жизнь и не захотели бы, чтобы она испортила им вечер своими жалобами. Звонить отцу смысла не было, поскольку Бернадетт, ее мачеха, считавшая Монику неудобной предысторией жизни мужа, выполняла роль привратника и, без сомнения, заявила бы, что отец пишет и его нельзя беспокоить.
И тут Моника увидела лежавшую на кофейном столике бледно-зеленую тетрадь с надписью на обложке: «Правдивая история», оставленную несколько дней назад. Моника взяла тетрадь и открыла ее на первой странице. Каждый лжет о своей жизни. Что произойдет, если вместо этого говорить правду? Единственное, что отличает вас, что позволяет поставить все на свои места?
Почему бы и нет? – подумала она, ощутив в себе трепет безрассудства, что обычно было ей не свойственно. Понадобилось некоторое время, чтобы найти подходящую ручку. Немного непочтительным казалось после каллиграфического почерка Джулиана выводить каракули старой шариковой ручкой. Она открыла чистую страницу и принялась писать.
Хазард
Хазард задумался над тем, какую часть жизни он проводит, склонившись над туалетным бачком. Если все суммировать, то, вероятно, немало дней. Сколько потенциально смертельных бактерий он вдыхает вместе с порошком, образующим прерывистую дорожку из лучшего колумбийского кокса? И какая его часть – действительно кокаин, а не тальк, крысиный яд или слабительное? Все эти вопросы совсем скоро перестанут его занимать, ибо то была последняя дорожка из последнего грамма кокаина, который он когда-либо собирался купить.
Он пошарил в карманах в поисках банкноты, но потом вспомнил, что потратил единственную двадцатку на бутылку вина, которую успел выпить наполовину. В этом модном, дорогом винном баре за двадцатку можно было купить бутылку вина, по вкусу напоминающего денатурат. Но оно подействовало. Проверив все карманы, он вытащил из внутреннего кармана пиджака сложенный лист бумаги. Копия его заявления об увольнении. Что ж, вполне символично, подумал он, отрывая угол от листа и сворачивая его в трубочку.
Сильно втянув носом, Хазард почувствовал, как заднюю стенку гортани обожгло знакомым химическим вкусом, а через несколько минут испытываемое им опьянение сменилось если не эйфорией (те времена давно миновали), то, по крайней мере, удовольствием. Смяв свернутую в трубочку бумагу вместе с крошечным пластиковым пакетом, в котором находился порошок, он выбросил их в унитаз, глядя, как все это затягивается в глубины лондонской канализации.
Осторожно сняв тяжелую фарфоровую крышку туалетного бачка, Хазард прислонил ее к стене, затем достал из кармана свой айфон – очевидно, последней модели – и опустил его в воду, заполнявшую бачок. С довольным бульканьем телефон опустился на дно. Хазард заранее заменил крышку, и телефон остался один в темноте. Теперь он не сможет позвонить дилеру. Или любому человеку, знакомому с дилером. Единственным номером телефона, который он помнил, был номер его родителей, и только он был ему нужен, хотя в следующий раз, собравшись позвонить им, Хазард должен будет что-то сочинить.
Взглянув на себя в зеркало, Хазард смахнул с воспаленных ноздрей красноречивые следы белого порошка, потом уверенной поступью подошел к своему столу. Его позитивность отчасти была химической природы, но он также испытал нечто такое, чего давно не чувствовал, – гордость.
Он вопросительно посмотрел на стол. Что-то изменилось. Там по-прежнему стояла бутылка вина, но появился второй бокал, словно Хазард кого-то ожидал, а не пил в одиночестве. На месте лежал экземпляр «Ивнинг стандард» с загнутыми уголками страниц, который он якобы читал. Но было еще что-то. Тетрадь. Когда он был начинающим брокером, у него была такая же, заполненная обрывками информации, тщательно отобранными из «Файненшиал таймс», и сведениями из достоверных источников, которые подбрасывали ему, как восторженному щенку лакомство, ветераны брокерского дела. Но на обложке этой тетради было написано: «Правдивая история». Это звучало как порция чепухи «нью-эйдж». Хазард огляделся по сторонам в поисках какой-нибудь утонченной персоны, которая могла оставить тетрадь, но его окружала обычная толпа выпивох, деловито стряхивавших с себя стресс рабочего дня.
Хазард передвинул тетрадь на край стола, чтобы владелец заметил ее, а сам занялся важным делом по уничтожению вина. Своей последней бутылки вина. Ибо кокаин и вино шли вместе, как рыба с жареным картофелем, яйца с беконом, экстази с сексом. Если он намерен отказаться от одного, то должен отказаться и от другого. Как и от работы, поскольку за несколько лет он избороздил рынки на химической волне и полагал, что не сможет и не захочет заниматься этим на трезвую голову.
Трезвость. Какое ужасное слово! Серьезное, здравое, важное, положительное, стабильное – ничего похожего на самого Хазарда, который представлял собой случай именного детерминизма в действии. Хазард с силой прижал ладонью свое правое бедро, дергавшееся вверх-вниз под столом. До него дошло, что он к тому же скрипит зубами. С той ночи с Бланш он тридцать шесть часов толком не спал. Его мозг отчаянно требовал дополнительной стимуляции, борясь с изможденным телом, жаждущим забвения. Хазард осознавал, что совершенно измучен всем этим, измучен своей жизнью и постоянной каруселью стимуляторов и депрессантов, измучен постыдными отчаянными звонками дилеру, постоянным нюханием и усугубляющимися носовыми кровотечениями. Как могло получиться, что случайная дорожка кокаина на вечеринке, вызвавшая у него иллюзию полета, превратилась в нечто такое, без чего он не мог встать утром с кровати?
Поскольку никто, казалось, не интересуется забытой тетрадью, Хазард открыл ее. Страницу заполняли строчки, написанные убористым почерком. Он попробовал читать, но буквы плясали по странице. Прикрыв один глаз, Хазард посмотрел снова. Слова выстроились в более ровные строчки. Пролистав несколько страниц, он обнаружил два разных почерка: первый – изящный, каллиграфический, второй – попроще, с закругленными буквами, более заурядный. Хазард был заинтригован, но читать одним глазом казалось утомительным, да и вид у него был как у придурка, поэтому он закрыл тетрадь и сунул ее в карман пиджака.
Сутки спустя Хазард стал искать ручку в кармане пиджака и наткнулся на тетрадь. Он не сразу вспомнил, как она туда попала. В голове у него был туман. Голова раскалывалась от боли, и, несмотря на страшную усталость, уснуть он не мог. Он улегся в кровать, в этот ворох несвежих простыней и пухового одеяла, и, раскрыв тетрадь, принялся читать.
Насколько хорошо вы знаете живущих рядом с вами людей? Насколько хорошо они знают вас? Вы хотя бы знаете имена соседей? Вы поймете, если они окажутся в беде или по много дней не будут выходить из дому?
Хазард улыбнулся про себя. Он был кокаинистом. Его интересовала лишь собственная персона.
Что произойдет, если вместо этого говорить правду?
Ха! Вероятно, его арестуют. Наверняка уволят. Хотя сейчас поздновато его увольнять.
Хазард читал дальше. Ему, пожалуй, нравился Джулиан. Родись он на сорок лет раньше или Джулиан на сорок лет позже, они вполне могли бы стать друзьями – вместе предавались бы светским развлечениям, снимали девиц и вовсю куролесили. Но его совсем не привлекала мысль рассказывать свою историю. Он и самому себе рассказывать-то ее не хотел, а тем более кому-то еще. Правдивость была чем-то таким, без чего он вполне мог обойтись. Он годами прятался от этого. Хазард перевернул страницу. Кто же, интересно знать, подобрал тетрадь до него?
Меня зовут Моника, и я нашла эту тетрадь в своем кафе. Прочитав слова Джулиана о том, что он ощущает себя невидимкой, вы, вероятно, представите себе стереотип пенсионера, одетого в тусклую одежду с эластичными поясами и в ортопедической обуви. Что ж, должна вам сказать, что Джулиан не таков. Я видела, как он писал в этой тетради, перед тем как оставить ее, и его никак не назовешь невидимкой – пусть ему и за семьдесят. Он похож на Гэндальфа, но без бороды, и одевается как медвежонок Руперт: горчично-желтый пиджак с дымчатым оттенком и клетчатые штаны. Еще немного – и его стиль можно было бы назвать вычурным. Найдите его автопортрет. Некоторое время он висел в Национальной портретной галерее.
Он потянулся за своим сотовым, чтобы загуглить портрет Джулиана, но вдруг вспомнил, что бросил телефон в сливной бачок туалета в местном винном баре. Почему он тогда решил, что это хорошая идея?
Боюсь, я гораздо менее интересна, чем Джулиан.
Хазард в этом не сомневался. По ее аккуратному, выверенному почерку он заключил, что она сущий кошмар. Но по крайней мере, она не относилась к тому типу женщин, которые рисуют внутри всех «О» улыбающиеся рожицы.
Вот моя правда – ужасающе предсказуемая и нудно биологическая: я в самом деле хочу ребенка. И мужа. Может быть, еще собаку и «вольво». По сути дела, все то, что подразумевает стереотипная нуклеарная семья.
Он отметил, что Моника использует двоеточие. Это выглядело немного нелепо. Он не думал, что люди еще пишут грамотно. Они вообще почти не пишут. Если только эсэмэски и эмоджи.
О господи, на бумаге это выглядит ужасно! Вообще-то, я феминистка. Я полностью отвергаю представление о том, что мне нужен мужчина, который дополняет, поддерживает меня или даже делает все в доме своими руками. Я деловая женщина и, между нами, немного перестраховщица, люблю все держать под контролем. Возможно, я стала бы ужасной матерью. Но как бы я ни пыталась подходить к этому вопросу рационально, я все равно ощущаю внутри постоянно растущий вакуум, который однажды полностью поглотит меня.
Хазард прервал чтение, чтобы проглотить еще две таблетки парацетамола. Он засомневался, что сможет сейчас вынести всю эту гормональную тревогу. Одна из таблеток застряла в глотке, и он начал давиться. Рядом с собой на подушке он заметил длинный белокурый волос – напоминание о другой жизни. Он сбросил его на пол.
Я служила юрисконсультом в крупной престижной фирме в Сити. Мне платили скромное жалованье в обмен на улучшение индекса гендерного неравенства и превращение моей жизни в оплачиваемые часы. Я использовала для работы каждую минуту, включая и часть выходных. Если у меня появлялось свободное время, я шла в спортзал, чтобы снять стресс. Моя светская жизнь вращалась только вокруг корпоративов и развлечения клиентов. У меня было ощущение, что я по-прежнему общаюсь со школьными и университетскими друзьями, потому что я следила по Facebook за их обновленным статусом, но фактически годами не встречалась с ними в жизни.
Моя жизнь так и продолжалась бы в трудах, когда я делала то, чего от меня ждали, достигая повышений по службе и получая бессмысленные хорошие отзывы, если бы не слова, сказанные моей мамой, и если бы не девушка по имени Таня.
Я никогда не встречалась с Таней, по крайней мере, так мне казалось, но ее жизнь была во многом похожа на мою: очередной способный юрисконсульт из Сити, но на десять лет старше меня. Однажды в воскресенье она, по обыкновению, пошла в офис. Там был ее босс. Он сказал ей, что она не обязана быть на службе каждые выходные, что у нее должна быть жизнь вне работы. Он сказал это из лучших побуждений, но от его слов в Тане что-то замкнулось, она осознала тщету всего. Придя в следующее воскресенье в офис, она поднялась на лифте на верхний этаж и бросилась с крыши. В газетах напечатали ее фотографию со дня выпуска, на ней она стоит рядом с гордыми родителями, и глаза ее полны надежды и ожиданий.
Я не хотела становиться Таней, но понимала, куда меня ведет жизнь. Мне было тридцать пять лет, я была незамужней, и жизнь моя состояла только из работы. Так что, когда умерла моя двоюродная бабушка Летиция, оставив мне небольшое наследство, я добавила его к изрядной сумме денег, которую мне удалось скопить за несколько лет, и совершила первый и единственный необычный поступок в жизни: я уволилась. Я арендовала бесхозную кондитерскую на Фулхэм-роуд, превратила ее в кафе и назвала «У Моники».
Кафе «У Моники». Хазард его знал. Оно было как раз напротив бара, где он нашел тетрадь. Сам он там никогда не бывал. Предпочитал более анонимные кафешки, в которых часто менявшиеся бариста едва ли замечали, как он вваливается в зал нетвердой походкой или что ему приходится развернуть банкноту, прежде чем вручить ее баристе. «У Моники» всегда было жутко уютно. Здоровая пища. Сплошь экологически чистые продукты и любимые бабушкины рецепты. В подобных местах Хазард чувствовал себя немного неопрятным. Название тоже отпугивало. «У Моники». Такое имя могло быть у учительницы. Или гадалки. Даже у хозяйки борделя. Мадам Моника, эротический массаж. Неподходящее название для кафе. Он продолжил читать.
Быть боссом для себя самой, а не просто именем в списке сложной организационной иерархии по-прежнему приводит меня в волнение (как и накопление опыта – скажем так, что Бенджи не первый мой бариста). Однако я испытываю чувство огромной пустоты. Знаю, что это звучит старомодно, но мне действительно нужна сказка. Мне нужен прекрасный принц, с которым я счастливо проживу всю жизнь.
Я пользовалась Tinder. У меня было бессчетное число свиданий. Я стараюсь не быть чересчур привередливой, не обращать внимания на то, что он не читал Диккенса, что у него грязные ногти и разговаривает он с набитым ртом. У меня было несколько романов, и один или два из них, как я надеялась, могли чем-то закончиться. Но в конечном итоге я слышала все те же старые отговорки: «Дело не в тебе, а во мне. Я не готов остепениться»… Бла-бла-бла. Потом, полгода спустя, я читаю в Facebook, что его статус обновлен и он помолвлен, и знаю, что дело было именно во мне, но не понимаю почему.
Хазард осмелился высказать догадку.
Всю жизнь я строю планы. У меня все под контролем. Я составляю списки дел, ставлю перед собой цели и вехи, воплощаю планы в жизнь. Но мне тридцать семь, и время уходит.
Тридцать семь. Затуманенным сознанием Хазард пытался осмыслить эту цифру. Несмотря на то что ему самому было тридцать восемь, он определенно свайпнул бы влево. Он вспомнил, как объяснял приятелю из банка, что, покупая фрукты в супермаркете (не то чтобы он когда-нибудь покупал фрукты или ходил в супермаркет), не выбираешь подгнившие персики. По опыту он знал, что более взрослые женщины доставляют больше хлопот. У них есть надежды. Планы. Ты понимаешь, что через несколько недель у вас будет разговор. Вам придется обсудить, в каком направлении двигаются ваши отношения, как будто вы едете по Пикадилли на автобусе № 22. Он поежился.
Когда подруга постит в Facebook УЗИ своего ребенка, я лайкаю, а потом по телефону изливаю ей свой восторг, но, честно говоря, мне хочется завыть и сказать: «Ну почему не я?» Потом мне приходится идти в галантерейный отдел универмага «Питер Джонс», поскольку невозможно испытывать стресс в галантерее в окружении мотков пряжи, вязальных крючков и пуговиц, верно?
Пряжа? Разве есть такое слово? И галантерея? Эти слова еще существуют? Наверняка люди покупают готовую одежду в Primark. И до чего странный способ снимать стресс. Гораздо менее эффективный, чем двойная водка. Господи, почему он опять вспомнил о водке?
Мои биологические часы тикают так громко, что не дают уснуть ночью. Я лежу, проклиная гормоны, превращающие меня в клише.
Вот так-то. Я выполнила просьбу Джулиана. Надеюсь, что потом об этом не пожалею.
Что до Джулиана, то у меня есть план.
Разумеется, у нее есть план, подумал Хазард. Он знал девиц ее типа. План, вероятно, разделен на пункты, каждый с ключевым показателем эффективности. Она напомнила ему его бывшую, которая одним памятным вечером выдала ему программу подготовки презентации на тему их отношений: сильные и слабые стороны, перспективы и угрозы. Он довольно быстро с ней закруглился.
Я точно знаю, как вновь вытащить его на публику. Я составила объявление с приглашением для местных художников проводить в кафе еженедельные вечерние мастер-классы. Я повесила объявление на окне, и мне остается лишь подождать, пока он не откликнется. И я намерена оставить эту тетрадь на столе в винном баре через дорогу. Если вы – тот человек, который найдет ее, то последующие события в надежной паре ваших рук.
Хазард опустил глаза на свои руки – полную противоположность «надежной паре рук». Они продолжали дрожать после его последнего большого кутежа, закончившегося сутки назад, в тот день, когда он нашел эту самую тетрадь. Твою мать! Почему он? Не говоря об остальном, завтра он уезжает из страны. По пути к метро он пройдет мимо кафе Моники. Можно будет заскочить к ней выпить кофе и отдать тетрадь, чтобы та передала ее кому-нибудь более подходящему.
Закрывая тетрадь, Хазард заметил на следующей странице кое-что еще.
P. S. Для защиты я покрыла тетрадь самоклеящейся пленкой, но прошу вас во всяком случае не оставлять ее под дождем.
К собственному удивлению, Хазард поймал себя на том, что улыбается.
Джулиан
Входя к себе, Джулиан содрал записку с входной двери. Он даже не остановился прочесть ее. Он знал, что там написано, и, кроме того, записка была составлена заглавными буквами, что казалось ему немного грубым и кричащим, не заслуживающим внимания.
Джулиан налил себе чашку чая, уселся в кресло, развязал шнурки, скинул ботинки и положил ноги на потертую тахту, покрытую гобеленом. Потом взял последний номер глянцевого журнала «Харперс базар», который понемногу просматривал, чтобы хватило до конца недели. Он начал уже входить во вкус, когда его грубо прервал стук в окно. Чтобы его голову не увидели сзади, Джулиан пониже опустился в кресле. За последние пятнадцать лет он поднаторел в игнорировании посетителей. То, что почти все это время его окна не мылись, было ему на руку. Мутные стекла являли собой счастливое нечаянное следствие его неряшливости.
Пытаясь привлечь его внимание, соседи Джулиана становились все более навязчивыми. Он со вздохом отложил журнал и взял в руки оставленную ему записку. Потом прочел ее, поморщившись при виде восклицательного знака после своего имени.
МИСТЕР ДЖЕССОП!
НАМ НАДО ПОГОВОРИТЬ!
МЫ (ВАШИ СОСЕДИ) ХОТИМ ПРИНЯТЬ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ СВОБОДНОГО СОБСТВЕННИКА.
НАМ НУЖНО ВАШЕ ОДОБРЕНИЕ,
БЕЗ КОТОРОГО МЫ НЕ МОЖЕМ ДЕЙСТВОВАТЬ.
ПОЖАЛУЙСТА, КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ
СВЯЖИТЕСЬ С ПАТРИСИЕЙ АРБАКЛ, № 4!
Свой коттедж Джулиан приобрел в 1961-м, когда ему оставалось еще шестьдесят семь лет аренды. В его двадцать с небольшим лет это представлялось вечностью и не вызывало ни малейшего беспокойства. Теперь по договору оставалось лишь десять лет, и собственник отказывался продлевать аренду, поскольку намеревался использовать землю, на которой стояли коттеджи, для строительства корпоративного развлекательного комплекса, что бы это ни значило, для стадиона «Стэмфорд-Бридж». Стадион расширялся и модернизировался вокруг Джулиана за те годы, пока художник жил в его тени, а сам Джулиан постепенно съеживался и становился старомодным. Теперь стадион готов был взорваться, как чудовищный карбункул, сметая их всех потоками гноя.
Джулиан понимал, что логично было бы сказать «да». Если они позволят истечь сроку договора аренды, их собственность обесценится. В данный момент собственник был готов выкупить их всех по цене, близкой к рыночной. Но он не был заинтересован в том, чтобы выкупать всех соседей Джулиана, коль скоро маленький коттедж Джулиана торчит посередине предполагаемой строительной площадки.
Понимал Джулиан и то, что соседей все больше пугает перспектива потерять свои сбережения, зависевшие, как для большинства лондонцев, от кирпичей и строительного раствора, однако как бы он ни пытался, но просто не мог представить себе, что живет в другом месте. Разве он просит многого – чтобы ему позволили дожить последние годы в доме, где он провел бо́льшую часть жизни? Десяти лет вполне хватит. И какой толк от денег, предлагаемых ему собственником? У него вполне приличный доход от инвестиций, особой расточительностью он никогда не отличался и уже порядочно лет не видел немногих оставшихся у него родственников. Его не волновало, что их наследство может испариться в ворохе юридических документов.
Тем не менее он понимал, что отказываться от предложения эгоистично. На протяжении многих лет Джулиан проявлял неописуемый эгоизм и уже начал расплачиваться за такое поведение. Теперь ему хотелось верить, что он стал другим – раскаивающимся, даже смиренным. Поэтому он не говорил «нет». Но сказать «да» он тоже не мог. Вместо этого он, фигурально выражаясь, затыкал уши, игнорируя проблему, хотя знал, что она никуда не делась.
Минут пять отчаянно колотя в дверь и воскликнув под конец: «Я знаю, что вы там, старик», сосед Джулиана в конечном итоге сдался. Старик? Ну, право.
Коттедж Джулиана был больше чем просто дом, и больше чем финансовая инвестиция. Он был всем. Всем, что он имел. Дом вмещал в себя все воспоминания прошлого и единственно возможный для Джулиана образ будущего. Каждый раз, глядя на входную дверь, он представлял себе, как с бьющимся сердцем переносит свою невесту через порог, уверенный в том, что эта женщина – все, что ему нужно в жизни. Стоя у каминной решетки, он видел, как Мэри в переднике с завязанными в пучок волосами помешивает ложкой в огромной кастрюле свое знаменитое блюдо – говядину по-бургундски. Когда он садился у камина, Мэри опускалась на ковер перед ним и, подтянув колени к груди, занавесившись волосами, читала очередной роман, взятый из местной библиотеки.
Были и тревожные воспоминания. Мэри, тихо роняя слезы, сжимает в руке любовное письмо от одной из его натурщиц, которое она нашла приколотым к мольберту. Мэри стоит на верху винтовой лестницы в их спальню, швыряя ему в голову туфли на шпильке, оставленные другой женщиной. Часто, глядя в зеркало, он видел перед собой Мэри, взирающую на него с печалью и горечью.
Джулиан не пытался уклониться от плохих воспоминаний. Скорее наоборот, он подстегивал их. Они были его искуплением. И как это ни странно, он находил их утешительными. По крайней мере, они доказывали, что он еще способен что-то чувствовать. Причиненная ими боль приносила ему мимолетное облегчение, как это бывало, когда он проводил по коже своим рабочим скальпелем, наблюдая за появлением кровавого следа. Но он делал это лишь в самые скверные дни. Не говоря о прочих вещах, теперь его кожа заживает гораздо медленней.
Он оглядел стены своего дома, едва ли не каждый дюйм которых покрывали картины в рамах и наброски. Каждая рассказывала свою историю. Он забывал о времени, часами рассматривая их, и мысленно возвращался к разговорам с художниками за графином вина, когда они обменивались друг с другом вдохновением и мнениями. Он мог припомнить, как пришла сюда каждая из картин: подарок на день рождения, благодарность за неиссякаемое гостеприимство Мэри или приобретенная после закрытого показа картина, особенно восхитившая его. Имело значение даже их расположение на стене. Иные в хронологическом порядке, а другие были развешаны по темам: красивые женщины, лондонские достопримечательности, необычные ракурсы или специфическое использование света и тени. Разве мог он куда-то их переместить? Где еще могли бы висеть эти картины?
Было почти пять часов вечера. Джулиан достал бутылку «Бейлиса» и отлил немного в серебряную фляжку. После чего влез в пальто и, убедившись, что разгневанных соседей поблизости не видно, отправился на кладбище.
Еще издали Джулиан заметил, что с могилой Адмирала что-то не так, и, подойдя ближе, разглядел очередное письмо – черные строчки на белой бумаге. Неужели соседи повсюду оставляют для него записки? Ходят они за ним следом, что ли? Он почувствовал, как в нем нарастает раздражение. Это уже похоже на преследование.
Подойдя ближе, он понял, что это вовсе не послание от соседей, а рекламное объявление. Он видел его раньше, этим утром. Тогда он не придал этому значения, но теперь стало ясно, что объявление составлено специально для него.
Моника
К субботе Моника почти разуверилась в своем блестящем плане. Уже несколько дней объявление висело на окне кафе, а Джулиан так и не показывался. Между тем ей пришлось вежливо отказать целой куче претендентов на роль учителя рисования, прикрываясь совершенно нелепыми отговорками. Кто же знал, что так много местных художников ищут работу? К тому же она, как бывший юрист, мучительно сознавала, что нарушает трудовое законодательство, хотя какая-то ее часть испытывала удовольствие оттого, что впервые в жизни она поступает не совсем по правилам.
Другая проблема состояла в том, что всякий раз, как в кафе входил новый посетитель, Моника задавалась вопросом, а не этот ли человек нашел тетрадь, оставленную ею на пустом столе в винном баре, и прочитал постыдные и бессвязные излияния отчаявшейся старой девы. Уф! О чем она только думала? Вот если бы стереть эти страницы, как неудачный пост в Facebook. С откровенностью она явно перестаралась.
К стойке подошла женщина с крошечным ребенком на руках, не старше трех месяцев. На ней было прелестное старомодное платье с оборками и кардиган. Младенец уставился на Монику большими голубыми глазами, будто совсем недавно научился фокусировать взгляд. Моника почувствовала, как у нее сводит живот. Она молча произнесла свою мантру: «Я сильная, независимая женщина. Ты мне не нужен…» Словно прочитав ее мысли, ребенок пронзительно закричал, его лицо покраснело и сморщилось, став похожим на злобного эмоджи. «Спасибо тебе», – мысленно обратилась Моника к младенцу и отвернулась, чтобы приготовить чай с мятой. Когда она подавала женщине кружку, открылась дверь и вошел Джулиан.
В последний раз, когда она его видела, он напоминал эксцентричного джентльмена времен Эдуардов. Моника предположила, что весь его гардероб вдохновлен той эпохой. Оказалось, что нет, поскольку сегодня он был одет в стиле «новой романтики» примерно середины 1980-х. На нем были черные брюки-дудочки, короткие сапоги из замши и белая рубашка с оборками. Куча оборок. Такой образ обычно завершается щедрой подводкой для глаз. Моника с облегчением заметила, что Джулиан не зашел так далеко.
Он уселся за тот же столик в Библиотеке, который занимал в прошлый раз. Моника, немного волнуясь, подошла принять заказ. Видел ли он ее объявление? Поэтому он и пришел сюда? Она скользнула взглядом по окну, куда поместила объявление. Его там не было. Она взглянула еще раз, словно оно могло волшебным образом появиться вновь, но нет – остались лишь несколько липких обрывков бумаги, прикрепленных скотчем. Она отметила про себя, что надо будет отмыть эту грязь уксусом.
Ладно, хватит об этом плане. Раздражение быстро уступило место облегчению. Так или иначе, а идея была глупой. Теперь, когда оказалось, что он всего лишь заглянул выпить кофе, Моника подошла к Джулиану чуть более уверенно.
– Что желаете? – бодрым тоном спросила она.
– Мне, пожалуйста, крепкий черный кофе, – ответил он, разворачивая лист бумаги, который держал в руках, разгладил заломы и положил на столик перед собой.
Это было ее объявление. Но не оригинал, а фотокопия. Моника почувствовала, что заливается краской.
– Я правильно думаю, что это предназначено для меня? – спросил Джулиан.
– А что, разве вы не художник? – промямлила она, как участник передачи «Время вопросов», который бьется над правильным ответом, не зная, сказать правду или напустить туману.
Он ненадолго поймал ее взгляд – змея, гипнотизирующая полевку.
– Да, художник, – ответил он, – и полагаю, именно поэтому ваше объявление было вывешено на стене «Челси стьюдиос», где я живу. И не одно, а целых три. – Он три раза выразительно стукнул по бумаге, лежащей на столе. – Возможно, это совпадение, но вчера в обычное время я пошел навестить Адмирала на Бромптонском кладбище и там, на его могильной плите, обнаружил еще одно ваше объявление. Из этого я заключил, что вы, вероятно, нашли мою тетрадь. Кстати, не уверен, что вы использовали нужный шрифт. Я придерживался Times New Roman. Думаю, вряд ли вы с ним ошибетесь.
К этому моменту Моника, стоявшая у стола Джулиана, почувствовала себя провинившейся школьницей, которую отчитывает директор. Или, скорее, она представила себе, как это могло быть, потому что сама не бывала в подобной ситуации.
– Можно? – спросила она, кивнув на стул напротив Джулиана.
Он чуть заметно наклонил голову. Усевшись, Моника воспользовалась моментом, чтобы собраться с духом. Пусть не пытается ее запугать. Она представила себе свою мать.
«Если нервничаешь, Моника, вообрази себя Боудиккой, королевой кельтов! Или Елизаветой Первой, или Мадонной!» – «Матерью Иисуса?» – спросит, бывало, она. «Нет, глупышка! Она чересчур кроткая и смиренная. Я имела в виду поп-звезду». Мама тогда расхохоталась так громко, что в стену стали стучать соседи.
Итак, настроившись на Мадонну, Моника обратила на сидевшего напротив довольно импозантного и чуть рассерженного мужчину твердый взгляд:
– Вы правы, я действительно нашла вашу тетрадь, и объявление было написано для вас, но я не наклеивала его на стену вашего дома или на могилу Адмирала. – (Джулиан скептически приподнял бровь.) – Я сделала один экземпляр и разместила его в окне. – Она кивнула на пустое место, недавно занимаемое постером. – Это фотокопия. Я ее не делала. Интересно, кто же это?
Этот вопрос занимал Монику. Зачем кому-то понадобилось красть ее постер?
– Ну, раз это не вы, это должен быть кто-то, прочитавший мою историю, – сказал Джулиан, – а иначе как он узнал бы, где я живу? Или про Адмирала? Явно не может быть совпадением, что единственная могильная плита, щеголяющая вашим постером, – это та самая, которую я навещаю уже сорок лет?
Моника смутилась еще больше, осознав, что человек, прочитавший историю Джулиана, прочел также и ее историю. Она постаралась выкинуть эту мысль из головы как слишком нервозную на данный момент. Моника, без сомнения, вернется к ней позже.
– Так вас это интересует? – спросила она Джулиана. – Вы согласны вести в моем кафе вечерний мастер-класс по живописи?
Ее вопрос надолго повис в воздухе, и Моника подумала, что надо его повторить. Но тут лицо Джулиана сморщилось, как гармоника, и он улыбнулся.
– Ну, поскольку вы и, похоже, кто-то еще пошли на большие хлопоты, было бы невежливо не согласиться, так ведь? Кстати, я Джулиан, – протягивая Монике руку, сказал он.
– Я знаю, – пожимая руку, ответила она. – А я Моника.
– С удовольствием поработаю с вами, Моника. У меня предчувствие, что мы с вами можем стать друзьями.
Моника пошла приготовить ему кофе, чувствуя себя так, будто ей только что присвоили десять очков за Гриффиндор.
Хазард
Хазард всматривался в изогнутый полумесяцем пляж, окаймленный пальмами. Лазурное Южно-Китайское море, безоблачное небо. Если бы он увидел такое в Instagram, то подумал бы, что это фотошоп с фильтром. Однако после проведенных здесь трех недель все это совершенство начинало действовать ему на нервы. Он поймал себя на том, что во время утренней прогулки по пляжу, пока песок не нагрелся так, что по нему невозможно идти босиком, мечтает увидеть на белом рассыпчатом песке собачье дерьмо. Что угодно, способное нарушить эту монотонную красоту. Хазард часто порывался позвать на помощь, но понимал, что этот пляж сродни глубокому космосу – никто не услышит твой вопль.
Пять лет назад Хазард побывал на этом острове. Тогда он останавливался на Ко-Самуе с друзьями, и они на пару дней уплывали куда-нибудь на катере. Он тяготился этой жизнью без удобств, стремясь поскорее вернуться к барам, клубам и вечеринкам «полнолуния» на Самуе, не говоря уже о надежном электричестве, горячей воде и Wi-Fi. Проступая сквозь бесчисленные омерзительные «обратные кадры» случайных связей, писание неуместных эсэмэсок под мухой и встреч в темных переулках с изворотливыми дельцами, – сквозили воспоминания об этом месте как об оазисе покоя в унылой пустыне его недавней истории. Поэтому когда Хазард в конце концов принял решение изменить свое поведение и разобраться со своей жизнью, то забронировал сюда билет в один конец. Действительно, этот остров находился очень далеко от всего того, что могло навлечь на него неприятности, и, вследствие дешевизны, ему хватило бы последней премии из Сити на жизнь здесь в течение нескольких месяцев, если возникнет в том необходимость.
На одном краю маленького пляжа стояло кафе «Удачливая мама», а на другом – бар под названием «Земляной орех» (по названию их единственного снека). Между ними, как жемчужины на нитку (но без блеска), были нанизаны двадцать пять бунгало, построенные среди пальм и обращенные к морю. № 8 принадлежал Хазарду. Это было незатейливое деревянное строение, немногим больше садового сарая на участке его отца.
Там была спальня с двуспальной кроватью, занимающей почти все пространство и занавешенной огромной москитной сеткой, которая изобиловала дырками, удобными для проникновения целых полчищ изголодавшихся насекомых. Как спасательная капсула корабля-носителя, с одного бока приткнулась маленькая ванная с туалетом и душем с холодной водой. Окна размером чуть больше люка были тоже затянуты москитной сеткой. Единственными предметами мебели, помимо кровати, были: прикроватный столик, сделанный из старого ящика из-под пива «Тигр», одинокая книжная полка с разношерстной эклектичной коллекцией книг, завещанных Хазарду уезжающими туристами, и несколько крючков, на которые он вешал свои саронги, купленные в городке. Интересно, что бы подумали его старые приятели, увидев, как он весь день разгуливает в юбке.
Хазард тихо раскачивался в гамаке, подвешенном между двумя стойками по обеим сторонам деревянного помоста, идущего вдоль бунгало, и смотрел, как к берегу причалила небольшая моторная лодка с туристами. По мере того как солнце опускалось за горизонт, небо окрашивалось в невероятные оттенки красного и оранжевого. Хазард знал, что через несколько минут стемнеет. В этих краях вблизи экватора солнце скрывалось поспешно. Никаких продолжительных, эффектных и дразнящих прощаний, к которым он привык дома. Это было больше похоже на тот момент, когда выключают свет в спальне пансиона.
Он услышал, как врубился генератор «Удачливой мамы», и уловил еле заметный запах бензина, а также обрывки разговора Энди и Барбары (как полагал Хазард, измененные на западный манер их тайские имена), занятых приготовлением вечерней трапезы.
Уже двадцать три дня Хазард не прикасался к спиртному или наркоте. Он был в этом уверен, поскольку делал зарубки на деревянной раме кровати, словно он не турист, находящийся в одном из красивейших уголков земли, а заключенный Алькатраса. В то утро он насчитал четыре группы по пять зарубок и еще три. Это были долгие дни, перемежавшиеся волнами головной боли, потливости и дрожи, и ночи с невероятно яркими сновидениями, в которых он переживал самые дикие свои желания. Только прошлой ночью ему приснилось, что он вдыхает дорожку кокаина с упругого, загорелого живота Барбары. За завтраком он не осмеливался взглянуть на нее.
Тем не менее Хазарду становилось лучше, по крайней мере физически. Туман в голове и усталость понемногу отступали, но на смену им пришла буря эмоций. Это досадное чувство вины и сожаления, эти страх, скука и ужас, которые он всегда прогонял стопкой водки или дорожкой кокса. Его преследовали воспоминания о секретах, выболтанных ради хорошего анекдота, о подружках, преданных ради перепихона в туалетной кабинке ночного клуба, о провальных сделках, заключенных на волне химического ощущения неуязвимости. И странно, что в процессе этого жуткого самоанализа он часто ловил себя на мыслях об историях из той зеленой тетради. Ему представлялось, как Мэри пытается игнорировать натурщиц Джулиана, как Джулиан посреди ночи кромсает свои полотна, как Таня лежит распластавшись на тротуаре, а Моника приносит клиентам кексы, мечтая о любви.
Перед поездкой Хазард зашел в кафе Моники, чтобы вернуть тетрадь, и, к своему ужасу, обнаружил, что Моника – та самая женщина, с которой он столкнулся в тот вечер, накануне увольнения со службы, когда решил покончить со своей прежней жизнью. Он быстро ушел, пока она его не заметила. Итак, тетрадь по-прежнему оставалась у него, и чем дольше, тем сильнее ее тайны застревали у него в мозгу, и от них было не избавиться. Ему интересно было узнать, удалось ли Монике уговорить Джулиана проводить у нее мастер-классы по живописи и какой парень может сделать ее счастливой.
В семь часов вечера по берегу разносился звон колокольчика. Время ужина. «Удачливая мама» предлагала лишь одно вечернее блюдо. Это было единственное кафе в пешей доступности, так что выбирать не приходилось. После многих лет, когда надо было выбирать из бесчисленных вариантов, принимать решение на каждом подуровне – чай или кофе? капучино, американо, латте? обычное молоко, обезжиренное или соевое? – Хазард находил отсутствие опций удивительно приятным.
В кафе, открытом с одной стороны, с деревянным полом и соломенной крышей, стоял один большой стол, занимавший всю его длину. Вокруг него были расставлены несколько столов поменьше, но новые посетители довольно быстро усваивали, что принято присоединяться к группе за общим столом, если только вам не хотелось ловить на себе подозрительные взгляды прочих туристов: а может быть, вам есть что скрывать?
Пока Хазард смотрел на туристов, шедших к «Удачливой маме», у него возникла идея. Многие из тех, кого он здесь встречал, были из Лондона или планировали его посетить. Он мог бы разузнать о каждом из них и подыскать для Моники бойфренда. В конце концов, он порядочно о ней знает. Больше, чем когда-либо удосуживался узнать о своих подружках. Он мог бы стать для нее своего рода доброй феей, тайной свахой. Это было бы забавно. Или, по крайней мере, было бы чем заняться.
Хазард уселся и, испытывая прилив энергии из-за своей новой миссии, стал исподтишка разглядывать других гостей. Насколько он мог судить, он занимал где-то четвертое место по длительности пребывания на острове. Большинство туристов останавливались здесь дней на пять или около того.
Нил, сосед Хазарда, живший в бунгало № 9, находился здесь дольше всех. Почти год. Когда-то он придумал нечто вроде приложения, которое продал крупной технологической компании, и с тех пор занимается тем, что потворствует своему внутреннему хиппи. Он пытался научить Хазарда медитации, вероятно уловив его внутреннее смятение, но Хазарду никак не удавалось отрешиться от мыслей о ступнях Нила, покрытых пожелтевшей, омертвевшей кожей, и о толстых, ороговевших, как копыта, ногтях. Этот факт выводил Нила из новой игры Хазарда. Какой бы безнадежной ни была Моника, эти ноги не прокатят. Моника сразу поразила Хазарда своей приверженностью личной гигиене.
Относительно долго находились здесь также Рита и Дафни: обе на пенсии, одна – вдова, другая – никогда не была замужем, обе – ярые сторонницы хороших манер. Хазард наблюдал, с каким возмущением смотрит Рита на одного из гостей, бесцеремонно потянувшегося через нее за кувшином с водой. У каждой было отдельное бунгало. Дафни, по идее, жила в № 7, но Хазард, ставший ранней пташкой, частенько видел ее входящей в свое бунгало по утрам, а не выходящей из него, и это заставило его заподозрить дам в сафической интрижке на склоне лет. А почему бы и нет, черт возьми?!
Энди торжественно поставил на стол перед Хазардом блюдо с большой запеченной рыбой, которой хватило бы на три-четыре человека.
Опытный взгляд Хазарда скользил вдоль длинного стола, отбрасывая все парочки, находившиеся на разных стадиях пресыщения любовью, и мужчин моложе тридцати лет. Даже если кто-то из них имеет достаточно широкие взгляды, чтобы связаться с женщиной старше себя, вряд ли он будет готов к этой теме с деторождением, настоящему «пунктику» Моники.
Взгляд Хазарда на миг задержался на двух девушках из Калифорнии. Не старше двадцати пяти, предположил он. Невинные, свежие, с сияющей персиковой кожей. Замутить, что ли, с одной из них, вяло подумал Хазард. Может, и с обеими. Но пожалуй, он был не готов на подвиги, когда его не подстегивала фальшивая уверенность от спиртного или дорожки кокса.
Хазард вдруг подумал, что не занимался сексом с той ночи с Бланш. По сути дела, у него не было трезвого секса с… Он отматывал память дальше и дальше назад, пока не уперся в слово «никогда». Эта мысль ужасала. Как вообще возможно заниматься столь интимными и откровенными вещами? Наверняка без оглушающего действия наркотиков все эти толчки, шлепки, стоны, а подчас даже выпускание газов вызывали бы глубокий стыд? Может быть, он никогда больше не будет заниматься сексом. Эта мысль, как ни странно, ужасала меньше, чем мысль о том, что он никогда больше не возьмет в рот спиртного и не прикоснется к наркоте, а эту последнюю мысль он обдумывал уже несколько недель.
Он повернулся к шведу, сидящему слева, и протянул ему руку. Тот казался подходящей кандидатурой.
– Привет, ты, наверное, здесь новенький. Я Хазард.
– Гюнтер, – ответил тот с улыбкой, демонстрирующей впечатляющую скандинавскую стоматологию.
– Откуда ты и куда направляешься? – Хазард применил первый ход, обычный для острова, – что-то вроде разговора о погоде у себя дома. Здесь не было смысла обсуждать погоду, поскольку она оставалась неизменной.
– Я из Стокгольма, на пути в Бангкок, Гонконг, а затем в Лондон. А ты?
При упоминании Лондона Хазард мысленно похвалил себя: «Дай пять!» Это могло сработать.
– Я из Лондона, приехал сюда на несколько недель, пока не найду новую работу, – ответил он.
Расправляясь с рыбой, Хазард на автопилоте болтал с Гюнтером. Ему было сложно сконцентрироваться на разговоре, поскольку его завораживало ледяное пиво Гюнтера, которое тот пил из запотевшей стеклянной бутылки. Хазард опасался, что если не переключит свое внимание, то вырвет бутылку из руки шведа и осушит ее.
– Играешь в нарды? – спросил он, как только они покончили с ужином.
– Конечно, – ответил Гюнтер.
Хазард подошел к одному из столов в углу, на котором с одной стороны лежала шахматная доска, а с другой – доска для нардов.
– Так чем ты занимаешься дома, Гюнтер? – поинтересовался Хазард, пока они расставляли нарды.
– Я учитель, – ответил тот. – А ты?
Это, подумал Хазард, чрезвычайно хорошая новость. Шведу несложно найти другую работу, он умеет обращаться с детьми. Глядя на большие руки Гюнтера с ухоженными ногтями, Хазард сделал вывод о его аккуратности и чистоплотности.
– Я был банковским служащим. Биржевым маклером. Но, вернувшись домой, займусь поисками новой работы.
Гюнтер бросил шесть и один. Хазард подождал, пока тот сделает классический блокирующий ход. Он пропустил. Что за любитель. Для Хазарда это означало красную линию. Он быстро напомнил себе, что не ищет в Гюнтере партнера для игры на всю жизнь и что, вероятно, Моника не слишком привередлива в отношении умения играть в нарды.
– Наверное, у тебя осталась дома жена? – переходя к делу, спросил Хазард.
Он не заметил у шведа обручального кольца, но всегда разумнее проверить еще раз.
– Не жена. Подружка. Но как это у вас говорят? То, что происходит в поездке, останется между нами, верно?
И он заговорщицки кивнул в сторону двух девушек из Калифорнии.
Настроение Хазарда сдулось, как лопнувший воздушный шарик. Возможно, к месту сказанная фраза, но жутко свободные нравы. Испытывая к Гюнтеру покровительственное отеческое чувство и удивляясь сам себе, Хазард пришел к выводу, что шведу ничего не светит. Моника заслуживала лучшего. Ему захотелось поскорее очистить доску от всех шашек Гюнтера и пойти спать.
Когда Хазард вернулся к себе, сжимая в руке масляный фонарь «молния», поскольку генератор на ночь выключали, то обнаружил, что совершенно не устал. Тем не менее ему не хотелось присоединяться к толпе в «Земляном орехе». Мысль о том, что ему придется смотреть, как другие пьют спиртное, пока он потягивает диетическую колу, была невыносима. Он взглянул на книги, стоявшие на полке. Он прочитал их все по меньшей мере один раз, за исключением Барбары Картленд, которую дала ему Дафни. Вчера он попытался одолеть первую главу, но глаза стали закрываться на второй странице. Потом Хазард заметил высовывающуюся из ряда книг тетрадь Джулиана, как будто она умоляла достать ее. Хазард так и сделал, взял ручку, открыл первую чистую страницу и принялся писать.
Джулиан
Джулиан проснулся с ощущением какой-то перемены. Он не сразу понял, в чем дело. Последнее время ему казалось, что его рассудок и тело работают на разных скоростях. Утром сначала просыпалось тело, а рассудку требовалось еще какое-то время, чтобы догнать тело, осознать, где он находится и что вообще происходит. Это было странно, поскольку он всегда находился в одном и том же месте и никогда ничего не происходило. Потом наступал краткий момент пересечения, синхронности, после чего – в оставшуюся часть дня – его тело тащилось в нескольких шагах позади рассудка, стараясь идти в ногу.
Размышляя, Джулиан рассматривал зеленые линии на стене рядом с кроватью – разные оттенки зеленого, – как травинки, пятнистые от солнечного света. Их в свое время нарисовала Мэри, намереваясь сделать косметический ремонт их с Джулианом спальни. В конце концов ни один из цветов не был выбран, и комната осталась с теми же стенами грязновато-кремового оттенка. Возможно, Мэри уже тогда поняла, что в этом нет смысла.
Наконец Джулиан понял, что же нового было в этом утре: сознание цели. Сегодня ему предстоят дела. Условленная встреча. Его ждут люди. Рассчитывают на него. Он откинул одеяло более бодро, чем обычно, выбрался из кровати и осторожно спустился по винтовой лестнице, ведущей с бельэтажа, где размещались его спальня и ванная комната, в гостиную открытой планировки и кухоньку. Там висел список, пришпиленный к двери холодильника.
1. Выбрать одежду.
2. Подобрать материалы.
3. Инструменты и приспособления.
4. Реквизит.
5. Быть «У Моники» точно в семь часов вечера.
Он два раза подчеркнул слово «точно». Не потому, что мог забыть, но потому, что много лет подряд ему не нужно было приходить куда-то «точно», за исключением, может быть, зубного врача, – и это вызывало у него необычное волнение.
Выпив первую за день чашку крепкого кофе, Джулиан пошел в гардеробную. В те времена, когда они с Мэри принимали гостей, остававшихся на ночь, это была гостевая комната, но теперь она была заполнена рядами металлических стоек с висевшей на них одеждой Джулиана и расставленной внизу обувью. Джулиан любил свои шмотки. Каждая хранила в себе воспоминания о времени, событии, любовном романе. Если закрыть глаза и сильно вдохнуть, иногда можно было почуять запах ушедшей эпохи: домашнего конфитюра Мэри, бездымного пороха с шоу фейерверков на маскараде в Венеции или конфетти из лепестков роз со свадьбы в «Кларидже».
Стоящая в углу кушетка была завалена разными предполагаемыми на сегодня шмотками, которые Джулиан приготовил еще с вечера. Последнее время одевание занимало у него так много времени, что важно было иметь гардероб на выбор прямо перед выходом, а иначе он весь день мог провести, застегивая и расстегивая пуговицы непослушными артритными руками. Окинув критическим взглядом различные опции, он остановился на более скромной. Профессионально. Удобно. Ему не хотелось, чтобы одежда отвлекала от главного – урока рисования.
Затем Джулиан пошел в свою студию с высоченным потолком, свет в которую лился через стеклянную крышу и окна от пола до потолка, и открыл ящик с надписью «КАРАНДАШИ». По природе Джулиан не был таким уж аккуратным. Исходя из общепринятых стандартов, в его доме царил бардак. Однако две стороны своей жизни он содержал в безупречном порядке: одежда и художественные материалы. Он тщательно отбирал обычные карандаши, чернографитные карандаши и ластики: какие-то из них были довольно новые, другие относились ко времени Битлз – и все, что в промежутке. Любимые карандаши Джулиана затачивались так много раз, что их было почти невозможно держать в руке, но он не мог их выбросить. Это были старые друзья.
Джулиан порадовался, что все еще может привлечь к себе толпу. Та приятная дама, Моника, сказала ему, что на вечерний мастер-класс придут десять человек. Ей даже пришлось некоторым отказать! Да, есть еще порох в пороховнице.
Он покружил по студии, собирая вещи, которые могли пригодиться его новым студентам, нашел для них несколько этюдных досок. В качестве задников для натюрмортов ему подошли бы ткани, в которые были задрапированы манекены. Он покопался в своих любимых справочниках в поисках образцов, способных вдохновить самых простодушных учеников. Он старался не отвлекаться на расставленную в хронологическом порядке коллекцию выставочных каталогов, которая с легкостью могла перенести его в художественный мир Лондона шестидесятых, семидесятых и восьмидесятых.
Моника просила за двухчасовой урок по пятнадцать фунтов с человека. Джулиан посчитал, что цена высокая, но она не придала его словам значения, сказав: «Это Фулхэм. Здесь люди больше платят за выгул собаки». Ему заплатили семьдесят пять фунтов за сессию (небольшое состояние!), и Моника к тому же дала ему деньги на покупку дополнительных материалов, которые он при необходимости мог купить в магазине для художников.
Джулиан взглянул на карманные часы. Было десять часов утра. Магазин как раз должен был открыться.
Проходя мимо кафе, Джулиан увидел, как Моника с подносом напитков в руках прокладывает себе путь в обход очереди, собравшейся у стойки. Он еще раньше заметил, что Моника ни минуты не пребывает в покое. Даже сидя, она была оживлена, энергично размахивая из стороны в сторону темным хвостом. Сосредоточившись на чем-то, она непрерывно накручивала на указательный палец прядь волос, а слушая кого-то, наклоняла голову набок, совсем как его старый джек-рассел.
Джулиан по-прежнему скучал по своему псу Киту. Тот околел как раз через несколько месяцев после смерти Мэри. Он винил себя за то, что, скорбя по Мэри, не уделял должного внимания питомцу. Кит тогда начал чахнуть, постепенно утрачивая энергию и живость, пока однажды вовсе не перестал двигаться. Джулиан попытался тогда скопировать эту медленную, но верную манеру умирания, но и в этом, как во многих других вещах, потерпел неудачу. Он положил трупик Кита в хозяйственную сумку, отнес на кладбище и, пока никто не видел, зарыл его рядом с Адмиралом.
Похоже, Моника всегда знает, что делает и куда идет. В то время как большинство людей казались сломленными превратностями судьбы, у Моники был такой вид, будто она на каждом шагу направляет свою судьбу или даже борется с ней. Джулиан был знаком с ней всего неделю, но возникало ощущение, что она подобрала его, переустроила все, что его окружало, и поместила его в реальность, измененную непостижимым и чудесным образом.
И все же, хотя Моника успела здорово повлиять на его жизнь, Джулиан осознавал, что едва знаком с ней. Он действительно хотел написать ее, словно его кисть могла обнажить правду, прячущуюся за защитным барьером, который она воздвигла вокруг себя. Джулиану уже пятнадцать лет не хотелось никого писать.
Сколько раз за последние несколько лет Джулиан шел по этой улице, с изумлением глядя на проносившихся мимо людей, любопытствуя, куда они идут и что делают, в то время как сам он бесцельно переставлял ноги только из страха, что если не будет этого делать, то его окончательно заклинит? Но сегодня он был одним из них – человеком, идущим куда-то.
Джулиан начал напевать себе под нос, вызвав улыбку у одного или двух человек, проходивших мимо. Не привыкший к подобной реакции, он подозрительно глянул на них, и те ускорили шаг. В магазине для художников Джулиан отобрал двадцать больших листов плотной бумаги и отнес их к кассе. Нет ничего более бодрящего, подумал он, но и пугающего, чем чистый лист бумаги.
– Я покупаю материалы для своего мастер-класса, – сообщил он кассиру.
– Угу, – пробурчал тот.
Его вряд ли можно было назвать говоруном.
– Интересно, будет ли сегодня у меня на уроке какой-нибудь многообещающий Пикассо, – сказал Джулиан.
– Наличные или карта? – откликнулся кассир.
На лацкане его пиджака красовался беджик с пятью звездами за обслуживание покупателей. Джулиан подумал: а каковы кассиры с одной звездой?
Следующая остановка – реквизит.
Джулиан задержался возле углового магазинчика, перед которым были выставлены большие корзины с фруктами и овощами. Может быть, чаша с фруктами? Нет. Скучно и банально. Даже урок для начинающих может быть более оригинальным, не так ли? И тут – словно его огрели по лицу мокрой копченой селедкой – в нос ему ударил запах рыбной лавки. Он взглянул на витрину, и вот оно – то, что нужно.
Моника
Моника взглянула на большие вокзальные часы на стене кафе. Без двух минут семь. Большинство студентов класса рисования уже пришли и подогревали свою креативность бокалами красного вина. В качестве дополнительного стимула для привлечения студентов Моника заранее предложила первый бокал бесплатно. Найти студентов было трудновато. Ей пришлось поднять несколько своих связей. Она упросила присоединиться двух своих поставщиков, а также бойфренда Бенджи – База. Чтобы заполнить последнее место, она даже пошла на флирт с мойщиком окон, не забыв извиниться перед памятью Эммелин Панкхёрст. Теперь, если она включит и себя, будет десять студентов. Приличное число. Если Бенджи удастся втюхать достаточно бокалов вина и других напитков, она может даже, заплатив Джулиану и Бенджи и закупив материалы, начать тратить, несмотря на снижение стоимости первого урока до десяти фунтов. Моника вновь посмотрела на часы. Она очень надеялась, что Джулиан не струсит.
В зале кафе слышался гул – это студенты, соревнуясь друг с другом, рассказывали, какие они бесталанные в живописи. Тут открылась дверь, и все умолкли. Моника заранее предупредила всех, что Джулиан немного эксцентричен. К тому же она чуть раскрутила его резюме. Она нисколько не сомневалась, что он не писал портрет королевы. Но все равно группа оказалась неподготовленной к появлению Джулиана. Он стоял в дверях в ниспадающей складками блузе художника, бордовой фетровой шляпе, с экстравагантным галстуком на шее, на ногах – сабо.
Джулиан помедлил, как будто для того, чтобы дать группе упиться своим видом. Потом засунул руку себе под блузу и театральным жестом извлек огромного омара. Баз поперхнулся, разбрызгивая красное вино по столу и новехонькой футболке Бенджи «Супердрай».
– Класс! – с легким театральным кивком произнес Джулиан. – Познакомьтесь с сегодняшним объектом.
– Господи! – затаив дыхание, пролепетал Баз. – Он еще живой?
– Он довольно старый, но пока не умер, – возразил Бенджи.
– Очевидно, я имел в виду омара, – закатив глаза, произнес Баз.
– Не будь олухом. Он красный, а это значит, его приготовили.
– Что такое «олух»? Рыба такая? – спросил Баз.
– Нет, то окунь, – ответил Бенджи.
Поскольку на всех студентов стульев не хватило, Бенджи с Базом сидели на одном кресле. Баз занял сиденье, а Бенджи устроился на одном из подлокотников. Каждому было лет по двадцать пять, их имена хорошо сочетались с точки зрения аллитерации, но в физическом смысле они были полной противоположностью. Бенджи, рыжеволосый шотландец, в ветреный день мог выглядеть как Тинтин, доросший до шести футов. Баз, с его китайскими корнями, был невысоким, темноволосым и жилистым. Родители База держали китайский ресторан напротив Бродвея, открытый еще дедом и бабкой, и все три поколения жили в квартире над рестораном. Бабушка База постоянно выискивала симпатичную девушку для единственного внука, который в конечном итоге должен был стать поваром.
Моника заранее расставила маленькие столы в кружок, а в центре – большой стол. Джулиан церемонно водрузил омара на блюдо, которое поставил на центральный стол, потом раздал всем бумагу для этюдов, подставки и комплект карандашей с ластиками.
– Меня зовут, – начал он, – Джулиан Джессоп. А этого красивого ракообразного зовут Ларри. Он отдал свою жизнь, чтобы вдохновить вас. И пусть его смерть не будет напрасной. – Он обвел пристальным взглядом сидевших с открытыми ртами учеников. – Мы собираемся рисовать его. Не важно, есть у вас опыт или нет, просто попытайтесь. Я буду ходить вокруг и помогать вам. На этой неделе займемся карандашом. Понимаете, рисунок в живописи – то же, что грамматика в литературе. – (Моника немного успокоилась; она любила грамматику.) – На следующей неделе можем перейти к рисунку углем или к пастели, затем в конечном итоге к акварели. – Джулиан широко взмахнул рукой, отчего рукав его блузы раздулся, как крыло гигантского альбатроса; от дуновения воздуха лист Моники слетел со стола. – Начинайте! Дерзайте! Смелее! Но превыше всего – оставайтесь собой!
Монике было не вспомнить, когда в последний раз два часа пролетали так быстро. Джулиан бесшумно скользил за спинами студентов, которые отважно пытались перенести на бумагу это существо доисторического вида, время от времени наклоняясь к кому-то, чтобы подбодрить, похвалить, исправить тона тени. Моника была довольна пропорциями своего Ларри. Она постаралась точно измерить его способом, которому научил их Джулиан: закрыв один глаз, держишь карандаш. Но поневоле она подумала, что с линейкой получилось бы точнее. Она осознавала, каким жутко плоским выглядит ее омар, словно его расплющили тяжелым предметом, упавшим с большой высоты. Моника почувствовала, что у нее за спиной стоит Джулиан. Он подошел к ней сбоку с карандашом в руке и ловко набросал клешню омара в углу ее листа. Буквально несколькими штрихами он изобразил нечто, готовое спрыгнуть с листа.
– Вот так. Видите? – спросил он.
Да, она видела разницу, но в состоянии ли она создать такое? Ни малейшей надежды.
Несколько раз тишину нарушали звонки сотовых, треньканье голосовой почты, Twitter и Snapchat. Джулиан прошелся по комнате, собирая в свою шляпу все телефоны, игнорируя стоны и протесты. Гаджеты были сосланы за барную стойку. Моника осознала, что впервые за много лет она два часа не смотрела в телефон, не считая времени сна и выхода из зоны приема. Это необычным образом раскрепощало.
В девять часов, минута в минуту, Джулиан хлопнул в ладоши, отчего половина студентов – тех, кто сосредоточился на рисовании, – подпрыгнули.
– На эту неделю всё, господа! Отличное начало. Все просто молодцы! Не забудьте подписать свои рисунки и поставить дату, после чего несите их сюда, чтобы мы вместе на них взглянули.
Студенты неохотно потащились вперед, сжимая в руках свои этюды, которые, несмотря на то что все рисовали одного и того же омара, здорово отличались один от другого. Джулиану удалось сказать что-то позитивное о каждом рисунке. Он отмечал необычную композицию, поразительную светотень, приятные формы. Удивляясь в какой-то степени неожиданной чувствительности Джулиана, Моника хотела знать лишь одну вещь: выиграла ли она?
– А теперь, – повернувшись к Монике, сказал Джулиан, – что мы сделаем с Ларри?
– Э-э, съедим его? – откликнулась Моника.
– В точности мои мысли! Верно, нам понадобятся тарелки, салфетки. Нет ли лишнего хлеба, сыра? Может быть, немного салата?
Моника вряд ли осмелилась бы сказать, что она не имела в виду прямо сейчас. Боже правый, это превращается в званый обед. Ни на йоту планирования или подготовки. Наверняка добром это не закончится!
Бенджи и Баз носились взад-вперед в кухню и обратно с тарелками, парой багетов, оставшихся после ланча, половиной очень зрелого бри, несколькими порциями салата и огромной банкой майонеза. Джулиан извлек откуда-то бутылку шампанского. Пряталась ли она вместе с Ларри под его блузой художника? Что еще мог он там заныкать? Моника поежилась.
Но вскоре, помимо своей воли, Моника начала входить во вкус. Стараясь не думать о стремительно уменьшающейся прибыли, она принесла из своей квартиры над кафе несколько свечей. Вечеринка была в разгаре.
Моника бросила взгляд на Джулиана, который, откинувшись на спинку стула, рассказывал байки о разгульных шестидесятых.
– Марианна Фейтфулл? Такая потеха. Лицо как у ангела, но у нее грязные шутки были почище, чем у сексуально озабоченного школьника, – слышала она его слова.
Его оживленное лицо в мягком свете свечей на миг показалось Монике таким, как на портрете из Национальной галереи.
– Каким был Фулхэм тогда, Джулиан? – спросила она у него.
– Милая девочка, он был похож на Дикий Запад! Он тогда граничил с Челси, и многие из моих друзей отказывались заходить дальше. Район был очень грязным, индустриальным и бедным. Мои родители приходили от него в ужас и никогда не приезжали в гости. Им было хорошо только в Мейфэре, Кенсингтоне и ближних графствах. Но мы любили Фулхэм. Мы заботились друг о друге. За Ларри! – поднимая бокал шампанского, воскликнул он. – И конечно, за Монику! – добавил он, с улыбкой взглянув на нее. – Кстати, о ней: пусть каждый положит десятку в мою шляпу за обед. Мы не хотим, чтобы она осталась внакладе!
И при этих словах Моника тоже улыбнулась.
Хазард
Энди поставил на стол большое блюдо с рыбой.
– Боже, какая вкуснятина! – произнес вновь прибывший с акцентом, который, по мысли Хазарда, зачинался няней с плоскогорья Норланд, оформился в сельской английской подготовительной школе и был отшлифован в офицерской столовке.
В чиносах и сшитой на заказ рубашке, застегнутой на все пуговицы, этот парень чувствовал себя явно не в своей тарелке. Хорошо хоть рубашка была с коротким рукавом. Хазард поставил себе задачу до конца недели нарядить его в саронг.
Хазард уже проделал некоторые предварительные изыскания. Он знал, что этого взлохмаченного, громогласного, но очень веселого и дружелюбного новичка зовут Родерик и что он сын Дафни. Насколько мог судить Хазард, этот малый не имел ни малейшего представления о грандиозном романе своей матери с Ритой. Он рассказал Хазарду, что устал ждать возвращения Дафни в Великобританию и вместо этого решил пару недель погостить у нее. Он не вполне понимал, почему она настаивает на столь долгом пребывании на острове, но если это облегчает ее горе в связи с кончиной его дорогого отца, то, значит, так ей лучше. Хазард мрачно кивал, не упоминая о том, что не замечал у веселой вдовы ни малейших признаков скорби.
– Где ты живешь, Родерик? – спросил Хазард, накладывая себе риса и рыбы.
– Баттерси! – ответил тот. – Я агент по недвижимости!
Родерик выкрикивал каждое слово с такой энергией и энтузиазмом, что невозможно было представить его недовольным или подавленным. Он наверняка будет безмерно подбадривать Монику. Хазарду были симпатичны агенты по недвижимости, которые наряду с банковскими служащими вызывали сильную неприязнь нации. Моника не показалась ему настолько недалекой, чтобы для себя вычеркнуть эту профессию целиком. По крайней мере, муж, вероятно, будет часто отсутствовать дома, являясь в то же время владельцем квартиры. Баттерси был еще одним преимуществом, поскольку находился напротив Фулхэма, на другом берегу реки.
– Жена с тобой не приехала? – небрежным тоном спросил Хазард.
– Я разведен, – ответил Родерик, вынимая изо рта мелкие рыбьи кости и демонстрируя при этом приемлемый уровень гигиены полости рта, потом он аккуратно положил косточки на край тарелки. – Впрочем, все вышло полюбовно. Очаровательная девушка. Детская влюбленность. Просто отдалились друг от друга. Ты же знаешь, как это бывает.
Хазард сочувственно кивнул, хотя совсем не испытывал сочувствия, поскольку его романы длились не больше нескольких месяцев.
– Ну и что, отказался от мысли о женитьбе? Не станешь больше пробовать?
– Господи, почему нет? Охотно. Лучшая штука на свете. – Выражение его лица смягчилось, когда он взглянул на Дафни, не замечая, что ее рука лежит на колене Риты; Дафни шептала что-то на ухо подруге. – Знаешь, мои родители были обалденно счастливы. Женаты более сорока лет. Надеюсь, мама не очень одинока. – На миг он погрустнел, потом взял себя в руки. – Честно говоря, одному мне не очень здорово. Нужна женщина, которая будет держать меня в узде, не говоря уже о готовке. Ха-ха! Просто мне надо найти какую-то глупышку, которая согласится возиться со мной!
Хазард вспомнил строчки из истории Моники. Я стараюсь не придираться, не обращать внимания на то, что парень не читал Диккенса, что у него грязные ногти или он разговаривает с набитым ртом.
– Думаю, ты вряд ли привез с собой книги, да? Мне нечего читать. Я бы с удовольствием почитал Диккенса, – сказал Хазард, скрестив пальцы под столом.
– Только электронную книгу, и, боюсь, я со школы не читал Диккенса.
Этот подойдет. Хазард улыбнулся про себя. После нескольких недель безрезультатного допрашивания с пристрастием каждого холостого мужчины подходящего возраста он, похоже, наконец открыл ларчик.
Обмениваясь дружескими шутками с вновь выбранным Ромео, Хазард осознал, что ему немного грустно. Он ощущал какую-то пустоту. Его попытки пристроить девушку, с которой он, по сути, даже толком не разговаривал, могли показаться немного странными, но это, по крайней мере, отвлекало его от собственных проблем. Чем же ему заняться теперь?
Моника и Родерик. Родерик и Моника. Хазард представил себе, что Моника снова смотрит на него, но на этот раз с выражением глубочайшей признательности, в то время как в тот раз было отвращение. Ну и как же ему организовать встречу этих двух несчастных любовников, если он сам находится на другом конце света? Тетрадь с записями – вот ответ. Ему надо придумать способ засунуть ее в багаж Родерика. Эта тетрадь приведет его к ней.
Хазард уже собирался вернуться к себе в бунгало за тетрадью, когда вспомнил о последнем, и самом важном тесте.
– У вас с женой были дети? – спросил он Родерика.
– Дочка, Сесили, – ответил тот с глуповатой улыбкой на лице, выуживая из бумажника фотографию.
Как будто Хазарду было интересно, как она выглядит. Его интересовал лишь ответ на следующий вопрос.
– А ты хотел бы когда-нибудь иметь еще детей? Если найдешь подходящую женщину?
– Никаких шансов, старина. Меня стерилизовали. Жена настояла – сказала, что не хочет снова проходить через все это. Ты же знаешь – беременность, подгузники, бессонные ночи. – (Хазард не знал, да и не хотел знать, по крайней мере сейчас.) – Это была одна из вещей, из-за которой мы ссорились. Начало конца, а я просто хотел, чтобы она была счастлива. К тому же либо это, либо никакой интимной жизни. Ха-ха!
– Ха-ха, – эхом отозвался раздосадованный Хазард, потому что это разрушило все его продуманные планы.
Для Моники вопрос репродукции не подлежал обсуждению. Хазарду пришлось вычеркнуть Родерика из списка и начать сначала.
Не один раз на протяжении последующих недель Хазард порывался прекратить эту игру в сводничество. Казалось невероятным, что на крошечном пляже этого крошечного острова появится нужный мужчина. Но, как это часто бывает, едва он решил прекратить свои попытки, идеальное решение просто упало ему в руки, словно Вселенная заигрывала с провидением.
Джулиан
Джулиан просто не мог поверить в то, как сильно изменилась его жизнь с тех пор, как он пять недель назад оставил в кафе Моники свою тетрадь. Он толком не знал, чего ожидал от «Правдивой истории», но точно не предполагал, что получит работу и группу людей, готовых стать его друзьями.
В прошлую пятницу он, как обычно, пошел на кладбище с бутылкой «Бейлиса» и, подходя к могиле Адмирала, подумал, что воображение сыграло с ним злую шутку. У него в голове прошлое и будущее частенько сталкивались, а потому он не слишком удивился, увидев, что его ожидают два старых друга со стаканами и бутылкой вина в руках. Но сейчас это было не воспоминание. У могилы стояли Бенджи с Базом (такие милые мальчики). Вероятно, Моника сказала им, где его можно найти.
Джулиан заметил, что при ходьбе начал немного подпрыгивать, а до недавнего времени шаркал ногами. Где она сейчас, думал он, эта небольшая тетрадь, вызвавшая такие изменения? Сошел на нет его проект или вырвался в большой мир и творит где-то свою магию?
Сегодня пошла третья неделя его мастер-класса по рисованию. Группа увеличилась до пятнадцати человек, чему способствовало также и то, что Моника вывесила на доске объявлений в кафе несколько лучших зарисовок Ларри. Спонтанные, но шумные ужины после урока, на которые по-прежнему собирали в шляпу по десять фунтов, оказались еще большей приманкой, чем само занятие. В тот вечер Джулиан принес из дома какие-то бархатные шлепанцы, книгу в кожаном переплете и старую курительную трубку. Все это он разместил на куске узорчатой ткани на центральном столе. На первых занятиях Джулиан объяснял студентам значение тона, обучал их технике владения карандашом и углем, а сегодня принес с собой коробки с пастелью для их первого опыта с цветом, показывая классу некоторые простые приемы.
Джулиан как раз передавал студентам для вдохновения несколько копий пастелей Дега, когда у него за спиной послышался шум. Он обернулся и увидел, как поворачивается ручка входной двери. Моника отодвинула стул и пошла отворить дверь.
– К сожалению, мы закрыты, – услышал он ее слова. – Это частный урок живописи. Правда, еще не поздно присоединиться к нам, если у вас есть пятнадцать фунтов и желание попробовать.
Когда Моника вернулась к группе с молодым человеком, Джулиану стало понятно, почему она не прогнала его. Он не из тех, кого отвергают, подумал Джулиан. Даже оценивая критическим взглядом симметрию его лица и телосложение, Джулиан должен был признать, что этот посетитель великолепен. Смуглый, с темно-карими глазами, но с копной непокорных, непостижимо белокурых волос. И как будто этого очарования было мало, он приветствовал группу словами, произнесенными с австралийским акцентом, от которого повеяло взморьем.
– Все в порядке, ребята? Я Райли.
Моника взяла чистый лист бумаги и, освободив место, положила его на свой стол, после чего придвинула к столу еще один стул.
– Просто покажи, на что ты способен, Райли, – объясняла она парню. – Не считая Джулиана, мы все здесь любители, так что не стесняйся. Кстати, меня зовут Моника.
Все, сидящие в кружке, по очереди представились. Последним был Джулиан, объявивший свое имя с театральным поклоном и взмахом панамы, которую он надел тем утром в дополнение к кремовому полотняному костюму. В результате из панамы посыпались три сотовых. Ловким движением руки он подхватил телефоны, превращаясь из плантатора в вора-карманника.
Джулиан замечал, что каждый новый человек изменяет динамику и настроение всей группы, как это бывает при подмешивании к палитре нового цвета. Райли добавил желтого. Не бледно-желтого, как у примулы, не насыщенного желтого или цвета темной охры, а яркой, горячей желтизны солнечного света. Каждый студент казался чуть более раскованным, более оживленным. Софи и Кэролайн, две мамочки средних лет, всегда сидевшие вместе и обсуждавшие школьные сплетни, пока рисовали, повернулись к нему, как нарциссы к солнечному свету. У База был совершенно потрясенный вид, а Бенджи немного ревновал. Сам Райли, похоже, не отдавал себе отчета в том действии, которое оказывал на окружающих, подобно тому как камешек не видит ряби на воде, произведенной от его бросания. Райли сосредоточенно хмурился, глядя на чистую черную бумагу перед собой.
Софи прошептала что-то Кэролайн, кивая в сторону Райли. Кэролайн рассмеялась.
– Перестань! – сказала она. – Пожалуйста, не смеши меня. После трех детей мое тазовое дно этого не вынесет.
– Я понятия не имею, что такое тазовое дно, – заметил Джулиан, – но, пожалуйста, в следующий раз оставьте его дома, чтобы не сорвался мой урок рисования.
Сказав это, он немного разозлился, когда Софи и Кэролайн разразились новым приступом смеха.
Джулиан начал привычное кружение по комнате, то подбадривая кого-то, то добавляя пятно цвета, проворно исправляя пропорции или перспективу. Дойдя до Моники, он улыбнулся. Моника была одной из самых прилежных учениц. Она внимательно слушала и стремилась все сделать правильно. Но сегодня она впервые рисовала сердцем, а не просто головой. Ее штрихи смягчились, стали более непосредственными. Наблюдая, как она смеется и шутит с Райли, Джулиан понимал, в чем было дело: она перестала слишком стараться.
На миг Джулиан подумал, а не является ли он свидетелем начала романа. Может быть, большая любовь или просто краткая интерлюдия. Но нет. Одно из преимуществ ремесла художника состоит в том, что проводишь много времени, наблюдая за людьми, примечая не только тени и очертания их лиц, но и заглядывая им в душу. Это наделяет тебя почти сверхъестественной проницательностью. Приобретаешь, особенно приближаясь к возрасту Джулиана, способность понимать людей и предугадывать их поведение. Джулиан полагал, что Моника чересчур независима, чересчур энергична и целеустремленна, чтобы ее привлекло смазливое лицо. У нее, как он считал, более высокие амбиции, чем замужество и дети. Это была одна из черт, которая так восхищала его в ней. Хотя в молодые годы он не стал бы ухаживать за Моникой. Она отпугнула бы его. Джулиан предположил, что Райли напрасно теряет время.
Моника
Стук в дверь разозлил Монику. Она была поглощена поиском нужного оттенка бордового для своих шлепанцев. Она встала, чтобы отослать непрошеного гостя, но, открыв дверь, увидела мужчину с такой чарующей улыбкой, что помимо своей воли пригласила его присоединиться к ним и освободила для него место. Рядом с собой.
Моника не очень-то умела общаться с незнакомцами. Обычно она была слишком озабочена тем, чтобы произвести хорошее впечатление, и ей было трудно расслабиться. Она всегда помнила то, что ей сказали перед ее первым собеседованием при приеме на работу: мнение о вас формируется на девяносто процентов в первые две минуты. Но Райли был таким человеком, которого никогда не воспринимали как незнакомца. Казалось, он влился в их группу как финальный ингредиент кулинарного рецепта. Неужели он всегда так легко приспосабливается? Какое необыкновенное умение. Чтобы увидеть происходящее, Монике всегда приходилось проталкиваться с помощью локтей или стоять в стороне, выворачивая шею.
– Давно ты в Лондоне, Райли? – спросила она у него.
– Я прилетел позавчера, а из Перта вылетел десять дней назад и сделал по пути пару остановок. Я остановился у знакомых моих друзей, в Эрлс-Корте.
Манера поведения Райли отличалась непринужденностью и расслабленностью – такой контраст по сравнению с чопорностью большинства лондонцев. Он успел скинуть свои ботинки и раскачивал взад-вперед босой загорелой ступней. Монике стало любопытно, не остались ли песчинки между пальцами его ног. Она боролась с искушением уронить карандаш, чтобы иметь повод пошарить под столом и посмотреть. «Перестань, Моника», – упрекнула она себя, вспомнив одно из любимых высказываний своей матери: «Женщине нужен мужчина, как рыбе зонтик». Но по временам это казалось чертовски противоречивым. Как, к примеру, это увязывалось с таким: «Не тяни с замужеством, Моника. Ничто не приносит больше радости, чем семья»? Даже у Эммелины Панкхёрст были муж и дети – пятеро детей. Нелегко правильно построить свою жизнь.
– Ты бывал раньше в Лондоне? – спросила она у Райли.
– Нет. По сути дела, я впервые в Европе, – ответил он.
– Завтра я поеду за продуктами на Боро-маркет. Хочешь поехать со мной? Это один из моих любимых уголков Лондона, – сказала Моника, даже не успев сообразить, что делает.
Откуда это у нее?
– С удовольствием, – ответил он с улыбкой, казавшейся вполне искренней. – Когда собираешься? У меня нет никаких планов.
Разве у человека может не быть планов? И он даже не спросил, где находится Боро-маркет. Моника никогда не согласилась бы на встречу без должной осмотрительности. Но она была очень рада, что он согласился.
– Почему бы тебе не подъехать сюда примерно в десять? После утреннего часа пик?
К своей рабочей форме из свежей белой блузки и черных брюк она добавила ярко-красный свитер, сапожки на низком каблуке, серьги в виде больших колец и яркую губную помаду. Она без устали повторяла себе, что это рабочая поездка, а не свидание. Райли хотелось получше узнать Лондон, а ей нужна была помощь с сумками. Будь это все-таки свидание, она бы несколько дней мучилась, не зная, что надеть, заготовила бы остроумные шутки, которые небрежно вставляла бы в разговор и выискивала бы потенциальные места на случай неожиданного изменения планов. Подготовка – ключ к эффективной спонтанности. Не то чтобы это до сих пор помогало, подумала Моника, вспомнив Дункана, вегана, любителя пчел. Она задержалась на мысли о нем, словно проверяла больной зуб, болит ли еще. Ничего, кроме тупой боли. Отлично, Моника!
Райли немного опоздал. Хотя она и сказала «примерно в десять», стараясь быть небрежной, но имела в виду десять. Не пол-одиннадцатого. Но сердиться на Райли было все равно что наказывать щенка. Он был такой подвижный, так полон энтузиазма и так отличался от нее, что показался ей занимательным, но чуть утомительным. Какой он сногсшибательный красавчик! – подумала она, но отругала себя за поверхностность. В любых обстоятельствах сексуальная объективация – это нехорошо.
– Хотел бы я, чтобы мои братья и сестры все это увидели, – сказал Райли, когда они бродили вокруг прилавков.
Различные культуры и влияния, создавшие плавильный котел Лондона, соперничали друг с другом, атакуя органы чувств и соревнуясь за клиентуру.
– Хотела бы я иметь братьев и сестер, – отозвалась Моника. – Я была единственным долгожданным ребенком.
– Ты придумывала себе воображаемых друзей? – спросил Райли.
– Нет, по сути дела, нет. Говорит ли это о моем ужасно скудном воображении? Но я давала имена всем своим плюшевым мишкам и каждый вечер отмечала их в особом журнале.
О господи, наверное, она слишком откровенна?! Она наверняка слишком откровенна.
– Все свободное время я проводил на Тригг-Бич, занимаясь серфингом со старшими братьями. Они брали меня с собой, когда я был совсем маленьким и не мог даже нести свою доску, – сказал Райли, когда они встали в очередь за роллами со свининой. – Я люблю уличную еду, когда ешь прямо руками, а ты? В смысле – кто изобрел ножи и вилки? Какое занудство!
– Честно говоря, уличная еда меня немного напрягает, – призналась Моника. – Я уверена, у них нет регулярного контроля безопасности пищевых продуктов и ни один не покажет вам заключение об их санитарно-эпидемиологическом состоянии.
– А я уверен, что все абсолютно безопасно, – возразил Райли.
Монике нравился его оптимизм, но она считала Райли опасно, пусть и восхитительно наивным.
– Неужели? Посмотри на эту продавщицу. На ней нет перчаток, несмотря на то что она готовит и к тому же крутит в руках деньги – рассадник бактерий.
Моника понимала, что, вероятно, может показаться немного занудной. Очевидно также, что Райли гораздо меньше, чем ее, беспокоила безопасность пищевых продуктов.
Немного погодя Моника осознала, что вопреки своему желанию получает удовольствие от поедания пищи без вилки и ножа прямо на улице, в компании потрясающего мужчины, которого едва знает. Она вела себя совершенно безрассудно. Мир вдруг показался ей таким широким, полным возможностей, которых не было несколько мгновений назад.
Они перешли к прилавку, где продавались мексиканские чуррос, еще теплые, покрытые сахарной и шоколадной глазурью.
Райли поднял руку и чуть прикоснулся большим пальцем к краешку ее рта.
– Тут у тебя остался шоколад, – сказал он.
Моника внезапно ощутила желание, оно было намного слаще, чем чуррос. Она мысленно перечислила все причины, по которым, несомненно, чувственные, но абсолютно нежелательные видения, заполнившие ее воображение, никогда не станут реальностью.
1. Райли оказался здесь проездом. Нет никакого смысла в это ввязываться.
2. Райли всего тридцать лет, он на семь лет моложе ее. А выглядит еще моложе – потерявшийся в Неверленде мальчик.
3. Так или иначе, он никогда ею не заинтересуется. Она примерно представляла себе, какое место занимает в негласной иерархии привлекательности. Райли, с его экзотической красотой (отец – австралиец, мать – балийка, как она узнала) был явно не ее поля ягода.
– Нам пора возвращаться, – сказала она, осознавая, что, пусть ее успели околдовать, она сама разрушает чары.
– Твои родители тоже гурманы, Моника? У тебя это от них? – спросил Райли, когда они огибали прилавок, стонущий под тяжестью корзин с оливками всех оттенков зеленого и черного.
– На самом деле моя мама умерла, – откликнулась Моника. Зачем она это сказала? Уж она-то должна была понимать, что это могло свести разговор на нет, но она продолжала говорить, захлебываясь словами, чтобы избежать паузы, которую Райли попытался бы заполнить. – В нашем доме было полно удобных продуктов: картофельное пюре быстрого приготовления, блинчики «Финдус», а для особых случаев – куриные котлеты. Понимаешь, мама была страстной феминисткой. Она считала, что, готовя пищу с нуля, женщина подчиняется патриархату. Когда в моей школе объявили, что девочки будут заниматься домоводством, а мальчики столярным делом, она грозилась приковать себя наручниками к школьным воротам, пока мне не предоставят свободный выбор. Я так завидовала своим подругам, которые приносили домой затейливо украшенные пирожные в бумажной обертке, в то время как я корпела над хлипким скворечником.
Моника живо вспомнила, как кричала на мать: «Ты не Эммелин Панкхёрст! Ты просто моя мама!»
Мать ответила тогда голосом, в котором слышался металл: «Мы все Эммелин Панкхёрст, Моника. Иначе для чего было все это?»
– Готов поспорить, Моника, твоя мама по-настоящему гордилась бы тобой сейчас. У тебя свой бизнес.
Райли сказал именно то, что нужно, и Моника почувствовала комок в горле. О господи, только не плачь! Она вновь призвала певицу Мадонну. Мэдж никогда, ни за что не позволила бы себе расплакаться на публике.
– Думаю, да. По сути, это одна из главных причин, почему я открыла кафе, – произнесла она, сумев справиться с дрожью в голосе. – Потому что я знаю, как ей это понравилось бы.
– Мне очень жаль, что твоей мамы уже нет. – Райли обнимал ее за плечи немного неловко, поскольку тащил на себе ее покупки.
– Спасибо, – ответила она. – Это было давно. Просто я никогда не могла понять, почему она. Она была такой энергичной и живой. Можно было предположить, что рак выберет более уязвимую мишень. Обычно она терпеть не могла разговоров о борьбе с болезнью. Она говорила: «Как я могу бороться с чем-то, чего даже не вижу? Здесь нет одинаковых для всех правил игры, Моника».
Они пошли в ногу, в чуть напряженном молчании, потом Моника вернула разговор к структуре цен, почувствовав себя более уверенно.
– Не знаю, смогу ли долго выдержать в этом климате. О чем я только думал, приехав в Англию в ноябре? Никогда не бывал в более холодном месте, – говорил ей Райли, пока они шли по Лондонскому мосту, возвращаясь на северный берег реки. – У меня в рюкзаке хватило места только для легких шмоток, поэтому, чтобы не замерзнуть насмерть, пришлось купить эту куртку.
Его австралийский выговор превращал каждое предложение в вопрос. Порыв ветра швырнул длинные темные волосы Моники ей в лицо.
Она остановилась на середине моста, чтобы показать Райли некоторые лондонские ориентиры, выстроившиеся на берегах Темзы: собор Святого Павла, корабль-музей Крейсер «Белфаст» и Тауэр. Пока она говорила, произошло нечто необыкновенное. Райли, по-прежнему нагруженный связками коробок и сумок, наклонился к Монике и поцеловал ее. Вот так просто. Посреди фразы.
Разумеется, этого делать не следовало? В наши дни и в наше столетие это совершенно неуместно. Надо было спросить разрешения. Или, по крайней мере, дождаться сигнала. Она рассказывала в тот момент: «Существовало такое суеверие, что, если во́роны улетят из лондонского Тауэра, то корона и государство падут». Ей даже в голову не могло прийти, что он принял эту фразу за поощрение. Моника ждала, когда в ней вспыхнет возмущение, но в результате поймала себя на том, что отвечает на его поцелуй.
«О женщины, вам имя – вероломство!»[3] – подумала Моника, но вслед за тем сразу: вот блин! Она в отчаянии пыталась ухватиться за свой воображаемый перечень причин, почему эта идея была абсолютно неподходящей. Затем, когда Райли снова поцеловал ее, она разорвала этот перечень пополам, потом стала рвать его на мелкие кусочки, разбрасывая их по сторонам и глядя, как, подобно снежинкам, они опускаются на реку под ними.
Вряд ли Райли мог стать разумным, долгосрочным вариантом, он слишком отличался от нее – такой молодой, непостоянный. И она побилась бы об заклад, что он никогда не читал Диккенса. Но может быть, ей стоит просто завести с ним интрижку? Посмотреть, что из этого выйдет. Стать непринужденной. Может быть, ненадолго примерить на себя этот образ, как могла бы примерить маскарадный костюм?
Райли
Райли уже несколько часов был на пути к Хитроу, зачарованно глядя на экран трекера полета перед собой, на котором крошечный самолет летел через северное полушарие. До прошлой недели он никогда не пересекал экватор. Неужели правда, что в Англии вода, сливаясь в отверстие раковины, закручивается в противоположную сторону? Он не думал, что выяснит это, поскольку никогда не замечал, в какую сторону вода закручивается у них дома. В смысле, разве на это когда-нибудь обращаешь внимание?
Райли полез в рюкзак, стоявший у него в ногах, за книгой Ли Чайлда, которую читал, но вытащил бледно-зеленую тетрадь. Эта тетрадь ему не принадлежала, хотя напомнила о блокноте, которым он пользовался дома для записи резюме клиентов для своего садоводческого бизнеса. На миг он подумал, что взял не свою сумку, но все остальные вещи в ней были его: паспорт, бумажник, путеводители и сэндвич с курицей, любовно упакованный Барбарой. Он повернулся к женщине средних лет, приветливой на вид, сидевшей рядом с ним.
– Это, случайно, не ваше? – обратился он к ней, подумав, что она по ошибке положила тетрадь в его сумку, но она покачала головой.
Райли перевернул тетрадь и взглянул на обложку. На ней были слова: «Правдивая история». Правдивость. Классное слово. В нем было что-то по-настоящему британское. Райли покатал слово во рту, пытаясь произнести его вслух. Язык не слушался его, и он что-то промычал. Райли открыл первую страницу. Ему предстояло еще восемь часов полета, он мог посмотреть, что там написано, поскольку эта тетрадь, похоже, путешествует автостопом в его багаже.
Райли прочел историю Джулиана, и Моники тоже. Джулиан показался ему характерным персонажем, именно таким, каким он представлял себе англичанина. Монике надо немного расслабиться. Приехать в Австралию и пожить там! Скоро она освоится и обзаведется выводком детей, наполовину австралийцев, которые будут бегать вокруг нее, сводя ее с ума. Райли нашел в алфавитном справочнике, подаренном ему клиентом на прощание, Фулхэм в Лондоне. Это было совсем близко от Эрлс-Корта, куда он направлялся. Какое совпадение. Как странно было думать, что этих людей он никогда не встречал, но знал их потаенные секреты.
Он перевернул следующую страницу, на которой аккуратный округлый почерк Моники уступил место неровным каракулям – словно какое-то насекомое проползло по лужице чернил, а потом издохло.
Меня зовут Тимоти Хазард Форд, хотя, когда у тебя второе имя вроде Хазарда, никто не собирается звать тебя Тимоти, так что бо́льшую часть жизни я был известен как Хазард Форд. Да, мне приходилось выслушивать все эти шутки о том, что мое имя напоминает дорожный знак. Хазард было прозвищем моего деда со стороны матери, и использование его в качестве одного из моих имен было, вероятно, самым большим чудачеством моих родителей. С тех пор над ними всю жизнь висел вопрос: а что подумают соседи?
Хазард. Райли точно знал, кто это такой. Бывший банковский служащий, с которым он познакомился во время последней остановки в Таиланде, тот самый, который очень интересовался жизнью Райли и его планами. Каким образом тетрадь Хазарда оказалась в его рюкзаке? Как вообще он вернет ее?
Ты прочтешь истории Джулиана и Моники. Я не встречался с Джулианом, так что не смогу рассказать о нем что-то еще, но могу немного просветить тебя насчет Моники. Я живу всего в нескольких минутах ходьбы от ее кафе. Оно, кстати, расположено в доме № 783 по Фулхэм-роуд, рядом с книжным магазином «Странник». Тебе понадобится эта информация! Прочитав ее историю, я зашел туда.
Тебе понадобится эта информация? К кому, подумал Райли, обращался Хазард? Вероятно, он это выяснит.
Я пошел туда только для того, чтобы отдать ей тетрадь, но так этого и не сделал. Вместо этого я взял тетрадь с собой в Таиланд, на крошечный остров Ко-Панган.
Я учился в частной школе для мальчиков, куда девочек принимали только в два последних старших класса. Когда новые девочки входили в столовую, каждый из нас поднимал карточку с оценками по десятибалльной шкале. Я не шучу. Сейчас мне ужасно стыдно за это. Во всяком случае, если бы в столовую вошла Моника, я дал бы ей восемь баллов. На самом деле я был тогда таким сгустком гормонов и неутоленных желаний, что, возможно, поднял бы до девяти.
Она вполне ничего себе, Моника. Стройная, с мелкими, изящными чертами лица, вздернутым носом и длинными темными волосами. Но в ней чувствуется энергия, обескураживающая меня до ужаса. Она заставляет меня чувствовать, что я делаю что-то не так. Честно говоря, видимо, так и есть. Она относится к тем людям, которые расставляют все жестянки в буфете наклейками наружу, а книги на полках – в алфавитном порядке. По-моему, она склонна все преувеличивать – по крайней мере, так мне показалось из ее истории, – а от этого хочется убежать куда подальше. Ей также присуща раздражающая привычка загораживать тротуары, но это совсем другая история.
Короче, Моника не мой тип. Но я надеюсь, может быть, твой, поскольку, как видишь, девушке нужен хороший парень, а ты, как я думаю, лучше меня.
Не знаю, сработал ли план Моники помочь Джулиану с помощью рекламы преподавателя рисования, но знаю точно: предоставь я это ей, ничего не получилось бы. Она разместила в окне кафе одно довольно бестолковое объявление, которое он вряд ли заметил бы. Так что я немного помог ей. Я снял то объявление, пошел в ближайший копи-центр и сделал около десяти копий, которые расклеил в районе «Челси стьюдиос». Я нашел даже могильную плиту Адмирала, упоминавшуюся Джулианом, и прилепил к ней одно объявление. Пока я бродил по чертову кладбищу, я чуть не опоздал на свой рейс. Оглядываясь назад, я понимаю, что мной двигал не альтруизм. Это было смещенное поведение. Поглощенность рекламной кампанией Моники не дала мне пойти в магазин за водкой для моего путешествия. Надеюсь, все эти усилия окупятся.
Полагаю, мне следует ответить на вопрос Джулиана: что единственное определяет тебя, что заставляет все прочее встать на свои места? Что ж, мне нет нужды долго размышлять об этом: Я – НАРКОМАН.
За последние десять лет или около того почти каждое мое решение – важное или не очень – принималось под воздействием моей пагубной привычки. Это определяло и выбор моих друзей, и то, как я проводил свободное время, и даже мою карьеру. Биржевая торговля, будем честными, – это просто узаконенная форма азартной игры. Если бы ты встретился со мной у меня дома, то подумал бы, что у меня все есть: высокооплачиваемая работа, прекрасная квартира и шикарные женщины, – но на самом деле я целыми днями мечтал о том, как словлю кайф. Малейшего наплыва тревоги или скуки было довольно, чтобы я скрылся в туалете с фляжкой водки и порцией кокаина, пытаясь снять напряжение.
На миг Райли подумал, что читает о другом Хазарде. Парень, с которым он познакомился, был явным сторонником ЗОЖ. Он не пил, не ходил на вечеринки, обычно ложился спать в девять часов и вставал очень рано для медитаций. Райли предположил, что он законченный веган (возможно, из-за его хипстерской бороды и саронга, который он постоянно носил), пока не увидел, что парень ест рыбу. Но, рассудил Райли, какова вероятность, что Хазардом зовут какого-то другого человека, чья тетрадь оказалась в его рюкзаке? Ноль.
Райли нахмурился. Как мог он так сильно ошибаться в Хазарде? Неужели все люди настолько сложные? Он явно не такой. Он знает хоть кого-нибудь по-настоящему? Он продолжал читать с некоторой опаской.
Я давно прошел ту точку, когда все это доставляло мне удовольствие. Кайф перестал быть кайфом, а был просто тем, что помогало пережить день. Моя жизнь все сжималась и сжималась, застряв на этой жалкой беговой дорожке.
Недавно я нашел свое фото, где мне лет двадцать, и понял, что потерял себя. В те годы я был добрым, оптимистичным и смелым. Я любил путешествовать в поисках приключений. Я научился играть на саксофоне, я говорил по-испански, танцевал сальсу и летал на параплане. Не знаю, смогу я стать таким снова или уже слишком поздно.
Вчера в какой-то момент я поймал себя на том, что с благоговением смотрю на фосфоресцирующее ночное Южно-Китайское море, и подумал, что, возможно, вновь открою для себя это ощущение чуда и радости. Надеюсь на это. Вряд ли я примирюсь с мыслью прожить остаток жизни без кайфа.
Итак, что теперь? Я не могу вернуться к прежней работе. Даже если я смог бы смешаться со старой толпой и работать с фондовыми рынками в трезвом состоянии, я уже сжег все мосты. Когда я пришел к бывшему боссу с заявлением об увольнении (конечно, под кайфом – последнее «ура!» и все такое), я проговорился ему, что на последней офисной вечеринке нюхнул с его женой грамм кокса, а потом оттрахал ее на том самом столе, за которым он сидит. Я еще пошутил о том, что ухожу с трахом. Вряд ли он напишет мне хвалебный отзыв.
На этом у Райли глаза на лоб полезли. Он подумал, что в Перте нет людей вроде Хазарда.
Так или иначе, работа в Сити действует на нервы. Фактически никогда не производишь ничего, кроме денег. Никому не оставишь наследства. Не в состоянии изменить мир каким-то значимым образом. Даже если бы я смог вернуться туда, не стал бы этого делать.
Итак, Райли. Что ты намерен теперь делать?
Увидев на странице свое имя, Райли шумно выдохнул. Сидевшая рядом с ним женщина с удивлением взглянула на него. Смущенно улыбнувшись ей, он продолжал читать:
«Правдивая история» не случайно оказалась в твоей сумке. Последние несколько недель я выискивал нужного человека. Ты везешь тетрадь Джулиана в то самое место, откуда я ее забрал. Интересно, тот ли ты человек, который сможет стать другом Джулиана или любовником Моники? Или тем и другим? Пойдешь ли ты искать кафе? Сможешь изменить чью-то жизнь? Напишешь ли свою историю?
Надеюсь, однажды я узнаю, что произошло потом, так как мне будет не хватать этой тетради. В то время, когда я бесцельно парил в пустоте, она привязывала меня к космической станции.
Счастливого пути, Райли, и удачи тебе!
Хазард
Райли уже два дня находился в Лондоне, и его не покидало ощущение нереальности, словно он участвует в тревел-шоу. Его квартира в Эрлс-Корте оказалась в центре огромной строительной площадки. Всё вокруг либо сносилось, либо перестраивалось. Иногда, когда он стоял неподвижно, его охватывало беспокойство: а вдруг его дом снесут или реконструируют?
Иногда Райли жалел, что нашел «Правдивую историю». Ему не нравилось, что он знает чужие секреты, как будто сует нос в чужие дела. Но, прочитав их истории, он был не в силах забыть о Джулиане, Монике и Хазарде. Это как, прочитав полкниги и сжившись с персонажами, случайно оставить ее в поезде, так и не дочитав до конца.
Он не смог воспротивиться желанию заглянуть в кафе. Он подумал, что просто посмотрит на Монику, может быть, и на Джулиана, – посмотрит, соответствует ли реальность образам, которые никак не выходили у него из головы. От этого не будет никакого вреда. Вот чего он не станет делать, пообещал он себе, так это ввязываться. Но пока он шел к кафе Моники, его нетерпение достигло такого градуса, что, подойдя к двери и увидев собравшихся внутри людей, он совершенно забыл, что собирался остаться зрителем, и повернул дверную ручку.
Не успев еще сообразить, что происходит, он оказался на уроке рисования, который вел Джулиан. А сейчас он бродит по этому потрясающему рынку с Моникой.
Моника была так непохожа на веселых, забавных и простых девушек, с которыми Райли тусовался дома. В какой-то момент она разоткровенничалась с ним о смерти своей матери, в следующий – умолкла, потом заговорила о показателе прибыли товаров, которые покупала. Это было своего рода откровением. В собственном садоводческом бизнесе Райли устанавливал цены, делая грубую оценку затрат, а затем прибавлял то, что, по его мнению, мог позволить клиент. Он всегда терпел убытки на заказах миссис Ферт, недавно овдовевшей, но зато брал вдвойне с владельца хедж-фонда, живущего поблизости. Это представлялось ему вполне честным подходом к работе.
Он решил не предлагать этого Монике, поскольку у нее был истинно научный подход к ценовой политике. Она бубнила что-то о доли прибыли, накладных расходах и оптовых скидках и делала все расчеты без калькулятора, записывая цифры в крошечный блокнот, который вынимала из кармана.
Пытаться сблизиться с Моникой – это все равно что играть в детскую игру «Бабушкины шаги» – медленно продвигаться вперед, пока она не смотрит, и постоянно возвращаться в начало, если она повернется и застукает его в момент движения. Но это не отталкивало Райли, а, напротив, побуждало узнать ее ближе.
Единственное, что портило удовольствие Райли, помимо странной зацикленности Моники на бактериях, было сознание того, что ему придется рассказать ей о тетради. Ему казалось нечестным, что он знает о Монике больше, чем она о нем, а по натуре Райли был очень честным человеком. Что видишь, то и получишь.
Впервые встретившись с Моникой на уроке рисования, Райли был не в состоянии упомянуть о тетради. Невозможно было себе представить, что он скажет перед толпой: «Кстати, я знаю, что ты отчаянно хочешь мужа и ребенка». Но чем дольше он тянул, тем больше все усложнялось. А сейчас, пусть это было немного эгоистично, он не хотел нарушать настрой дня, смутив ее признанием о том, что посвящен в ее сокровенные тайны. У Райли появилось ощущение, что он расхаживает посреди всех этих фермерских сыров, окороков и чоризо с неразорвавшейся бомбой в кармане. В конце концов он решил ничего не говорить. Вполне возможно, что он больше не увидит Монику, и в таком случае неведение не обидит ее.
Но в конечном итоге он ее поцеловал.
Моника рассказывала о лондонских достопримечательностях или о чем-то вроде того. Он потерял нить рассказа, зачарованный тем, как темные волосы, красные губы, бледная кожа и порозовевшие от резкого ветра щеки делали Монику похожей на Белоснежку из диснеевского мультика. Она была такой сильной и бесстрашной. Обычно подобные девушки отпугивали его. Но он ведь прочитал ее историю. Он знал, что под внешней невозмутимостью прячется слабое существо. На какой-то миг почувствовав себя прекрасным принцем из сказки, он поцеловал Монику, и она ответила на поцелуй. По сути дела, с большим жаром.
Он с радостью остался бы здесь навечно, нос к носу, на мосту через Темзу, если бы не тайна, преградой вставшая между ними. Господи, как же он скажет ей об этом теперь?!
Райли не знал, проклинать Хазарда или благодарить его.
Джулиан
Джулиан ждал гостей на чай.
Он не мог припомнить, когда в последний раз у него были настоящие гости, а не просто политические агитаторы или «свидетели Иеговы». Он пытался сделать нечто такое, что, по его мнению, могло сойти за уборку хлама. Но после двух или трех часов упорных усилий ему с трудом удалось расчистить небольшое пространство в гостиной, десятилетиями заполнявшейся разными вещами.
Необходимо было, по крайней мере, освободить место, куда усадить гостей. Почему он довел все до такого состояния? Что сказала бы Мэри, которая содержала дом в идеальном порядке? Может быть, его желание заполнить каждый дюйм пространства объяснялось тем, что так он чувствовал себя менее одиноким, или тем, что каждая вещь была пропитана воспоминаниями о более счастливых временах и вещи оказались более надежными, чем люди.
Он заполнил хламом два мусорных контейнера, стоявших у коттеджа, потом открыл дверь в кладовку под лестницей и запихнул туда как можно больше всякой всячины: книги, журналы, стопку виниловых пластинок, три пары резиновых сапог, теннисную ракетку, две сломанные лампы и одежду пасечника, оставшуюся от недолгого увлечения двадцатилетней давности. Чтобы закрыть кладовку, он налег на дверь спиной. Позже он наведет тут порядок. По крайней мере, он освободил диван и несколько стульев.
Раздался звонок в дверь. Они пришли вовремя! Джулиан этого не ожидал. Он сам всегда приходил на светские мероприятия с опозданием по меньшей мере на полчаса. Ему нравилось эффектно появляться на публике. Возможно, пунктуальность недавно вошла в моду. Ему предстояло многому научиться.
Джулиан вышел из дома и подошел к черным воротам, выходившим на Фулхэм-роуд. Открыв ворота с привычной для себя рисовкой, он встретил троих гостей: Монику, того смазливого австралийского паренька Райли и База. Ему сказали, что Бенджи присматривает за кафе.
– Входите, входите! – приглашал он, а все трое стояли, разинув рты и глядя на мощеный внутренний двор с журчащим посередине фонтаном, на аккуратно подстриженные лужайки, старые фруктовые деревья и небольшие коттеджи.
– Вау! – выдохнул Райли. – Обалденное место!
Джулиан поморщился, услышав американский сленг, да еще усиленный австралийским подъемом интонации, но решил не обращать на это внимания. Не время было читать лекцию о красоте и богатстве английского языка.
– Я чувствую себя маленькой девочкой в Таинственном саду, которая пошла за малиновкой и обнаружила волшебный тайник, спрятанный за стеной, – сказала Моника, и Джулиан отметил про себя, что она гораздо более романтична, чем Райли. – Это все равно что попасть в другое время, в другую страну.
– Этот поселок был основан в тысяча девятьсот двадцать пятом, – ободренный их энтузиазмом, начал Джулиан, – скульптором Марио Маненти. Очевидно, итальянцем. Он построил его по образцу своего поместья близ Флоренции, чтобы, бывая в Лондоне, чувствовать себя как дома. Он сдавал эти студии только художникам и скульпторам, разделявшим его взгляды. В наше время все они, разумеется, перестроены в квартиры. Я единственный оставшийся художник, но даже я не писал картин с тех пор, как Мэри…
Его голос замер. Почему он не понимал, что Мэри была его музой, пока ее не стало? Наверное, он считал, что муза должна быть бесплотной и воздушной, а не чем-то само собой разумеющимся и всегда находящимся рядом. Возможно, если бы тогда он это понимал, все было бы по-другому. Он остановил себя. Сейчас не время для рефлексии и сожалений. Он занят.
Джулиан подвел гостей к выкрашенной в ярко-голубой цвет двери своего коттеджа.
– Посмотри на пол! – Моника показала Райли на деревянные половицы, выстилавшие весь первый этаж. Они были почти полностью покрыты засохшими брызгами красок, как будто на потолке взорвалась радуга, время от времени распадаясь на яркие килимы в марокканском стиле. – Он сам по себе почти произведение искусства.
– Не стойте здесь, тараща глаза. Садитесь, садитесь! – воскликнул Джулиан.
Он подвел гостей к стульям и дивану, стоявшим рядом с кофейным столиком, сооруженным из большого куска стекла со скошенными краями, который лежал на четырех стопках антикварных книг. Перед ними, словно смеясь в лицо политике муниципального Совета по сохранению чистоты воздуха, в камине пылал огонь.
– Чай! «Английский завтрак», «Эрл Грей» или «Дарджилинг»? Возможно, у меня найдется даже мята. Помню, ее любила Мэри, – сказал Джулиан.
Пока Джулиан копошился на маленькой кухне, опуская в чайник пакетики с чаем, Моника обшаривала указанную им полку в поисках чая с мятой. Наконец она нашла металлическую жестянку со старой пожелтевшей наклейкой, на которой значилось: «ПЕРЕЧНАЯ МЯТА». Она сняла крышку, чтобы вынуть пакетики. Внутри жестянки лежал сложенный листок бумаги. Развернув его, Моника вслух прочитала написанные на ней слова:
– «НЕ ЗАБЫВАЙ ПРЕДЛОЖИТЬ ГОСТЯМ ПЕЧЕНЬЕ».
Джулиан поставил чайник и закрыл лицо руками:
– Боже правый! Это одна из записок Мэри. Бывало, я постоянно находил их, но эта – первая за последнее время. Очевидно, она волновалась, как я буду обходиться без нее, и, узнав, что умирает, начала прятать записки с полезными подсказками по всему дому. Черт, я забыл про печенье! Но не волнуйтесь. У меня есть донатсы!
– Давно она умерла, Джулиан? – спросила Моника.
– Четвертого марта будет пятнадцать лет, – ответил он.
– И с тех пор вы не открывали эту коробку? Пожалуй, я выпью «Английский завтрак».
Моника остановилась перед карандашным наброском, прикрепленным к полке над плитой: женщина мешала что-то в большой кастрюле, улыбаясь через плечо.
– Это Мэри, Джулиан? – спросила она.
– О да. Одно из моих любимых напоминаний о ней. Вы увидите эти наброски повсюду. Один – в ванной комнате, как она чистит зубы; другой – там, – он указал в сторону гостиной, – как она, свернувшись калачиком, сидит в кресле с книгой. Я не верю фотографиям. В них нет души.
Они сидели у камина, устроившись с разной степенью комфорта, которая определялась тем, на какой ветхий элемент мебели Джулиана они приземлились, и поджаривали на огне донатсы.
– У меня такое ощущение, что меня перенесли в роман Энид Блайтон, – сказал Баз. – Джулиан похож на дядюшку Квентина. Моника, не собираешься ли ты предложить нам путешествие на остров Кирин с банкой сардин и имбирным пивом?
Джулиан с сомнением отнесся к идее о своем сходстве с дядюшкой Квентином. Не был ли тот педофилом?
– Я вот думаю, сможете ли вы, ребята, помочь мне в одном деле? – спросил он. – Я подумал, что мне может понадобиться мобильный телефон. Чтобы вы могли связаться со мной, если возникнут проблемы с уроками рисования или что-то еще.
Ляпнув это, Джулиан сразу пожалел о сказанном. Ему не хотелось выглядеть нуждающимся или заставить кого-то почувствовать себя обязанным звонить ему.
– У вас действительно до сих пор нет мобильного? – спросил Баз, который, как человек, родившийся после изобретения Интернета, никак не мог этого уразуметь.
– Ну, какое-то время я мало перемещался с места на место, и мне было некому особо звонить, так что потребности в нем не было. Я пользуюсь вот этим, – сказал Джулиан, указывая на стоявший в углу темно-зеленый бакелитовый телефон с диском и тяжелой трубкой, из которой торчал свернутый шнур. Моника подошла ближе, чтобы лучше разглядеть. На диске в центре было написано «Фулхэм 3276». – Кроме того, – продолжал Джулиан, – такой телефон можно разбить. А мобильник разбить нельзя. Представьте, целое поколение лишено удовольствия грохнуть об пол телефон.
– Когда я была маленькая, у моих родителей стоял в прихожей такой телефон, – заметила Моника.
– На самом деле у меня был в прошлом мобильник. Фактически я оказался любителем технических новинок, – рассказывал им Джулиан. – Поскольку тогда я был в моде, мне дали на пробу одну из первых моделей. И один из журналов взял у меня интервью, спрашивая, в частности, о том, приживутся ли, по моему мнению, эти телефоны. Возможно, он где-то у меня лежит.
Джулиан попытался выбраться из кресла, но оно было намного глубже того, в котором он обычно сидел. Баз, протянув руку, помог Джулиану подняться.
– Спасибо, Баз, – сказал он. – Теперь, если я долго засиживаюсь, у меня сводит руки и ноги.
– Вам надо заняться гимнастикой тайцзи, – сказал Баз. – Моя бабушка безгранично верит в это. Для нее это единственный способ начать день. Говорит, это дает подвижность стареющему телу и ясность мыслей.
– Так вы сказали, что они приживутся? Мобильные телефоны? – спросила Моника.
– Нет! – рассмеялся Джулиан. – Я сказал, что ни один разумный человек не захочет, чтобы его постоянно отслеживали, – я точно этого не хотел бы, – и что все это – вмешательство в частную жизнь!
Джулиан потянулся к высокой полке в углу комнаты и достал большую запыленную картонную коробку. Внутри лежал телефон, который по виду не был похож на мобильник. По форме как кирпич, размером с сумочку Моники, с длинной твердой антенной, торчащей сверху. Чтобы носить его, понадобился бы небольшой кейс.
– Джулиан, в точности такая же модель принадлежала Гордону Гекко из «Уолл-стрит», – заметил Райли. – Вы сможете получить за нее на eBay целое состояние. Это настоящий предмет коллекционирования.
– У меня была к тому же более современная «Нокиа», – сказал Джулиан, – еще в девяностые, но, когда она окончательно пришла в негодность, уже после смерти Мэри, я не удосужился заменить ее на что-то другое. У меня никогда не было этого умного телефона.
– Смартфона, – поправил Райли.
– Но у вас ведь есть доступ к Интернету, верно? – спросил пораженный Баз. – У вас есть ноутбук или что-то вроде того?
– Я не конченый луддит, молодой человек. У меня есть компьютер. Я стараюсь не отставать от жизни. Я читаю газеты, все журналы мод и смотрю телевизор. Подозреваю, что знаю больше о тенденциях моды на весну/лето две тысячи девятнадцатого, чем даже вы! В конце концов, чего у меня много, так это свободного времени.
Баз взял альт, прислоненный к книжному шкафу и покрытый слоем пыли.
– Вы играете, Джулиан? – спросил он.
– Это не мое, это Мэри. Пожалуйста, поставьте его на место. Мэри не любит, когда кто-то дотрагивается до ее альта.
Сказав это, Джулиан понял, что разговаривает излишне резким тоном и его могут обвинить в чрезмерной чувствительности. У бедного База был слегка ошарашенный вид.
– Можно воспользоваться вашим клозетом? – вовремя переключив внимание собравшихся, спросил Райли.
Клозет? Это Центральный Лондон, а не какая-то провинция. Джулиан решил не реагировать и кивнул в сторону входной двери.
От раздавшегося грохота Моника пролила чай себе на колени. Все повернулись и увидели Райли, от неожиданности пригвожденного к месту и заваленного, подобно Джеку-из-коробки, грудой предметов, низвергшихся из кладовки. Гора из пластинок, выпавших из конвертов, резиновых сапог и журналов и поверх всего защитная шляпа пасечника.
– Наверное, я открыл не ту дверь, – прокричал Райли, пытаясь запихнуть все обратно в кладовку.
Задача была непосильная, поскольку груда этих вещей, похоже, занимала вдвое больше места, чем кладовка, из которой они вывалились.
– Оставь все как есть, милый мальчик, – сказал Джулиан. – Позже я с этим разберусь. Придется наведаться на свалку.
– Даже и не думайте, Джулиан! – с неподдельным ужасом произнес Райли. – Уверен, здесь есть настоящие сокровища. Я помогу вам продать их через Интернет.
– Не хочется просить тебя об этом, – запротестовал Джулиан. – Не сомневаюсь, ты мог бы занять свое время гораздо более интересными вещами. Или, по крайней мере, я прилично заплачу тебе.
– Знаете, что я вам скажу: если вы уступите мне десять процентов от всего, что я продам, мы оба будем счастливы. Вы избавитесь от части хлама, а я заработаю денег на поездку. До смерти хочу увидеть Париж.
– А я смогу помочь с телефоном, – вмешалась Моника. – Недавно я модернизировала свой айфон, так что вы сможете взять мой старый. Мы поставим вам SIM-карту с оплатой по мере использования.
Джулиан взглянул на Райли и Монику, сидевших теперь рядышком на диване. Ему показалось, что Райли выглядит влюбленным. Взглядом художника Джулиан заметил, как тот копировал жесты Моники и сидел к ней чуть ближе, чем можно было ожидать. Впрочем, причиной последнего могли быть выпирающие пружины и набивка старого дивана.
О-о, этот оптимизм молодости!
Моника
Готовясь к открытию кафе, Моника протирала стойку. Она побрызгала на нее чистящей жидкостью, с удовольствием вдыхая аромат горной сосны. До нее дошло, что она напевает себе под нос. Моника не принадлежала к тем людям, которые напевают себе под нос, но в последнее время ей, на удивление, было о чем помурлыкать.
С тех пор как она открыла еженедельный класс рисования, к ней обращались из кружка вязания и группы йоги для беременных с просьбой о предоставлении места для проведения занятий. Похоже, кафе «У Моники» превращалось в центр местной общины – как раз то, о чем она мечтала, впервые увидев заколоченную кондитерскую. И даже более того. Когда накануне вечером она уселась за подсчеты, то цифры почти сошлись. Впервые она увидела узкий лучик света ликвидности в конце темного тоннеля превышения кредита.
Потом был еще Джулиан. Ей искренне нравились и его компания, и уроки рисования, и к тому же ее согревало чувство самоудовлетворения человека, совершившего что-то хорошее, изменившего чью-то жизнь к лучшему. Работая в юридической фирме, нечасто испытываешь такое чувство.
Монику вдруг осенило, что она организовала мастер-класс в качестве помощи другому человеку, но теперь оказалось, что это еще больше помогает ей самой. До этого момента она не верила в карму.
А Райли стал «вишенкой на торте». Конечно, Моника понимала, что он не тянет на целый торт. Попытайся она копнуть поглубже в их отношения или заглянуть в будущее, то поняла бы, что они не удовлетворяют ее критериям. Поэтому она и не копала. Моника жила моментом. Она принимала каждый день таким, какой он есть, и просто получала удовольствие. Кто знает, что ее ждет за следующим углом и сколько времени Райли пробудет в Лондоне?
Очевидно, это не пришло само собой. Чтобы достичь такой степени релаксации, Монике потребовалось немало потрудиться. Теперь она вставала на полчаса раньше, чем обычно, чтобы послать «приветствие солнцу» и повторить мантры.
– Вчера – урок, завтра – загадка, сегодня – подарок, – повторяла она про себя, пока чистила зубы. – Благодарны не счастливые люди, а счастливы благодарные, – расчесывая волосы, говорила она.
Моника очень гордилась своей новой жизненной позицией, замершей почти на грани бесчувственности. Обычно на этом этапе она прокрутила бы в голове свою жизнь до того момента, когда придумает, где и когда они с Райли поженятся, как будут звать их детей, какого цвета полотенца будут висеть в гостевой ванной комнате (белые).
Она подумала обо всех купленных ею книгах по самопомощи, о практиках осознанности, которые посещала, о приложениях с медитациями, заполняющих ее айфон. Все эти усилия, потраченные на то, чтобы перестать беспокоиться о будущем, в то время как всё, что ей было нужно, – это кто-то вроде Райли. Она уверилась в том, что ее жизненная позиция изменилась благодаря ему.
У большинства мужчин, которых Моника знала, имелись бзики. Кто-то был недоволен школой, в которой учился, кто-то – домом, в котором вырос, а кто-то – недостаточно рельефной мускулатурой живота или количеством зарубок на столбике кровати. Однако Райли, казалось, совершенно комфортно чувствовал себя в своей шкуре. Он был таким искренним, беззаботным и простым. В нем не было тайн и скрытых глубин, напротив – он был честным и открытым. Райли никогда не утомлял себя, загадывая далеко вперед. По сути дела, он вообще не тратил много времени на размышления, но никто не совершенен. И его жизненная позиция оказалась заразительной. В кои-то веки Моника не испытывала необходимости в том, чтобы играть в игры или воздвигать вокруг себя защитные стены.
Вчера они ходили на чай в этот необычный, застрявший во времени дом Джулиана. Монике он очень понравился, несмотря на очевидную угрозу здоровью. Она не смогла удержаться от вопля, когда, войдя впервые в кухню, едва не наткнулась на мерзкую желтую ленту, свисавшую с потолка и покрытую сотнями высохших насекомых. Джулиана совершенно не смутил ее ужас, и он объяснил, что это всего-навсего липучка для мух. Липучка для мух? Вот оно что. Наверняка даже Джулиан знает, что обычно в зонах приготовления пищи трупы держать не рекомендуется.
Они жарили донатсы над настоящим огнем с помощью вилок для тостов. При этом Моника старалась не думать о воздействии на изменение климата и обо всех этих бедных полярных медвежатах, разлученных с матерями таянием льдин. Она сидела на диване рядом с Райли, и, пока никто не видел, он сжал ее руку.
После чая Райли зашел к ней домой. Они не обсуждали этого заранее, она не приглашала его, и он не напрашивался в гости. Это просто случилось. Стихийно. Она приготовила ужин из того, что нашла в холодильнике и шкафах: паста с соусом песто и томатами, салат с моцареллой и базиликом. Он сказал, что это лучшая еда за несколько недель. Она улыбнулась, вспоминая тщательно обдуманные и приготовленные блюда, которыми она угощала мужчин раньше: суфле, фламбе и прочее, причем бо́льшая часть из них не вызывала подобного энтузиазма.
Возник один напряженный момент, когда Моника заметила, что Райли изучает ее книжный шкаф. Если бы она ожидала этот романтический ужин на двоих, то заранее убрала бы некоторые книги. Особенно ее раздосадовала мысль о том, что он заметит «Обещать – не значит жениться», «Игнорируй мужчину», «Как найти и влюбить в себя мужчину твоей мечты», «Правила», «Мужчины – с Марса», «Женщины – с Венеры». Моника рассматривала все это чтение как разумный фундамент. Она подходила к поиску знакомств как к любому проекту: предварительное исследование, составление плана, постановка целей. Райли, вероятно, это показалось бы навязчивой идеей. Ни один из них не упомянул о книгах по самопомощи, и неловкий момент быстро миновал.
Он не остался на ночь. Они смотрели фильм по телевизору, уютно устроившись на диване с миской чипсов из тортильи. Бо́льшую часть времени они целовались, подшучивая над тем, что упустили почти все повороты лихо закрученного сюжета. Она старалась придумать, как деликатно остановить его, если он попытается зайти слишком далеко, и, когда он этого не сделал, была несколько разочарована.
Джулиан
Джулиан совсем не привык, чтобы звонили в семь тридцать утра. Но опять же, с того момента, как он запустил «Правдивую историю», произошло много новых, необычных вещей. Он был еще в пижаме, поэтому накинул на себя лежавший поблизости пиджак (от Александра Маккуина, около 1995 года, чудесные эполеты и золотые галуны), сунул ноги в резиновые сапоги, выпрыгнувшие из кладовки под лестницей, и вышел к воротам.
Чтобы увидеть посетительницу, Джулиану пришлось опустить взгляд на пару футов с высоты своих шести футов. Это была миниатюрная, похожая на птичку китаянка с лицом как грецкий орех, глазами-изюминами и лохматой копной коротких седых волос. Вполне возможно, что она была даже старше его. Он был так поглощен разглядыванием, что забыл поздороваться.
– Я Бетти Ву, – сообщила она неожиданно громким голосом, судя по всему не убоявшись мужчины в изношенной ночной пижаме от-кутюр и обуви для сырой погоды. – Я пришла заниматься тайцзи.
– Тайцзи? – переспросил Джулиан, понимая, что это звучит немного глупо.
– Мой внук Бимин говорит, вы хотите научиться тайцзи, – медленно ответила она так, как говорят с идиотом или маленьким ребенком.
– Бимин? – повторил Джулиан тоном идиота или маленького ребенка. – А-а, вы имеете в виду База?
– Я не знаю, почему ему не нравится китайское имя. Он стыдится? – с обидой произнесла леди по имени Бетти. – Он говорит, вы хотите, чтобы я научила вас тайцзи.
Джулиан не говорил ничего подобного, но понял, что нет смысла спорить с силами природы.
– Э-э, я вас не ждал, поэтому не одет к этому случаю, – запротестовал Джулиан, лучше многих знавший, как важно надеть подобающий прикид. – Может быть, начнем в другой раз?
– Нет времени лучше, чем сейчас, – прищурив узкие глаза, сказала миссис Ву. – Снимите пиджак и большие сапоги. – Она сердито взглянула на резиновые сапоги, словно они здорово раздражали ее. – У вас есть толстые носки?
Джулиан, на ногах которого были его самые теплые шерстяные носки для сна, молча кивнул.
Миссис Ву прошла на середину мощеного внутреннего дворика и сняла с себя черное шерстяное пальто, которое положила затем на кованую скамью. Она осталась в черных свободных штанах, стянутых шнурком, и светло-серой блузе. Хотя было холодно, закрытый дворик освещался бледным зимним солнцем. Легкая изморозь сверкала, как волшебная пыль.
– Я показываю, вы повторяйте за мной, – наставляла миссис Ву, немного расставив ступни, согнув колени, как гигантская цапля, широким взмахом подняв руки над головой и шумно дыша носом. – Тайцзи хороша для осанки, кровообращения и гибкости. Удлиняет вам жизнь. Мне вот сто пять лет. – Джулиан уставился на нее, не зная, как вежливо ответить, но она широко улыбнулась, обнажив мелкие редкие зубы. – Это всего лишь шутка! Тайцзи хороша, но не настолько.
Миссис Ву снова согнула колени, потом повернулась в сторону, согнув одну руку за спиной, а другую вытянув вперед ладонью, как бы защищаясь от врага.
– Тайцзи – это про баланс инь и ян. Если, сопротивляясь силе, применить твердость, то разрушатся обе стороны. Тайцзи встречает твердость мягкостью, и наступающая сила иссякает. Эта философия подходит и для жизни. Понимаете?
Джулиан кивнул, хотя ему было довольно трудно воспринимать то, что говорила миссис Ву, и одновременно повторять ее движения. Многозадачность никогда не была его сильной стороной. Поэтому он не смог освоить игру на фортепьяно. Он не мог заставить свои руки делать одновременно разные вещи. А в данный момент он пытался стоять на одной ноге, касаясь правым локтем правого колена.
– Когда мы впервые приехали сюда в семьдесят третьем, в ресторан приходят двое мужчин и говорят: «Возвращайтесь в Китай и заберите с собой вашу мерзкую заграничную еду». Я говорю им: «Вы сердитесь. Гнев приходит из желудка. Сядьте. Я принесу вам суп. Бесплатно. Вы почувствуете себя лучше». Они съели мой суп вонтон. Рецепт моей бабушки. И они уже сорок лет клиенты нашего ресторана. Отвечайте на силу мягкостью. Рецепт для жизни. Теперь вы понимаете?
И как ни странно, он понял.
Пока Джулиан продолжал копировать широкие, размашистые движения миссис Ву, во дворик прилетела малиновка, напомнив ему описание Моникой его «Таинственного сада». Птица села на край каменного фонтана, наклонила голову и взглянула на Джулиана, как бы спрашивая, что он делает. «Можешь и спросить», – подумал Джулиан, балансируя на одной ноге.
Примерно через полчаса миссис Ву сложила ладони вместе, как для молитвы, и поклонилась Джулиану, который, продолжая копировать ее, наклонил голову.
– Для первого урока достаточно, – сказала она. – В Китае мы говорим: «От одного обеда не растолстеешь». Вам надо заниматься понемногу и часто. Увидимся завтра. В то же время.
Одним плавным движением она подхватила свое пальто и накинула его на себя.
– Сколько я вам должен за урок? – спросил Джулиан.
Бетти так резко втянула носом воздух, что у нее побелели ноздри.
– Не надо платы! Вы друг Бимина. Вы художник, да? Научите меня рисовать.
– Хорошо, – бросил ей вслед Джулиан, когда она устремилась к воротам. – Жду вас на уроке рисования в понедельник. Приходите с Базом. То есть с Бимином.
Не оборачиваясь, миссис Ву подняла руку в знак согласия и удалилась. После ее ухода дворик казался более пустым, чем до ее появления, словно она поглотила часть его энергии и забрала с собой.
Взяв пиджак и сапоги, Джулиан пошел к коттеджу легкой походкой, какой у него не было уже давно.
Похоже, пятница теперь наступает быстрее, подумал Джулиан, подходя к Адмиралу. Казалось, он был здесь в последний раз совсем недавно. Но сейчас он не так удивился, увидев несколько фигур, прислонившихся к мраморной могильной плите и укутанных в пальто и шарфы. Подойдя ближе, он разглядел Райли, База и миссис Ву.
– Я сказал бабуле, что пойду сюда, – сообщил Баз, – и она настояла на том, чтобы взять с собой суп вонтон.
– Сегодня холодно. Мой суп согревает тело, согревает душу, – сказала миссис Ву, разливая суп из огромного термоса по кружкам, которые Баз принес в плетеной корзине.
– Садитесь, миссис Ву. – Джулиан кивнул на мраморную плиту над Адмиралом.
Не то чтобы он беспокоился о ее комфорте, просто она стояла на плите Кита.
– За Мэри! – поднимая кружку, сказал Райли.
Брови миссис Ву изогнулись, как две любопытные гусеницы.
– Его жена. Умерла, – прошептал Баз на ухо бабушке.
– За Мэри! – повторили все.
Райли
Райли занимался разборкой кладовки под лестницей в доме Джулиана. Она была чем-то вроде ТАРДИСА из «Доктора Кто» – гораздо больше внутри, чем казалась снаружи. Добравшись до ее задней стены, Райли представил себе, что попал в другую вселенную. Или, возможно, в Нарнию. Он точно не удивился бы, если бы там шел снег. Без огня в камине в ней было очень холодно.
На прошлой неделе он потратил целый день на фотографирование некоторых своих находок и размещение их на eBay и успел выручить на комиссионных больше семидесяти пяти фунтов. Если бы только Джулиан разрешил ему порыться в своей гардеробной, они смогли бы заработать целое состояние. Райли предложил это Джулиану.
– Не продашь ни одного носка! – зарычал на него Джулиан.
И, чтобы показать, что не шутит, он встал в дверном проеме, раскинув длинные руки, как гигантский палочник-мутант.
Райли окружали три большие кипы вещей. В одной было то, что, по его мнению, можно легко продать, в другой – вещи на выброс, а в третьей – вещи, которые можно оставить.
Сегодня Райли прибыл около десяти часов утра, зная, что Джулиан пойдет на прогулку. Джулиан значительно замедлял весь процесс. Нависая над Райли, словно ястреб, он бросался вниз, вытаскивая из груды вещей на выброс разбитую вазу с возгласом:
– Ее подарил мне Чарли после выставки тысяча девятьсот семьдесят пятого на Нью-Бонд-стрит. Распродали все за два дня! Знаешь, приезжала принцесса Маргарет. По-моему, она на меня тогда запала. – Драматический взгляд в пространство. – Мэри она нисколько не нравилась. Ни капельки. Если не ошибаюсь, в вазе были розовые пионы. Не могу ее выбросить, Райли. Нет, нет и нет! Этот номер не пройдет.
Утром Райли успел сделать многое за тот час, пока не было Джулиана. Как только Джулиан вернулся, они принялись за долгие и мучительные переговоры, перемежающиеся необыкновенно колоритными и подчас похабными байками Джулиана из шестидесятых, семидесятых и восьмидесятых.
Джулиан брал из стопки один из альбомов с виниловыми пластинками, стирал с них пыль и ставил пластинку на старый проигрыватель, развлекая Райли историями о том, как тусовался с Сидом Вишесом и Нэнси или кого соблазнил под саундтрек «Heart of Glass» группы Blondie. Райли не знал, верить ему или нет. Казалось, Джулиан побывал на всех важных светских раутах новейшей истории, начиная с обедов с Кристин Килер и Мэнди Райс-Дэвис и кончая вечеринкой, на которой Мик Джаггер и Марианна Фейтфулл были арестованы за хранение марихуаны.
Вчера Джулиан познакомил Райли с группами Sex Pistols, Talking Heads и Frankie Goes to Hollywood. Сидя на берегу в Перте и представляя себе поездку в Лондон, Райли не думал, что станет в свободное время играть на «воздушной гитаре», пока некий старикан горланит в пустую пивную бутылку, имитирующую микрофон, песню «Anarchy in the UK». Когда песня, если можно было так ее назвать, подошла к концу, он с некоторой тревогой осознал, что на глазах Джулиана выступили слезы.
– Вы в порядке, Джулиан? – спросил Райли.
– В порядке, – ответил тот, помахав рукой перед своим лицом, как издыхающий мотылек крыльями. – Просто, когда я слушаю эти песни, так живо все вспоминается. Я снова в окружении всех тех необыкновенных людей, моих друзей, в то невероятное время. Потом, когда дорожка кончается, до меня доходит, что я просто старик, у которого осталась лишь пыльная игла, скачущая вверх-вниз по гладкому винилу, да целая куча сожалений.
Райли не знал, что на это ответить.
Поездка в Лондон оказалась самой лучшей из всех, но в то же время и самой плохой. Несмотря на жуткий холод, город ему нравился. Он приобрел нескольких замечательных друзей. Единственной проблемой была Моника. Чем больше времени проводил с ней Райли, тем больше ею восхищался. Ему нравились ее решительность, вздорность и агрессивный интеллект. Ему понравилось то, как она познакомилась с Джулианом и непринужденно вовлекла его в свой круг, заставив почувствовать себя нужным и полезным, а не вызывающим жалость. Райли нравилась ее увлеченность своим кафе и клиентами. Находясь рядом с Моникой, он чувствовал себя более смелым, энергичным и безрассудным.
Однако Райли было неловко оттого, что их отношения основаны на лжи. Или, по крайней мере, недоговоренности. И чем дольше это продолжалось, тем сложнее становилось высказаться начистоту. Как она отреагирует, когда узнает, что бывший кокаинист решил проявить к ней сочувствие? Она разозлится. Или почувствует себя опустошенной. Или униженной. Или и то, и другое, и третье.
Райли постоянно пытался забыть о тетради, но ему не давало покоя то, что он прочел. Обычно он расслаблялся, получая удовольствие от общения с потенциальной любовницей, плыл по течению, не заботясь, куда его занесет. Но в случае с Моникой он вполне сознавал то, что она написала в тетради. Он понимал, что она хочет долговременных отношений, замужества, детей, работу, а он просто искал развлечений на пути через Европу. Разве нет?
Даже в тот прелестный вечер, который Райли провел у нее дома, над ними витал дух Хазарда. Вспомнив предположение Хазарда о том, что Моника расставляет книги в шкафу в алфавитном порядке, он не удержался и проверил. Оказалось, она не расставляет книги по алфавиту, а использует цветовые коды. Это приятнее на вид, сказала она.
Суть состояла в том, что у него было слишком много информации, а у Моники – недостаточно, и это все усложняло. Райли не мог даже понять, в какой степени его чувства к Монике были искренними, а в какой – результатом сводничества со стороны Хазарда. Будь он предоставлен самому себе, меньше бы она ему нравилась? Или, может быть, больше? По всей вероятности, они никогда бы не встретились.
Пока Райли не наткнулся на «Правдивую историю», он во всем был самим собой. Теперь он стал притворщиком.
Единственным правильным решением для него было не ввязываться в это дальше. В таком случае, когда он уедет через какое-то время, Монике будет не так обидно, и, что особенно важно, она никогда не узнает, с чего все началось. Это означает – больше никаких поцелуев. И хотя карусель уже завертелась, но – определенно, категорически – никакого секса. Райли обычно легкомысленно относился к сексу, но догадывался, что Моника не такая.
Хазард
Хазард чувствовал себя застрявшим в Дне сурка. Каждый день сияло солнце. Каждый день он следовал одному и тому же распорядку: медитация с Нилом, прогулка по пляжу, плавание, чтение в гамаке, ланч, сиеста, плавание, обед, постель. Он понимал, что это не жизнь, а мечта. Он словно находился на экранной заставке, освещающей тысячи офисов. Ему следовало быть страшно благодарным. Но ему было скучно. Все жутко надоело. Надоело до одури. До смерти.
Хазарду вдруг пришло в голову, что он понятия не имеет, какой сегодня день недели. Вся его прежняя жизнь была подчинена тирании календаря: сосущее чувство при наступлении воскресного вечера, тяжкое пробуждение в понедельник утром, гнетущая неопределенность среды и эйфория вечера пятницы. Но сейчас он ничего не понимал, находясь в растерянности.
Каждый день с острова уезжал по крайней мере один человек и приезжало обычно несколько, так что появлялись новые люди, с которыми можно было познакомиться. Но постепенно все разговоры с ними сводились к одному. Откуда ты приехал? Куда поедешь потом? Чем занимаешься дома? Эти мимолетные знакомства, постоянные начала без продолжения и удовлетворительного завершения были весьма утомительны.
Еще несколько недель, говорил себе Хазард, и я соберусь с силами, чтобы сдвинуться с места, воспротивиться искушению и уехать домой.
Хазард все чаще и чаще думал о доме. Как ни странно, он не думал о родных и друзьях – эти воспоминания несли в себе чересчур много сожалений. Он знал все о том, как искупить свою вину. Однажды вечером, примерно год назад, ему позвонила девушка Венди. Она сказала, что проходит уровни. На время их разговор зашел в тупик, поскольку Хазард решил, что она имеет в виду занятия физкультурой. Венди объяснила, что девятый уровень программы Общества анонимных алкоголиков, рассчитанной на двенадцать уровней, предполагает искупление вины, поэтому она звонит, чтобы извиниться за то, что несколько лет тому назад изменяла ему. Она не сказала ему тогда, что была замужем. Хазард пришел в некоторое замешательство, поскольку для того, чтобы вспомнить ее, ему пришлось долго просматривать старые фотки на своем айфоне. Но сейчас он вспомнил про Венди и ее уверенность в том, что попытка загладить свою вину перед теми, с кем ты плохо обошелся, очень важна для реабилитации. Все эти сожженные мосты надо восстанавливать, но не сейчас. Он слишком далеко, и все слишком сложно, так что он решил отложить все до возвращения домой.
А пока, поскольку это было намного проще и не осложнялось ненавистью к себе, Хазард стал думать о Джулиане, Монике и Райли.
Удалось ли Монике уговорить Джулиана вести мастер-класс? Чувствует ли себя Джулиан менее одиноким? И вопрос, мучивший его больше всего: нашел ли Райли Монику и стал ли он мужчиной ее мечты? Хазард чувствовал себя писателем, начавшим писать рассказ, а потом, на полпути, его герои вдруг сошли со страниц и зажили собственной жизнью. Как они посмели? Неужели они не понимают, что всем обязаны ему? Он догадывался, насколько маловероятен хеппи-энд, но, когда лежишь в гамаке, в этом немыслимо красивом окружении, совершенно оторванный от реальности, все кажется возможным.
Хазард купался в непривычном приятном ощущении от совершения хорошего дела. Чего-то бескорыстного. Доброго. При участии Райли он изменил чью-то жизнь. Моника будет так благодарна! Не то чтобы ему нужна была благодарность, но все же.
Он выбросил из гамака загорелую ногу и оттолкнулся пальцами ног от деревянного помоста, чуть раскачиваясь из стороны в сторону. Он ругал себя за то, что не взял у Райли номер его телефона или адрес. Хазард не знал даже фамилии парня. Вот бы послать ему эсэмэску со словами: «Привет, это Хазард. Как там дела в Лондоне?» Впрочем, Хазард напомнил себе, что у него нет телефона и он никому не может позвонить. Он знал, где находятся Джулиан и Моника, но они не успели прочесть его историю, и, возможно, Райли еще не рассказал им о нем. Ему невыносимо было ощущать себя за бортом. Хазарду всегда нравилось быть в центре событий – из-за этого, прежде всего, он, видимо, и попал в эту переделку.
И тут у него возникла идея. Она не была безупречной, но это был способ вернуться в историю, дать им знать, что он по-прежнему является частью «Аутентичного проекта».
По острову курсировали два микроавтобуса, забирая туристов с побережья и отвозя их в единственный городок с почтой, банком и магазинами. В очередной раз, когда микроавтобус остановился около «Удачливой мамы», Барбара окликнула Хазарда, и он сел в автобус.
Автобус трясся по пыльной, разбитой дороге. Дверей в нем не было, лишь парусиновый навес для защиты от солнца и открытая задняя часть. Было душно, и пахло по́том и солнцезащитным кремом. На двух скамьях, установленных вдоль бортов, сидело по пять-шесть туристов. Некоторые сжимали в руках рюкзаки, другие – пляжные сумки. Хазард взглянул на ряд ног сидящих напротив людей – всех оттенков белого, коричневого и красного, часто покрытых красными волдырями от комариных укусов и ссадинами от коралловых рифов. Туристы обменивались привычными фразами: «Где вы остановились? Где побывали? Что рекомендуете посмотреть?» Хазард достаточно наслушался таких разговоров и знал, какие туристические достопримечательности, рестораны и бары можно порекомендовать как на его острове, так и вдали от него. Но он не стал признаваться в том, что сам нигде не бывал, за исключением своего маленького пляжа и ближайшего городка. Ему не хотелось объяснять почему: он не может себе доверять.
Наконец автобус остановился около крошечного причала, где стоял паром, ожидая пассажиров, плывущих на Ко-Самуй. Оттуда более крупное судно могло доставить их на материк, в Сураттхани. Хазард задумался, а не сесть ли ему на паром. В поясе для хранения денег, под футболкой, у него были наличные и паспорт. Возможно, он и сделал бы это, ведь его не очень тревожила мысль о том, что все вещи останутся в бунгало, но он задолжал Энди и Барбаре аренду за неделю и не хотел, чтобы после их доброго отношения к нему они подумали, что он сбежал умышленно.
Хазард зашел в магазин. Здесь он обычно покупал себе саронги, солнцезащитный крем, шампунь и зубную пасту. Сразу за дверью была карусель с почтовыми карточками. Хазард покрутил ее, пока не нашел открытку с фотографией его пляжа. Вид с воздуха. Практически можно было различить его бунгало.
Усевшись за стол на террасе кафе, Хазард, посасывая через соломинку сок большого кокоса, наблюдал, как с парома, приплывшего с Ко-Самуя, вышли на деревянный причал несколько туристов. Они возбужденно тараторили, восхваляя красоту нового места, не обращая внимания на паромщика, возившегося с их рюкзаками. Взяв у официанта ручку, Хазард принялся писать:
Монике, кафе «У Моники»,
Фулхэм-роуд, 783, Фулхэм,
Лондон, Великобритания.
Леди, продающей лучший в городе кофе.
Скоро увидимся,
Хазард
Не успев ничего толком сообразить, Хазард пошел на почту, купил марку и отправил открытку.
Моника
Моника подготавливала кафе к вечернему уроку рисования. Ее сотовый зазвонил в пятый раз. Ей даже не нужно было смотреть, кто это. Это опять был случайный вызов от Джулиана. Он не совсем еще освоился со своим новым мобильником. Однако чуть раньше ему удалось позвонить ей, чтобы сказать, что, по его мнению, класс готов перейти к изображению человеческих форм, и попросить найти кого-нибудь в качестве натурщика.
Это было не так просто, как казалось. Времени вывешивать объявление не было, поэтому Моника обратилась к Бенджи. Она объяснила ему, что это не просто неуместное выставление себя в голом виде, а это искусство. Никто не станет смотреть на него как на обнаженного Бенджи, но как на объект искусства – почти такой же, как омар Ларри, только Бенджи не съедят на обед. Она не сомневалась, что Джулиан выберет вполне пристойную позу. Никто не увидит его… В этом месте она замолчала. И наконец Моника предложила Бенджи двойной тариф на этот день и дополнительный выходной, и сделка была заключена.
Появился Джулиан, на этот раз в коже, как Дэнни из «Бриолина», и класс начал заполняться.
– У меня мурашки по коже, – пробубнил Баз в сторону Бенджи.
Бенджи не улыбался, он просто спрятался за стойку. Вид у него был нервозный и в то же время возмущенный. Когда все расселись за столами, Джулиан раздал бумагу и карандаши.
– Сегодня мы возвращаемся к карандашу, господа, поскольку переходим от натюрморта к человеку. Прежде чем мы начнем, позвольте представить вам миссис Ву.
Все поприветствовали миниатюрную миссис Ву, которая встала и поклонилась. В полный рост она была не намного выше, чем в сидячем положении.
– Называйте меня Бетти! – немного агрессивно произнесла она.
– Дорогой Бенджи любезно согласился позировать для нас сегодня, – сказал Джулиан, после того как представления были окончены. – Можешь подойти сюда, Бенджи?
Бенджи бочком подошел к группе.
– Э-э, где я могу снять одежду? – спросил он.
– Снять одежду? Не глупи, старина. Нам нужно видеть лишь твои руки! Не стоит забегать вперед. Вот, садись на этот стул и сожми кружку, сцепив пальцы. Вот так. Руки – одна из самых сложных для изображения частей тела, поэтому сегодня сфокусируемся на них.
Бенджи сумрачно взглянул на Монику, думая, что его подставили. Моника ответила ему гневным взглядом, осознавая, что непомерно переплатила ему за сидение на стуле в одежде в течение двух часов. У Софи и Кэролайн был разочарованный вид. Софи шепнула что-то Кэролайн, и та прыснула от смеха.
Джулиан продолжал, словно не замечая вокруг себя подводных течений:
– Даже самые опытные художники считают, что руки рисовать сложно. – Джулиан поднял бровь, как бы транслируя, что это к нему не относится. – Старайтесь не думать о том, что вы знаете, как выглядят кисти и пальцы. Вместо этого смотрите на них как на комбинацию форм, граней и контуров. Думайте о том, как использовать карандашные штрихи для отображения разницы между плотью и костью кисти, а также твердым предметом, который она держит. И пожалуйста, постарайтесь, чтобы изящные пальцы Бенджи не выглядели как связка бананов.
Постепенно в группе воцарилась тишина, нарушаемая лишь скрипом карандашей, изредка чьим-то бормотанием или наставлениями Джулиана.
Урок приближался к концу, когда Райли поднял руку.
– Что такое, молодой человек? Мы не в школе, знаешь ли! Необязательно поднимать руку! – заметил Джулиан, очень напоминая в этот момент строгого директора школы.
– Гм-гм… Я планирую поехать в Париж и хотел бы, чтобы вы посоветовали мне, какие художественные музеи стоит посетить. – Райли неловко опустил руку и пробежал пальцами по белокурым кудрям.
У Моники внутри все сжалось, как это бывало всегда, стоило Райли упомянуть о своем отъезде из Лондона. Она постаралась взять себя в руки, строго напомнив себе, что живет настоящим моментом.
– Ах, Париж. Я не был там лет двадцать, – сказал Джулиан. – Есть из чего выбрать – Лувр обязательно, конечно. Музей Орсе и Центр Помпиду. Хорошие места для начала. – Замолчав, он нахмурился, о чем-то думая. – Знаете что? Нам всем нужно поехать! Групповая экскурсия! Что скажете?
Тут же вмешалась Моника, больше всего на свете любившая новые проекты:
– Потрясающая идея! Я могла бы сделать групповое бронирование на «Евростар». Если сейчас забронировать на январь, мы получим хорошее предложение. Я изучу цены и сообщу вам на следующей неделе. А пока замечательная Бетти Ву любезно предоставляет нам сегодня обед по десять фунтов с каждого, кто пожелает остаться.
– Суп из крабового мяса со сладкой кукурузой, клецки с креветками и китайским луком и овощные роллы, – объявила Бетти. – Бимин, раздай, пожалуйста, палочки для еды, чашки и ложки для супа.
– Бимин? – шепотом спросила Моника у Бенджи.
– Я знаю. Ни слова больше, – ответил Бенджи. – Он не признаётся.
Согревшись калорийным супом Бетти, все студенты рисовального класса вышли на холодную вечернюю улицу, сжимая в руках наброски рук Бенджи – то ли с гордостью, то ли со смущением. Остался лишь Райли.
– Хочешь, чтобы я помог тебе закрыть кафе? – спросил он Монику, пробегая руками по ее спине.
Уцепившись за пояс ее джинсов, он притянул ее ближе к себе. От прикосновения его бедер серфера она чуть задохнулась.
– Спасибо, – ответила она, подумав, стоит ли позволить ему остаться на ночь, если он попросит.
Она представила себе его лицо во сне, с длинными темными ресницами, осеняющими щеки. Представила себе его загорелые руки и ноги, разбросанные по хрустящим белым простыням. Ее лицу стало очень жарко, и она поняла, что краснеет. Она не знала, хватит ли у нее сил отослать его домой. Моника пошла, чтобы запереть кассу. Райли последовал за ней, держа в руках пару забытых стаканов.
– Что это такое? – спросил Райли, указывая на приклеенные к стойке сзади разноцветные листочки.
– Это мои записки о клиентах, – ответила Моника.
Райли снял одну записку и уставился на аккуратный почерк, который был ему знаком по той тетради.
– «Миссис Скиннер. Аллергия на молочные продукты. Ребенка зовут Олли. Спросить про нового щенка», – прочитал он вслух. – А я-то думал, у тебя необыкновенная память.
– У меня действительно необыкновенная память, – отозвалась Моника. – Я написала все это для Бенджи. Послушай, как здорово, если мы поедем в Париж! – воскликнула она, пытаясь отвлечь внимание Райли от ее менее доброжелательных записок, вроде таких: «Остерегайся Берта, фаната Футбольного клуба Фулхэма. Вытирает нос рукой. Нужны антибактериальные салфетки».
– Думаешь, все поедут? Я собираюсь забронировать лучшие места. Вариантов очень много. Тебе понравится, Райли. Это действительно один из красивейших городов мира, – сказала она, на ходу быстро заменив слово «романтический» на «красивый».
У них ведь предполагается культурная вылазка, а не какой-то там грязный уик-энд. Сказав это, она подумала, что, может быть, могла бы забронировать какой-нибудь очаровательный старинный отель и они с Райли остались бы там еще на одну ночь. Вечером, на закате, они могли бы прогуляться вдоль Сены, а утром в постели съесть на завтрак булочки с шоколадом, запивая их крепким кофе и свежевыжатым апельсиновым соком.
Стряхнув с себя грезы, Моника заметила, что Райли рассеянно смотрит поверх ее плеча. Она повернулась, чтобы узнать, что же привлекло его внимание. Это была почтовая открытка, которую Моника пришпилила к доске объявлений.
– Красивый пляж, правда? Где-то в Таиланде. – Сощурившись, она прочла надпись в нижнем правом углу. – Очевидно, Ко-Панган. На самом деле очень странно, я понятия не имею, от кого эта открытка, хотя этот человек, видимо, меня знает. Посмотри. – Моника сняла открытку и, перевернув ее, протянула Райли. – Она адресована Монике. «Скоро увидимся». Думаешь, меня кто-то преследует? И подписано «Хазард». Что за имя такое? Похоже на название дорожного знака!
Потом, быстро попрощавшись, Райли объявил, что ему пора. И Моника осталась со странной почтовой открыткой в руках, недоумевая, что же она сделала не так.
Джулиан
Моника не предупредила Джулиана, что зайдет. Джулиан подозревал, что она умышленно застала его врасплох, поэтому не мог протестовать. Она стояла на его крыльце, держа в руке ведро с чистящими средствами. На руках у нее были ярко-желтые резиновые перчатки. Надевала ли она их на публике? Наверняка нет.
– Сегодня в кафе затишье, – сказала она, – и я подумала, что зайду и немного вас почищу. – Вероятно, у него был встревоженный вид, потому что она поспешно добавила: – Не вас, а ваш коттедж. Не беспокойтесь, это мне совсем не трудно. Уборка – одно из моих любимых повседневных занятий, честно. И ваш дом просто потрясающий… – Помолчав несколько секунд, она, как кролика из шляпы, извлекла слово «случай». – Это, дорогой друг, «роллс-ройс» среди программ по уборке.
– Что ж, очень любезно с вашей стороны, милая, – произнес он, хотя так не думал, а Моника энергично прошла мимо него в прихожую. – Но в этом и правда нет необходимости. Мне нравится все как есть. Кроме всего прочего, здесь пахнет Мэри. Если вы приметесь обрабатывать мой дом всей этой… дрянью, то смоете запах Мэри.
С этим она вряд ли могла поспорить, так ведь?
Моника повернулась и пристально посмотрела на него:
– Джулиан, без обид, но… – (Джулиан с трудом удержался от того, чтобы заткнуть уши руками, люди всегда начинали с этих слов, перед тем как сказать что-то очень-очень обидное.) – Вы хотите сказать, что от Мэри пахло плесенью, пылью и чем-то неопознанным, что могло издохнуть под вашими кухонными шкафами?
– Ну нет, конечно нет! – с ужасом ответил он.
Наверное, Моника почувствовала его смятение, потому что взяла его руки в свои, к счастью сняв перед тем нелепые, безобразные перчатки.
– Скажите, Джулиан, чем пахло в вашем доме, когда здесь была Мэри? – спросила она.
Закрыв глаза, Джулиан на несколько минут погрузился в размышления, в уме нанизывая один запах на другой.
– Я помню запах роз, домашнего земляничного джема и свежих лимонов. И того лака для волос, который продавался в больших золотистых флаконах. Ну и краски, конечно.
– Хорошо. Дайте мне полчаса. Скоро вернусь, – сказала Моника, исчезнув так же неожиданно, как и появилась.
Она вернулась через двадцать девять минут, нагруженная пакетами. Свалив пакеты в угол, она встала перед ними, чтобы Джулиан не мог увидеть, что там в них.
– Джулиан, мне кажется, лучше всего, если вы на время уйдете. Идите посидите в кафе. Я сказала Бенджи, чтобы он записал на счет заведения то, что вы закажете. Побудьте там подольше. Мне понадобится какое-то время.
Джулиан, до которого начало доходить, что спорить с его новым другом – это значит попусту тратить время и энергию, ушел и очень приятно провел время в разговорах с людьми, приходившими в кафе Моники.
Бенджи научил его готовить настоящий капучино в кофеварке размером с небольшой автомобиль и почти столь же сложной. Потом они с Бенджи, как озорные школьники, долго прикалывались над записками о клиентах Моники, добавив несколько собственных.
Джулиан старался не думать о разорении, которому подвергался его дом.
Впервые за много лет Джулиан постучал в дверь собственного дома. Входя, он немного нервничал, чувствуя себя скорее гостем, чем хозяином. Через минуту или две появилась Моника с повязанным на голову шарфом, из-под которого выбивалось несколько влажных прядей. Лицо ее пылало, а глаза сверкали, словно она почистила и их тоже. На ней был один из фартуков Мэри. Где она только его раскопала?
– К сожалению, я убрала только гостиную и кухню, – сказала она. – В следующий раз сделаю остальное. Входите!
– Моника, все так преобразилось!
Так оно и было. Сквозь чистые окна струился свет, отражаясь от вымытых и отполированных поверхностей. Коврики поменяли тусклые цвета на яркие, сочные расцветки, и нигде не осталось и следа от паутины. Все это стало вновь похожим на дом, словно Моника вместе со всей грязью отмыла пятнадцать лет.
– Какие запахи вы чувствуете? – спросила она.
Он закрыл глаза и вдохнул.
– Определенно, лимон, – ответил Джулиан.
– Ага. Я пользовалась чистящим средством с лимонной отдушкой. Что еще?
– Земляничный джем!
– Снова угадали. Потихоньку кипит на сверкающей варочной панели на кухне. Надо будет найти несколько стеклянных банок. Посидите, пока я не закончу.
Моника вышла за дверь и вскоре вернулась с тремя большими охапками роз, которые, вероятно, припрятала на заднем дворе. Потом засуетилась в поисках ваз и расставила цветы в разных местах.
– А теперь, – напыщенно произнесла она, – последний штрих! – Она достала флакон лака для волос «Элнет» – в точности такой, каким пользовалась Мэри, – и попшикала им в гостиной. – Закройте глаза, Джулиан. Теперь здесь пахнет, как при Мэри?
Он откинулся в своем любимом кресле, больше не казавшемся засаленным, и вдохнул. И действительно. Ему захотелось вовсе не открывать глаз и оставаться в 2003-м. Но нужна была еще одна вещь.
– Моника, – начал он, – нам надо заняться живописью. Я дам вам частный урок. Это самое меньшее, что я могу сделать.
Джулиан распахнул двустворчатые двери из гостиной в свою студию. Он достал рулон полотна, расстелил его на полу и принялся смешивать краски с льняным маслом.
– Сегодня вечером, Моника, мы будем писать как Джексон Поллок. Я наблюдал за тем, как вы рисуете. Вы делаете это очень аккуратно и точно. Вы пытаетесь скопировать то, что видите. Но Поллок говорил: «Живопись – это самопознание. Каждый хороший художник пишет то, чем он является». Он говорил это о выражении ваших чувств, а не только для иллюстрации. Вот, возьмите кисть. – Он вручил Монике кисть размером почти с ее ладонь. – Поллок пользовался самодельными красками, но у меня таких нет, так что я беру масляные краски в смеси с льняным маслом и скипидаром. Он расстилал полотно на земле и рисовал в пространстве над ним, пользуясь всем телом, как это делает балерина. Вы готовы?
Джулиан догадывался: Моника не готова и боится, что в доме опять воцарится беспорядок. Но так или иначе, она кивнула. Он вернулся в гостиную, выбрал виниловый альбом и поставил пластинку на проигрыватель. Только один человек мог помочь в столь театральном действе: Фредди Меркьюри.
Сняв туфли, Джулиан проскользнул в студию по отполированному, сверкающему деревянному полу, напевая «Богемскую рапсодию» со всем чувством, если не талантом, Фредди. Потом он взял кисть, обмакнул ее в баночку со жженой сиеной и резким движением прикоснулся к полотну, распределяя краску широкой дугой.
– Давайте, Моника! – воскликнул он. – Работайте всей рукой. Свободнее движения!
Поначалу она двигалась неуверенно, но потом засмеялась, расслабилась, начала разбрызгивать краску над головой, как теннисист, делающий подачу от задней линии. В ее волосах заблестели капли красного кадмия.
Джулиан в широком плие заскользил по всей длине полотна, разбрызгивая краску резкими взмахами кисти.
– Ну что, Моника? Покажите-ка мне фанданго! А что такое фанданго, интересно знать? И кто такой Скарамуш, черт побери?!
Громко хохоча, оба они в изнеможении рухнули на пол рядом с этим чудесным буйством красок. Над ними в воздухе витал запах свежей краски, смешиваясь с ароматом роз, лимонов, джема и «Элнет».
– Мэри умерла дома, Джулиан? – спросила Моника, когда они успокоились и дыхание у них выровнялось. – Знаете, мне знакомы эти переживания…
– Если не возражаете, я не стану об этом говорить, – резко оборвал ее Джулиан, но сразу пожалел об этом.
Похоже, она хотела что-то ему рассказать. К счастью, она переменила тему разговора.
– У вас с Мэри не было детей? – поинтересовалась Моника.
Господи, эта тема едва ли была лучше!
– Мы пытались, – ответил Джулиан. – Но после нескольких ужасных выкидышей решили, что, видимо, не судьба. Нелегкое это было время.
– А вы не хотели усыновить ребенка? – Моника упорно отказывалась выпустить косточку, совсем как его пес Кит.
– Нет, – сказал он, что на самом деле не соответствовало правде.
Мэри отчаянно хотела усыновления, но он наложил вето на эту идею. Он считал, что нет смысла иметь детей, если не можешь передать им свои гены. Представить только, что постоянно вглядываешься в лицо собственного ребенка, недоумевая, откуда он взялся. Джулиан догадывался, что такое объяснение выставит его с невыгодной стороны. Все-таки люди излишне сентиментальны в отношении детей.
– У вас есть какие-нибудь родственники? Братья и сестры? Племянники и племянницы? – продолжала расспрашивать Моника.
– Мой брат умер в сорок с небольшим – рассеянный склероз, жуткая болезнь, – ответил Джулиан. – От меня было не много толку. Я мало что понимаю в физических немощах. Один из многих моих недостатков. У него не было детей. Моя сестра Грейс эмигрировала в Канаду в семидесятых. Не приезжала сюда уже больше десяти лет. Говорит, слишком стара, чтобы путешествовать. У нее двое детей, но я видел их только совсем маленькими, а теперь смотрю в Facebook. Чудное изобретение, эта штука. Хотя я рад, что его не было, когда я был еще красавчиком. А не то возгордился бы.
До Джулиана дошло, что он невнятно бормочет.
– А с кем вы планируете провести Рождество?
Джулиан сделал вид, что серьезно задумался.
– Господи, у меня столько вариантов, я еще пока не решил, – ответил он.
Собирается ли она пригласить его куда-то? Он постарался не входить в раж – на тот случай, если она спросила просто из любопытства.
– Знаете, – Моника с трудом продиралась сквозь неловкое молчание, – мой отец с Бернадетт отправляются в круиз. На Карибы. Это пятая годовщина их свадьбы, то есть я остаюсь одна. Как и Райли, поскольку его родные на другом конце света. Так что мы подумали, что можно устроить в кафе рождественский ланч. Хотите присоединиться к нам?
– Ничего не может быть лучше, – ответил Джулиан, чувствуя, что у него кружится голова. – Не знаю, говорил ли я вам, Моника, как рад, что это вы нашли мою тетрадь?
– Я тоже очень рада, что нашла ее, – отозвалась она, накрывая своими ладонями его руки.
Он осознал, насколько отвык от физических контактов. Единственным человеком, который регулярно до него дотрагивался, был его парикмахер.
– Джулиан, вы должны написать Райли! Он будет прекрасной моделью.
– Ммм, – промычал Джулиан, подумав, что ему не понадобится много слоев.
Он обругал себя. В этой мысли нет доброжелательности, а он ведь перестал быть мерзавцем.
– Что касается Райли, – как можно более небрежно произнес Джулиан, – догадываюсь, что он самую чуточку влюблен в вас.
– Вы так думаете? – немного погрустнев, спросила Моника. – Я совсем в этом не уверена.
– Вы тоже написали что-то в тетради? – спросил он, меняя тему на тот случай, если Монике стало неловко.
Джулиан представил себе, что почувствовал бы отец, желая проявить интерес, но боясь переступить черту. Если этот Райли огорчит ее, то ему придется иметь дело с Джулианом.
– Да, но сейчас я расстроена тем, что написала. Хотя, помните, вы сказали: «Может быть, после написания этой истории ваша жизнь изменится?» Что ж, кажется, когда я написала свою историю, возникла какая-то магия, потому что моя жизнь действительно с тех пор изменилась. Все как будто бы сошлось. По крайней мере, так я думала. Несколько недель назад я оставила тетрадь в винном баре.
– Интересно, кто ее нашел. Помните, что я написал в конце? «Или жизнь какого-то человека, которого вы никогда не встречали?»
– Что ж, – сказала Моника, – достигнуто уже многое, разве нет?
И она улыбнулась ему – недавно обретенный друг, которого, казалось, Джулиан знал уже давно.
Райли
Райли сидел на узкой односпальной кровати с ноутбуком, позаимствованным у одного из соседей по квартире. В правое бедро ему впивалась одна из твердых пружин матраса, и он немного передвинулся влево, поправив клавиатуру на коленях. Он пил чай без молока, поскольку кто-то прикончил пинту, купленную им только вчера. Из шести упаковок «лагера» осталось только четыре, и его сыр чеддер лишился порядочного куска, а на оставшейся части появились отметины от зубов. Ему пришлось наклеить этикетки на все свои продукты, но его возмущало, что по воле соседей он превратился в такого вот парня. Он вовсе не наклейщик этикеток, обозначающий свою территорию.
Комната освещалась холодным декабрьским солнцем, которое отважно пыталось проникнуть сквозь покрывающий окна слой сажи, накопившейся от выхлопов тысяч автомобилей, двадцать четыре часа в сутки грохочущих по Уорвик-роуд. Из-за недостатка солнечного света и свежего воздуха Райли чувствовал себя чахлым пожелтевшим растением, выросшим без света. Его от природы смуглая кожа приобрела желтоватый оттенок, а белокурые волосы потемнели. Скоро, подумал он, его волосы и кожа станут одного и того же оттенка.
Впервые со дня приезда в Лондон Райли ощутил почти невыносимую тоску по Перту, по дням, проведенным на солнце за подкормкой, поливкой, прополкой и обрезкой садов других людей. Он взглянул на пинборд у своей кровати со снимками из дома. Он подростком с отцом и двумя братьями, оседлавшие одну и ту же волну. Они улыбаются маме, которая их фотографирует. Как всегда, он напортачил с кадрированием – слишком много неба. Мама держит на руках его, совсем маленького, во время поездки к ее родным на Бали. Группа друзей, подносящих бутылки с пивом прямо к камере на вечеринке с барбекю, устроенной в честь его проводов в большое турне. Зачем он променял жизнь в окружении восхитительно зеленеющей природы на жизнь среди бетона, где с каждым вдохом отравляешься загрязнениями?
Райли проверил, как идут его продажи на eBay. Почти не ношенный защитный костюм пасечника ушел за бесценок. Кто знал, что вокруг так много любителей-пчеловодов? А на лампу от «Тиффани», которую он честно описал как неработающую и требующую некоторой реставрации, каждые несколько минут подавались заявки. Но лучше всего обстояло дело с древним мобильником Джулиана, который шел по цене, превышающей стоимость айфона последней модели. Прокручивая картинку, Райли сдул с глаз завиток волос.
Единственными предметами мебели в комнате Райли были комод, стойка для одежды с несколькими проволочными плечиками и слегка покосившийся книжный шкаф, по виду которого можно было заключить, что человек, собиравший его по инструкции ИКЕА, слишком много перед тем выпил. Краем глаза Райли видел тетрадь Джулиана, которая, раздражая его, высовывалась из ряда зачитанных романов и путеводителей.
У Райли было чувство, что он все глубже уходит в зыбучий песок. Он вспомнил, как у него засосало под ложечкой, когда он увидел почтовую открытку того пляжа на пинборде Моники, надеясь, что это просто совпадение. В тот самый момент, когда Моника упомянула имя Хазарда, Райли должен был признаться. Он мог сказать: «О да, это тот парень, с которым я познакомился в Таиланде, как раз перед приездом сюда. Он передал мне тетрадь, благодаря которой я нашел тебя». Неужели это было так трудно? Но он уклонился от этого. Хуже того, он дал дёру, оставив Монику в полном смущении с открыткой в руках. А теперь он окончательно погряз в обмане. Он никак не мог утверждать, что нужный момент еще не настал, что у него не было возможности признаться. Не мог он и возразить, что открытка пришла от другого Хазарда. Если бы этого парня звали по-человечески – Джеймс, Сэм или Райли. Если бы его звали Райли, ничего не случилось бы.
Райли заключил с собой сделку. Он расскажет Монике всю историю и не станет уклоняться от последствий. Если она не захочет больше его видеть, то так тому и быть. Так или иначе, возможно, ему пора двигаться дальше. Но она может отнестись к этому легкомысленно – посчитать все это забавным анекдотом, который будет преподносить подругам как историю их знакомства. Конечно, она поймет, что, хотя их встречу подстроил Хазард, все дальнейшее произошло потому, что она искренне ему нравится. Больше чем нравится, – удивляясь самому себе, осознал он.
До Рождества оставалась всего неделя, и Райли не хотел нарушать тщательно выверенные планы Моники. Он знал, с каким волнением она готовится к рождественскому ланчу в кафе. Он видел все эти листки у нее дома на кофейном столике: список продуктов, поминутный график готовки, список подарков. Последний она спрятала заранее, чтобы Райли не узнал о своем подарке. Она пыталась втянуть его в разговор о преимуществе ножей от «Джейми Оливера» перед «Нигеллой», но, заметив его отсутствующий взгляд, отступила.
Моника пригласила всех участников кружка рисования перед тем, как отправляться на семейные торжества, зайти к ней выпить аперитив. Большинство из них собирались провести праздник за городом, но Бетти и Баз хотели заглянуть. Бенджи намеревался прийти на ланч, поскольку решил повидаться с родными в Шотландии на Хогманай вместо Рождества.
Райли решил, что скажет ей после Рождества, но определенно перед Новым годом.
Дав себе подобное обещание, Райли почувствовал некоторое облегчение. Он бросил взгляд на тетрадь. Ему хотелось избавиться от нее. Теперь, когда он принял решение, он захотел забыть о «Правдивой истории» на неделю или около того, но это было невозможно, пока тетрадь находилась у него.
Он подумал было просто выбросить ее, но ему не хотелось стать тем, кто разорвет эту цепь. Уничтожать старательно написанные, откровенные истории людей казалось ему ужасно плохой кармой. Наверное, ему стоит передать кому-то тетрадь, как это сделали Моника и Хазард. Может, это принесет кому-то удачу, – в конце концов, тетрадь познакомила его с Моникой и целой компанией друзей. Эта тетрадь даже нашла ему работу, если можно было назвать так проект Джулиана на eBay. Райли был уверен, что следующий адресат не будет таким глупым, как он, и поймет, что вся идея состоит в правдивости, а не во лжи.
Из соседней комнаты доносились ритмичные удары, перемежающиеся излишне театральными стонами. Стены этой халтурно перестроенной квартиры были такими тонкими, что Райли услышал, как через две комнаты от него кто-то негромко выпустил газы. Ну и он познакомился с весьма активной любовной жизнью Бретта гораздо подробнее, чем ему хотелось бы. Он догадывался, что нынешняя подружка Бретта притворяется. Вряд ли с его соседом-неандертальцем кому-то было так уж здорово.
Райли достал тетрадь из книжного шкафа, поискал в боковом кармане рюкзака ручку и начал писать.
Когда Райли закончил, за окном было уже темно. Он почувствовал, как будто груз с его плеч переместился на страницу. Все будет хорошо. Он подошел к окну и, собираясь задернуть неряшливые шторы, заметил что-то необыкновенное. Он должен сказать об этом Монике.
Моника
Моника как раз меняла табличку на двери с «ОТКРЫТО» на «ЗАКРЫТО», когда появился запыхавшийся Райли, – казалось, он бежал от самого Эрлс-Корта. Не открой она дверь, он бы врезался прямо в нее.
– Моника, посмотри! – прокричал он. – ИДЕТ СНЕГ!
Он затряс головой, разбрызгивая во все стороны капли воды, как энергичный ретривер после плавания.
– Я знаю, – откликнулась она, – хотя сомневаюсь, что он покроет землю. Как правило, снег сразу тает. – Она поняла, что Райли надеялся не на такой отклик. – Райли, ты никогда прежде не видел снега?
– Ну конечно видел – в кино, на YouTube и так далее, но не видел, как он падает с неба, как сейчас, – ответил он, указывая на довольно редкие снежинки. – (Моника смотрела на него с изумлением, к которому примешивалась тревога.) – Ну а ты, – продолжал он с напором, – видела когда-нибудь бурю в пустыне или лесной пожар в малонаселенной местности? – (Моника покачала головой.) – Думаю, нет. Как бы то ни было, нам надо прогуляться! Около Музея национальной истории есть каток. Пойдем!
– Музей естественной истории, – поправила его Моника. – Но я не могу уйти прямо сейчас. Мне надо убраться, снять кассу, подготовить все к завтрашнему дню. Извини.
Разве он забыл, что при последней встрече он просто ушел, не дослушав ее?
– Моника, все это может подождать. Лови момент. Не думай о будущем, развлекайся. Молодость быстро проходит.
Моника поморщилась, услышав все эти клише, словно позаимствованные из сценария плохого голливудского фильма.
– А теперь ты еще скажешь, что ни один человек на смертном одре не высказывает сожаление о том, что мало работал, да? – спросила она.
Потом, взглянув на его сияющее лицо, выражающее надежду, она подумала: а почему бы и нет, черт возьми?!
В детстве Моника научилась кататься на коньках. Помимо этого, она занималась балетом, игрой на фортепьяно и флейте, а также гимнастикой и посещала театральный кружок. Это продолжалось до ее шестнадцати лет, а потом все прекратилось. Однако понадобилось всего лишь несколько минут, чтобы ее мышцы вспомнили те давно забытые движения, и Моника уверенно заскользила по льду, даже немного рисуясь. Почему, спрашивала она себя, с тех пор не вставала она на коньки? Все увлечения, испытанные ею в юности, всё, от чего учащенно билось сердце, что заполняло ее сны, – все позабыто ради напряженной работы, ради благоразумия, планирования будущего.
Если говорить о снах, ни в одном, самом безумном из них, она не могла бы представить себя рядом с кем-то столь же потрясающим, как Райли. Монике приходилось то и дело щипать себя. Где бы они ни появлялись, люди начинали глазеть на них. Вероятно, на Райли пялились всю его жизнь, потому что он, казалось, совершенно этого не замечал. Наверное, все они думали: что он делает с ней?
Райли совершенно не сознавал эффекта от своего появления. В этот момент своей первой вылазки на лед замерзшего озера он был похож на Бэмби – разъезжающиеся на льду в разные стороны ноги. Он лежал на спине с рассыпавшимися вокруг головы белокурыми кудрями, наподобие нимба ангела, изгнанного с небес. Она протянула ему руку, чтобы помочь встать. Он ухватился за нее, рывком пытаясь подняться, но поскользнулся и опять рухнул на лед, увлекая за собой Монику.
Моника всем телом придавила Райли. Она чувствовала всю траекторию его смеха с того места, где он начинался, глубоко в животе, до бульканья в груди, и затем у самого ее уха смех взорвался. Она поймала этот смех поцелуем. Услышав смех и ощутив вкус поцелуя, такого естественного и приятного, она поняла, что все клише справедливы. Конечно, Райли не соответствовал всем ее критериям, но, вероятно, виноваты в этом сами критерии, а не он.
Райли улыбнулся ей:
– Как это у тебя получается, Моника? Так грациозно скользишь по льду, как полярная фея Динь-Динь. Я восхищен.
Моника подумала, что сейчас лопнет от счастья. Оказывается, она женщина, вызывающая восхищение.
Райли поднялся и помог встать упавшей маленькой девочке. Она смотрела на него во все глаза, как на живого Санта-Клауса. Казалось, даже маленькие дети неравнодушны к очарованию Райли.
Моника и Райли вернулись в кафе около десяти часов вечера. Моника знала, что нужно закончить брошенные дела, но она все еще была во власти стихийного порыва, ощущая нечто вроде временного помешательства.
Включив в кафе свет, Моника вновь увидела за барной стойкой почтовую открытку и припомнила недавнюю обиду.
– Райли, почему ты на днях так быстро убежал? – спросила она, стараясь не говорить агрессивно. – Я тебя чем-то обидела?
– Боже, нет, конечно. Прошу тебя, не надо так думать. – Будучи чересчур честным, Райли не умел убедительно лгать. – Просто, знаешь, вдруг психанул.
Опустив взгляд на свои ноги, он смущенно потоптался на месте.
Моника все поняла. В конце концов, она сама постоянно психовала по поводу их отношений, да и отношений с другими людьми. Едва ли она могла его винить! В сущности, она с облегчением обнаружила, что Райли тоже одолевают сложные переживания. Может быть, они с Райли похожи друг на друга в большей степени, чем она полагала.
– А не выпить ли нам глинтвейна? – предложила Моника, решив, что алкоголь поможет восстановить непринужденную атмосферу.
Она пошла в небольшую кухоньку в задней части кафе, включила газовую конфорку и вылила в большую кастрюлю бутылку вина, добавив разные специи, апельсины и гвоздику. Ей было слышно, как в соседней комнате Райли включает музыку. Элла Фицджеральд. Хороший выбор. Она помешивала вино минут десять, чего было явно недостаточно, но сегодня голова у нее была занята другими вещами.
Моника принесла в зал кафе два бокала глинтвейна. Райли забрал их у нее, осторожно поставил на стол, взял Монику за руку и закружился с ней в танце, ловко обходя все стулья и столы. Сначала он держал ее за кончики пальцев, но потом привлек к себе ближе. Его руки и ноги, бывшие на льду такими неловкими, задвигались вдруг весьма согласованно, и трудно было представить, что это одни и те же руки и ноги.
Танцуя, Моника осознала, что избавилась от беспокойства, обычно мучившего ее. По крайней мере, в данный момент ее не беспокоили вопросы типа: «А что дальше? Что, если?.. К чему это приведет?» Или с недавних пор мучивший ее вопрос: «Кто, черт возьми, сейчас читает ту дурацкую тетрадь, в которой я писала?» Единственно важным были ритм музыки и ощущение от объятий Райли.
Мимо проехал автобус, на миг осветив тротуар, на котором прямо напротив окон Моники стояла молодая женщина с очаровательным пухлым ребенком на руках – ни дать ни взять современная Мадонна с младенцем. Ребенок зажал в кулачке волосы матери, словно не желая отпускать ее.
На миг Моника встретилась взглядом с молодой матерью, которая, казалось, говорила: «Взгляни на свою жизнь, такую беспечную и пустую. Вот что на самом деле важно – то, что есть у меня».
Автобус покатил в сторону Патни, тротуар вновь погрузился в темноту, и видение исчезло. Может быть, его вовсе не было. Может быть, это была игра воображения, и подсознание напомнило ей о несбывшихся мечтах и амбициях. Было то видение реальным или нет, но момент беззаботной эйфории прошел.
Алиса
Было почти одиннадцать вечера, когда Алиса разгуливала по улицам с Банти в коляске, пытаясь усыпить ее. Похоже, это сработало, потому что крики перешли в сопение, и на пятнадцать минут воцарилась благословенная тишина. Алиса повернула к дому, мечтая хоть немного поспать. Кто бы мог подумать, что придет день, когда то, чего ей захочется больше всего на свете, больше денег, секса, славы или пары туфель «Манола Бланик», будет восемь часов крепкого сна?
Проходя мимо одного из своих любимых кафе – как оно называется? «У Дафни»? «У Белинды»? Что-то старомодное, – она остановилась. Внутри горел свет, и она увидела танцующую вокруг столов пару – как в немыслимо идеальной сцене из последнего оптимистичного голливудского фильма.
Алиса понимала, что надо идти, но подошвы ее словно приросли к земле. Оставаясь незамеченной на темном тротуаре, она видела, как мужчина глядел на женщину в его объятиях с такой любовью и нежностью, что ей захотелось заплакать.
Поначалу Макс смотрел на нее как на сказочную принцессу, словно не веря своему счастью. Но это продолжалось недолго. Алиса догадывалась, что, наблюдая, как любовь всей твоей жизни производит на свет ребенка – со всеми криками, по́том, муками и выделением биологических жидкостей, – можно навсегда изменить отношение к ней. Она тогда просила его встать у ее изголовья, но он настоял на том, чтобы увидеть, как его первенец появляется на свет, что было, как она поняла, ужасной ошибкой. Помимо всего прочего, тогда потребовалась дополнительная медпомощь для Макса, который упал в обморок и разбил голову о каталку. А только вчера Макс принял ее мазь от геморроя за зубную пасту. Неудивительно, что в их отношениях осталось мало романтики.
Алиса не сомневалась, что у той женщины, промелькнувшей перед ней, нет маленького ребенка, растяжек или геморроя. Наверняка она свободна, независима и ничем не обременена. Весь мир у ее ног. И тут, словно желая напомнить Алисе, что у нее все по-другому, заплакала Банти, разбуженная остановкой коляски.
Алиса взяла Банти на руки и завернула в кашемировое одеяльце, не чувствуя ничего, кроме раздражения. Вдобавок ко всему Банти запустила руки в ее волосы и, сильно дергая, потащила их в рот. В этот момент мимо проехал автобус, осветив тротуар, и женщина из кафе повернулась и с сочувствием взглянула на Алису. «Несчастное существо, – казалось, говорила она, – не хочешь оказаться на моем месте?»
И Алиса этого хотела.
Беспокойная ночь Алисы перемежалась снами с участием пары из кафе. Хотя во сне танцевала она, а кто-то еще – она не знала кто – наблюдал. Алиса затрясла головой, пытаясь стряхнуть видение и сосредоточиться на ближайшей задаче. Но ей удалось стряхнуть лишь дурацкий праздничный головной убор.
Обе они, Алиса и Банти, сидели с оленьими рогами на голове. Алиса посадила Банти так, что их носы почти соприкасались. Почти всю фотографию заняло пухлое личико Банти с сияющей улыбкой, а у Алисы получились медово-золотистые мелированные пряди и часть лица в профиль. Алиса на всякий случай сделала несколько снимков.
Настоящее имя Банти было Амели, но после ее рождения, когда родители спорили о том, как ее назвать, они придумали ей прозвище Беби Банти, и оно прижилось. По правде говоря, они продолжают спорить о многих вещах. Нынче у @бебибанти стало почти столько же подписчиков, сколько у @алисавстранечудес.
Алиса загрузила лучшие снимки на Facetune и подправила свой глаз на фотке, удалила темные тени под ним и стерла все мелкие морщинки. Изображение Банти, о себорейном дерматите которой нельзя было узнать из Instagram Алисы, подверглось той же обработке. Затем Алиса включила фильтр, набрала «Рождество наступает!» и добавила несколько праздничных эмоджи, а также все обычные для мамочек и фэшн-блогеров хештеги, проставила тег @бебидрессап, приславшего ей оленьи рога, и нажала на клавишу «СДЕЛАНО». Наконец Алиса положила телефон на стол экраном вниз на пять минут, после чего перевернула его и посмотрела количество лайков. Уже 547. Этот сработает. Снимки мам с младенцами всегда шли хорошо.
Банти заныла, отчего из левой груди Алисы потекло молоко и промокла футболка. Она только что оделась, и это была ее последняя чистая футболка. Из-за недосыпания ей казалось, она смотрит на себя со стороны, не участвуя в происходящем. Ей хотелось заплакать. В последнее время ей часто хотелось плакать.
Когда Банти сжала твердыми деснами ее потрескавшийся болезненный сосок, Алиса поморщилась. Она вспомнила тот идиллический претенциозный снимок, на котором она кормит грудью Банти, размещенный вчера на @бебибанти, где освещение, угол камеры и фильтр маскировали волдыри, боль и слезы. Как может что-то столь естественное, как кормление грудью собственного ребенка, быть таким ужасным? Почему никто ее не предупредил?
Иногда у Алисы возникало желание задушить патронажную сестру их общины тем самым шнурком, на котором у нее на шее висел плакат. На плакате в несколько рядов было написано: «ГРУДЬ – ЭТО ЛУЧШЕЕ ГРУДЬ – ЭТО ЛУЧШЕЕ», грозное предостережение любой матери, посмевшей хотя бы помыслить о бутылочке с молочной смесью. Наверняка желание убить патронажную сестру не слишком-то здоровая мысль для молодой матери.
Алиса отодвинула в сторону тост с авокадо, который сфотографировала во время завтрака, и потянулась к кухонному шкафу за печеньем «Яффа», не отнимая Банти от левой груди. Она съела целый пакет, дожидаясь, когда появится привычная ненависть к себе. О да, вот она – вовремя.
Перестав сосать, Банти срыгнула полупереваренное молоко на Алисину футболку. Сразу после этого Алиса принялась рыться в кипе детской одежды, заказанной на @ребенокия. Чтобы не опоздать к рождественской доставке, ей надо было запостить еще один снимок детской одежды. Она нашла очаровательное пальтишко из твида с подходящей шапкой и сапожками. Это подойдет.
Теперь Алисе надо было выйти на улицу. Там пальто будет смотреться симпатичнее, тем более что небольшой таунхаус Алисы был настолько забит картонными коробками, детскими игрушками, кипами белья и немытой посудой, что едва ли подошел бы для задника. В целом же дом Алисы отличался хорошим вкусом и стилем. Но все же у молодых мам прогулки с ребенком на свежем воздухе пользовались популярностью.
Алисе было никак не найти чистую кофточку, поэтому она набросила куртку поверх испачканной футболки. К счастью, никто не подойдет к ней близко и не учует запах. Она сняла с головы оленьи рога и, чтобы прикрыть засаленные волосы, надела шерстяную шапку с озорным помпоном. Потом посмотрела на себя в зеркало в прихожей. По крайней мере, в таком ужасном виде никто ее не узнает. А перед приходом Макса домой, решила Алиса, она приведет себя в порядок. Для мужчины вроде Макса внешность была очень важна. До рождения ребенка он видел ее только в макияже и с уложенными волосами. С того времени все это немного пришло в упадок.
Потом Алиса потратила кучу времени, чтобы положить в большую сумку насущно необходимые вещи: влажные салфетки, судокрем, тампоны для сосков, подгузники, детский зубной гель, погремушку и Дуду (любимую мягкую игрушку, кролика). Со времени появления Банти, а ей было четыре месяца, любой выход из дома становился похожим на подготовку экспедиции на Эверест. Алиса вспоминала те дни, когда ей нужно было лишь взять с собой ключи, деньги и мобильник, который она засовывала в карман джинсов. Та жизнь казалась совсем другой, и принадлежала она совсем другому человеку.
Одев Банти и уложив ее в коляску «Бугабу», Алиса спустилась по ступеням и вышла на улицу. Банти заплакала. Вряд ли она проголодалась.
Раньше Алиса думала, что сумеет понять причину плача своего ребенка. Сумеет отличить голодный плач от усталого, сумеет понять, когда ребенок плачет от неудобства, а когда ему просто скучно. Однако в действительности любой плач Банти означал только одно – разочарование. Казалось, малышка говорила: «Это не то, чего я ожидала». Алиса понимала ее, поскольку чувствовала то же самое. Она прибавила шагу, надеясь, что качание коляски утихомирит Банти, но не усыпит, и Алисе удастся сделать снимок.
Она пошла на детскую площадку, расположенную в ближайшем парке. Она посадит Банти на качели для самых маленьких – тогда будет хорошо виден ее наряд. К тому же Банти любит качели и, возможно, улыбнется. Когда малышка хмурилась, то становилась до жути похожей на Уинстона Черчилля. Из-за этого она потеряет целую кучу подписчиков.
Алиса жалела, что у ее давнишних школьных и университетских подруг нет детей. Будь у них дети, она смогла бы поделиться с кем-нибудь из них своими мыслями. Она узнала бы, нормально ли считать материнство таким трудным и изматывающим. Но ее подруги полагали, что в двадцать шесть лет иметь детей чересчур рано. Почему Алиса в свое время не подумала о том же? Она так торопилась нарисовать идеальную картину: красивый, обеспеченный муж, викторианский таунхаус в нужной части Фулхэма и прелестный, счастливый ребенок. Ведь она воплощала в жизнь свою мечту. Ее подписчики наверняка так и думали, из-за чего она чувствовала себя ужасно неблагодарной.
Детская площадка пустовала, но на качелях что-то лежало. Тетрадь. Алиса огляделась по сторонам в поисках того, кому она могла принадлежать. Вокруг никого не было. Алиса подняла тетрадь, которая была очень похожа на ту, в которой она вела записи о кормлении Банти. «5:40 утра: левая грудь – десять минут, правая грудь – три минуты». Она тогда пыталась наладить некий график, как советовали специалисты. Но надолго ее не хватило. В конце концов она с досады выбросила свой блокнот в корзину для мусора, поскольку это служило лишь свидетельством ее полного неуспеха.
На обложке Алисиного блокнота значились два слова: «Кормление Банти». Рядом со словом «Банти» она нарисовала сердечко. На обложке найденной тетради были тоже два слова, но написанные гораздо более красивым почерком: «Правдивая история». Алисе понравилось звучание этих слов. Ее бренд (бренды, напомнила она себе, поскольку Банти тоже присоединилась) в конечном итоге тоже относится к подлинности. «Подлинный стиль жизни для реальных мам и их детей. Смайлик».
Алиса открыла тетрадь, собираясь начать читать, но тут пошел дождь. Тьфу! Даже чертово небо плачет. На страницу уже упали большие капли дождя. Алиса смахнула рукавом воду со страницы и, чтобы уберечь тетрадь от сырости, засунула ее в сумку между подгузником и влажными салфетками. Позже она придумает, что с ней делать. А прямо сейчас, пока обе они не промокли, надо возвращаться домой.
Джулиан
Джулиан был вполне доволен своим костюмом для занятий тайцзи. Он купил одежду онлайн. Он сообразил, что это первая одежда, купленная им со смерти Мэри. Теперь, узнав, насколько прост шопинг в Интернете, он заказал кучу трусов и носков. Это оказалось очень кстати. Возможно, он попросит Райли продать на eBay свои старые шмотки. Вот бы услышать ответ парня на это предложение! Так ему и надо, нечего лезть в гардеробную Джулиана.
В этом костюме Джулиан выглядел как престарелый ниндзя. Весь в черном. Свободные штаны и рубашка с широкими рукавами, стянутая спереди шнурком. Он не сомневался, что миссис Ву – он даже мысленно не называл ее Бетти – будет поражена. И в самом деле она подняла брови так высоко, что на миг они перестали сходиться посередине.
Джулиан и миссис Ву занимались знакомым ему теперь разогревом. Как ему казалось, он приобрел чуть большую устойчивость и гибкость, чем это было две недели назад, когда миссис Ву впервые появилась у его ворот. Она стала приносить с собой мешочек с семенами, которые разбрасывала вокруг перед началом занятия, чтобы к ним прилетали птицы.
– Хорошо, когда вокруг тебя природа, – объяснила она. – И это хорошая карма. Птицы замерзли, они голодные. Мы кормим их, они довольны, мы довольны. – Иногда, наклоняясь вперед с отведенными назад руками вслед за миссис Ву, он видел, как птицы слетаются на корм, и у него возникало странное чувство, что они присоединяются к ним. – Вы чувствуете присутствие своих предков, Джулиан?
– Нет, а что – должен? – спросил он.
Где они обретаются и где он должен чувствовать их присутствие? Какая неуместная мысль. Джулиан огляделся по сторонам, почти ожидая увидеть сидящего на скамье и неодобрительно смотрящего на него поверх очков отца.
– Они всегда рядом с нами, – сказала миссис Ву, очевидно давно свыкшаяся с этой мыслью. – Вы чувствуете это здесь. – Она стукнула себя кулачком в грудь. – В душе.
– Почему мы так стареем? – переходя на более привычную тему, спросил Джулиан. Он слышал хруст в своих коленях, видимо не одобряющих упражнения. – Я по-прежнему чувствую себя на двадцать один год, но потом замечаю свои руки, морщинистые, испещренные крапинками, и у меня возникает чувство, что они не мои. Вчера в кафе Моники я попользовался сушилкой для рук, и кожа на тыльной стороне фактически покрылась рябью.
– В этой стране стареть плохо, – сказала миссис Ву, и Джулиан уже понял, что это – любимая тема ее разговоров. – В Китае стариков уважают за их мудрость. Они прожили долгую жизнь, многому научились. В Англии старые люди – помеха. Родные отсылают их прочь, помещают в приюты. Это как тюрьмы для стариков. Мои родные не поступят так со мной. Не посмеют.
Джулиан охотно в это верил. Тем не менее он сомневался в своей мудрости или в том, что многому научился. Он ощущал себя почти таким же, как в двадцать с небольшим, и поэтому каждый раз, увидев себя в зеркале, испытывал ужасный шок.
– У вас чудесная семья, миссис Ву, – произнес он, поднимая правую ногу и разводя руки в стороны.
– Бетти! – с вызовом откликнулась она.
– Баз, то есть Бимин, такой милый мальчик. И этот Бенджи – тоже отличный бойфренд.
Миссис Ву остановилась, не закончив упражнение.
– Бойфренд? – с озадаченным видом спросила она.
Джулиан понял, что, судя по всему, совершил ужасную ошибку. Он предполагал, что она знает о наклонностях внука, открыто демонстрирующего свои нежные чувства.
– Да, я хочу сказать, друг – парень. Они очень хорошо ладят. Как друзья. Вы же знаете.
Миссис Ву в упор посмотрела на Джулиана, не сказав ни слова, после чего грациозно приняла следующую позу.
Джулиан с облегчением вздохнул. К счастью, он обладает более высоким эмоциональным интеллектом по сравнению со средним индивидуумом. Похоже, он спас положение.
Моника
В этом году Моника преуспела с рождественскими украшениями в кафе. Должно быть, мастер-классы Джулиана пробудили в ней далеко запрятанный творческий инстинкт. Она установила елку в Библиотеке, украсив ее традиционными стеклянными шариками и белыми светодиодными лампочками. В центре каждого стола Моника поставила вазочки с веточками падуба и плюща, а над баром повесила большую связку омелы. Бенджи с довольным видом раздавал бесплатные пирожные безе как мужчинам, так и женщинам.
– Пирог! – прокричал Баз от стола № 6.
– Миндальный или лимонный? – с улыбкой откликнулся Бенджи.
Весь день без остановки звучали рождественские мелодии. Если бы Моника услышала, как Боно спрашивает, знают ли они, что снова пришло Рождество, она бы весело зашвырнула айпад Бенджи в раковину с грязной посудой.
Кафе наполнял изысканный пряный аромат глинтвейна. Поскольку был канун Рождества, Моника сказала Бенджи, что для всех постоянных клиентов вино бесплатное. Всем детям раздавали шоколадные медальки, было много улыбок и шоколадных отпечатков пальцев. Моника отчаянно боролась с искушением протереть все столы с влажной тряпкой. Это, напомнила она себе, очень хорошая практика для материнства. Она взглянула на часы. Было почти пять.
– Бенджи, я просто хочу отнести фляжку глинтвейна на кладбище, ладно? – сказала она.
– Сомневаюсь, что тамошнему народу понадобится ваш глинтвейн, милая, – съязвила женщина из очереди к бару.
Моника вскочила в автобус, улыбнувшись водителю в шапке Санты. Она не могла вспомнить, когда в последний раз так радовалась Рождеству. Это было похоже на те праздники Рождества, когда они были счастливой семьей из трех человек.
Подходя к Адмиралу со стороны кладбища, выходящей на Фулхэм-роуд, она увидела Райли, идущего ей навстречу со стороны Эрлс-Корта. Он помахал ей.
– «Храни вас Бог, веселые господа», – запел он, когда они уселись на мраморную плиту.
Потом он поцеловал ее. К жару этого долгого страстного поцелуя добавился жар от выпитого глинтвейна, и у Моники закружилась голова. Она не знала, сколько времени они просидели так, обвившись друг вокруг друга, как плющ, покрывавший соседние надгробия, но в какой-то момент они услышали голос Джулиана:
– Гм, может, мне пойти куда-то еще?
Они отскочили друг от друга. У Моники было ощущение, что ее застукал отец, когда она обжималась с парнем из школы во время дискотеки.
– Нет, нет, нет, – заторопился Райли. – В конце концов, вы пришли сюда раньше нас. По крайней мере лет на сорок.
– Мы принесли вам глинтвейна. – Моника помахала термосом перед носом Джулиана.
– Ну, не скажу, что удивился, увидев, как вы двое хорошо ладите. Я предполагал это с того момента, как Райли пришел на урок рисования. Мы, художники, видим вещи, скрытые от глаз других людей. Это наше благословение и проклятие одновременно, – произнес он в театральной манере шекспировского актера. – Ну, разве все не складывается вполне удачно? Как раз когда я подумал, что лучшего Рождества не бывает.
Моника налила всем по чашке глинтвейна, радуясь предлогу не пить «Бейлис» Джулиана. Может, это и был любимый напиток Мэри, но такой приторный, что Монике казалось, от него могут раствориться зубы.
– Веселого Рождества, Мэри, – сказала она, немного смущаясь своей нетерпимостью.
– Веселого Рождества, Мэри! – подхватили остальные.
– Хорошие новости на фронте eBay, Джулиан, – сообщил Райли. – Мы выудили почти тысячу фунтов. Ваша кладовка под лестницей – настоящий золотой прииск.
– Отличная работа, юный Райли, – откликнулся Джулиан. – Теперь я могу заняться шопингом на онлайн распродажах. Я нашел этот замечательный сайт – называется «Мистер Портер». Там есть все, что нужно мужчине, следящему за модой. Посмотри сам.
– Спасибо, Джулиан, я пользуюсь магазином «Праймарк». Он мне больше по карману.
– Джулиан, мне надо вернуться в кафе, чтобы помочь Бенджи закрыться, – сказала Моника. – Увидимся завтра в одиннадцать утра.
– Я провожу тебя, Моника, – произнес Райли, заметив, как ему многозначительно подмигивает Джулиан.
У любого другого пенсионера это выглядело бы неуместно.
Райли обнял Монику за плечи, и они пошли пешком по Фулхэм-роуд. На время праздников Лондон опустел, и на улицах было до жути тихо. У каждого прохожего была своя история: мужчина в последнюю минуту покупает подарки, мама отводит детей домой, торопясь упаковать подарки для них, группа парней возвращается с рождественского ланча в офисе, растянувшегося до вечера.
Моника не могла вспомнить, когда в последний раз была такой спокойной. К своему удивлению, она поняла, что ее не очень волнует, уедет ли Райли в ближайшее время из Лондона. Ее не волновали его намерения. В данный момент она была в состоянии мысленно отправить все свои тревоги по поводу статуса бездетной холостячки на пыльную полку с ярлыком «ожидают решения». Ее волновала лишь полнота данного момента: голова, склоненная к его плечу, мягкая согласованная поступь их ног по тротуару в такт рождественским гимнам, доносящимся из паба. Она поздравила себя с тем, что становится истинным гуру спокойствия.
– Моника, – неуверенно начал Райли, и его тон удивил ее, – надеюсь, ты знаешь, как сильно мне нравишься.
У Моники подвело живот, словно на «американских горках»: удовольствие и страх слиты воедино, и непонятно, когда кончается одно и начинается другое.
– Райли, это похоже на то место в романе, когда герой говорит, что дома у него остались жена и дети, – шутливым тоном сказала она.
У него ведь нет жены, правда?
– Ха-ха! Нет, конечно, никого у меня нет. Просто я хотел, чтобы ты знала, вот и все.
– Что ж, ты мне тоже очень нравишься. – Этот момент казался ничуть не хуже другого для произнесения слов, уже давно ждущих своей очереди. Она посвятила какое-то время освоению идеального уровня беззаботности. Она даже записала свои мысли на айфон. Господи, не забыла ли она все это удалить?! – Не хочешь остаться на вечер, поскольку завтра ты все равно придешь? Если только ничего не имеешь против моей беготни вокруг индейки и брюссельской капусты.
Райли помедлил на секунду дольше, чем требовалось.
– Я бы с удовольствием, но я пообещал соседям по квартире, что буду вечером праздновать с ними, поскольку завтра меня не будет. Мне очень жаль.
Моника услышала в голове знакомый голос, который пел: «Просто ты ему не очень нравишься», но она прихлопнула его как надоедливую мошку. Она не допустит, чтобы что-то испортило ее настроение. Завтра будет прекрасный день.
Алиса
Чего Алисе больше всего на свете хотелось на Рождество – так это поваляться в постели. Хотя бы до семи утра. Но у Банти были другие планы. Она проснулась в пять, требуя еды и внимания. На случай, если в молоке остался алкоголь, Алисе пришлось дать ей молочную смесь, которую Банти терпеть не могла. У нее даже не хватило ответственности должным образом покормить ребенка. Кухня выглядела как после побоища в игрушечном магазине. Перед тем как лечь спать, Алиса собиралась все убрать и приготовить овощи для рождественского ланча, но ужасная перебранка с Максом поставила крест на ее намерениях. Она полезла в буфет за нурофеном, как будто лекарство помогло бы все забыть или хотя бы облегчить похмелье.
Накануне Макс пришел домой в несколько потрепанном виде после ланча с коллегами, бурно завершившегося только к вечеру. Ко времени его возвращения Алиса уже падала от усталости. К тому же она обнаружила у себя начало мастита – ужасно болезненные, затвердевшие, как камни, груди и немного повышенная температура. Она погуглила симптомы, прочитав, что может помочь компресс из охлажденных капустных листьев. Она не смогла бы выйти в магазин, не разбудив Банти, которая наконец крепко заснула. Поэтому, когда появился Макс, Алиса попросила его сходить за кочаном капусты.
Он отсутствовал целую вечность, а тем временем в Алисе медленно вскипало негодование: он-то весь день веселился, а она погрязла в подгузниках и влажных салфетках. Наконец он явился с пакетом брюссельской капусты! Он объяснил, что в канун Рождества большинство магазинов закрыты, а в остальных пустые полки.
– И что мне, по-твоему, делать с брюссельской капустой, с ее дурацкими маленькими листочками? – завопила она на него.
– Я думал, ты собираешься это есть. Разве люди не едят на Рождество брюссельскую капусту? Это уже практически правило, – ответил он, благоразумно пригнувшись, когда она швырнула мерзкие овощи ему в голову.
В голову ему Алиса не попала, но капуста, как шрапнель, ударилась о стену, сместив коллаж со снимками Банти, взятыми со страницы ее Instagram.
Алиса достала из холодильника бутылку вина и коробку шоколадных конфет с мятной начинкой – то и другое было припасено для Рождества – и в рекордный срок прикончила их, пока листала все свои социальные сети, мстительно думая: «Ну я ему покажу!»
Теперь Алиса поняла, что ничего она ему не покажет, или, по крайней мере, то, что собиралась показать. В результате она проснулась в три часа ночи, мучаясь от жажды и обливаясь потом из-за выпитого вина. Потом два часа она крутилась и металась, молча ругая себя, и тут к ней присоединилась Банти, которая очень громко завопила.
Макс вошел в кухню, поцеловал ребенка в макушку и сказал:
– Веселого Рождества, милая.
– Веселого Рождества, Макс, – отозвалась она, стараясь говорить весело. – Ты не мог бы немного посидеть с Банти, пока я посплю?
Макс взглянул на нее, выпучив глаза, словно она предложила пригласить их пожилых соседей на вечеринку со свингом.
– Знаешь, в обычной ситуации я бы помог, дорогая. – (Она недоверчиво скривилась.) – Но через несколько часов к нам приедут мои родители, а у нас еще много дел.
Это прозвучало как обвинение, которое сопровождалось многозначительными взглядами в сторону груды игрушек, раковины с грязной посудой, мусорного ведра и нечищеного картофеля.
– Ты сказал «у нас», Макс. Означает ли это, что ты собираешься помочь? – Алиса старалась говорить нейтральным тоном.
Ей не хотелось больше ссориться в Рождество.
– Конечно собираюсь, золотко! Только закончу пару административных делишек и буду в твоем распоряжении. Кстати, ты ведь переоденешься во что-то более подходящее к приходу родителей, да? – спросил он.
– Разумеется, – ответила Алиса, которая ничего такого не планировала.
Когда Макс ушел к себе в кабинет, она пожалела, что не в силах поменять свою жизнь так же легко, как одежду.
Алиса посадила Банти в заплечную сумку, чтобы ребенок не плакал, пока она в спешке прибирает дом и готовит обед для родственников. Алиса не испытывала неприязни к матери Макса, по крайней мере пыталась, но у Валери были свои критерии. Валери редко критиковала что-то в открытую, но Алиса чувствовала, как в той кипят разные суждения, еще более враждебные оттого, что их сдерживают. Ее свекровь так и не смирилась с тем фактом, что Алиса выросла в микрорайоне в окрестностях Бирмингема и ее воспитала мать-одиночка, подающая в школе обеды. Отец Алисы бросил их, когда ее младший брат был совсем крохой.
На их свадьбе Валери сидела с кислым лицом, словно аршин проглотила, в светло-лиловом костюме и подходящей шляпе, то и дело бросая косые взгляды на родных Алисы. Валери ожидала лучшего для единственного сына. Она так высоко установила планку, что Алиса вряд ли достигла бы ее, несмотря на безупречный уход за собой, выверенные манеры и поставленное произношение, поэтому она уже и не пыталась.
Разумеется, Макс ничего этого не замечал. В его глазах мать не могла ошибаться.
После двух часов лихорадочной активности кухня приобрела пристойный вид, ланч готовился. Он мог немного опоздать ко времени, но часам к трем был бы готов. Алиса, однако, была еще совершенно не готова. Немытые волосы, собранные на макушке в неопрятный пучок, несвежее после выпитого вина, съеденного шоколада и недосыпа лицо и послеродовой живот, увеличенный из-за ее пристрастия к печенью «Яффа» и нависающий над поясом штанов для йоги.
Не постучав, она вошла в кабинет Макса и заметила, что он быстро захлопнул ноутбук. Что он от нее скрывает? Она бесцеремонно усадила Банти ему на колени и отправилась в душ.
Прежде Алиса предполагала, что ребенок сблизит ее с Максом. У них будет новая цель и совместные переживания. Но в действительности появление Банти, казалось, отдалило их еще больше.
Она вновь вспомнила о захлопнутой крышке ноутбука, вечерних совещаниях и частых молчаливых паузах между ними. Нет ли у него интрижки на стороне? А если и есть, так ли уж это ужасно? По крайней мере, ей не придется чувствовать себя виноватой всякий раз, когда она симулирует сон или мигрень, чтобы избежать секса. Но сама мысль о подобном предательстве заставила ее задохнуться от волнения. Она и так чувствовала себя немного неполноценной, непривлекательной и нелюбимой. Если Макс подтвердит ее подозрения, это добьет ее. А что, если он попросит развод? Мысль о том, чтобы отказаться от своей идеальной жизни, за которую она так упорно боролась и которая заставляла тысячи других, менее удачливых женщин, дважды жать на ее снимки в Instagram, казалась ей невыносимой.
«Перестань, Алиса. Это всего лишь гормоны. Все будет хорошо», – говорила она себе, подставляя уставшее тело под мощную водяную струю.
Только немного погодя Алиса осознала, что, тревожась о том, как бы Макс ее не бросил, она ни разу не подумала, что стала бы скучать по нему. Конечно, так оно и было бы.
Джулиан
Поскольку это был особый день, Джулиан одевался с особой тщательностью. Он выбрал наряд из коллекции своей старой приятельницы Вивьен Вествуд (может быть, ему стоило снова поискать ее, – возможно, она думает, что он умер) – красивый килт и пиджак из шотландки контрастирующих цветов с асимметричной каймой. Если вы не в состоянии надеть наряд от Вествуд на Рождество, то когда еще? Радио у него было настроено на музыкальную станцию, передававшую «Fairytale of New York», и он подпевал песне, в которой говорилось о том, как он мог бы стать кем-то.
Джулиан действительно был кем-то, а потом стал никем. Теперь он снова ощущал себя кем-то. По крайней мере, кем-то, кого пригласили на рождественский ланч. С друзьями. Они ведь его друзья, так? Настоящие друзья. Моника пригласила его не просто из жалости или чувства долга – он был в этом уверен.
Он вспомнил первое Рождество после Мэри, когда даже не знал, что это за день, пока вечером не включил телевизор. Вся эта телевизионная праздничная суета загнала его обратно в постель с холодной жестянкой тушеной фасоли, вилкой и кучей сожалений.
Джулиан попробовал проделать перед стоящим в гардеробной зеркалом в полный рост одно из движений тайцзи. Ему показалось, он похож на свихнувшегося шотландского горца. Потом он пошел в гостиную, где на кофейном столике, ожидая упаковки, лежали подарки для Моники, Райли, Бенджи, База и миссис Ву. Неловкие пальцы плохо слушались и в конце концов прилипли к скотчу. Джулиан пытался отодрать их, вцепившись зубами в скотч, и в результате его губы прилипли к ладоням.
Выйдя на Фулхэм-роуд, Джулиан заметил идущего навстречу Райли. Вероятно, тот срезал путь, пройдя через кладбище от Эрлс-Корта. Значит, он не остался у Моники. Как же это старомодно. Джулиан никогда не был таким старомодным, даже во времена, когда полагалось таким быть. Райли был явно ошарашен его нарядом.
Дверь кафе открыла Моника, которая выглядела очаровательно. На ней было красное платье, а поверх него – простой белый фартук шеф-повара. По ее виду можно было понять, что она работала у горячей плиты: щеки у нее горели, а из привычного конского хвоста выбивались влажные пряди волос. В руке она держала деревянную ложку, которой размахивала, говоря:
– Входите!
В центре кафе был накрыт длинный стол. На столе лежала белая полотняная скатерть, усыпанная лепестками роз с распыленной на них золотой краской. Каждый прибор отмечался золотым конусом с укрепленной на нем карточкой с именем. На столе были также красные хлопушки, красные с золотом свечи, а в центре – композиция из падуба и плюща. Даже на строгий взгляд Джулиана, все выглядело потрясающе.
– Вы не спали всю ночь, Моника? – спросил он. – Это выглядит великолепно. Как и вы. Это мнение профессионала.
Щеки Моники зарделись пуще прежнего.
– Я действительно встала довольно рано. Вы оба можете присоединиться к Бенджи в Библиотеке, но сначала положите эти подарки под елку.
На одном из кофейных столиков в ведерке со льдом стояла бутылка шампанского, а рядом – большое блюдо блинов с копченой семгой. Воздух наполнялся ароматом жареной индейки и звуками рождественских гимнов в исполнении хора Королевского колледжа. Это был один из тех дней, когда все замыслы собираются воедино.
К ним подошла Моника и, сняв фартук, села:
– У нас остается час, пока я поставлю готовиться последние овощи. Может быть, откроем подарки? Некоторые можем открыть сейчас, остальные – после ланча.
Джулиан, который, в отличие от Моники, не любил откладывать удовольствия, сказал:
– Прошу вас, можно сначала открыть мои?
Не дав им времени на возражения, он вытащил из-под елки свою кучу подарков, завернутых в подходящую бумагу, и вручил присутствующим.
– Боюсь, на самом деле я ничего не покупал, – объяснил Джулиан. – Просто порылся у себя дома.
Бенджи, первым снявший бумагу со своего свертка, с открытым ртом смотрел на подарок, лежащий у него на коленях.
– Альбом с «Sergeant Pepper». На виниле. Нельзя это отдавать, Джулиан. Он будет стоить состояние, – запротестовал Бенджи, продолжая сжимать в руках пластинку, с которой не в силах был расстаться.
– Я бы предпочел подарить это тому, кто должным образом оценит, дорогой мой мальчик, а я знаю, как сильно ты любишь Битлз. Они никогда не были по-настоящему моей фишкой. Этакие пай-мальчики. Sex Pistols. Вот это было мое. – Джулиан повернулся к Райли, с благоговением державшему подлинную футболку Роллинг Стоунз. – Что ж, ты уже давно мечтаешь наложить лапу на мои шмотки, юный Райли. Если хочешь, можешь это продать, но, полагаю, на тебе это будет здорово смотреться.
Джулиану не терпелось увидеть, как Моника откроет свой подарок. Он смотрел, как она осторожно и очень долго снимает скотч.
– Просто оторвите ленту, милое дитя! – посоветовал он.
У нее был озадаченный вид.
– Если оторвать, ее нельзя будет повторно использовать, – сказала она, как будто увещевая расшалившегося малыша.
Наконец Моника сняла бумагу и охнула. На такую реакцию он и рассчитывал. Все сгрудились вокруг, чтобы увидеть подарок, лежащий у нее на коленях.
– Джулиан, как красиво! Гораздо красивее, чем я на самом деле, – сказала Моника.
Он написал ее портрет маслом, частично по памяти, частично по наброскам, которые ему удалось тайком сделать во время уроков рисования. На этом небольшом полотне Моника опиралась подбородком на кисть руки, намотав на указательный палец прядь волос. Как на всех портретах Джулиана, мазки были смелые и широкие, почти абстрактные, и его картина столько же деталей передавала, сколько и опускала. Джулиан взглянул на Монику. Казалось, она сейчас заплачет. Он надеялся, что от радости.
– Не считая нашей недавней совместной работы в стиле Поллока, это первая вещь, написанная мной за пятнадцать лет. Боюсь, моя манера немного устарела.
Их разговор прервал стук в дверь. Бенджи, решив, что пришли Баз с бабушкой, отправился открыть дверь. Готовясь к встрече, Джулиан положил подарки для База и миссис Ву на стол рядом с собой. Он сидел спиной к двери и не видел лица База, пока тот не подошел к ним. Присутствующие примолкли.
– Что-то случилось, Баз? – спросила Моника. – Где Бетти?
У Джулиана появилось ужасное предчувствие того, что произойдет дальше. Он ощущал, как Баз сверлит его взглядом, но не решался взглянуть на парня. Вместо этого он посмотрел на свои массивные башмаки, прекрасно начищенные. В наше время мало кто хорошо чистит обувь.
– Бабушка не выходит из своей комнаты со вчерашнего вечера, – сдерживая гнев, произнес он.
– Почему? – спросил Бенджи. – Она заболела?
– Может быть, спросишь Джулиана? – отозвался Баз.
У Джулиана рот был набит блином, но он никак не мог проглотить его, поскольку гло́тка у него пересохла. Он поднял бокал с шампанским и сделал большой глоток.
– Мне очень жаль, прости меня, Баз. Я думал, она знает. Ведь в наши дни никого не волнует, в кого ты влюблен, верно? Совсем не как в шестидесятые, когда мой друг Энди Уорхолл был единственным открытым гомосексуалистом из тех, кого я знал. Между тем скрытых геев было полно.
Все молчали, сложив два и два и получив четыре.
– Бабушка никак не может уяснить себе эту современную тенденцию. Просто не осознает. Она без конца причитает: ее жизнь, мол, была прожита напрасно. Какой был смысл всю жизнь работать не покладая рук, налаживать бизнес, который унаследуют потомки, если никаких потомков не будет? Она вне себя от горя.
Баз опустился на стул, уронив голову на руки. Джулиан подумал, что лучше пусть Баз рассердится, а не горюет так сильно.
– А как твои родители, Баз? В порядке? – спросил Бенджи, касаясь его руки.
Баз отдернул руку, словно за ним наблюдала бабушка.
– Они отнеслись к этому удивительно спокойно. Думаю, они знали.
– Я не пытаюсь оправдать свою болтливость, дорогой мой, но разве не лучше, чтобы эти вещи открылись? Разве это не облегчение? Скрывая тайну, можно и заболеть. Уж я-то знаю, – заявил Джулиан.
– Это не ваша тайна, Джулиан! Я бы рассказал ей на свой лад, в свое время. Или никогда. Правдивость не всегда лучшая политика. Иногда мы нарочно храним секреты, чтобы оградить дорогих нам людей. Так ли это было бы ужасно, если бы бабуля легла в могилу, веря, что мы с моей китайской женой унаследуем ресторан и у нас будут дети?
– Но я… – начал Джулиан.
– Не хочу ничего больше слышать, Джулиан! – перебил его Баз. – И кстати, я ни на миг не поверил, что вы были другом Энди Уорхолла. Или Марианны Фейтфулл. Или чертовой принцессы Маргарет. Вы одна большая фальшивка, сидите здесь в этой нелепой клетчатой юбке. Почему бы вам не вернуться в свою дыру и не оставить меня в покое?
С этими словами Баз встал и вышел. В наступившей гробовой тишине было слышно, как на полированный дубовый пол упала еловая иголка.
Райли
Райли даже не представлял, что миниатюрный Баз, отличавшийся добродушием и сердечностью, может так рассердиться. Всю силу своего гнева Баз направил на Джулиана, который съежился на стуле, как высохшая муха, пойманная в паутину. С тех пор как Райли познакомился с Джулианом, тот укрепил свой авторитет, становясь все более уверенным в себе, все более энергичным. За какие-то две минуты все это пропало.
Райли взглянул на Бенджи – явный случай возмещения ущерба. Парень казался в равной степени шокированным и напуганным. Звук захлопнувшейся за Базом двери несколько секунд гулко отдавался в зале кафе. Потом каким-то чужим, тонким голосом заговорил Бенджи:
– Вы считаете, я должен пойти за ним? Что мне делать?
– По-моему, надо на время оставить его в покое, чтобы он во всем разобрался и поговорил с родными, – сказала Моника.
– Что, если его семья возненавидит меня? Что, если они не разрешат ему со мной встречаться?
– Знаешь, непохоже, что у них проблема с тобой. Непохоже даже, будто его родителей особо волнует, что Баз – гей. Господи, на дворе две тысячи восемнадцатый год! Его бабушке просто нужно с этим смириться, – сказал Райли. – Во всяком случае, она не вправе запрещать вам встречаться. Вы оба взрослые люди. Это не «Ромео и Джульетта».
– Я, пожалуй, пойду, – моментально постарев, произнес Джулиан. – Пока не натворил других бед.
– Джулиан, – повернувшись к нему с гневным видом и выставив вперед ладонь, как уличный регулировщик, останавливающий машины, начала Моника, – оставайтесь на месте. Баз не это имел в виду. Он просто психанул. И здесь нет вашей вины. Вы не обязаны были об этом знать. Вы не хотели, чтобы так вышло.
– Правда не хотел, – согласился Джулиан. – Как только понял, что сказал не то, я попытался исправить ситуацию и думал, что мне это удалось.
– В конечном итоге все, может, и к лучшему. Бенджи, разве плохо, если тебе не придется постоянно тревожиться, что родные База узнают? Если вы сможете проходить мимо ресторана, держась за руки? Даже вместе жить? Когда-нибудь вы, возможно, поймете, что Джулиан оказал вам обоим огромную услугу. О господи! Жареная картошка!
Моника бросилась на кухню, а Джулиан залез в свою сумку, достав оттуда запыленную бутылку портвейна.
– Я купил это, чтобы выпить после ланча, но, пожалуй, добрый глоток прямо сейчас можно расценить как лекарство. – Он щедро налил вино в бокалы Бенджи и Райли, не забыв и про себя.
Райли не любил конфликтов, он к ним не привык. Здесь всегда все так сложно или просто он попал в такую компанию?
Трое мужчин сидели в молчании, онемев от последних событий и потягивая вязкий кроваво-красный портвейн. Минут через пятнадцать, показавшихся вечностью, Моника прокричала, что ланч готов.
К счастью, перемещение из Библиотеки к обеденному столу вызвало перемену в настроении. Гости взрывали хлопушки, каждый надел бумажный колпак, и постепенно в застольную атмосферу стало просачиваться прежнее добродушие. Все четверо, казалось, были настроены забыть об инциденте хотя бы на время.
– Моника, еда просто изумительная. Ты тоже изумительная, – сказал Райли, сжимая под столом ее колено.
Потом, не в силах устоять перед соблазном, он пробежал пальцами по ее бедру. Моника покраснела и подавилась брюссельской капустой. Райли не понял, виноват в том комплимент или физический контакт. Он подвинул руку чуть выше.
– А-а-а! – завопил он, когда Моника ткнула ему в руку вилкой.
– Что случилось, Райли? – спросил Бенджи.
– Колики, – ответил Райли.
Райли наблюдал за тем, как его друзья едят. Моника нарезала еду на одинаковые кусочки и долго-долго жевала каждый, перед тем как проглотить. Тарелка Джулиана напоминала абстрактное полотно. То и дело он с полным ртом прикрывал глаза, с улыбкой смакуя каждый оттенок вкуса. А Бенджи задумчиво тыкал вилкой в тарелку, едва притрагиваясь к еде.
Они по очереди читали вслух ужасные шутки из хлопушек, неразумно торопясь, продолжали пить вино, и казалось, день возвращается в прежнее русло. Потом они разберутся со всей ситуацией вокруг База.
Райли помог Монике убрать тарелки со стола. Они загрузили посуду в посудомоечную машину. Или скорее, загрузил ее Райли, а Моника снова все вынула и расставила по-другому. Она сказала, что у нее своя система. После чего Райли посадил Монику на кухонную столешницу и стал целовать, сжимая в крепких объятиях. От нее пахло черной смородиной и гвоздикой.
От поцелуев, вина и всего этого безрассудного дня у Райли немного кружилась голова.
Он растрепал волосы Моники и, запустив в них руки, принялся наматывать ее пряди на пальцы. Потом осторожно наклонил ее голову назад и поцеловал во влажную солоноватую ямку на шее. Моника обвила его ногами за спину, привлекая ближе к себе.
Он любит путешествовать. Он любит Лондон. Любит Рождество. И он подумал, что любит Монику.
– Освободите место! – заорал Бенджи.
Повернувшись, Райли увидел стоявших у двери ухмыляющихся Бенджи и Джулиана. Джулиан держал в руках соусник, а Бенджи – салатник с остатками брюссельской капусты.
– Но только не раньше, чем мы отведаем пудинг! – добавил Джулиан.
Моника поставила блюдо с рождественским пудингом в центр стола, и все встали вокруг. Джулиан налил немного бренди на пудинг сверху, а Райли чиркнул спичкой и поджег бренди, успев обжечь пальцы.
– Вот что случается, когда играешь с огнем, Райли, – многозначительно подняв бровь, сказала Моника.
А скоро ли уйдут Джулиан и Бенджи? – подумал Райли.
– О-о, несите нам этот фиговый пудинг! – пропел Бенджи.
Райли обнял Монику за талию, и она положила голову ему на плечо.
Потом открылась дверь. Райли понял, что никто не запер ее после ухода База. Он повернулся, ожидая увидеть База или миссис Ву. Но это были не они.
– Всем веселого Рождества! – Голос этого высокого темноволосого мужчины, казалось, заполнил все пространство, отскакивая от стен. – Вот люблю, когда замысел исполняется!
Это был Хазард.
Хазард
До Рождества оставалось три дня. На побережье было полно приезжих, включая по крайней мере три пары молодоженов, приправлявших каждую фразу словами «мой муж» и «моя жена» и старавшихся перещеголять друг друга в публичных проявлениях привязанности. Хазард пил чай в «Удачливой маме» с Дафни, Ритой и Нилом. Они начали проводить этот специфический английский ритуал пару недель назад. Это было приятным напоминанием о доме, хотя Хазард не мог припомнить, когда в последний раз пил в Лондоне чай в пять часов вечера. В это время он чаще поглощал лукозейд и кетамин, чем чай с пирожными. Рита научила Барбару печь булочки, которые они ели теплыми с кокосовым джемом. Идеально было бы иметь топленые сливки.
Нил показал им тату, сделанные во время последней поездки на Ко-Самуй. Это была какая-то надпись на тайском, обвивавшая его левую лодыжку.
– Что там написано? – спросил Хазард.
– Это значит: «Спокойствие и мир», – ответил Нил.
Но, судя по смущенному лицу Барбары, захотевшей увидеть, чем они восхищаются, Хазард догадался, что там написано совсем не то. Подмигнув Барбаре, он приложил палец к губам. Если Нил не узнает, его это не обидит.
– Что у нас будет на рождественский ланч, Барбара? – спросила Дафни. – Наверное, индейка?
– Курица, – ответила Барбара. – Не наши тощие цыплята. Мне привезли с Самуя толстых, жирных курочек. На Самуе всё жирнее. Даже туристы на Самуе жирнее.
Она надула щеки и показала руками толстый живот, а гости упивались нечаянным комплиментом.
Хазард вдруг ощутил внезапную тоску по Лондону. По индейке, фаршированной каштанами, жареной картошке и брюссельской капусте. По холоду и рождественским гимнам. По двухэтажным автобусам, загрязненному воздуху и переполненным поездам подземки. По Би-би-си, говорящим часам и шаурме в фастфуде на Нью-Кингс-роуд. И тогда он понял.
Он едет домой.
Единственный рейс, на который Хазард смог достать билет, мало кому подходил: ночной рейс в канун Рождества, прилетающий в Хитроу утром следующего дня. В самолете царила праздничная атмосфера – бортпроводницы разносили бесплатное шампанское и крепкие напитки в двойном количестве. Все весело напивались. За исключением Хазарда, который старался смотреть прямо перед собой, не сводя глаз с фильма на маленьком экране, игнорируя щелканье металлических пробок, отвинчиваемых с бутылок, и хлопанье пробок от шампанского. Сможет ли он когда-нибудь слышать звук хлопающей пробки без внутренней тоски? – подумал Хазард.
Аэропорт и улицы были пугающе пустынны. Словно он попал в фильм про апокалипсис с зомби, но более веселый фильм, без толп нежити в обносках. Немногие попавшиеся ему люди источали любовь к ближнему, почти на всех были шутовские шляпы и праздничные свитера.
Хазарду удалось подсесть в одно из немногих такси. Доехав до Фулхэм-Бродвей, он выскочил из машины, приветствуя холодный воздух, как старого друга, и закинув за спину рюкзак. Казалось, с тех пор как он в последний раз был здесь, прошла целая вечность – и он был тогда совершенно другим человеком. Он еще не сообщил родителям, что вернулся. Ему не хотелось нарушать их планы, и, во всяком случае, перед тем как начать долгую трудную работу по наведению мостов, не помешает несколько дней акклиматизации.
Хазард пошел по Фулхэм-роуд в сторону своей квартиры. Впереди показалось кафе Моники. Ему до смерти хотелось узнать, что произошло, с тех пор как он проводил Райли с тетрадью в Англию. Хазард осознавал, что это стало навязчивой идеей и ему надо каким-то образом отвлечься от этих мыслей. Он понимал, что Моника вряд ли встретилась с Джулианом, не говоря уже о Райли, что вся эта история просто разыгрывалась в его воспаленном воображении.
Дойдя до кафе, он не смог удержаться и вошел. Там все выглядело как на рождественской открытке: свечи, падуб и плющ, стол, который ломился от остатков рождественского пира. На миг Хазард подумал, что у него что-то с головой, потому что там, как он и представлял себе, были обнимающиеся Моника и Райли. И старик в экстравагантном двухцветном клетчатом ансамбле мог быть только Джулианом Джессопом.
Он гений, решил Хазард. Какой удивительный образец социальной инженерии – случайный добрый поступок, принесший поразительные результаты. Он с нетерпением ожидал встречи с Моникой и Джулианом, чтобы представить себя в качестве главного действующего лица этой драмы и рассказать, как все это вышло. Он толкнул дверь кафе и вошел, чувствуя себя героем-завоевателем.
Реакция была не совсем такой, какую ожидал Хазард. Моника, Джулиан и четвертый парень, высокий и рыжеволосый, просто тупо на него смотрели. Между тем у Райли был ошарашенный вид, как у кролика, попавшего в свет фар. Даже испуганный.
– Я Хазард! – объяснил он. – Вероятно, ты нашел ту тетрадь, Райли!
– Вы – человек, пославший открытку, – после еще нескольких секунд напряженного молчания проговорила Моника; она смотрела на него, но не с признательностью, какую он ожидал, а с подозрением и неприязнью. – Вам лучше объяснить, что происходит.
Что-то подсказало Хазарду, правда с некоторым опозданием, что его идея была не такой уж классной.
Моника
После всей этой беготни с готовкой, кипящих эмоций и избытка алкоголя Моника не чуяла под собой ног от усталости, но ей было не вспомнить, когда еще она чувствовала себя такой счастливой. Ее переполняли доброжелательность, дружелюбие и – благодаря пылким обжимашкам с Райли на кухне – феромоны. Ей даже удалось не задумываться о последствиях для здоровья и безопасности от нежничанья на столешнице профессиональной кухни.
Потом в кафе вошел какой-то мужчина. У него были темные волнистые волосы, судя по всему давно не стриженные, сильная челюсть героя комиксов, обросшая короткой бородой, и темный загар. За плечами у него был объемистый рюкзак. Похоже, этот человек только что сошел с самолета, прилетевшего из какой-то экзотической страны. Он показался Монике смутно знакомым и, видимо, ожидал, что его узнают. Не из списка ли он знаменитостей класса В? Если да, то что он делает в ее кафе в Рождество? Он сказал, что его зовут Хазард.
Моника не сразу вспомнила, где она слышала это имя. Почтовая открытка! Она также вспомнила, где видела это лицо. Это тот заносчивый придурок, который столкнулся с ней на тротуаре несколько месяцев назад. Только похудевший, загорелый и обросший. Как он тогда ее обозвал? Глупая корова? Тупая сучка? Что-то в этом роде.
Она была так смущена, что пропустила следующие его слова, но он, очевидно, знал Райли. Что-то в этом было не так. Она тогда показала Райли почтовую открытку, но он не сказал, что знает Хазарда. От тревоги у нее свело живот, пока она пыталась увязать в уме все эти факты.
Моника не стала предлагать Хазарду сесть. К черту, она не собирается демонстрировать гостеприимство! Он и стоя может объяснить, что, вообще, происходит.
– Э-э… – начал Хазард, с беспокойством глядя на Монику. – Я нашел тетрадь с «Правдивой историей» на столе в баре, вон там. – Он помахал в сторону винного бара через дорогу. – Я прочел историю Джулиана, – он кивнул на Джулиана, – и подумал, что тебе нужна помощь в твоей довольно бестолковой рекламной кампании.
Моника окинула его суровым, гневным взглядом. Хазард откашлялся и продолжил:
– Поэтому я сделал копию твоего постера и развесил ее в разных местах. И взял тетрадь с собой на остров в Таиланде. Я подумал, что немного помогу тебе, Моника. – (Ей не понравилось, как фамильярно он назвал ее по имени, словно знакомую.) – Потом, пока был там, я заводил знакомство с каждым свободным парнем, чтобы выяснить, может ли он быть хорошим бойфрендом. Понимаешь, для тебя… – Хазард замолчал.
Вероятно, до него дошло, как сильно она обижена. Все стало до ужаса ясным.
– И ты оказался на том острове – да, Райли? – спросила Моника, не смея взглянуть на него.
Он ничего не сказал, только сокрушенно кивнул. Предатель. Трус.
Моника попробовала осмыслить новую реальность. Райли не случайно появился на уроке рисования. Его прислал Хазард, чтобы несчастную старую деву оприходовали. Райли обжимался с ней не потому, что она потрясающая и он не смог с собой совладать. Конечно нет. Глупая, самонадеянная девчонка. Просто он прочел ее историю и пожалел. Или подумал, что она доведена до отчаяния. Или то и другое. Смеются ли они над ней у нее за спиной? Или заключают пари? Заплачу тебе пятьдесят фунтов, если уложишь озлобленную владелицу кафе в постель. Неужели Хазард умышленно наметил ее после столкновения с ней в тот вечер, и если да, то почему? Что она ему сделала? Джулиан тоже в этом замешан?
На Монику вдруг навалилась страшная усталость. То, что было съедено и выпито с таким удовольствием, подступило к горлу. Она подумала, что сейчас ее стошнит прямо на красиво накрытый стол. Розовые лепестки с золотым напылением, смешанные с кусками полупереваренной моркови. Приходилось перематывать назад новые образы ее будущего, смехотворно оптимистичный счастливый финал, постепенно складывавшийся в ее сознании, затем стирать их и наконец перекрывать все это банальным, невыразительным сюжетом, к которому она привыкла.
– Полагаю, вам всем лучше уйти отсюда, – сказала она. – Вы ели мою еду. Вы пили мое вино. А теперь убирайтесь, на хрен, из моего кафе!
Раньше Моника никогда не ругалась.
Райли
Почему все пошло кувырком? Минуту назад он предвкушал рождественский пудинг и секс, беспокоясь лишь о том, сколько можно съесть первого, чтобы не навредить второму. А в следующую минуту Моника выгоняет его вон. И во всем этом виноват Хазард.
– Мне очень жаль, Моника, – произнес Хазард. – Я лишь пытался помочь.
– Ты играл в какую-то игру, Хазард. С моей жизнью, словно мы участвуем в каком-то реалити-шоу на телевидении. Я не подхожу для социального эксперимента, – резко возразила Моника.
Что мог бы сказать Райли, чтобы она поняла?
– Моника, возможно, я действительно встретился с тобой из-за Хазарда, но остался не из-за этого. Ты мне по-настоящему дорога. Ты должна мне верить. – Райли догадывался, что его слова не находят отклика.
Моника повернулась и сердито уставилась на него. Лучше бы он молчал.
– Я не должна верить ничему, что ты говоришь, Райли. Ты все это время врал мне. Я тебе доверяла. Я думала, ты настоящий.
– Я никогда тебе не врал. Допускаю, что не говорил тебе всю правду, но я никогда не врал.
– Блин, это все пустые слова, и ты это знаешь! Ты был со мной только из-за этой тетради. А я подумала, это судьба. Где была моя интуиция? Как я могла быть такой глупой?
Казалось, она вот-вот заплачет, что встревожило Райли больше, чем ее гнев.
– Ну да, это похоже на правду, – сказал Райли проникновенным голосом, – ты кажешься со стороны такой невероятно сильной, но из той тетради я узнал, что в душе ты очень… – он искал нужное слово и в последний момент нашел, – …уязвимая. Наверное, поэтому я тебя и полюбил.
Райли понял, что раньше не произносил слово «любовь», но теперь было уже слишком поздно.
На какой-то миг Райли подумал, что его слова могут пробиться к ней. Но потом Моника схватила рождественский пудинг, к счастью уже не горевший, но с торчащей из него колючей веточкой падуба, и, подняв руки над головой, метнула его, как ядро. Райли не знал, в кого она метила – в него или в Хазарда. Райли отскочил в сторону, и пудинг липкой грудой шмякнулся на пол.
– Убирайтесь! – завопила Моника.
– Райли, – негромко произнес Хазард, – по-моему, нам лучше поступить, как говорит леди, и дождаться, когда все успокоится.
– А-а, значит, теперь я леди, а не тупая сучка? Придурок, решивший опекать меня! – не унималась Моника.
Райли не понимал, о чем она говорит. Она совсем с катушек съехала?
Оба они попятились к двери, опасаясь, как бы Моника не швырнула в них чем-нибудь еще. Выйдя на улицу, Райли увидел Джулиана впереди, примерно в двух кварталах. Райли позвал его, но Джулиан не услышал. Со спины он выглядел намного старше того человека, которого знал Райли. Он шел, ссутулившись и шаркая ногами, словно стараясь как можно меньше соприкасаться с окружающим. Мимо проехало такси, обдав водой из лужи голые ноги Джулиана. Тот, казалось, этого не заметил.
– Это ты во всем виноват, Хазард, – заявил Райли тоном обиженного ребенка.
– Эй! Это нечестно. Я не знал, что ты не сказал ей о «Правдивой истории». Это было целиком твое решение, и довольно глупое, скажу я тебе, если не возражаешь. Ты должен бы знать, что утаивание ключевой информации никогда не кончается хорошо, – запротестовал Хазард.
По сути дела, Райли очень даже возражал. Моника была права. Хазард действительно придурок, возомнивший себя спасителем.
– Смотри, бар открыт. Пойдем выпьем. – Хазард схватил Райли за руку и потащил за собой.
Райли разрывался на части. Ему совсем не хотелось прямо сейчас разговаривать с Хазардом и вообще не хотелось, но он жаждал поговорить с кем-то о Монике, а примкнуть к попойке своих соседей по квартире у него не было настроения. В конечном итоге потребность поговорить пересилила, и он поплелся за Хазардом в бар.
– Вот здесь я нашел тетрадь Джулиана, – начал Хазард, – на этом столе, прямо здесь. Кажется, прошла уже целая вечность. Что будешь пить?
– Мне кока-колу, пожалуйста, – заказал Райли, который уже выпил в тот день предостаточно.
– Одна кола и двойной виски, – сказал Хазард бармену, с недовольным видом носящему на голове мигающие оленьи рога.
– На самом деле, приятель, сделай две колы, пожалуйста. – Райли повернулся к Хазарду. – Ты забыл, что я прочел твою историю. Ты ведь не хочешь этого делать.
– А знаешь, хочу. Как бы то ни было, какое твое дело, если мне приспичило нажать на кнопку саморазрушения? Вряд ли я отношусь к твоим любимчикам, а?
– Здесь ты прав, но, даже если и так, я не позволю тебе у меня на глазах испоганить свою жизнь. Ты был в такой прекрасной форме. На Ко-Пангане я принял тебя за настоящего здоровяка.
– А если я опрокину один стаканчик? От этого ведь не будет вреда, правда? И в конце концов, сегодня Рождество.
Хазард посмотрел на Райли, как подросток, который понимает, что искушает судьбу, но все равно лезет на рожон.
– Ага, конечно. И через десять минут ты станешь говорить мне, что еще один – это совсем не страшно, а к полуночи я буду ломать голову над тем, как, черт побери, дотащить тебя до дома. Честно говоря, ты уже и так доставил много проблем.
От слов Райли Хазард сник.
– А-а, что за хрень! Я знаю, ты прав. Наутро я бы возненавидел себя. Знаешь, уже восемьдесят четыре дня, как я не пью и не принимаю наркоту. Не то чтобы я считал или типа того. – Хазард без энтузиазма взял у бармена кока-колу.
Он подошел к столу, который еще раньше указал Райли, и уселся на банкетку.
– Странно, как подумаешь, что в последний раз мы с тобой сидели за столом на другом конце света, на прекраснейшем морском побережье, да? – обратился он к Райли.
– Угу. Там было все намного проще, – со вздохом ответил Райли.
– Знаю, но поверь мне, месяца через два начинаешь понимать, что все это такое мелкое. Все эти временные знакомства становятся такими скучными. Я жаждал вернуться к настоящим друзьям. Проблема в том, что я не знаю, остались ли у меня друзья. Много лет назад я сменил их на таких же любителей тусовок, как я. А пожелай я встретиться с друзьями по тусовкам, они стали бы с ходу пичкать меня спиртным и наркотой. Алкаш или наркоман больше всего не любит трезвого. Уж я-то знаю.
Хазард с такой скорбью уставился в свой стакан, что Райли был не в состоянии долго на него сердиться.
– Ничего нет плохого в мелком, приятель. Все проблемы происходят от глубины. Что я скажу Монике, черт возьми?! Она думала, мы с ней играли в какую-то игру. Я знаю, сейчас она смотрит на это по-другому, но в душе сильно сомневается. Она будет очень разочарована.
– Послушай, я не очень разбираюсь в том, что происходит в головах у женщин, как ты уже мог догадаться, но не сомневаюсь: как только Моника успокоится, то поймет, что приняла все слишком близко к сердцу. Кстати, впечатляющая скорость реакции. Я подумал, она вмазала по тебе этим фиговым пудингом, – ухмыльнулся Хазард.
– Она метила в тебя, а не в меня! Должно быть, она здорово разозлилась. Моника терпеть не может, когда на пол попадают остатки еды, даже микроскопические крошки, не видимые невооруженным глазом, – с кривой усмешкой произнес Райли.
– Ну и как, очень она тебе нравится? – спросил Хазард. – Я оказался прав?
– Теперь это вряд ли имеет значение. – Потом, решив, что ответил слишком резко, Райли добавил: – Честно говоря, из-за этой чертовой тетради все казалось таким странным. Я почувствовал, что понимаю ее. Но меня это чем-то и пугало. То есть я приехал сюда ненадолго, а ей нужны все эти обязательства. Может быть, все и к лучшему.
И тут Райли понял, что совсем так не считает.
– Послушай, подожди день-два, а потом поговори с ней. Скажи, что ты пытаешься быть искренним, ха-ха, – посоветовал Хазард. – Уверен, она тебя простит.
Но что Хазард может знать? Они с Моникой не совсем на одной волне. Фактически единственным утешением в этой ситуации для Райли было то, что если прямо сейчас он не нравится Монике, то уж Хазард-то ей вообще не нравится.
Алиса
Ланч был катастрофой. Родители приехали в одиннадцать утра, и Макс открыл шампанское. Алиса выпила два бокала на голодный желудок. Потом, занимаясь готовкой, она осушила стакан красного вина, оставленного для подливки. Сочетание недосыпа, нервов и спиртного привело к тому, что при готовке она запуталась с распределением во времени. Индейка получилась суховатая, брюссельская капуста превратилась в кашу, а жареный картофель был твердым как камень. И она совсем забыла о подливке.
Мать Макса отпустила все нужные комплименты по поводу еды, но – в своей обычной манере – под похвалой скрывалась критика.
– Какая ты умница, что купила готовую начинку. Я всегда готовлю ее сама. Так глупо – куча времени уходит на то, чтобы приготовить ее как надо.
Алиса точно знала, зачем свекровь это говорит, но Макс даже не догадывался.
С грустью вспоминала Алиса, как отмечали этот праздник в доме матери, когда в тесную гостиную радостно набивались ее братья и сестры со своими семьями. Ковры, шторы и предметы мебели, выбираемые матерью скорее исходя из наличия и цены, чем из художественных достоинств, создавали какое-то буйство контрастных, не сочетаемых рисунков и красок. Домочадцы надевали на себя яркие праздничные джемперы и бумажные колпаки, споря и подшучивая друг над другом.
Дом Алисы в Фулхэме был выкрашен в правильный цвет от «Фэрроу энд бол», элегантные предметы мебели хорошо сочетались друг с другом. Всюду открытая планировка, а консультант по освещению потратил не один час и заметную часть премии Макса на то, чтобы для любого случая было создано подходящее настроение. Безукоризненный вкус. Полная бездуховность. Нет такого, что может не понравиться, и полюбить тоже нечего.
После ланча Алиса помогла Банти распаковать некоторые подарки и поняла, что переборщила с ними. Психотерапевт сказал бы, что это реакция на ее детские рождественские праздники, когда большинство подарков делали сами. Она помнит, как насмехалась над прелестной самодельной шкатулкой для шитья, которую мама подарила ей на десять лет. Там были иголки, разноцветные нитки, пуговицы и кусочки ткани. А ей хотелось получить проигрыватель компакт-дисков. Как могла она быть такой неблагодарной?
Алиса с трудом вернулась в настоящее и послала в Instagram с обычными хештегами хорошенькую фотку, на которой Банти жует обертку одного из подарков. Вдруг ни с того ни с сего Макс выхватил у нее телефон.
– Почему бы тебе не жить нормальной жизнью, вместо того чтобы все время ее фотографировать? – зашипел он, швырнув мобильник в угол комнаты.
Телефон приземлился в коробку с кубиками, разметав их, как ядро для сноса зданий.
Воцарилась напряженная тишина.
Алиса ждала, что кто-нибудь вступится за нее, скажет Максу, что негоже так разговаривать с женой.
– Алиса, дорогая, когда Банти должна спать? – вместо этого спросила мать Макса, словно ничего не произошло.
– Она… У нее нет установленного времени сна, – стараясь не заплакать, ответила Алиса.
Свекровь неодобрительно скривила губы. Алиса приготовилась выслушать знакомую лекцию о важности режима и о том, каким идеальным ребенком был Макс, который с минуты возвращения из роддома спал по ночам без просыпа.
– Ну почему бы вам с Максом не пойти с малышкой на прогулку, а я пока приберусь здесь у вас? Тебе не помешает подышать свежим воздухом.
Алиса посчитала, что под кажущейся добротой скрываются нападки на то, как она ведет хозяйство, но спорить не собиралась. Ей не терпелось на время избавиться от всего этого, пусть она и знала, что стоит ей выйти за дверь, как родители мужа будут критиковать ее. Чтобы не унижать себя еще больше, она не стала искать в ящике с игрушками сотовый, подхватила Банти и свою сумку и вышла из комнаты. Вслед за ней вышел и Макс, всем своим видом показывавший, что совсем не жаждет проводить с ней время.
Едва за ними закрылась входная дверь, как Алиса повернулась к нему.
– Как ты смеешь унижать меня перед своими родителями, Макс? Мы ведь как будто команда, – ожидая извинений, сказала она.
– Ну, я как-то не очень чувствую, что мы команда, Алиса. В любой момент, когда не занята Банти, ты возишься с этими чертовыми социальными сетями. Знаешь, у меня тоже есть потребности!
– Проклятье, Макс! Ты что, ревнуешь к ребенку? Своему ребенку? Прости, если я не нянчусь с тобой, – (по сути дела, так оно и было), – но Банти нуждается во мне гораздо больше, чем ты. Может, тебе попробовать помогать мне чуть больше?
– Дело не в этом, Алиса, – вдруг погрустнев, сказал Макс. – Ты изменилась. Мы изменились. Я лишь пытаюсь разобраться со всем этим.
– Разумеется, мы изменились! Теперь мы родители! Недавно я корчилась в родах, а сейчас превратилась в мобильный молочный бар и неделями сплю урывками, не больше трех часов кряду. Вероятно, я немного отличаюсь от той беззаботной девушки, работавшей в рекламе, на которой ты женился. А чего ты ждал?
– Не знаю, – тихо ответил он. – Помню, в день нашей свадьбы я смотрел, как тебя ведут по проходу в церкви, и думал, что я счастливейший человек на свете. Я думал, наши жизни благословенны.
– Я чувствовала то же самое, Макс. И мы действительно благословенны. Сейчас нам и должно быть трудно. Для всех первые месяцы с новорожденным кажутся трудными, разве нет? – Она ждала ответа Макса, но он промолчал. – Послушай, ты иди, пообщайся с родителями. Не хочу больше спорить. Я так устала. Я вернусь ко времени купания Банти.
У нее было ощущение, что из шаткого основания их брака выпал еще один кирпич.
Алиса села на скамейку на пустой детской площадке. Ногой подталкивая взад-вперед коляску с Банти, Алиса пыталась ее усыпить. Она видела, как тяжелеют веки Банти, сосущей кулачок и пускающей слюну на комбинезон с принтом северного оленя.
Без сотового было скучно. Алиса пошарила в карманах, но вспомнила, что оставила телефон дома. Домой возвращаться не хотелось, но она нервничала, не имея возможности ставить лайки, размещать посты или комментарии. Ей необходимо было отвлечься, чтобы не думать о ссоре с Максом. Это ее очень расстраивало. Что она делала в свободное время, пока не влезла в социальные сети? Она не могла вспомнить.
Алиса открыла сумку: нет ли там журнала «Грациа»? Не повезло. Но зато она нашла зеленую тетрадь, которую несколько дней назад подобрала на детской площадке, совершенно позабыв об этом. Чтобы чем-то заняться, она открыла тетрадь и принялась читать.
Все лгут о своей жизни. Ну разве это не правда? Сто тысяч подписчиков @алисывстранечудес наверняка не подозревают о жалкой реальности ее существования. Она подумала о сотнях постов, на которых они с Максом любовно смотрят друг на друга и на своего ребенка. Что это за тетрадь? Ее оставили специально для Алисы?
Что случится, если вместо этого поделишься правдой? Разве кто-нибудь хочет знать правду? Серьезно? Правда зачастую совсем не привлекательна. О ней не говорят с придыханием. Она не впишется в маленький квадратик Instagram. Алиса показывает вариант правды – то, что люди хотят видеть на экранах своих гаджетов. Что-то чересчур реальное – и она потеряет кучу своих подписчиков. Никто не хочет знать о ее совсем не идеальном браке, растяжках или конъюнктивите и себорейном дерматите Банти.
Алиса прочла историю Джулиана. Это было чудесно, но так грустно. Она задумалась о том, что он делает сегодня. Ему было с кем разделить рождественский ланч? Сидит ли он один в «Челси стьюдиос»? Ставит ли по-прежнему прибор для покойной жены?
Алиса начала читать историю Моники. Она хорошо знала ее кафе. Она была уверена, что недавно размещала это кафе в некоторых своих постах. Вы ведь знаете эти штуки – взгляните на мой кофе с пенкой в форме сердечка и мою чашку с полезными фруктами, йогуртом и гранолой. Посмотрите – я поддерживаю местный бизнес. На самом деле Алиса легко могла представить себе Монику, когда та деловито носится по кафе: на десять лет старше ее, но по-прежнему привлекательная и яркая.
Потом до Алисы дошло, что та женщина, которая покорила ее на днях, самозабвенно танцуя за окном кафе, была Моника. Тогда она не сложила два и два вместе, поскольку то видение очень отличалось от женщины, которую Алиса привыкла видеть днем.
Она прочла о страстном желании Моники иметь ребенка. Осторожнее с желаниями, мрачно подумала Алиса, глядя на Банти, которая заворочалась в коляске, похоже собираясь поднять крик. Неужели она сама в какой-то момент тоже очень хотела ребенка? Алиса не могла вспомнить, но предположила, что да.
Как странно, что она завидует жизни Моники, хотя Моника хотела как раз того, что Алиса принимает как должное. Алиса ощутила невидимую, но прочную связь между собой и этой сильной, но несчастной женщиной, с которой она даже толком не знакома. Она опустила взгляд на Банти, на ее чудесные пухлые щечки и бездонные голубые глаза, ощутив прилив любви, о которой она поклялась себе никогда не забывать.
Хазард. Вот имя для романтического героя. Алиса не сомневалась, что он великолепен. Как нелепо было бы называться Хазардом и быть тощим, с выпирающим кадыком и с угрями. Она представила себе, как он с голым торсом скачет на лошади по Корнуэльской скальной тропе. О господи, это, наверное, гормоны!
Ярая противница наркотиков, Алиса, читая историю Хазарда, со смущением призналась себе, что есть что-то общее в ее отношении к алкоголю и его – к кокаину. Она пьет не для того, чтобы оторваться на вечеринке, она пьет для того, чтобы пережить день. Алиса тут же задвинула эту раздражающую мысль, ведь она заслуживает своего вечернего бокала вина (или трех). И все остальные делают то же самое. Ее социальные сети были заполнены мемами о винном часе и маленьком помощнике мамочки. От этого она чувствовала себя более свободной, словно у нее по-прежнему была своя жизнь. Это было ее время, и, по правде говоря, она его заслужила.
Алиса дочитала до конца историю Хазарда и поняла, что именно он совершил. О боже мой! Словно читаешь роман Даниэлы Стил! Хазард нашел для Моники мужчину ее мечты, Райли, и отправил его в Лондон, чтобы тот вызволил ее из постылого одиночества. Как романтично! И это сработало! Наверняка Райли был тем мужчиной, которого видела Алиса в кафе и который с таким обожанием смотрел на Монику.
Алисе не терпелось прочитать следующую историю, которая, как она полагала, была написана Райли. Она заглянула на следующие три странички, очевидно написанные мужской рукой, но ей надо было возвращаться ко времени купания Банти. Может быть, ей хватит еще нескольких минут, чтобы сделать небольшой крюк мимо кафе Моники и быстро заглянуть в окна. Тогда ей удастся еще какое-то время не думать об этой ужасной ссоре с Максом. Алиса почти не сомневалась, что в Рождество кафе закрыто, но ничего страшного нет в том, чтобы прокатиться мимо. Банти будет рада.
Выйдя из парка, Алиса повернула налево, на Фулхэм-роуд, оказавшись рядом с китайским рестораном. Ресторан находился здесь уже давно, но Алиса ни разу там не была. Она предпочитала маки ролл с авокадо и крабами чоу-мейн из курицы. Улицы были пустынными, поскольку бо́льшая часть жителей Фулхэма на каникулы выехала за город. Именно поэтому ее внимание привлекли двое мужчин, стоявших у ресторана. У них был какой-то странный вид. Один с виду китаец. Этот парень был очень рассержен, излучая энергию, совершенно необъяснимую при его небольшом росте. Второй, высокий, худощавый, с рыжими волосами, показался ей знакомым. Казалось, он плачет. Что здесь происходит, черт побери?! Вероятно, не у нее одной день сегодня не задался. Эта мысль подбодрила Алису, отчего ее кольнуло чувство вины.
Шагая в сторону кафе, Алиса поняла, что впервые за долгое время делает это с радостным волнением, а не просто из чувства долга. Последние несколько месяцев превратились для нее в череду повседневных обязанностей: кормление, умывание, уборка, переодевание, готовка, глажка, стирка – и опять все по кругу, до бесконечности. А сейчас ее ожидало что-то новое, когда она не знала, что произойдет в следующий момент. Жизнь с грудным ребенком до ужаса предсказуема. Алиса тут же отругала себя за эту мысль, напомнив себе, какая она счастливая.
Еще издали было заметно, что в кафе горит свет. Это не означало, что оно непременно открыто. Многие из местных магазинов и кафе, судя по всему, не выключали свет двадцать четыре часа в сутки и семь дней в неделю. Алису это сердило, поскольку на своем аккаунте она демонстрировала бережное отношение к планете. Она перестала пользоваться одноразовыми кофейными чашками и пластиковыми пакетами задолго до того, как это вошло в моду. Одно время она даже пыталась освоить подгузники многократного использования, но это ничем хорошим не кончилось.
Заглянув в окно кафе, Алиса увидела за столом, накрытым на компанию людей, в одиночестве сидевшую Монику, которая плакала. Горько плакала. Навзрыд, с соплями и пятнами на лице. Моника, определенно, тот тип женщины, у которой хватит ума не плакать на людях. Может быть, если они подружатся, Алиса скажет ей об этом.
Она почувствовала, что ее бодрое настроение улетучивается. Ей ведь так хотелось верить в «долго и счастливо». Что, черт возьми, могло случиться?! Каким образом могла идеальная романтическая сцена, увиденная ею несколько дней назад, превратиться в это страдание одинокого человека?
Алиса безоговорочно верила в женскую солидарность. Женщины должны заботиться друг о друге. Ее девизом в жизни было: «В мире, где ты можешь быть кем угодно, будь добрым». У нее была футболка с принтом этого изречения. Она не могла просто пройти мимо, оставив ближнего в слезах. Помимо всего прочего, Алиса чувствовала, что Моника ей не чужая. У нее было ощущение, что она знает эту женщину, по крайней мере немного. А если честно, то лучше, чем большинство своих лучших подруг.
Вынув из сумки тетрадь, которая послужит ей визитной карточкой, Алиса выпрямилась, изобразила на лице дружескую, но озабоченную улыбку и вошла в кафе, осторожно перешагивая через устрашающего вида коричневую массу на полу. Что это такое, черт побери?!
Моника подняла глаза, по ее лицу размазалась тушь.
– Привет, я Алиса, – начала Алиса. – Я нашла вашу «Правдивую историю». С вами все в порядке? Я могу чем-то помочь?
– Жаль, что я вообще увидела эту чертову тетрадь, и, конечно, не хочу больше на нее смотреть, – словно выпуская пулеметную очередь, ответила Моника, и от ее слов Алиса буквально отпрянула. – Не хочу быть грубой, но я уверена, что вы, как и все прочие, думаете, что знаете меня, прочитав историю, которую никак нельзя было писать, но вы меня не знаете. И я абсолютно уверена, что не знаю вас. Да и не хочу знать. Так что прошу вас, валите отсюда и оставьте меня в покое.
Алиса так и сделала.
Моника
Моника спустилась из своей квартиры только к вечеру Дня подарков. Кафе напоминало театральную сцену, покинутую в середине пьесы. Стол был по-прежнему сервирован для пудинга, бокалы стояли полупустые. Под елкой лежали нераспечатанные подарки. А на полу, как гигантская коровья лепешка, распластался фиговый пудинг, из центра которого игриво торчала веточка падуба.
Она налила в ведро горячую мыльную воду, натянула резиновые перчатки и приступила к работе. Она всегда считала уборку терапевтическим средством – если честно, весьма хорошим средством. Пятизвездочная оценка санитарного состояния ее кафе, выставленная напоказ в витрине, была одним из достижений, вызывающих у нее наибольшее удовлетворение.
Теперь, немного успокоившись, Моника осознала, что Хазард и Райли вряд ли умышленно ее подставили. Она поверила словам Райли о том, что искренне ему нравится, да и его поцелуи не могли быть притворными, но все же она чувствовала себя униженной. Ей страшно не нравилось, что все это время он лгал ей. Мысль о том, что Хазард и Райли жалеют ее, была ей ненавистна. Моника с отвращением думала о том, что они разговаривают о ней, планируя, как улучшить ее несчастную жизнь. И она чувствовала себя глупой. А она не привыкла чувствовать себя глупой. Она получила премию Кейнса по экономике А-уровня, на минуточку!
Только она успела поверить, что нежданно-негаданно могут происходить хорошие вещи и что ее может полюбить такой удивительный парень, как Райли. А теперь оказывается, все это было подстроено. Ее мать часто говорила, что если что-то выглядит слишком хорошо, чтобы в это поверить, то так оно и есть. А Райли определенно выглядит слишком хорошо, чтобы можно было поверить в его реальность.
За последние несколько недель Моника почувствовала в себе какую-то раскрутку. Она стала привыкать плыть по течению и бросила заниматься навязчивым планированием. Она ощущала себя более счастливой и беззаботной. Но в какую переделку это ее завело!
Моника не знала, что и подумать.
Знала она лишь то, что не хочет видеть никого из них, по крайней мере какое-то время. Ей хотелось, чтобы все опять стало таким, как было до того момента, когда она нашла в своем кафе эту дурацкую тетрадь, написала свою историю и оказалась случайно вовлеченной в чей-то план. Тот мир был обыденным и невыразительным, но надежным и предсказуемым.
Тут Моника сообразила, что не отменила мастер-класс по рисованию. Взяв телефон, она вошла в созданную ею группу мастер-класса в WhatsApp. «Мастер-классы по рисованию не проводятся вплоть до дальнейшего уведомления», – набрала она. У нее не возникло желания извиняться или что-то объяснять. Зачем?
Она прошла в Библиотеку. На кофейном столике лежал лицом вверх ее красивый портрет, написанный Джулианом. На нее смотрела другая Моника – та, которая не знала, что ее жизнь основана на лжи.
Она заглянула под елку и достала подарок с надписью «Монике, с любовью от Райли». Сначала она подумала было выбросить подарок, не раскрывая, что было бы гордым поступком, но любопытство взяло верх.
Моника осторожно развернула бумагу. Там был красивый ежедневник бирюзового цвета, в котором она немедленно признала бренд «Смитсон». Разве она говорила Райли, что это ее любимый бренд? Наверное, стоит целое состояние. На обложке золотым тиснением были выбиты слова «НАДЕЖДЫ И МЕЧТЫ». Моника поднесла блокнот к носу и вдохнула запах кожи. Потом открыла его и прочла надпись на обороте обложки:
Веселого Рождества, Моника! Я знаю, как ты любишь хорошие канцелярские принадлежности, я знаю, как ты любишь списки, и я знаю, ты заслуживаешь, чтобы твои надежды и мечты сбылись.
С любовью,
Райли
Подарок был идеальный. Только увидев, что слова, написанные Райли, начали расплываться, Моника поняла, что плачет, на безупречной обложке появились пятна от соленых слез. И от этого она заплакала еще горше.
Она плакала о том, что могло быть, о том прекрасном будущем, которое на миг забрезжило перед ней, в осуществление которого она поверила. Она плакала о потерянной вере в саму себя, ведь она считала себя такой сильной и умной, а оказалась легковерной и глупой. Но больше всего она плакала о той девушке, в которую, как ей казалось, она превращается, – импульсивную, непредсказуемую и веселую, действующую по прихоти, не заботясь о последствиях. Девушку, которая записывает в блокнот свои секреты и повсюду их разбрасывает. Девушку, которая легкомысленно влюбляется в красивых незнакомцев.
Этой девушки больше нет.
Алиса
Было одиннадцать часов вечера. Алиса сидела в кресле-качалке при приглушенном свете ночника и кормила Банти. Она еще не успела отойти от вчерашней ссоры с Максом, но об этом они не говорили. К тому же и Моника на нее наорала. Вот тебе и женская дружба! Алиса вынула из сумки зеленую тетрадь, чуть прибавив свет, чтобы можно было читать, но свет не разбудил Банти, и с нетерпением перевернула страницу. Следующая была исписана почерком Райли. Какие секреты скрывает потрясающий парень вроде Райли?
Меня зовут Райли Стивенсон. Мне тридцать лет, и я садовник из Перта – того, который в Австралии. В Шотландии есть город с таким же названием. Дома я знаю имена всех моих соседей, и они знают меня. Так было с моего раннего детства. Честно говоря, это немного душит. Я уехал отчасти из-за этого.
Блин, как он справляется в Лондоне? Из одной крайности в другую. Чтобы перевернуть страницу, Алиса чуть подвинула Банти.
Пожалуй, моя правда состоит вот в чем: меня бесит, что все и каждый воспринимают меня как какого-то улыбчивого дурачка только потому, что я не такой замороченный, как многие из этих британцев. Знаете, я не параноик. А вот они настоящие параноики.
Ведь наверняка быть довольным и открытым – хорошая вещь, а не какой-то изъян характера? Несложный не означает простой, верно?
Господи, подумала Алиса, какой милый мальчик!
Иногда я замечаю, как Моника или Джулиан смотрят на меня как на ребенка и, наверное, думают: о господи, ну разве он не милый?
Ого! Эта тетрадь читает ее мысли?
Знаете, на самом деле мне совсем не нравится эта тетрадь. Правда, она помогла мне найти отличных друзей, но моя жизнь перестала быть настоящей. Мои отношения с Моникой основаны на лжи. Я пока не сказал ей, что мы встретились благодаря этой тетради, и даже не могу вспомнить, почему не сказал.
Живя в этом городе без солнца, без растений, без почвы, я сам меняюсь. Мне хочется вернуться к моим корням. Даже то, что я написал здесь, непохоже на меня. Я не привык ко всей этой чепухе с самоанализом. Я парень из тех, которых принимают таким, какой он есть. По крайней мере, я был таким.
И знаете что? В этой тетради нет правды и обо всех прочих тоже.
Читая историю Джулиана, представляешь себе печального, неприметного старика. Но тот Джулиан, которого я узнал, – самое удивительное человеческое существо. Он заставляет ощутить все краски жизни. Он пробуждает в тебе интерес к новым местам и новым впечатлениям.
Что до Хазарда, не познакомься я с ним ближе, то подумал бы, что он заносчивый, эгоистичный придурок. Но человек, с которым я общался в Таиланде, был спокойным, деликатным и немного грустным.
И наконец, Моника, которая считает себя непривлекательной. А между тем она и сердечная, и щедрая, и добрая. Она собирает людей вместе и кормит их. В этом смысле она настоящий садовник, как и я, и из нее получится отличная мама. Я знаю, если она немного расслабится, то найдет все, чего хочет.
Я собираюсь сказать Монике правду. Не знаю, что случится после этого. Но по крайней мере, наши корни укрепятся на подходящей почве, а не на песке, так что у нас появится шанс.
Что ты теперь сделаешь? Надеюсь, эта тетрадь принесет тебе больше удачи, чем мне.
Алисе стало ужасно тоскливо. Судя по ее вчерашней встрече с Моникой, дела пошли не так хорошо, как рассчитывал Райли. Моника совсем не показалась ей сердечной, щедрой или доброй. Честно говоря, она показалась ей немного неприятной.
Очаровательный Райли. Садовник без сада.
И в этот момент у Алисы созрел план.
Джулиан
Джулиан лежал, уютно закутавшись в одеяло. Он смутно слышал звучавший где-то в отдалении звонок, но ничего не мог с этим поделать, даже если бы хотел. Он чувствовал себя совершенно оторванным от реальности.
– Джулиан! Пора вставать. Нельзя весь день валяться в постели, – сказала Мэри.
– Оставь меня, – возразил он. – Почти всю ночь я писа́л. Загляни в студию и увидишь. Я уже почти закончил.
– Я уже видела. Это великолепно, как всегда. Ты великолепен. Но уже почти время ланча. – Потом, зная о его слабости, она добавила: – Я приготовлю тебе яйца пашот.
Джулиан вытянул ногу, чтобы нащупать лежащего на кровати Кита. Его там не было.
Он приоткрыл один глаз. Мэри тоже не было. Ее не было уже очень давно. Он снова закрыл глаз.
Была только одна вещь, мешающая ему погрузиться в долгий сон, непрочно привязывающая его к земле. Он знал, что должен что-то сделать. У него было ощущение, что от него зависят люди. Он чувствовал ответственность.
Джулиан услышал какое-то гудение. На этот раз у самого уха. Протянув руку, он взял мобильный телефон, о существовании которого забыл. На экране появилось сообщение: «Мастер-классы отменяются до дальнейшего уведомления». Вот эта вещь, за которую он цеплялся. Теперь он может не беспокоиться. Пожалуй, ему можно остаться под одеялом, пока его в конечном итоге не сметут бульдозерами и не заменят корпоративным развлекательным комплексом.
«БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА», – возникла надпись на экране. Джулиан положил телефон, не подключив к нему зарядное устройство, и натянул одеяло на голову, вдыхая его несвежий, успокаивающий запах.
Хазард
Проведя последние четыре дня с родителями в Оксфордшире, Хазард вернулся в город. Невероятно, но они не держали на него ни малейшего зла. Похоже, они с облегчением увидели, что он хорошо выглядит и всем доволен. Правда, мать Хазарда удивлялась, видя его каждое утро за завтраком, словно ожидала, что вечером он уйдет пьянствовать. Честно говоря, именно это он и сделал бы в прежние времена. Интересно, сколько пройдет времени, прежде чем она снова начнет доверять ему? Возможно, никогда.
Хазард остался бы у них дольше, но родители устраивали прием в Ротари-клубе в канун Нового года, и он подумал, что надежнее будет провести вечер в одиночестве. Он рассчитывал лечь спать задолго до полуночи, возблагодарив свою счастливую звезду за то, что впервые за много лет начнет Новый год в собственной постели без похмелья и партнерши, имени которой не сможет вспомнить.
Он взял телефон, чтобы узнать время. Это была базовая модель с оплатой по мере использования. Телефон никогда не звонил, поскольку никому, кроме матери, этот номер не известен. Хазард понял, что даже не знает мелодию звонка. Он всегда был коммуникабельным и много работал, поэтому ему трудно было приспособиться к новой реальности без друзей и работы. Он понимал, что нельзя постоянно прятаться от жизни.
Было 16:30. Он надел куртку, запер дверь квартиры и пошел в сторону кладбища. Он был уверен, что последствия того происшествия, которое он случайно инициировал в день Рождества, успели размыться и Моника, Джулиан и Райли – снова друзья. Поскольку его круг общения был в настоящее время под запретом, Хазард надеялся, что его примут в их круг.
Он прошел мимо кафе Моники. Там было темно. Объявление на двери гласило: «ЗАКРЫТО ДО 2 ЯНВАРЯ».
Усевшись на могильную плиту Адмирала, Хазард начал напряженно высматривать Джулиана или Монику, которые могли подойти с южной стороны кладбища, поэтому он не сразу заметил Райли, подходившего с северной стороны. Может быть, его телефонный номер понадобится Райли? Как спросить об этом, не напуская на себя виноватый вид?
– Значит, никаких их признаков? – спросил Райли. – Я жду всю неделю с вечера пятницы – в надежде, что они появятся.
– Не-а. Я здесь уже четверть часа. Только я и во́роны. Как у тебя дела с Моникой? – поинтересовался Хазард, догадавшись по виду поникших плеч Райли, что знает ответ.
– Она не отвечает на мои звонки, и кафе закрыто. Джулиан меня тоже беспокоит. Его телефон не отвечает, и я звоню ему домой каждый день с Рождества, но он не берет трубку. Джулиан обычно выходит из дому с десяти до одиннадцати утра, и он не говорил, что куда-то уезжает. Как думаешь, надо позвонить в полицию?
– Давай пройдемся вокруг и попытаемся еще раз, – предложил Хазард. – Помимо всего прочего, если я останусь тут дольше, моя задница просто примерзнет к могильной плите Адмирала.
Табличка на двери Джулиана гласила: «Дж. и М. ДЖЕССОП», вопреки тому факту, что М. не было здесь без малого пятнадцать лет. Хазарду это показалось невыразимо печальным. Как он сам замечал, новый Хазард становился довольно сентиментальным. Они звонили минут пять или около того, но ответа не было.
– Ладно, давай спросим у Моники, знает ли она, где он, и, если не знает, вызовем полицию, – сказал Хазард.
– Она не станет со мной разговаривать, – возразил Райли, – так что давай ты. Правда, она не такая уж твоя фанатка.
Райли почувствовал облегчение оттого, что он не один на линии огня.
– Она живет неподалеку? – спросил Хазард.
– Да, над кафе, – ответил Райли.
– Отлично, пойдем к ней.
Общая миссия объединила мужчин, как солдат на спецоперации, и они дружно и целенаправленно, не говоря ни слова, устремились к кафе. Райли указал на дверь желтого цвета, ведущую наверх, на лестницу, в квартиру Моники. Они позвонили в звонок. Никто не ответил. Потом они стали стучать в дверь кафе. Опять никакого ответа. Хазард сошел с тротуара, не заметив проезжающего черного такси, которое вильнуло и загудело, и запрокинул голову, вглядываясь в окна Моники.
– Ты слишком много времени провел на острове, где была единственная дорога, приятель! – заметил Райли.
– Невозможно целых десять лет принимать наркотики класса А, если не имеешь здорового пренебрежения к смерти, – ответил Хазард. – Хотя было бы забавно после всего, что я пережил, погибнуть под колесами такси на Фулхэм-роуд. Посмотри, там наверху свет, – добавил он. – МОНИКА! НАМ НАДО С ТОБОЙ ПОГОВОРИТЬ! МОНИКА! ТЫ ВИДЕЛА ДЖУЛИАНА? НАМ НУЖНА ТВОЯ ПОМОЩЬ!
Он уже был готов оставить попытки, когда окно открылось и появилась голова Моники.
– Ради бога, что подумают соседи? – сердито прошептала она, наводя страх, как мать Хазарда. – Подождите. Я сейчас спущусь.
Через несколько минут открылась дверь. Волосы Моники были небрежно собраны на затылке с помощью карандаша. На ней были большая бесформенная футболка и спортивные штаны. Хазард даже не предполагал, что у Моники может быть такая одежда. Она буквально втолкнула их в кафе.
– Моника, я страшно хочу поговорить с тобой, – начал Райли.
– Райли, давай не будем отвлекаться от нашего дела, ладно? – опережая Райли, сказал Хазард. – Займешься этим чуть позже. Важный вопрос: есть какие-нибудь вести от Джулиана? Со дня Рождества?
– Нет, – нахмурилась Моника. – О господи, как ужасно! Я была так поглощена собой, что даже не вспомнила о нем. Какой же я после этого друг? Как я понимаю, вы звонили ему домой и на сотовый?
– Тысячу раз, – ответил Райли. – Знать бы его городской номер. Он не внесен в справочник.
– Фулхэм три-два-семь-шесть, – сказала Моника.
– Надо же, а как ты запомнила? – удивился Райли.
– Фотографическая память. Как, по-твоему, я стала юристом в Сити? – ответила Моника, не клюнув на лесть Райли. – Полагаю, индекс Фулхэма – три-восемь-пять, так что его номер будет такой: ноль-два-ноль-семь три-восемь-пять три-два-семь-шесть.
Она внесла номер в свой телефон и включила громкую связь. Телефон звонил и звонил, пока в конце концов не зазвучал длинный гудок.
Все трое всецело сосредоточились на телефоне Моники и не сразу услышали стук в дверь. Это был Баз в очках, как у Джона Леннона, и в черном кожаном пиджаке. Выглядел он встревоженным. Моника отперла дверь и впустила его.
– Привет, ребята. Мне очень-очень нужно поговорить с Бенджи. Вы знаете, где он? – чуть задыхаясь, спросил он. – Я хочу извиниться перед ним. Я немного погорячился.
– Ты опоздал, – лаконично ответила Моника. – Он уехал в Шотландию на Хогманай. Он несколько дней подряд жаждал поговорить с тобой. Баз, это Хазард, – не глядя на него, сказала она.
Она произнесла его имя как бранное слово.
– Привет, – мельком взглянув на него, поздоровался Баз. – У вас есть его городской номер? Его сотовый выключен или находится вне зоны.
– Нет, извини. У нас тут проблема, – сказала Моника. – Мы пытаемся добраться до Джулиана. Никто не общался с ним с Рождества.
После упоминания Рождества наступила неловкая пауза, поскольку все подумали о том дне.
– Это нехорошо. Давайте найдем мою бабушку. Обычно она каждое утро занимается с ним тайцзи. Она наверняка знает, что с ним.
Вчетвером они направились в сторону Бродвея, отбросив неприязнь ради важного дела.
Бетти энергично затрясла головой.
– Я приходила к нему в обычное время для тайцзи, но никто не вышел в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, – загибая пальцы, сказала она. – Я думала, он с родными.
– В Британии у него нет родных, – пояснила Моника. – Пойдемте к нему, попробуем войти.
Компания из пяти человек направилась по Бродвею к «Челси стьюдиос». К этому моменту они уже не питали надежд, что им откроют парадные ворота. Так и вышло.
– Мы найдем соседей, – заявила миссис Ву, наугад решительно нажимая указательным пальцем все кнопки на домофоне сверху и снизу от кнопки Джулиана, словно дирижировала экспериментальную пьесу с оркестром.
– Имейте в виду, в семидесятых бабушка выбралась из коммунистического Китая, – обращаясь к Райли и Хазарду, зашептал Баз. – Чтобы попасть в Гонконг, они с дедом переплыли залив, как морские черепахи, привязав на спину самые ценные вещи. Не мешайте Бетти Ву.
Наконец в переговорном устройстве послышался металлический голос, звучавший довольно сердито.
– Если вы хотите продать кухонные полотенца или поговорить со мной о вечном спасении, то меня это не интересует, – произнес голос.
– Пожалуйста, впустите нас. Мы беспокоимся о друге. Не видели его несколько дней, – сказала миссис Ву.
Послышался невнятный стон, и через несколько минут ворота открыла платиновая блондинка неопределенного возраста с красиво уложенными волосами. Ее лицо было гладким, как воск, но из-под нарядного шарфа виднелась морщинистая, как у индюшки, шея. Она была похожа на тех женщин, которые садятся на заднее сиденье автомобиля, когда муж их куда-то везет.
– Кого вы ищете? – безо всякого предисловия спросила она.
– Джулиана Джессопа, – ответила Моника, настроенная весьма решительно.
– Что ж, повезло нам с ним. Мы живем здесь почти шесть лет, и мне хватит пальцев обеих рук, чтобы сосчитать, сколько раз я его видела. – Она помахала перед ними наманикюренными когтями. – На самом деле, даже одной руки. Он не пришел ни на одно собрание Ассоциации жильцов. – Глядя на них, она прищурила глаза, словно считая их персонально ответственными за пассивность Джулиана. – Я председатель, – добавила она, и эта информация была как ненужной, так и неудивительной. – Полагаю, вам лучше войти. Боже правый, сколько же вас здесь?
Они прошли мимо нее, кивая в знак благодарности, и направились к двери коттеджа Джулиана.
– Если вы разыщете его, передайте ему, что его срочно хочет видеть Патрисия Арбакл! – прокричала она им вслед. – Если он вскоре не даст о себе знать, я дам команду адвокатам!
Райли сильно постучал в дверь. Пока они ждали, у Хазарда вспотели ладони. А он даже не знает Джулиана, хотя ему кажется, что знает.
– ДЖУЛИАН! – прокричала миссис Ву громовым голосом, совершенно не вяжущимся с ее миниатюрной фигурой.
Моника и Райли всматривались внутрь через окна, которые, благодаря Монике, были не совсем мутными.
– Не вижу, чтобы что-то было не так, хотя сказать трудно, – призналась Моника. – У него там снова бардак.
Она толкнула вверх фрамугу окна, и оно открылось примерно на двенадцать дюймов. Что им действительно сейчас нужно, подумал Хазард, так это ребенок.
– Я залезу в окно! – вызвалась миссис Ву, которая, как он заметил, была не больше ребенка. – Бимин! Держи за ноги! А ты, большой мальчик, держи за туловище!
Хазард не сразу сообразил, что она обращается к нему. Хотя, очевидно, его не первый раз называли большим мальчиком.
Миссис Ву подняла руки над головой, и он придерживал ее за торс, а Баз и Райли – за ноги. Ее лицо было повернуто к земле.
– Хорошо! Вперед! Через окно!
Она громко приказывала им, как военачальник, и они просунули ее в окно наподобие бандероли в почтовый ящик. Последовала небольшая пауза, пока миссис Ву опускалась на пол, потом она поднялась.
– Открой дверь, бабушка! – попросил Баз.
Через несколько минут они вошли в дом.
В доме Джулиана неприятно пахло. Шторы задернуты, жуткий холод, паутина в углах. Райли, лучше других знавший планировку дома, обследовал первый этаж.
– Здесь его нет, пойдемте в спальню. Она наверху. – Он указал на кованую винтовую лестницу, ведущую на бельэтаж.
Моника стала подниматься первой, за ней следом шли Райли и миссис Ву.
Хазард услышал крик Моники:
– Джулиан!
Должно быть, они его обнаружили. Хазард затаил дыхание, опасаясь худшего. Наконец Моника вышла из спальни.
– Он в порядке, только очень замерз и смущен, – сообщила она; Хазард видел свое дыхание, выходящее клубами. – Одному Богу известно, когда он ел в последний раз. Баз, можешь включить обогрев? Миссис Ву, вы не могли бы принести своего волшебного лечебного супа? Джулиан категорически не хочет ехать в больницу, так что я попробую пригласить к нему врача. Райли, если магазины еще открыты, ты можешь пойти и купить десерт «Энджел дилайт»? Очевидно, со вкусом тянучки.
Почему очевидно? – недоумевал Хазард. Ему хотелось поднять руку и спросить, есть ли задание для него, но он подумал, что она снова может чем-то в него бросить. Он пошел искать чайник. Его мать в критических ситуациях всегда прибегала к хорошей чашке чая.
Моника
Он не был похож на того Джулиана, которого знала Моника. Свернувшись на кровати калачиком, он казался таким худым и иссохшим, что его тело едва выпирало под одеялом. На полу у кровати валялись три пустые банки из-под тушеных бобов, из одной торчала вилка, рядом лежал сотовый. Клетчатый килт и пиджак, в которых Джулиан был в последний раз, когда она видела его, грудой лежали у двери, словно носивший их человек просто испарился или внезапно сгорел, как колдунья в «Волшебнике из страны Оз».
На один ужасный миг, показавшийся ей часом, Моника подумала, что он мертв. Он лежал не двигаясь, и, прикоснувшись к его руке, она почувствовала холодную влажную кожу. Но, когда она прокричала его имя, его веки дрогнули, и он застонал.
И вот он сидел в кресле у пылающего камина. Баз, потратив какое-то время на поиски котла, обнаружил, что у Джулиана нет центрального отопления, а лишь отдельно стоявшие радиаторы, ни один из которых не был включен. Джулиана закутали в несколько пледов, и он прихлебывал из кружки куриный суп со сладкой кукурузой, приготовленный Бетти.
С визитом пришел терапевт и прописал тепло, питание и питье, а также антибиотики от пролежней. Он невнятно бормотал о том, как каждый из этих эпизодов добавляет напряжения для слабого сердца Джулиана, и Моника предположила, что подобное происходит не впервые. Но сейчас, по крайней мере, к щекам Джулиана медленно приливала краска, и он перестал походить на покойника.
Моника не сомневалась, что депрессия Джулиана вызвана размолвками на Рождество, поэтому она из кожи вон лезла, чтобы в его присутствии быть дружелюбной с Райли. Райли же, похоже, делал все, чтобы заслужить ее расположение. Ради интереса она воспользовалась этим, желая посмотреть, насколько хватит его рвения, и сказала ему, что нижняя ванная Джулиана нуждается в хорошей уборке. Он, как послушный щенок, потрусил туда с ведром, чистящим средством и щеткой. Вряд ли она позволит опять втянуть себя в романтические отношения с ним, но ради Джулиана они могут остаться друзьями, полагала она.
Что касается Хазарда, то ей вряд ли когда-нибудь понравится человек, так легкомысленно играющий жизнями людей. Что он вообще здесь делает? Во всяком случае, кто пригласил его в их компанию? Она и прежде встречалась с этим типом людей, настолько привычных к восхищению и всегда поступающих по-своему, что у них даже не возникает сомнения, а примут ли их.
Все в нем раздражало ее – начиная с идеальной голливудской улыбки и дурацкой хипстерской бороды и кончая мокасинами, как у выпускника дорогой частной школы. Ей было шестнадцать, когда вскоре после смерти матери отец уговорил Монику, вопреки ее убеждениям, пойти на школьный бал. Ее поцеловал мальчик, который выглядел в точности как более молодой Хазард, и она подумала: возможно, что-то в ее жизни наладится. Потом она узнала, что он сделал это на спор. Посмотрим, сможешь ли ты сконфузить главную зубрилу класса. После этого она несколько месяцев не ходила в школу.
Так или иначе, что за имя такое – Хазард? Хотя оно ему подходит. Такого типа парень должен ходить с предупреждающим знаком.
Словно почувствовав, что она думает о нем, Хазард повернулся к ней:
– Послушай, Моника, тебе удалось уговорить Джулиана провести мастер-класс в кафе?
– Да, – ответила она, отметив про себя, что постарается как можно скорее возобновить мастер-классы, хотя бы ради Джулиана.
Несмотря на лаконичный ответ Моники, Хазард настойчиво продолжил:
– Можно к вам присоединиться? Я не занимался рисованием с университета. Хотелось бы снова попробовать.
Моника представила себе Хазарда в университете: как он посещает вечеринки, на которые принято приходить в вечерних туалетах, и слизывает мороженое с бедер девушек по имени Давина, учившихся в частной школе Роэден.
– Боюсь, у нас мало мест, – сказала она, но потом вежливо добавила: – Извини.
К несчастью, несмотря на солидный возраст, у Джулиана был слух летучей мыши.
– Разумеется, место найдется, старина. Мы поставим дополнительный стул!
– Хочешь записать мой новый номер мобильного? – спросил Хазард, размахивая перед ней на удивление старомодным телефоном.
– С какой радости? – огрызнулась она.
Неужели он думает, что каждая женщина им интересуется?
– Э-э, чтобы ты могла сообщать мне о занятиях по рисованию, – ответил несколько сбитый с толку Хазард.
– А-а, понятно. В этом нет необходимости, просто приходи. По понедельникам в семь часов вечера. – Подумав, что проявила излишнюю агрессивность, Моника решила протянуть ему крошечный листик оливковой ветви. – Что ты делал в Таиланде, Хазард? – спросила она, стараясь придать своему тону больше дружелюбия.
– Гм… был на детоксе, – ответил Хазард.
Моника с трудом удержалась, чтобы не возвести очи горе. Она в точности знала, что это такое. В бульварных журналах, которые посетители оставляли в кафе и которые она старалась не читать, знаменитости постоянно этим занимались. Значит, он побывал на каком-то роскошном спа-курорте, где пил органические смузи, где ему по несколько раз на дню делали массаж и орошение толстой кишки, чтобы перед сезоном вечеринок он смог сбросить несколько фунтов. Моника не сомневалась, что оплачено все это было из трастового фонда, учрежденного мамочкой и папочкой.
– Повезло тебе, столько времени не работать, – проверяя свою теорию, сказала она.
– О-о, по сути дела, сейчас я ищу работу, – ответил Хазард.
Это все отговорки шикарного мальчика, не нуждающегося в работе. Моника знала, что Хазарду не надо было беспокоиться по поводу нужных результатов экзамена или о том, чтобы продать достаточное количество «флэт уайт» для покрытия аренды – он просто мог обратиться через сеть к своим школьным друзьям с просьбой найти ему стильное занятие, которое не помешает его светской жизни, каникулам или детоксу.
Баз вернулся в ресторан, чтобы помочь родителям, очень занятым в канун Нового года, при этом он ухмылялся, как Чеширский Кот, поскольку ему наконец позвонил Бенджи из Шотландии. Все прочие не захотели покидать Джулиана. Моника беспокоилась, что, как только его оставят одного, он снова впадет в спячку. Бетти принесла для всех дымящиеся клецки и блинчики с начинкой, а Райли по указанию Джулиана достал из погреба шампанское, чтобы поднять тост за Новый год. Он вернулся оттуда бледный и дрожащий. Моника не успела спросить его о том, что было внизу.
– Миссис Ву… – начал Джулиан хрипловатым голосом.
– Бетти! – прокричала та.
– Простите, что расстроил вас, заговорив о Базе и Бенджи.
– Бимин! – прокричала она.
– Знаете, Бенджи – очень хороший мальчик, и он делает Бимина счастливым. Разве не это самое важное? – вкрадчиво произнес он.
Моника взглянула на хмурую Бетти, у которой на переносице сошлись брови, образовав гигантскую серую многоножку, и подумала: неужели Джулиан действительно хотел умереть?
– Конечно, я хочу, чтобы он был счастлив, – вздохнула Бетти. – Я люблю этого мальчика. Он мой единственный внук. Я уверена, этот Бенджи – хороший человек. Но он не может стать женой для Бимина! Он не может родить ребенка. Не может готовить в ресторане китайскую еду.
– Знаете, это не совсем так. Они могут усыновить ребенка. В наше время это делают многие мужчины-геи, – сказал Джулиан.
– Удочерить маленькую девочку из Китая? – почти задумчиво произнесла Бетти.
– И Бенджи – прекрасный повар, – добавила Моника. – В кафе в основном готовит он, причем делает это гораздо лучше меня.
Скрестив руки на груди, Бетти фыркнула. Но Монике показалось, что маленькая женщина немного смягчилась.
– Бимин сказал мне, что накричал на вас, – обратилась Бетти к Джулиану. – А я сказала ему, что мне стыдно за него. Он должен проявлять уважение к старшим.
– Не волнуйтесь, миссис Ву. Он только что извинился, хотя в этом не было необходимости, – произнес Джулиан.
Эти слова вызвали у Моники улыбку. Она слышала извинения База, не отличавшиеся особым смирением. Он извинился за то, что назвал коттедж мусорной свалкой, сказав, что после усилий Моники дом стал выглядеть гораздо лучше. Это подбросило ей идею.
– Джулиан, – начала Моника, – почему бы нам не начать Новый год с очередной весенней уборки? Если хотите, я могу заглянуть к вам на следующей неделе.
– Послушай, Моника, а ты не могла бы прибраться и у меня в доме, если у тебя такой настрой? – поинтересовался Хазард.
Это было последней каплей.
– Зачем, Хазард? Потому что ты чертовски ленив и не хочешь сделать это сам? Или потому, что считаешь это женской работой, а ты для этого слишком мужественный?
– Остынь, Моника! Я просто пошутил! – воскликнул ошарашенный Хазард. – Знаешь, подчас тебе стоит взбодриться. Развеселиться. В конце концов, сегодня канун Нового года.
Моника сердито взглянула на него. Он выдержал ее взгляд. Она по-прежнему испытывала к нему неприязнь, но, по крайней мере, он сопротивлялся ей. Как юрист, она не любила, когда оппонент быстро сдавался.
– Пять минут до полуночи! – объявил Райли. – У всех есть шампанское в бокалах?
– У меня чай с мятой, – отозвался Хазард. – Чай – это новое шампанское. Все его пьют.
– Заранее выполняешь новогодние обещания, Хазард? – спросила Моника.
Сама она так любила обещания, что распределяла их по всему году. Зачем ограничивать их январем?
– Что-то в этом роде, – ответил он.
Моника подумала было спросить Хазарда, проверил ли он срок годности мятного чая, но все же не стала. Маловероятно, чтобы это убило его, а жаль.
Потом небо над Фулхэмом и Челси осветилось, и звуки фейерверка стали многократно отражаться от ближайших зданий. Моника повернулась к окнам от пола до потолка в студии Джулиана, за которыми полыхала феерия цвета.
Только что наступил Новый год.
Райли
В следующую пятницу Райли с облегчением увидел направлявшегося к Адмиралу Джулиана. Согласно инструкциям Моники, Райли каждый день с кануна Нового года заходил в коттедж – якобы для того, чтобы продолжать разборку хлама, но в основном чтобы проверить, встал ли Джулиан, в тепле ли он, поел ли. Казалось, если он и не стал таким, как прежде, то, по крайней мере, идет на поправку. В тот вечер он выглядел вполне бодрым.
– Райли! Рад видеть тебя здесь! Знаешь что?
– Что? – спросил Райли.
– Моника забронировала билеты на «Евростар» для экскурсионной поездки художественного кружка! Я весь день занимался планированием наших посещений музеев!
– Потрясающе! – отозвался Райли, который мечтал посетить Париж, с тех пор как подростком увидел Николь Кидман в «Мулен Руж».
Он дожидался, пока Джулиан заметит, кого он привел с собой.
– Кто же твой друг, Райли? – глядя на виляющий хвост, спросил Джулиан.
– На самом деле я надеюсь, что он станет вашим другом. Его нашли строители в пустующем соседнем доме. Мы думаем, он принадлежал старушке, недавно умершей. Они подкармливали его своими сэндвичами и сосисками в тесте, но ему нужен настоящий дом.
В действительности Райли считал, что Джулиану нужно какое-то существо, о котором он будет заботиться. Хороший повод, чтобы не пытаться опять ставить на своей жизни крест.
– Что это? – спросил Джулиан.
– Собака, – ответил Райли.
– Нет, я имею в виду, какая порода?
– Бог его знает. Полагаю, здесь преобладала свободная любовь. В нем что-то от дворняжки. Но пожалуй, в основном это терьер, – ответил Райли.
– В чем-то определенно просматривается джек-рассел, – заметил Джулиан.
Они с псом смотрели друг на друга, спокойно воспринимая одинаково слезящиеся глаза, седые бороды, подагрические суставы и мировую скорбь.
– Как его зовут? – спросил Джулиан.
– Мы не знаем. Строители зовут его Войцех.
– Боже правый! – вздохнул Джулиан.
– Они поляки.
– Я буду называть его Китом. Кит – отличное имя для собаки.
– Это значит, вы его берете? – спросил Райли.
– Пожалуй, да. Мы будем с тобой двое жалких старикашек. Да, Кит?
– Полное разоблачение – он частенько выпускает газы, – сообщил Райли.
– Ну, тогда тем более. Еще одно, что нас объединяет, – сказал Джулиан. – Будет на кого переложить вину, когда придут гости. Как думаешь, понравится ему Париж? – глядя сверху вниз на нового питомца, добавил он, потом, не дожидаясь ответа, продолжил: – Не слишком ли это претенциозно – попытаться в один день охватить современное искусство и эпоху Возрождения? Но как тут выбрать, Райли? Мне никогда особо не удавалось сводить к минимуму мои возможности. Мэри всегда мне об этом говорила.
Райли пожал плечами. Ему было немного не по себе.
– Постарайтесь, чтобы у нас осталось время подняться на Эйфелеву башню!
– Дорогой мой мальчик, это будет день культурного обогащения, а не посещения всех туристических приманок. Но полагаю, если уж без клише не обойтись, пусть это будет Эйфелева башня.
Райли отвлекла женщина, которая шла в их сторону, энергично толкая перед собой детскую коляску, словно это был спортивный тренажер. Таких женщин обычно называют аппетитными мамочками. Наверняка из хорошей семьи, родилась с серебряной ложкой во рту. Ей было лет двадцать пять, волосы идеально причесаны, с мелированием, за которое в Лондоне заплатишь целое состояние, а вот австралийское солнце делает это бесплатно. Она напоминала хорошо ухоженного пони цвета паломино, отправленного на соревнование по выездке. Пальцы руки, которой она сжимала бутылку с водой, были с красивым маникюром. В Перте мамочки так не выглядели. Обычно у них были растрепанные волосы, они носили измятые сарафаны и вьетнамки. Райли подождал, пока она не пройдет мимо. Но она не прошла мимо.
– Привет, – сказала она. – Вы, должно быть, Джулиан, а вы – Райли?
– Да, – смущенно произнес он.
– Я так и знала. Вас выдает австралийский акцент! Я Алиса! – Она протянула им руку, и они по очереди пожали ее. – А это Банти! – Женщина махнула в сторону коляски. – Кто это? – спросила она, взглянув на собаку, теперь сидящую на плите Адмирала рядом с Джулианом.
– Кит, – в один голос ответили Джулиан и Райли.
– Откуда вам известны наши имена? – спросил Райли.
Может быть, она их преследует?
– Я нашла тетрадь с «Правдивой историей». На детской площадке, – ответила она.
Райли очень много размышлял о том, сколько вреда принесла эта дурацкая тетрадь в прошлом, но он совсем не задумывался, что может произойти после того, как он оставил ее на детской площадке, втиснутой между его квартирой и кафе, – этом клочке зелени, где он часто сидел, проветривая мозги.
– Ну и дела! – воскликнул Джулиан. – Моя тетрадочка все еще ходит по кругу! Здравствуйте! Очень приятно познакомиться.
Райли незаметно закатил глаза. Джулиан был любителем смазливых личиков.
– О господи! Джулиан, какой потрясающий пиджак! Наверное, от Версаче. Я права? Восьмидесятые?
Райли успел так привыкнуть к умению Джулиана одеваться, что не обратил внимания на шелковый пиджак с замысловатым узором, надетым под пальто, но именно этот предмет одежды вызывал у Алисы пароксизмы восторга.
– О-о, наконец-то! – воскликнул Джулиан. – Еще одна модница! А то в окружении всех этих чучел я начал терять надежду. Вы, конечно, правы. Изумительный Джанни. Такая трагическая потеря для мира. Я так до конца и не оправился.
Чучела? Райли рассердился. А что, никто не заметил, что он носит брендовые «Найк», купленные на eBay? Он смотрел, как Джулиан прикасается к глазам шелковым носовым платком. Старик явно играет на публику. Наверняка эта Алиса видит его насквозь.
– Прошу вас, не могли бы вы на минуту снять пальто, чтобы я сфотографировала вас? – попросила Алиса.
Она это серьезно? Похоже, Джулиан был рад снять пальто в один из самых холодных дней года, тогда как недавно чуть не умер от переохлаждения. Он даже принялся позировать.
– Ковбойские сапоги? – переспросил он в ответ на другой ее бессмысленный вопрос о моде. – Они из «R. Soles» на Кингс-роуд. Великое имя, не так ли? Вероятно, сейчас уже закрыт. Там, наверное, какой-нибудь фастфуд или что-то не менее ужасное. – Джулиан напустил на себя задумчивый вид. – Не забавно ли? Это напоминает мне о времени, проведенном с моим большим другом Дэвидом Бейли.
Райли подумал, что Алиса сейчас упадет в обморок. Где, недоумевал он, были все эти большие друзья, когда Джулиан жил отшельником пятнадцать лет?
– Может быть, мне оставить вас вдвоем? – спросил он, в тот же момент осознав, что говорит почти как ревнивый ребенок.
Алиса повернулась к нему:
– На самом деле, Райли, я хотела повидать именно вас, хотя очень люблю вашего друга Джулиана. – (Джулиан глупо улыбнулся. Моника, подумал Райли, никогда не клюнула бы на такой очевидный флирт.) – Мы могли бы встретиться с вами по этому адресу завтра в десять часов утра? Джулиан, вы тоже можете прийти! Вам понравится, обещаю! Здесь мой телефонный номер на тот случай, если вы передумаете, но я знаю, вы не передумаете! Правда ведь? А теперь нам с Банти пора. Пока-пока!
Пока-пока???
– Боже мой, ну разве она не прелесть? – восхищенно произнес Джулиан. – Не могу дождаться, чтобы узнать, в чем тут дело. А ты? Мы обязательно должны познакомить ее с Моникой, она полюбит ее.
Моника, подумал Райли, стоит сотни Алис. Он совершенно не хотел идти на эту таинственную встречу, но Джулиан заставит.
Алиса
Алиса была страшно взволнована предстоящей встречей с Джулианом и Райли. Со времени рождения Банти ее дни как будто сливались в один, все были одинаково заполнены делами, связанными с младенцем: купание, массаж, йога и бесконечная переписка с другими молодыми мамами об этапах развития, графике сна, прорезывании зубов и отнятии от груди. Алиса чувствовала, что от нее ускользает ее идентичность и она превращается в какой-то придаток – то ли мать Банти, то ли жена Макса. За исключением жизни онлайн. Онлайн она по-прежнему была @алисавстранечудес.
Она смотрела на приближающихся Джулиана и Райли. Походка Райли больше подошла бы к прогулке по пляжу, чем по лондонскому тротуару. Его, такого яркого и солнечного, нельзя было запирать в городе. Или возможно, она так думала просто потому, что прочла его историю. Так странно знать о человеке больше, чем следует. И Джулиан, такой эффектный. Его, как райскую птицу, невозможно посадить в клетку.
– Джулиан, сегодня вы одеты даже лучше, чем вчера! – воскликнула Алиса.
– Вы слишком, слишком добры, милое дитя, – ответил он, целуя ей руку; Алиса думала, такое бывает лишь в кино. – Это тот самый шелковый френч Неру, в котором снимался Шон Коннери в фильме «Доктор Ноу» тысяча девятьсот шестьдесят второго года. Он прекрасно смотрится с этими сапогами из крокодиловой кожи, вы не находите?
– Шон тоже был вашим большим другом? – спросил Райли.
Немного язвительно, подумала Алиса.
– Нет-нет. Просто случайное знакомство. Я купил этот френч на благотворительном аукционе, – ответил Джулиан.
– Прошу вас, можно сделать несколько снимков? – спросила она.
Джулиан с довольным видом прислонился к фонарному столбу. Он даже достал из внутреннего кармана очки-авиаторы «Рэй-Бан» и нацепил их. Рядом сидел Кит, не менее щеголеватый, в галстуке-бабочке.
– При всем моем нежелании помешать модному показу, – встрял Райли, который никак не мог врубиться в суть происходящего, – можете сказать, зачем мы вообще здесь?
– Ну, – начала Алиса, – возможно, вы не знаете, но я онлайн-авторитет.
– Что-что? – хором переспросили Джулиан и Райли.
– У меня больше ста тысяч подписчиков. – (Джулиан огляделся по сторонам, ожидая увидеть следующую за Алисой толпу людей.) – В Instagram, – пояснила она. Придется потрудиться. Неужели ей надо начать объяснение с изобретения Всемирной паутины? – Райли, наверняка у тебя есть Instagram?
– Не-а. Instagram – это бессмысленные фотки тощих людей, принимающих на закате йоговские позы, да?
– Ну, допускаю, что бывает и такое, но есть много интересного, – стараясь не обижаться, ответила Алиса. – Например, этот дом, – она махнула рукой в сторону большого таунхауса в викторианском стиле перед ними, – после смерти владельца был передан местной благотворительной организации. В нем открыли бесплатный детский сад для детей женщин, проходящих реабилитацию после наркотической и алкогольной зависимости. Женщины часто отказываются искать помощь, так как беспокоятся, что их детей отправят в приют. Этот детсад поможет им сохранить опекунство, пока они приводят себя в норму. А волонтеры заботятся о детях: кормят их, одевают, моют и, что очень важно, играют с ними. Этот дом называют «Мамин маленький помощник».
– Это круто, – сказал Райли. – Так ты здесь работаешь?
– Ну, не совсем, – ответила Алиса. – Они организуют мероприятия по сбору средств, а я продвигаю их на @алисавстранечудес. – Заметив недоумение на лицах мужчин, она добавила: – Это мой аккаунт в Instagram. Понимаете, один мой пост может принести тысячи фунтов пожертвований. Так что это не только «поза собаки на рассвете».
Она поняла, что говорит несколько раздраженно.
– Зачем мы здесь? – во второй раз спросил Райли. – Нужна помощь в продаже выпечки?
– Ха! Нет. Для этого у нас полно мамочек. И по сути дела, Джулиан мне здесь не нужен – он просто для украшения. Мне нужен ты, Райли. Пойдем со мной, я покажу тебе.
Райли обрадовался, что он нужен. Джулиан обрадовался тому, что пригодился для украшения. Алиса позвонила, и дверь открыла матрона, бюст которой был размером с бампер автомобиля.
– Лиззи, это Райли и Джулиан, – сказала Алиса.
– О да, входите! Я вас ожидала. Пожалуйста, не обращайте внимания на беспорядок. И шум. И запах! Я занималась сменой памперсов. – (Этой информации оказалось многовато для Джулиана, который позеленел и не стал пожимать ей руку.) – Ах, извините, – добавила Лиззи, – боюсь, с собакой сюда нельзя.
– Кит не собака, – заявил Джулиан, и Лиззи одарила его взглядом, способным утихомирить целую комнату шумных годовалых малышей. – Он моя нянька, – без смущения продолжал Джулиан. – Знаете что, я его понесу, тогда он даже не прикоснется к полу.
Не дожидаясь ответа, Джулиан подхватил Кита под мышку и вошел. Алиса подумала, уж не нарочно ли Кит пукнул, когда его проносили мимо Лиззи. Она не удивилась бы. Этот пес более зловредный, чем может показаться.
На стенах коридора висели детские рисунки. В ближайшей комнате играли «Old MacDonald», оттуда доносилась какофония пения, звона и завывания. Чувствовался своеобразный запах пластилина, смешанный с запахами плакатной краски, чистящих средств и испачканных подгузников.
– Проходите сюда, – сказала Алиса, провожая их на кухню, расположенную в задней части дома. – Вот зачем я привела вас сюда.
Она указала на застекленную дверь, выходящую в сад. Сад напоминал джунгли. Трава выросла на фут, а цветочные клумбы так заросли гигантскими сорняками, что невозможно было рассмотреть кусты или цветы. Какая-то ползучая роза бешено разрослась, воздвигнув стену колючек наподобие той, что защищала Спящую Красавицу.
– Ну и ну! – воскликнул Райли; Алиса рассчитывала именно на такую реакцию. – Знаешь, я ведь садовник.
– Ага. Я ведь прочла ту тетрадь. И я знаю, что ты садовник. Как я говорила, именно поэтому ты здесь, – откликнулась Алиса. – Мы даже не можем выпускать туда детей. Это кошмар с точки зрения здоровья и безопасности.
– Тебе стоит поговорить об этом с Моникой, – сказал Райли. – Здоровье и безопасность – это ее тема.
– Райли прав, – вмешался Джулиан, словно стремясь показать, что лучше знает строгую Монику. – Если бы Моника посещала мастермайнд-группу, это был бы определенно ее предмет.
Боже правый! Каким же образом контроль здоровья и безопасности может кого-то интересовать? Алиса решила не комментировать. Оба они, очевидно, испытывают к Монике нежные чувства.
– У большинства наших детей дома нет места для прогулки, и будет замечательно, если мы сможем превратить это место в хороший сад с игрушечным домиком и песочницей. Что скажешь?
– Хочу поскорее начать! – воскликнул Райли, делая руками движения, имитирующие вскапывание клумб.
– К сожалению, мы не сможем тебе заплатить, – сказала Алиса, – и работа начнется не сразу, потому что у нас нет фондов для покупки садового инвентаря и растений. Если повезет, ближайший садовый центр выделит нам что-нибудь бесплатно.
– С этим я могу помочь! – вмешался Джулиан, который, очевидно, почувствовал, что о нем забыли. – Райли, я с радостью пожертвую всю свою долю от прибыли с нашего проекта на eBay в садовый бюджет!
Похоже, он был очень доволен собой, как щедрый дядюшка, раздающий всем леденцы на дне рождения.
– Вам нельзя это делать! – запротестовал Райли. – Вы пенсионер. Вам нужны эти деньги.
– Не глупи, паренек. Мне не приходится выживать на государственную пенсию. В свое время я заработал много денег. У меня есть инвестиции, обеспечивающие безбедное существование. Мне будет приятно помочь.
Он широко улыбнулся им. И они улыбнулись в ответ.
– «У старого Макдональда была ферма!» – громко запели в дальней комнате.
– «И-ЙА-И-ЙА-ЙО»! – подхватил припев Райли.
Джулиан
Джулиан в седьмой раз проверил карманы. Ему не нужен билет, поскольку Моника сама обо всем позаботится. Он догадывался, что она не полностью им доверяет. Евро – контролирует, паспорта – контролирует, расписание – контролирует, путеводители – контролирует. Всего две недели назад Райли спросил его, есть ли у него действующий загранпаспорт, и Джулиан понял, что поскольку он более пятнадцати лет не выезжал из страны (он редко покидал даже Фулхэм), то срок действия его паспорта истек. Тогда Моника помогла ему в кратчайший срок оформить новый.
Джулиан знал: если он будет настаивать на паспорте также и для Кита, Моника может рассердиться. Ему пришлось выдвинуть что-то вроде ультиматума. Или они поедут вместе, или никто не поедет. Да, это отдает мелодрамой, но Кит стареет, и каждый перед смертью должен хоть раз побывать в Париже.
Так или иначе, Моника, как очень энергичный человек, сделала и это. Вот если бы она оказалась рядом с ним в шестидесятые, когда он с трудом понимал, какой сейчас день, и уж точно не знал, где ему надлежит быть. Что бы Мэри сделала с Моникой?
Все они встретились у кафе, Райли предварительно уговорил водителя микроавтобуса из «Маминого маленького помощника» отвезти их на вокзал к «Евростару». Волнение Джулиана было сродни тому, что он испытывал, когда его попросили написать принцессу Диану. Думая об этом, он не был уверен, что его действительно просили написать Диану. Он определенно никогда не писал ее портрет, так что, наверное, его и не просили. Иногда он приходил в некоторое замешательство, не зная, что было правдой, а что выдумкой. Если часто рассказываешь какую-нибудь историю, она становится правдой или почти правдой.
Джулиан притормозил за несколько метров от собравшейся группы, ожидая, что его с Китом заметят заранее. Как он и надеялся, их приветствовали градом восклицаний.
– Джулиан! Кит! Де́ржите марку Англии, как я вижу! – высказался Райли.
– Не знаю даже, чему больше удивляться, – оглядывая парочку с головы до ног, сказала Моника.
На Джулиане были: футболка Sex Pistols с надписью «Боже, храни королеву», сапоги «Док Мартен» и куртка-бомбер с изображением «Юнион Джека» от Вивьен Вествуд. Кит вышагивал в жилете с «Юнион Джеком» со всей уверенностью и беспечностью модели на подиуме. Правда, с артритными суставами.
Чтобы иметь возможность им с Бенджи отправиться в поездку, Моника заранее договорилась с двумя бывшими работниками подменить их в кафе. В Париж собирались также Софи и Кэролайн, обе работающие мамы, но им не дали отгулов, поэтому Джулиан пригласил для количества Хазарда и Алису. Из-за нехватки персонала в их ресторане Баз поехать не смог, но настоял, чтобы поехала его бабушка. Миссис Ву никогда не была в Париже.
Пока они друг за другом поднимались в микроавтобус, Моника, которая, по мысли Джулиана, могла бы стать прекрасной учительницей начальных классов, пересчитывала их по головам.
– Пять плюс я – это шесть, и еще собака. Кого не хватает? Это ваша знакомая, да, Джулиан?
– Да. Смотрите, вот она! – ответил он, увидев Алису, которая шла в их сторону, неся в заплечной сумке Банти. Через плечо у нее была перекинута огромная сумка, в которой Джулиан немедленно признал бренд «Аня Хиндмарч». – Моника, это Алиса. Ты непременно ее полюбишь.
Моника и Алиса сошлись вместе, как два полюса магнита. Чувствовалось определенное напряжение. Джулиан ничего не понимал.
– О да. Мы знакомы, – сказала Моника.
– Действительно. Ты велела мне убираться из кафе, если я правильно запомнила. Здравствуйте. Я Алиса, а это Банти. – Алиса протянула руку, которую Моника пожала.
– Извини, – произнесла Моника. – У меня был не очень хороший день. Мы можем начать снова?
– Конечно, – ответила Алиса, и Джулиан заметил, как удивление на ее лице быстро сменяется застенчивостью, а потом уступает место сердечной улыбке, являющей результаты длительного и дорогостоящего лечения у ортодонта.
– Хорошо, все на борт! Берегите головы! – (До Хазарда эти слова Моники дошли с опозданием, поскольку он, при его росте в шесть с лишним футов, умудрился удариться лбом, пролезая в дверь микроавтобуса. Не знай он ее хорошо, Джулиан подумал бы, что Моника ухмыляется.) – Не забудьте пристегнуть ремни! Безопасность прежде всего!
– Мы совсем как «Команда „А“»! Хотя, готов поспорить, они никогда не пристегивали ремни безопасности, – сказал Джулиан. – «Бэгси, я мистер Т.». – Потом, увидев их озадаченные лица, добавил: – О господи, неужели вы такие молодые, что не помните «Команду „А“»?
– Знаете, Джулиан, не все из нас родились в бронзовом веке, – откликнулся Райли. – Как будто снова оказался в школе. Помнишь, как все спорили из-за задних сидений?
– Мне всегда нравилось сидеть на переднем, – ответила Моника, сидевшая на переднем сиденье рядом с водителем и сжимавшая двумя руками дорожную сумку.
– Я взяла в путешествие печенье с предсказаниями из нашего ресторана! – Миссис Ву достала из сумки и передала всем печенюшки, завернутые в целлофан.
Хазард, явно не умевший сдерживать свои порывы, сразу развернул обертку, разломил печенье пополам и вынул из него маленький листок бумаги.
– Что там написано? – спросил сидевший рядом с ним Джулиан.
– О господи! Там написано: «Помогите! Меня захватили в плен на фабрике печенья!» – ответил Хазард. – Нет, на самом деле там написано: «Вы умрете в одиночестве и плохо одетым». Не слишком весело, а?
– По крайней мере, такого никогда не скажут обо мне, – заметил Джулиан. – Я вполне могу умереть в одиночестве, но я не бываю плохо одет.
– Может быть, не бываете плохо одетым, но всегда одеты слишком вычурно, – произнес Райли, сидевший сразу за ним.
Джулиан хотел хлопнуть его по голове, но Райли пригнулся, и шлепок пришелся по Алисе, сидевшей рядом.
– Ах, простите, милая девочка! – воскликнул он.
Банти, устроенная на детском сиденье, заплакала.
– «Колеса автобуса все крутятся и крутятся!» – стараясь успокоить Банти, запела Алиса.
– Старикан в автобусе все твердит: «Я ношу Вествуд», – прошептал Бенджи Монике.
– Я это слышал! – сказал Джулиан.
Бенджи не рассчитывал, что у старикана такой хороший слух.
– Угадайте, что написано в моем предсказании, – быстро сменил тему Бенджи. – «Ты отправишься в путешествие!» Ух ты! Они действительно работают!
Джулиан заметил, как миссис Ву одарила бойфренда своего внука пристальным взглядом, достойным медвежонка Паддингтона, но этот день ничто не могло испортить. Он обещал быть изумительным.
Хазард
Держа под мышкой Кита, Джулиан возвращался из вагона-ресторана, неуверенно продвигаясь по проходу и отскакивая от сидений справа и слева от себя. Хазард поморщился, представив себе, как Джулиана с переломом бедра выносят из поезда на носилках.
– Как я и догадывался, выбор вин в поезде ужасный. Но я-то подготовился. – Джулиан вынул из сумки бутылку шампанского.
Интересно, подумал Хазард, надолго ли хватит терпения Моники?
– Джулиан, сейчас время завтрака, – сказала она.
Ненадолго, как и следовало ожидать.
– Но, милая девочка, мы на отдыхе! Так или иначе, каждому достанется по маленькому бокалу. Вы присоединитесь ко мне, миссис Ву? А ты, Алиса?
Интересно, подумал Хазард, догадывается ли Джулиан, как ему хочется отобрать у него бутылку и прикончить ее? Нет нужды возиться с бокалом. Он заметил, что некоторые попутчики поглядывают на них с подозрением. Их группа должна выглядеть довольно странной – с разницей в возрасте между Джулианом и Бенджи или Алисой больше пятидесяти лет. А если учесть малышку Банти, то разница будет семьдесят девять лет. Миссис Ву старше или моложе Джулиана? Никто не осмеливался спросить.
Джулиан с довольным видом уселся перед бутылкой шампанского и своим блокнотом для зарисовок. Он рисовал Кита, который сидел на диванчике напротив и смотрел в окно на овец, гулявших по полям Кента. Вероятно, он никогда прежде не видел овец. Подошел кондуктор, строго и неодобрительно глядя на собаку.
– Извините. Никаких собак на сиденьях. Она должна сидеть на полу, – сказал он Джулиану.
– Это не собака, – возразил Джулиан.
– Кто же это такой? – спросил кондуктор.
– Это моя муза.
– Никаких муз на сиденьях, – ответил кондуктор.
– Прошу прощения, старина, – начал Джулиан, – но где в вашем своде правил сказано: «Никаких муз на сиденьях»?
– Джулиан! – не выдержала Моника. – Делайте то, что вам сказано. Кит! Вниз!
Кит немедленно спрыгнул вниз. Он понимал, что с Моникой лучше не связываться, пусть до Джулиана это пока не дошло.
Моника продолжала расправляться со сборником судоку-пазл. Застряв на чем-то, хотя это случалось нечасто, она постукивала по голове кончиком карандаша, как фокусник, пытающийся извлечь кролика из шляпы. Банти прижималась личиком к окну вагона, колотя в него кулачками, а Алиса снимала ее на свой айфон. Райли смотрел на YouTube видео с серфингом, передавая по кругу огромный пакет с «Эм-энд-эмс». Бетти заняла весь столик перед собой мотками шерсти и что-то вязала.
Когда в свое время Джулиан пригласил Хазарда поехать с ними в Париж, тот был поражен. Он надеялся, что эта разношерстная компания примет его, заменив прежних друзей.
Единственное, что портило ему удовольствие от этого дня, была Моника, явно его игнорирующая. Хазард не привык, что женщины его игнорируют. Это казалось ему весьма несправедливым, поскольку на Ко-Пангане он неделями напролет пытался помочь ей. Он даже послал ей почтовую открытку! А вот родителям он не посылал открыток, в чем его не раз упрекала мать. Вот вам и благодарность. Он попытался снова.
– Моника?.. – (Она с подозрением взглянула на него поверх сборника с судоку.) – Большое спасибо, что пригласили меня в поездку. Я очень вам благодарен.
– Джулиана благодари, а не меня. Это была его идея, – сказала она.
Немного невоспитанно, подумал он. Пытаться приблизиться к Монике – все равно что пытаться погладить ежа.
Прежде Хазарда совсем не интересовало мнение о нем других людей, но, став трезвенником, он ловил себя на мысли, что ему хочется, чтобы хоть иногда кто-то похвалил его, назвав хорошим человеком. Но он понимал, что этим кто-то вряд ли будет Моника.
Хазард собрался с духом, вызвав в воображении Тома Круза из «Лучшего стрелка». Олух, мы заходим снова.
– Знаешь, я действительно тобой восхищаюсь, – заявил он, осознавая, что это правда.
Обычно его восхищение женщинами было почти целиком чувственным, так что это совершенно здоровое восхищение являло собой новый опыт. Моника подняла взгляд. Ха! Он привлек ее внимание! Оружие к бою.
– О-о, правда? – спросила она немного подозрительно.
Отслеживай цель!
– Ну, посмотри только, как ты собрала вместе эту пеструю команду довольно интересных людей!
– Это сделала тетрадь Джулиана, – возразила Моника не так язвительно, как раньше.
– Конечно, тетрадь все запустила, – ответил Хазард, – но именно ты и твое кафе собрали всех вместе.
Моника фактически улыбнулась. Не ему конкретно, а просто глядя в его сторону. Попал! Назад, на базу. Мы живем, чтобы продолжать борьбу.
Хазард переключил внимание на Алису. Совсем другого поля ягода, чем Моника. Гораздо более дружелюбная и спокойная по сравнению с Моникой, и Хазард выяснил, что она @алисавстранечудес! Одна из его бывших девушек боготворила ее, вопя от восторга всякий раз, как Алиса ставила лайк на какой-нибудь ее пост в Instagram. Это бесило Хазарда, но втайне он восхищался тем, что Алисе удалось собрать таких преданных подписчиков. Он достал телефон и, радуясь, что наконец обновил свою древнюю «Нокиа», тайком открыл страницу Алисы в Instagram.
Там, как и ожидал Хазард, была масса снимков Алисы в правильной одежде, в правильных местах, с правильными людьми. Но там, неожиданно для Хазарда, оказались также две фотки Джулиана! Одна была, очевидно, сделана на кладбище, рядом с Адмиралом, а на другой Джулиан стоял на лондонской улице, прислонившись к фонарному столбу, а рядом сидел Кит. Возможно даже, в Instagram он выглядел более эксцентричным и невероятным, чем в реальной жизни.
– Алиса, – сказал он, позабыв напустить на себя невозмутимый вид, – ты запостила Джулиана на своей странице в Instagram?
– Ну разве он не великолепен? – откликнулась она. – Сколько у него сейчас лайков?
– Этот последний снимок набрал больше десяти тысяч, – ответил Хазард.
– Выручает собака, – сказала Алиса. – В Instagram собаки много не бывает.
– И он получил массу комментариев. Все хотят знать, как стать его подписчиком. Надо создать ему страницу, – предложил Хазард. – Джулиан, можно одолжить ваш телефон?
Хазард пересел ближе к Алисе, и они вместе склонились над телефоном Джулиана.
– Как мы назовем его страничку? – спросил у нее Хазард.
– Как насчет @классныйв80?
– Мне всего семьдесят девять! Я родился в день объявления войны, поэтому никто не обратил на меня ни малейшего внимания. С тех пор я борюсь за свою долю внимания, – прокричал Джулиан, сидевший впереди за два ряда от них, отчего некоторые попутчики опустили газеты и уставились на них.
– Вам не может быть всего семьдесят девять, это лишено логики, – возразила Алиса. – В любом случае это близко к восьмидесяти. Хорошо, давай загрузим две мои фотки, проставим теги всех дизайнеров, одежду которых он носит, и добавим все хештеги фэшн-блогеров. Потом я сообщу своим подписчикам, где его можно найти. Он будет сенсацией.
Хазард был потрясен, наблюдая за манипуляциями Алисы в социальных сетях. Минут десять она со сдвинутыми бровями бешено летала пальцами по экрану и наконец с чувством удовлетворения положила телефон:
– То, что надо.
– Не знаю, чем вы двое заняты, но надеюсь, это законно, – сказал Джулиан. – Меня не арестовывали с той ночи с Джоан Коллинз в тысяча девятьсот восемьдесят седьмом.
Ни у кого и в мыслях не было ублажить Джулиана, попросив его развить тему.
Моника
Вид с Эйфелевой башни стоил любой очереди, но Моника очень устала. Не потому, что они исколесили Париж на метро и обошли некоторые музеи, но потому, что она постоянно считала головы, стараясь никого не потерять. По примеру гидов, она держала свой зонтик вверх, чтобы все видели ее в толпе и шли за ней, но Хазард стал подшучивать над ней, и она сложила зонтик и убрала в сумку. Если они кого-нибудь потеряют, виноват в этом будет только он. Моника воочию представляла себе, каково это – сказать Базу, что они потеряли его бабушку, которую в последний раз видели у Луврской пирамиды, где она ела печенье с предсказаниями.
Кит тоже добавлял сложности. Собак в музеи, конечно, не пускали. Джулиан пытался убедить сотрудников в Центре Помпиду, что у него собака-поводырь, на что ему резонно ответили, что, будь он слепым, его не расстроила бы невозможность увидеть художественную выставку. В конечном итоге Джулиан купил в сувенирной лавке большую полотняную сумку с надписью на боку: «МОИ РОДИТЕЛИ ЕЗДИЛИ В ПАРИЖ И КУПИЛИ МНЕ ТОЛЬКО ЭТУ ПАРШИВУЮ СУМКУ». Он засунул туда Кита и тайно пронес его мимо охраны, а Моника тряслась от страха. Джулиан продолжал играть с огнем, останавливаясь у своих любимых полотен и шепча в сумку:
– Кит, посмотри-ка на это. Классика его творчества.
Комментарии Джулиана к произведениям искусства были очаровательными, хотя, как она догадывалась, не всегда точными. Похоже, он не желал признавать, что у него нет ответов на все вопросы, поэтому взамен (она поняла это, сравнивая его истории с путеводителями) он сочинял что-то свое. Она не знала, заметил ли это кто-то еще, но вскоре должны были. Давая волю своей фантазии, Джулиан становился излишне самонадеянным.
Сена мерцала под бледными лучами зимнего солнца, напоминая Монике о ее романтических фантазиях – прогулках с Райли вдоль реки, о которых она мечтала, когда впервые задумала эту поездку. И она вновь корила себя за глупость. В жизни так не бывает.
Моника смотрела, как Хазард и Алиса фотографируют Джулиана, с видом топ-модели прислонившегося к ограждению, на фоне раскинувшегося внизу Парижа. Вокруг них собралась небольшая толпа, решившая, вероятно, что это фотосессия каких-то знаменитостей. Бетти тоже участвовала в этом спектакле, демонстрируя движения тайцзи с голубем, сидевшим у нее на ладони. Кстати, среди множества вещей в ее огромной дорожной сумке был и птичий корм. Неужели она не беспокоится, что голубь может нагадить на нее? Одна мысль об этом вызывала у Моники тошноту.
Она изо всех сил пыталась полюбить Алису с ее красивым лицом, идеальной фигурой и замечательным ребенком. Хазард и Алиса напоминали ей тех крутых ребят из школы, которые, казалось, могли ко всему приспособиться, делать и говорить правильные вещи и носить правильную одежду. Даже если они попадали в какие-то нелепые истории, никто не смеялся, и они, сами того не желая, запускали новый тренд. Моника изо всех сил старалась не придавать значения всей этой чепухе. Она планировала поступить в Кембридж и совершить в жизни что-то значительное. Но втайне она замирала от восторга, когда ее – очень редко – приглашали с ними пообедать.
Обычно если Моника чувствовала себя не в своей тарелке, то напускала на себя счастливый и довольный вид. Но сейчас она не могла этого сделать из-за чертовой тетради. Оба – Хазард и Алиса – знали, насколько она не удовлетворена своей жизнью. Что ж, по крайней мере, она не какая-то пустышка, одержимая аттестацией незнакомых людей в социальных сетях, думала Моника, наблюдая за этой парочкой, склонившейся над телефоном Джулиана, чтобы загрузить его фото.
Мать Моники не одобрила бы Алису. Моника помнила все случаи, когда приходила с матерью помогать в убежище для женщин, жертв домашнего насилия. Их тогда называли жертвами побоев. Всегда старайся быть финансово независимой, Моника. Не допускай, чтобы ты или твои дети в основных потребностях полагались на мужчину. Никогда не знаешь, что может случиться. Надо, чтобы ты могла сама себя обеспечивать. Наверняка увлечение Алисы Instagram нельзя считать подходящей работой. Сплошное тщеславие.
– Мне нравится твое платье, Алиса, – подала голос Моника.
Она ведь пытается быть любезной, и разве не такие вещи говорят людям вроде Алисы?
– О-о, спасибо, Моника, – ответила Алиса с прелестной улыбкой, от которой у нее на щеках появились ямочки. – Дешевое, как чипсы, но не говори об этом никому!
Господи, кому она скажет! – подумала Моника.
Она почувствовала, как кто-то берет ее за руку. Это был Райли.
Моника отдернула руку, тут же отругав себя за грубость.
– Спасибо, что организовала этот день, Моника. Это было потрясающе! – воскликнул он, и Монике стало грустно от того, чего она лишилась.
Как ей хотелось вернуть их легкие, не усложненные и счастливые отношения, но это было невозможно. Это все равно что пытаться свести пятно с ковра. Можно скрести его, отпаривать и выводить, но все же останется слабый след того, что было пролито. В любом случае, если бы она могла повернуть время вспять, что изменилось бы? Скоро Райли должен был отправиться в тур по Европе, потом вернуться в Австралию, а это не то что съездить из города в деревню. Нет, гораздо мудрее не дать покачнуться той стене, которой она оградила свои эмоции.
– Господи, посмотри на эту троицу с их тупой зацикленностью на Instagram, – сказал Райли. – И они, находясь наверху одного из самых потрясающих сооружений мира, глядя на самый потрясающий город, обращают внимание лишь на шмотки Джулиана.
В этот момент Моника почти простила ему все. За исключением постоянного использования слова «потрясающий», что ее сильно бесило.
Целая вечность ушла на то, чтобы спустить группу вниз, поскольку никто, кроме нее, не был, казалось, озабочен неотвратимым отправлением поезда обратно в Лондон. Моника шла в конце, подталкивая их к турникету на выходе, как фермер, загоняющий овец в раствор для дезинфекции. Бетти шла впереди, с трудом протискивая огромную сумку через узкий выход. Моника видела, как симпатичный парень жестом предложил ей передать ему сумку, как будто собираясь помочь ей пройти через турникет. Несколько мгновений спустя он на всех парах улепетывал от башни, прижимая к себе сумку с вещами Бетти. Как оказалось, не такой уж он симпатичный.
Бетти завопила что-то по-китайски. Хотя Моника не поняла ни слова, суть она ухватила. Ругань там явно присутствовала. Бенджи, как какой-нибудь киногерой, растолкал толпу, перемахнул через турникет и помчался за вором.
Собравшиеся туристы криками подбадривали смельчака на разных языках, как болельщики на финале Европейского кубка по футболу. Бенджи догнал грабителя и схватил его за руку. Толпа шумно возликовала. Миссис Ву даже двинула кулаком по воздуху. Но парень скинул пиджак и, не выпуская из рук сумку миссис Ву, снова убежал, оставив Бенджи со своей одеждой. Толпа охнула и разразилась ругательствами – в основном невнятными. Бенджи вновь бросился в погоню, на этот раз ловкой подножкой свалив жертву на землю.
– ГОЛ! – завопил Райли.
Толпа была вне себя от восторга, когда Бенджи уселся верхом на вора, заломив ему руки за спину. На земле лежала сумка Бетти, извергая из себя печенья с предсказаниями, птичий корм и мотки пряжи. Моника вызвала полицию.
Бетти ловко лягнула парня в голень.
– А не пошел бы ты, мистер, – сказала она.
Он пожалеет о том дне, когда пересекся с Бетти Ву, подумала Моника. Она лишь надеялась, что Бетти не заметила, как Кит задрал лапу над ее вязанием.
Райли
Обратное путешествие на поезде было не столь увлекательным, как путь туда, поскольку все очень устали от головокружительной комбинации физических нагрузок, культуры и высокой драмы.
Райли с интересом наблюдал, как Бетти встала и подошла к пустому месту рядом с Бенджи. У Бенджи был удивленный и довольно испуганный вид. Гораздо более испуганный, чем при задержании вора. Райли делал вид, что увлечен путеводителем, но на самом деле пытался услышать, что скажет Бетти.
– Значит, Моника говорит мне, ты хороший повар, – начала она.
– Ну, я люблю готовить, но мне очень далеко до вас, миссис Ву, – ответил Бенджи, как показалось Райли, с должной долей почтения и заискивания.
Он заметил, что Бетти не стала кричать ему: «Называй меня Бетти!»
– На следующей неделе приходи в ресторан. Я научу тебя готовить суп вонтон. – Это прозвучало как приказ, а не предложение. – Рецепт, которому научила меня мать, а ее научила ее мать. Нигде не записан. Он здесь.
Бетти постучала себя пальцем по голове с той же решимостью, с какой дятел долбит клювом ствол дерева в поисках жучков. Не дожидаясь ответа, Бетти поднялась и вернулась на свое место, оставив Бенджи в некотором недоумении. У Райли стало тепло на душе. Наверное, Город Любви уже соткал свою магию. Райли любил хеппи-энд.
Алиса уселась рядом с Джулианом и открыла его страницу в Instagram:
– О господи, Джулиан! У вас уже больше трех тысяч подписчиков!
Джулиан был удивлен.
– Это хорошо? – спросил он. – Как они меня нашли?
– Это не просто хорошо, это офигенно! Прошло всего двенадцать часов. Вы будете СЕНСАЦИЕЙ. Я запостила на своей страничке некоторые из ваших снимков и предложила своим подписчикам отслеживать вас, и они ринулись за вами пачками. Почитайте комментарии! Они ЛЮБЯТ вас! Подождите, вы получили несколько личных сообщений, смотрите.
Алиса пару раз ткнула пальцами в телефон Джулиана и, прищурившись, посмотрела на экран.
– Я в это НЕ ВЕРЮ! – взвизгнула она, отчего Банти заплакала, а некоторые из попутчиков одарили ее неодобрительными взглядами. – Здесь сообщение от ВИВЬЕН ВЕСТВУД! Настоящей.
Интересно, кто такая Вивьен Вествуд, подумал Райли. Почему она вызывает такое возбуждение и существует ли также ненастоящая? Хорошо бы Алисе перестать вопить. У него от этого разболелась голова. Райли не представлял себе, что кто-то может его утомить, но Алиса оказалась именно такой.
– Она пишет, что довольна тем, что вы по-прежнему носите ее одежду – я проставила ей тег, понимаете, – и, если вы приедете в ее штаб, сможете примерить последнюю коллекцию.
– О, дорогая Виви. Мне она всегда нравилась, – сказал Джулиан, – но, боюсь, теперь не смогу позволить себе ни одного из ее нарядов. За десять лет я не продал ни одной картины.
– Но в Instagram есть одна ПОТРЯСАЮЩАЯ штука, Джулиан. Как только у вас появилось достаточно подписчиков, они БЕСПЛАТНО дадут вам всю одежду. Вы же не думаете, что я за свои деньги КУПИЛА все эти шмотки? – указывая на свою одежду и сумку, спросила Алиса.
– Да ну? – удивился Джулиан. – Тогда покажи мне, как это сделать. Я не очень-то ловкий с этим телефоном. Пальцы у меня слишком толстые и неуклюжие. Это все равно что пытаться печатать на машинке гроздью бананов.
– Не волнуйтесь, я куплю вам одно маленькое приспособление, которое вам пригодится, – сказала Алиса. – Вам понравится Insta. Это как живопись, но только более современная. Как раз по вашей части. Будь сейчас жив Пикассо, ему понравился бы Instagram.
В ответ на такое предположение Джулиан чуть вытаращил глаза.
Перед дорогой Джулиану удалось купить еще шампанского на Северном вокзале, чтобы они смогли – объяснил он – на обратном пути выпить в честь героизма Бенджи. Он расставил на столике перед ними пластмассовые чашки и осторожно наполнил каждую из них. Райли пришло в голову, что только они с Алисой прочли в тетради историю Хазарда. Он взглянул на Хазарда, который сидел в одиночестве, прислонившись головой к вагонному окну. Могло показаться, что он спит, пока не увидишь его руки, так сильно сжатые в кулаки, что побелели костяшки. Райли подошел к нему и сел рядом:
– Знаешь, Хазард, ты отлично со всем справляешься. Здесь у нас настоящий супергерой – это ты.
Повернувшись, Хазард взглянул на него.
– Спасибо, дружище, – произнес он с искренней благодарностью, но очень устало.
– Ты все еще ищешь работу? Дело в том, что Алиса попросила меня заняться работами по саду. Если у тебя найдется время, я бы с радостью воспользовался твоей помощью.
– Конечно. С удовольствием. Честно говоря, я в некоторой растерянности. Не хочу возвращаться в Сити, но боюсь, я не располагаю квалификацией в другой области. Избыток свободного времени для меня – это не очень здорово, – ответил Хазард. – Я даже поймал себя на том, что подсел на сериалы «Соседи» и «Обратный отсчет». Не бывает бывших наркоманов. И у меня настоящая проблема с деньгами. Я почти потратил последнюю премию, и, если в скором времени не найду работу, мне придется продать квартиру.
– Боюсь, в этом я тебе не помогу. Эта работа связана с местной благотворительностью. Ну как – интересует тебя такая работа?
– Определенно! – с искренним энтузиазмом откликнулся Хазард. – С финансами позже разберусь. Уверен, что-то подвернется. Кстати, не беспокойся за Монику. Готов поспорить, она в конце концов передумает.
Райли понял, что, будь они девушками, в этот момент обнялись бы. Но они не были девушками, поэтому Райли слегка двинул Хазарда по плечу и вернулся на свое место.
Банти, намаявшись за день, зашлась в крике. Личико ее покраснело, и в ней вряд ли можно было признать младенца из @бебибанти. Алиса носила ее взад-вперед по проходу, потому что успокоить ребенка могло лишь постоянное движение. Райли размышлял, не охладеет ли Моника к деторождению при виде этой картины. Это определенно заставило его задуматься, хотя ему всегда нравились большие семьи.
Несколько минут спустя Райли прошел по вагону в туалет и нажал на ручку, чтобы открыть дверь. Дверь открылась, и он увидел Банти, которая лежала на спине голышом в раковине, дрыгая в воздухе ногами, и повсюду были какашки. В раковине, на зеркале, даже на стенах. Алиса, сжимавшая в руках влажные салфетки, разинула рот и сказала:
– Извини, я думала, что заперла дверь.
Задохнувшись от неожиданности, он поспешил закрыть дверь, пробормотав что-то невразумительное. Увиденная картина отпечаталась у него на сетчатке. Через дверь он услышал приглушенный голос Алисы:
– На самом деле, Райли, мне нужна помощь!
– Конечно! – отозвался он. – Пойду поищу Монику!
Она ведь именно этого хотела, так ведь?
Моника
Райли, вернувшись из туалета, имел бледный вид.
– Ты в порядке, Райли? – спросила Моника.
– Угу, в полном порядке. Но полагаю, Алисе может потребоваться твоя помощь, – сказал он, быстро проскользнув на свое место и не оглядываясь назад.
Моника, встревожившись, пошла в ту сторону, откуда вернулся Райли. Она надеялась, ничто не испортит этот день, когда они уже так близко от дома. Дверь в туалет была заперта. Моника постучала.
– Ты тут, Алиса? Это Моника. Тебе нужна помощь? – спросила она.
– Подожди, Моника! – ответила Алиса.
Через минуту или две дверь открылась, и Алиса сунула ей Банти:
– Подержи, пожалуйста, Банти, пока я тут приберусь. Я положила ее на пеленальный столик, но, когда поезд поворачивает, боюсь, она может свалиться на пол. Через минуту я выйду. Большое спасибо!
Дверь снова закрылась. Оставшись одна, Моника наклонилась и вдохнула запах головы Банти, покрытой пушком. Ребенок пах детским шампунем «Джонсон энд Джонсон», свежим хлопковым бельем и тем не поддающимся определению запахом совершенно нового человеческого существа, который напомнил Монике обо всем, чего она была лишена. Раздвижная дверь открылась, и Алиса вышла.
– Она изумительная, Алиса, – сказала Моника, когда они возвращались на свои места.
Она ожидала от Алисы один из очевидных ответов типа: «Я знаю» или «Правда ведь?». Или, возможно, непритязательную шутку вроде: «Только не в три часа ночи!» Но вместо этого Алиса остановилась и пристально посмотрела на нее:
– Знаешь, Моника, ребенок не приносит счастья на всю жизнь. А иногда брак заставляет человека чувствовать себя самым одиноким на свете. Уж я-то знаю.
– Не сомневаюсь, что ты права, Алиса, – ответила Моника, размышляя о том, какая за этим кроется история. – По сути дела, у холостого человека куча преимуществ.
И Моника впервые подумала, что это может быть правдой.
– Я помню! – воскликнула Алиса. – Ешь, что хочешь, когда хочешь, сама решаешь, что смотреть по телику, не надо никому говорить, куда идешь и с кем. Слоняешься по дому в штанах для йоги и шлепанцах. Регулярный секс тоже – ха-ха. Вот были деньки! – Замолчав, она о чем-то задумалась. – Моника, недавно я прочла кое-что в Instagram. Там писали: «Мать – глагол, а не существительное». Я думаю, это значит, что есть много способов заботиться о ком-то, не будучи матерью. Вот ты и твое кафе. Ты каждый день кормишь кучу людей.
Моника не могла поверить, что такая жизненно важная, пусть немного покровительственная мысль исходит от женщины, которой она откровенно пренебрегала в начале этого дня.
Несколько раз пройдясь по проходу в вагоне с Банти на руках, Моника передала ребенка Алисе, испытывая в равной мере облегчение и сожаление, и села рядом с Райли.
Вероятно, шампанское Джулиана приободрило Райли, ибо выражение его лица говорило о том, что он намерен сказать нечто важное. Моника приготовилась слушать.
– Моника, мне и правда очень жаль, что я не сказал тебе о той тетради. Честное слово, я не хотел держать тебя в неведении, просто не смог рассказать тебе в тот вечер, когда мы встретились, и вокруг были все эти люди, и я просто упустил момент. Потом стало слишком поздно, и я не знал, как все уладить. Ты, наверное, не поверишь, но я собирался сказать тебе сразу после Рождества.
И он посмотрел на нее с такой искренностью, что она ему все-таки поверила. Хотя всего исправить было невозможно, им стало намного лучше. Она взяла его за руку и положила голову ему на плечо.
Алиса
Алиса сразу направилась к холодильнику и налила себе большой бокал «Шабли». Она понимала, что на обратном пути из Парижа выпила больше своей обычной дозы шампанского, и надеялась, что никто этого не заметил, но шампанское ей почти не помогло. Она уселась за черный гранитный прилавок, скинув туфли на полированный бетонный пол. Макс называл их минималистскую кухню с ее идеальными линиями и формами вау-фактором, но в ней не было уюта. Не всегда хочется, чтобы жилье несло в себе какой-то посыл, раскрывало твою индивидуальность, иногда хочется, чтобы это просто была уютная комната.
Сегодняшний день прошел чудесно. Если бы не приходилось все время успокаивать Банти, кормить ее, стараясь не смущать Джулиана обнаженной грудью, и менять подгузники в тесных железнодорожных туалетах, то все было бы идеально.
Она никогда не забудет лицо Райли, когда он прервал своим появлением смену подгузников. Вот вам и соприкосновение с естеством. Но, даже закрывая дверь туалета с таким видом, будто его сейчас стошнит, он сдавленным голосом спросил: «Ты в порядке, Алиса?» Чувствовалось, что отвращение в нем борется с хорошими манерами. Милый парень. А Бенджи… В последний раз Алиса видела его рыдающим в Рождество у китайского ресторана, а сегодня он героически спас сумку миссис Ву. Все это не уступало фильму от «Нетфликс». Алиса услышала, как хлопнула входная дверь. Вернулся с работы Макс – по обыкновению, поздно.
– Привет, дорогая! Почему Банти еще не спит? Сейчас полдесятого. А что у нас на ужин? Я страшно проголодался.
Алиса заглянула в холодильник. Помимо алкоголя, там были: половина лимона, пачка масла, немного увядшего салата и кусок киша, который, по мнению Макса, настоящие мужчины не едят.
– Мне жаль, дорогой, – стараясь говорить огорченно, сказала она. – Я ничего не приготовила. Я весь день пробыла в Париже, помнишь? Только что вернулась.
– Господи, все это очень хорошо для тебя, не так ли? Болтаться весь день в Париже, пока я работаю без отдыха, чтобы у Банти были одноразовые памперсы. Видимо, придется заказать еду в «Деливери».
Алиса внимательно разглядывала неоткрытую пачку охлажденного масла, формой и размерами вроде кирпича, прикидывая, с какой силой ее нужно швырнуть, чтобы ушибить, но не вызвать необратимое повреждение. Она придумала, что случайно постирает его ослепительно-белые трусы от «Кельвина Кляйна» вместе с красными носками. Ей вспомнился разговор с Моникой о преимуществах холостой жизни.
Банти, вероятно от долгого пребывания рядом с открытым холодильником, снова начала хныкать. Не говоря ни слова, Алиса пронесла ее мимо Макса и поднялась в детскую.
Пока она кормила Банти, одной рукой поддерживая ее мягкую головку, другой рукой она листала Instagram. Люси Йоманс, редактор журнала «Портер», с числом подписчиков шестьдесят тысяч, перепостила парижские фото с Джулианом. У него самого теперь было более двадцати тысяч подписчиков. Теперь ты перестал быть невидимкой, Джулиан, подумала Алиса. Это напомнило ей о тетради. Она отыскала тетрадь на кресле-качалке, где оставила ее, положила, по счастью сонную, Банти в кроватку, достала из сумки ручку и принялась писать.
Алисе нравилось ходить в детсад «Мамин маленький помощник». В микрорайоне, где она выросла, у некоторых матерей были проблемы с наркотической и алкогольной зависимостью, и мать Алисы, помимо своих обязанностей в школе, занялась кормлением недоедающих детей, живших в их округе. Вместе с другими соседями они по очереди присматривали за ними. Помимо питания, женщины снабжали этих детей одеждой и игрушками, ставшими ненужными их собственным детям, и находили спокойное место для выполнения домашних заданий или просто были готовы сочувственно выслушать каждого. Такой неформальной системы попечения, похоже, не было в атмосфере анонимности Лондона, так что их детсад заполнил пробел.
Только сейчас до Алисы начало доходить, какой потрясающей была ее мать, которая воспитывала своих четверых детей, находила работу, позволявшую поддерживать их материально, и к тому же занималась ими после школы – готовила ужин и помогала делать домашние задания. Алиса вспомнила, как, бывало, притворялась, что не узнаёт маму в школе, когда та подавала им ланч, называла ее миссис Кэмпбелл и, как все прочие, говорила с ней пренебрежительно. Как это должно было обижать ее. Алиса поежилась.
Обычно мамы и другие взрослые, забирающие детей из «Маминого маленького помощника» в конце дня, торопились поскорее уйти. Разумеется, никто из них никогда прежде не проявлял интереса к саду. Но сегодня целая толпа стояла у кухонных окон, глядя, как Райли, Хазард и Бретт, сосед Райли по квартире, тоже австралиец, борются с гигантским чертополохом и разросшимися кустами роз. Работа, должно быть, была тяжелая, потому что, несмотря на холод, все мужчины разделись до футболок.
– Пусть приходят в любое время и займутся моим садом, – сказала одна из женщин, которой, судя по хихиканью, какой-то неприличной репликой ответила другая, но Алиса не расслышала.
Алиса помогла парням погрузить мешки с мусором из сада в микроавтобус, чтобы потом отвезти на местную свалку. Она увидела остановившуюся рядом с ними типичную «аппетитную мамочку».
– Парни, вы садовники? – спросила она голосом, в котором слышались интонации девочки из пансиона и одновременно порнозвезды, обращаясь к Хазарду; вероятно, она приняла его за босса.
– Э-э, думаю, да, – ответил Хазард, прежде явно не считавший себя садовником.
– Вот моя визитка. Звоните, если захотите заняться моим садом.
Взяв визитку, Хазард в задумчивости уставился на нее. Алиса решила, что у него вид человека, замыслившего какой-то план.
Поздно вечером Алиса поняла, что тетради нет. Она была абсолютно уверена, что положила тетрадь в сумку, поскольку не хотела, чтобы Макс или кто-то еще прочитал написанное ею, и не собиралась оставлять ее на видном месте. Сгоряча она исповедалась в каких-то вещах, в которых не хотела признаваться даже себе самой. Ни за что нельзя было этим делиться, что бы там Джулиан ни писал о правдивости. Она подумывала даже о том, чтобы утром искромсать тетрадь в кабинете Макса, но было бы неправильно уничтожать истории других людей, поэтому она сунула ее в сумку, решив, что в подходящий момент аккуратно вырвет свои странички, не повредив остальные, и вернет тетрадь Джулиану.
И вот теперь тетрадь пропала.
Джулиан
Джулиан уговорил Алису присоединиться к художественному кружку. На этой неделе они рисовали Кита. Он не был идеальной моделью, поскольку не мог долго усидеть на месте, но это был единственный способ, с помощью которого Джулиан пытался обойти нелепый запрет Моники на собак в кафе.
– Это не собака, Моника, – говорил он. – Это модель.
– Сотовые – в шляпу, как обычно, пожалуйста! – передавая свою шляпу от одного к другому, сказал Джулиан.
Алиса была в шоке. Она без лишних колебаний передала Банти Кэролайн и Софи, но вцепилась в телефон, как ребенок в любимую куклу.
– Обещаю, что не дотронусь до него. Слово скаута. Провалиться мне на этом месте! Положу его на стол с краю, чтобы видеть, если придет какое-то важное сообщение.
– Да, подумать только, вдруг пропустишь жизненно важное объявление о выпуске модной сумки, – съязвил Хазард.
Алиса, сердито уставившись на него, наконец неохотно отдала Джулиану свой телефон.
– А ты знаешь, что индустрия моды приносит в экономику Британии пятьдесят миллиардов фунтов? Это не какой-то выдуманный бред, – сказала Алиса.
– Неужели? Это точная цифра? – ухмыльнувшись, спросил Хазард.
– Ну, честно говоря, я не помню точную цифру, но знаю, что это действительно очень много, – призналась Алиса.
Кэролайн и Софи – Джулиан всегда путал их, но это не имело особого значения – по очереди подбрасывали Банти на коленях, восхищаясь ее прелестью.
– Глядя на нее, ты не хочешь еще ребенка? – спросила одна из них другую.
– Хочу только потому, что в конце занятия могу отдать ее матери. Не желаю возвращаться ко всем этим бессонным ночам… – призналась вторая.
– …или подгузникам. И трещинам на сосках. Брр, – закончила первая, и они заговорщицки захихикали.
Джулиан надеялся, что они не расстроят милую Алису, очевидно прирожденную маму, которая наслаждается каждым моментом с восхитительной Банти, как это явствует из ее аккаунта в Instagram.
– Ну ладно, друзья, у меня есть объявление, – сообщил Джулиан тоном ведущего, но стараясь не выдать своего волнения. Гораздо круче выглядеть искушенным в этих вещах. – К нам приедет фотограф с командой из «Ивнинг стандард», которые создают мой профиль и профили моих подписчиков в Instagram. Прошу, не обращайте на них внимания. Вы их не интересуете, только я. Вы будете просто создавать фон и контекст.
– О господи, мы породили монстра! – прошептал Хазард Алисе, но Джулиан все же услышал.
– А что вы думали?
Джулиан просверлил их обоих строгим взглядом школьного наставника.
Сегодня Джулиан демонстрировал преппи-стиль, отдавая дань уважения одному из великих – Ральфу Лорену. Встречался ли он с ним когда-нибудь? Джулиан был уверен, что да. Когда приехал фотограф с командой и они засуетились вокруг Джулиана, он понял, как сильно изменилась его жизнь за те четыре месяца, что минули с тех пор, как он оставил «Правдивую историю» в этом самом месте, и за те две недели, когда он «поколебал мир Instagram». Как вы понимаете, это не его слова, а «Ивнинг стандард».
Все это не было новым для Джулиана. Он испытывал весьма странное чувство завершения полного круга и возвращения туда, где ему всегда надлежало быть, – в центре внимания. Ему казалось, пятнадцать лет забвения были уделом какого-то другого человека. Его преследовало неловкое ощущение, что он существовал по-настоящему только перед глазами зрителей, что, когда его перестали замечать, он фактически перестал существовать. Делает ли это его ужасно пустым? А если и так, разве это имеет значение? Все люди, желающие взять у него интервью, посылающие ему приглашения на вечера и модные показы, как будто бы так не считают. Они считают его удивительным. Он и есть удивительный, разве нет?
Что подумала бы Мэри, если бы увидела его сейчас? Обрадовалась бы она тому, что он вернулся к своему прежнему «я»? Если быть честным, он подозревал, что нет. Он представил себе, как она закатывает глаза и читает ему лекцию на тему, что есть настоящее и подлинное, а что – просто неуемное восхваление. Он как раз вспомнил одно из ее наставлений, вдохновивших его на заголовок для той самой тетради. Тетради, которая все изменила.
Джулиан уселся на край стола, скрестив ноги и небрежно откинувшись назад, как его попросил фотограф, и устремил взгляд вдаль, словно размышляя на заумные, высокохудожественные темы, не волнующие простых смертных. Это был один из его фирменных взглядов. Поначалу он беспокоился, что мог все позабыть, но оказалось, это как езда на велосипеде. Ездил ли он когда-нибудь на велосипеде? Разумеется. И конечно, с шиком.
– Джулиан, я понимаю, мы здесь только для фона и контекста, – сказал Райли чуть язвительно, – но не могли бы вы помочь мне с перспективой?
– Боюсь, Райли, Джулиан потерял свою перспективу, – заметил Хазард.
Джулиан смеялся вместе со всей группой. Важно видеть, что человек умеет смеяться над собой. Его друзьям никогда не доводилось жить у всех на виду. Они не понимают, что такое нажим.
Когда урок закончился и фотограф ушел, из кухни донесся голос Бенджи.
– Для тех, кто останется на ужин, будет суп вонтон. И клецки с креветками. Я все приготовил собственными руками, – сказал парень с большими веснушчатыми руками и обгрызенными ногтями.
– Не беспокойтесь. Есть можно. Я его научила, – добавила миссис Ву.
Хазард
Хазарду понравилось работать в «Мамином маленьком помощнике». Чем больше он болтал с матерями об их различных пагубных пристрастиях – к героину, крэк-кокаину, кристал-мету, – тем яснее понимал, насколько они похожи на него. Они обменивались советами на тему о том, как бороться с сильными желаниями, и соперничали в шокирующих рассказах о «сумеречных днях».
– Хорошая работа, банда! Фин, Зак, Квини, переворачиваем мешок! – говорил Хазард компании помощников в возрасте от четырех до восьми.
Дети ходили за ним по пятам, ожидая от него инструкций. Здесь вырыть ямки, тут посадить семена, повсюду собирать в мешки листья. Он раздавал всем пакеты для мусора, чтобы складывать туда сорняки, вырванные из цветочных клумб. На него, как на человека, достойного подражания, смотрели снизу вверх шесть глаз. Хотя это возвышало его в собственных глазах, но вызывало и ужас. Нельзя было подводить их. Их и так уже достаточно подводили.
– Фин, дружок, сюда! – Хазард присел на корточки, чтобы быть вровень с краснощеким чумазым мальчуганом, бежавшим к нему. – Не говори Квини, что я выдал ее, но перед тем, как идти домой, проверь, чтобы в карманах пальто не было слизней.
Хазард даже потратил часть своих тающих сбережений на покупку пары крошечных тачек, граблей и садовых совков, предназначенных для детских рук. Он никогда прежде не проводил много времени с детьми. Он определенно не относился к тому типу людей, которым давали подержать младенца или просили посидеть с ребенком, но теперь с удивлением понимал, как ему это нравится. Он разучился ценить повседневные радости – выпить стакан апельсинового сока после нескольких часов усиленной копки или устроить с ребятами фермы с червяками и гонки улиток.
После целого дня работы в саду Хазард здорово уставал. Но это была хорошая усталость. Честная усталость. После нескольких часов суровой физической нагрузки болели мышцы, а тело жаждало долгого спокойного сна. Это совершенно не было похоже на усталость прежних дней, когда он бывал отравлен, раздражен и измотан после полутора суток непрерывной гулянки, бодрствуя благодаря коктейлю из химикалий.
Ему нравилось чувство связи с природой. Это была первая работа в его жизни, на самом деле кажущаяся настоящей. Он что-то создавал, выращивал, улучшал и делал добро. Однако продолжать работать бесплатно он не мог, иначе потеряет квартиру. Вот если бы он не вогнал кучу денег, заработанных в Сити, себе в нос! Хорошо хоть он завязал, пока у него была еще носовая перегородка. Один из его приятелей из Сити как-то на совещании сморкнулся в салфетку, и в руках у него осталось полноса. Тот проигнорировал шокированное выражение, появившееся на лицах его клиентов, и продолжил презентацию. Тогда Хазарду это казалось настоящим классом.
Он достал визитку, которую на прошлой неделе ему дала на улице женщина. Хазард не был в неведении относительно переполоха, какой вызвали в «Мамином маленьком помощнике» он с его австралийскими подельниками. Он понимал, что восхищение вызывало не только их телосложение, но и солнечная, буйная, искренняя природа австралийских парней, сам акцент которых заставлял представлять себе пляжи, широкие открытые равнины и медведей коала, – и все это было желанным противоядием от затягивающей лондонской тоски.
Полдня Хазард с пристрастием допрашивал Райли и Бретта об австралийской общине в Лондоне. Оказалось, в городе полно австралийских парней, которые, благодаря Содружеству, путешествовали по рабочей визе для туристов. Они могли на законном основании работать в Великобритании до двух лет – при условии, что найдут работу.
Что, если, думал Хазард, они с Райли обучат некоторых из них в саду «Маминого маленького помощника», после чего эти люди смогут искать оплачиваемую работу в садах Фулхэма, Патни и Челси? Он знал, что в Лондоне много садоводческих компаний, но у его компании будет коммерческий посыл, право на существование. Он назовет ее «Австралийские садовники».
Разумеется, понадобится реклама. Кто ему действительно нужен, так это человек, способный привлечь тысячи обеспеченных женщин, желательно из их округа. И у него был такой человек прямо под носом – Алиса. Всего один или два поста в ее Instagram, показывающих, как он, Райли и Бретт трудятся в саду, и дающих их контактные данные, – и Хазард не сомневался, что их завалят предложениями. Он был уверен, что Алиса оценит влияние кармы. Они в свое время помогли ей (и будут продолжать это делать), а она может ответить им тем же. Что посеешь, то и пожнешь.
Наверное, Джулиан нарисует для них флаеры, которые они смогут отправлять по почте. Правда, у Джулиана, похоже, почти не осталось времени для них, с тех пор как его вновь засосала черная дыра моды. Как их угораздило открыть для него страничку в Instagram?
Чем больше Хазард думал об этом, тем сильнее его захватывала идея о собственном бизнесе. Он мог бы стать таким, как Моника! В его попытке сделаться более вдумчивым, более разумным, более надежным новой мантрой для него стал вопрос: «Что сделала бы Моника?»
Хазард открыл входную дверь своего многоквартирного дома, энергично вытирая ноги о коврик, чтобы не занести грязь с подошв в сверкающий холл. Современные остекленные блоки квартир среди ландшафтных садов с круглосуточной консьерж-службой как бы кричали: «успешный трейдер из Сити», но уж никак не «садовник». Однажды вечером он на пару часов оставил в холле сумку с садовыми инструментами. Вернувшись, он нашел отпечатанную записку: «РАБОЧИЕ, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЗДЕСЬ ИНСТРУМЕНТЫ! УБЕРИТЕ, ИЛИ ИХ КОНФИСКУЮТ».
Он глянул на ячейки на стене – почту жильцов. В его ячейке, наряду с привычными рекламными листками и счетами, нашлось письмо – конверт из хорошей бумаги с твердой карточкой внутри. Приглашение.
Поднимаясь по лестнице, Хазард открыл конверт. Красивым каллиграфическим почерком на открытке было написано:
Дафни Корсандер и Рита Моррисприглашают вас
на церемонию их бракосочетания, которая состоится
в субботу, 23 февраля 2019 года, в 11 часов утра
в церкви Всех Святых в Хамблдоре
и продолжится в кафе «Старый дом священника».
Просим ответить
В левом верхнем углу была приписка: «Мистер Хазард Форд плюс еще один гость».
Итак, Дафни и Рита устраивают фурор. Круто. Интересно, как воспринял эту новость Родерик. Хазард надеялся, что парень не стал паниковать, думая, что отец перевернется в гробу. До двадцать третьего февраля оставалось всего три недели. Хазард предположил, что в их возрасте неразумно терять время.
Хазарда мучили сомнения. С одной стороны, он очень хотел погулять на свадьбе своих старых друзей с острова, но, с другой стороны, он еще не бывал на вечеринке трезвым, тем более на свадьбе, с ее традициями долгих возлияний. Но он воздерживается уже четыре месяца. Наверняка он может себе доверять. Едва ли на свадьбе Дафни и Риты появятся его прежние знакомые.
Он вновь посмотрел на приписку в углу: «плюс еще один гость». Кого, черт возьми, можно пригласить?! С любой из его прежних подружек он ударится в запой раньше, чем будет поднят первый бокал. Но ему казалось, что пойти одному нехорошо. Надо взять с собой кого-то, кто поможет ему держаться в рамках.
Хазард уселся на диван, обитый кремовой кожей, снял ботинки и пошевелил пальцами ног, учуяв безошибочный запах потных ног. По дороге домой он купил «Ивнинг стандард», чтобы прочесть статью о Джулиане. В центре страницы была помещена его фотография, на которой он мечтательно смотрит вдаль, что не было похоже на Джулиана в жизни. Излишне сентиментальное интервью охватывало жизнь Джулиана от того момента, когда он в возрасте шестнадцати лет с помощью проститутки, оплаченной его отцом в качестве подарка на день рождения, потерял невинность в гостинице «Шепард маркет», до превращения в медийную звезду в возрасте семидесяти девяти лет. Это был многословный рассказ о большой дружбе Джулиана с Ральфом Лореном, который, как обнаружилось, создал целую коллекцию на базе эксцентрического английского стиля Джулиана после автомобильного путешествия обоих по деревенским паркам, пабам и полям для крикета Дорсета. Каждый день о Джулиане можно было узнать что-то новое.
Райли
Когда Райли пришел к Адмиралу, там была только Моника.
– Где все? – спросил он. – Я знаю, Хазард заканчивает с садом на Флит-стрит, но я думал, остальные будут здесь.
Моника взглянула на часы:
– Сейчас двадцать минут шестого. Может быть, никто больше не придет. Как странно. Не бывало, чтобы Джулиан когда-нибудь пропускал пятницу, за исключением кануна Нового года. Он говорил, что даже когда почти не выходил из дому, все равно приходил сюда каждую неделю. Надеюсь, с ним все в порядке.
Райли вынул свой телефон и набрал страничку Джулиана в Instagram.
– Не волнуйся. Он более чем в порядке. Посмотри.
– Черт подери, ты знаешь эту Кейт Мосс, с которой он сейчас? И компания самодовольных дизайнеров, попивающих мохито в «Сохо фармхаус». Должно быть, он упомянул, что едет за город, – сказала Моника тоном обиженного ребенка. В конце концов, Джулиан – взрослый человек. Ему не надо просить у них разрешения тусоваться в выходные со знаменитостями. – Слушай, что касается Джулиана, я поняла, что мастер-класс у нас состоится четвертого марта, а это пятнадцатая годовщина смерти Мэри. Я подумала, Джулиану будет немного тяжело, и, может быть, устроить для него что-то вроде вечера памяти. Что скажешь?
– По-моему, ты очень внимательный человек, я таких не встречал, – ответил Райли, который не умел сдерживаться или притворяться. – И еще, ты умная. Как ты запоминаешь все эти даты? Я с трудом могу вспомнить, когда у меня день рождения.
Моника покраснела, став менее строгой и по-настоящему симпатичной. Теперь, когда между ними не осталось секретов, Райли стало легче, и он почувствовал себя самим собой. Он наклонился и поцеловал ее.
Она ответила на поцелуй. Осторожно, но это было только начало.
– Мне немного неловко целоваться на кладбище, а тебе? – спросила она.
Но она улыбалась.
– Что-то мне подсказывает, что Адмирал за много лет повидал вещи и похуже, – ответил Райли, пододвигаясь к ней ближе и обнимая за плечи. – А ты не думаешь, что Джулиан и Мэри могли… понимаешь, – он задвигал бровями, – в какой-то момент их жизни… Тогда, в разгульные шестидесятые, может быть?
– Ну нет! – воскликнула Моника. – Мэри никогда этого не сделала бы! Не на кладбище!
– Ты ее не знала, Моника. Она была акушеркой, а не святой. Может, в ней была какая-то чертовщинка. А ты, конечно, вышла бы за Джулиана?
Он наклонился к Монике, попытавшись снова поцеловать ее, но она твердо, хотя и осторожно, оттолкнула его.
– Райли, я больше не сержусь. Я и в самом деле рада, что мы друзья. Но, честно говоря, какой во всем этом толк? Ты скоро уедешь, так что нет смысла опять все это начинать, разве нет?
– Моника, почему во всем должен быть смысл? Почему все это должно быть частью плана? Иногда самое лучшее – предоставить вещам развиваться естественно, как растут дикие цветы.
Он был вполне доволен собой. Это звучало так поэтично.
В подтверждение своих слов Райли указал на семейку прелестных белых подснежников, пробивающихся сквозь мерзлую февральскую землю.
– Райли, это прекрасно, но я не хочу, чтобы мне опять стало больно, если позволю втянуть себя в отношения, которые скоро закончатся. Жизнь не так проста, как садоводство!
– Неужели все кончено? – Райли был немного раздосадован, к тому же его слегка вывело из себя то, что его профессию назвали простой. Ему все казалось таким очевидным. Она нравится ему. Он нравится ей. В чем проблема? – Почему бы просто не посмотреть, что из этого получится? Довериться интуиции. Если не хочешь распрощаться со мной в июне, то всегда сможешь уехать со мной, – произнес он и тут же осознал, какая это блестящая идея.
Из них получатся идеальные попутчики (он надеялся на свою выгоду). Он мог бы отвечать за развлечения, а она – за культурную часть.
– Я не смогу поехать с тобой, Райли. У меня здесь свои обязанности. У меня бизнес. Служащие, друзья, родные. А Джулиан? Посмотри, что с ним случилось, когда мы в прошлый раз оставили его одного на несколько дней – он чуть не замерз насмерть.
– Это легко, Моника, – сказал Райли, и он действительно так думал. В конце концов, он оставил свою привычную жизнь на том краю мира и даже не оглядывался назад. – Найдешь человека, который будет несколько месяцев управлять кафе вместо тебя. Друзья и родные будут по тебе скучать, но порадуются за тебя и твое приключение. А что касается Джулиана, то в последнее время он, похоже, приобрел сотни тысяч новых друзей. Полагаю, мы можем за него не беспокоиться. – Моника попыталась вставить слово, но он перебил ее: – Когда ты в последний раз видела что-то в мире за пределами Фулхэма и Челси? Ты когда-нибудь садилась в поезд, просто чтобы увидеть, куда он тебя привезет? Или заказывала странное на первый взгляд блюдо из меню ради удовольствия попробовать что-то, чего ты еще не пробовала? Ты когда-нибудь занималась сексом просто потому, что хотела, пусть это и не входило в твои жизненные планы?
Моника молчала. Возможно, он до нее достучался.
– Ты подумаешь об этом, Моника? – спросил он.
– Да. Да, подумаю. Обещаю.
Они пошли вместе к выходу с кладбища. Моника задержалась у одной могилы слева, наклонила голову и что-то тихо пробормотала. Вероятно, могила родственника, подумал Райли. Он прочитал надпись.
– Кто такая Эммелин Панкхёрст? – спросил он.
Она бросила на него один из своих взглядов. Из тех, что ему не нравились. Но ничего не сказала.
Как это часто бывало при общении с Моникой, он почувствовал, что провалил экзамен, который держал, не догадываясь об этом.
Моника
Моника думала об этом. Много думала. Ей нравилась картина, нарисованная Райли, и она спрашивала себя, может ли стать такой женщиной. Не слишком ли поздно ей начинать жить по совершенно другим правилам? Или же вообще без правил?
Она никогда не брала годовой перерыв для путешествий по Европе. Она мечтала попасть в Кембридж. Было так много городов, которые ей хотелось посетить. И был еще Райли – самый потрясающий из всех мужчин, которых ей довелось встретить. И он был таким внимательным и жизнерадостным. Идти куда-то с Райли было все равно что носить розовые очки. Все выглядело намного лучше.
И разве имело значение, что он никогда не слышал об Эммелин Панкхёрст?
Моника не хотела продолжать разговор, объяснять, что Эммелин была самой известной из всех суфражисток, на тот случай, если Райли никогда не слышал о суфражистках.
Но он же австралиец, напомнила она себе. Может быть, в Австралии феминисток не было. Избирательное право для женщин было там установлено в 1902-м.
Она заметила Хазарда, сидевшего в Библиотеке за большим столом, заваленным бумагами.
– Ты снова здесь работаешь, Хазард? – спросила она.
– О, привет, Моника! Ага. Надеюсь, ты не против, что я занимаю столько места. Дома мне как-то одиноко. Не хватает офисного шума. Во всяком случае, кофе здесь лучше.
– Да ради бога! Правда, я уже закрываюсь. Можешь еще немного посидеть, пока я приберусь и закрою кассу.
Моника вытянула шею, чтобы увидеть, чем занимается Хазард.
– Можно показать тебе, чем я занимаюсь? – спросил он. – Мне бы хотелось знать твое мнение.
Она придвинула стул. Ей нравилось высказывать свое мнение.
– Смотри, я нарисовал эти рекламные листки для «Австралийских садовников». Мы рассовали их по почтовым ящикам в Челси и Фулхэме. На это ушло несколько дней.
– Это здорово, Хазард! – с искренним восхищением сказала она. – Много ответов получили?
– Угу. И Алиса запостила в Instagram некоторые фотки с нашей работой, и это вызвало большой интерес.
Моника подумала, что интерес вызвали скорее сами работники, чем работа, но тут же одернула себя. Сексуальная объективация может помочь, а может и навредить.
– У нас достаточно работы, чтобы занять меня, Райли и пятерых австралийских парней, которых обучил Райли, по крайней мере на два месяца. И если мы хорошо справимся с работой, то сарафанное радио обеспечит нас новыми заказами.
– А ты подсчитал прогнозируемый доход и издержки? – поинтересовалась Моника. – Спланировал целевой коэффициент рентабельности?
– Да, конечно. Не хочешь взглянуть на мой бизнес-план?
Моника согласилась. Мало что она ценила больше хорошего бизнес-плана. А у Хазарда он был хорошим, даже исходя из критического взгляда Моники. Конечно, она внесла несколько мелких поправок.
– Не забывай, что, когда твой товарооборот превысит восемьдесят пять тысяч фунтов, тебе надо будет платить НДС, – сказала Моника. – А ты уже зарегистрировался в государственном реестре?
– Нет. Это сложно сделать?
– Вовсе нет. Не беспокойся, я покажу как.
Моника осознала, что Хазард начинает ей нравиться. Неужели она ошиблась на его счет? Обычно она хорошо разбиралась в людях.
– Послушай, Моника, должен признаться, я, пожалуй, никогда не разговаривал на подобные темы с привлекательной женщиной. Знаешь, я про бизнес, никакого флирта, – добавил Хазард.
Привлекательная женщина? Моника собралась было ответить как истая феминистка, но почему-то передумала. Неужели человека, получающего удовольствие от этих слов, можно счесть ужасно пустым?
– Говоря о светских событиях… – сказал вдруг Хазард, что было странно, потому что об этом они не говорили. Они говорили об электронных таблицах в Excel. Моника объясняла ему преимущества кодирования цветом. – На прошлой неделе я получил приглашение на свадьбу. Это большая любовная история – Рита и Дафни, с которыми я познакомился в Таиланде. Обеим по шестьдесят с лишним, и, насколько я понимаю, обе впервые приобщились к миру лесбиянок.
– А-а, это здорово. Новое начало жизни. Райли тоже пойдет?
Моника подумала, что, может быть, Райли пригласит ее с собой.
– Нет. Он пробыл на Ко-Пангане всего два или три дня, так что почти не знал их. Э-э, вряд ли ты согласишься пойти со мной, а? – спросил он, совершенно огорошив ее, и она растерялась, не зная, что ответить.
Почему она?
– Понимаешь, – словно прочитав ее мысли, продолжил он, – я чувствую себя обязанным тебе. Не только за советы по бизнесу, а за то, что благодаря тебе на Ко-Пангане я смог отвлечься от прежней жизни.
Моника почувствовала, как в ней нарастает знакомое раздражение. Она уже подзабыла, как стала для Хазарда развлечением, когда его одолевала скука в перерыве между сеансами массажа и медитациями на том оздоровительном спа-курорте. Теперь она вспомнила. Хотя Монике нравились свадебные торжества, она подумала, что не стоит проводить с Хазардом слишком много времени, поскольку от этого может пострадать их хрупкая дружба.
– Вот что я тебе скажу, – не дожидаясь вежливого отказа, начал Хазард, – ты играешь в нарды? Мы можем сыграть на это. Если выиграю я, ты идешь со мной на свадьбу; если выигрываешь ты, то не идешь. Если, конечно, сама не захочешь.
– Ладно, – согласилась Моника. – Идет.
Никто никогда не побеждал ее в нарды, и ей не придется в данный момент принимать решение.
В кафе Моники была полка с играми для посетителей: шахматы, шашки, «Счастливый случай», «Эрудит» и, конечно, нарды, а также некоторые любимые настольные игры для детей.
– Я пыталась научить Райли играть, – сказала Моника, когда они уселись за доску, – но он предпочитает «Монополию».
На миг она подумала, что Хазард хихикает, но, как оказалось, он закашлялся.
Моника сделала первый вброс. Шесть и один. Это был один из ее любимых начальных ходов. Был только один разумный способ сыграть его – блокировать пункт бара. Что она и сделала.
– Рад, что ты так сыграла, – почти шепотом произнес Хазард.
– Почему? – спросила она. – Это хороший ход. По-моему, единственный ход для этого вброса.
– Знаю, – откликнулся он. – Просто это напомнило мне о последнем разе, когда я играл. С одним шведом в Таиланде. Он был не очень сильным противником.
Они продолжали играть молча, сосредоточенно – оба сильные противники, одинаково нацеленные на победу. Они вышли на финишную прямую, когда Моника выбросила комбинацию, которая, как она сразу же поняла, позволила бы ей послать одну из шашек Хазарда в бар. Это был решающий вброс. Он от него не оправится.
Не успев понять, что делает, Моника передвинула другую шашку.
– Ха! – воскликнул Хазард. – Ты упустила возможность сделать меня, Моника!
– О нет, как я могла так сглупить! – Моника хлопнула себя по лбу.
Хазард выбросил дубль шесть.
Похоже, ей придется пойти на эту свадьбу…
Алиса
Алиса только что надела на Банти чудесное бело-розовое платьице ручной работы, чтобы сфотографировать ее, когда малышка вдруг обкакалась, да так сильно, что памперс не смог защитить и испачкалась вся спинка, почти до шеи.
Она едва не расплакалась, но все же решила сделать снимки. Можно повернуть Банти так, чтобы не были видны пятна горчичного цвета. Никто не узнает. Но Банти не захотела сидеть в испачканном памперсе и начала выть, как банши. Опять.
Невыспавшаяся, Алиса совсем замучилась. Ночью она вставала через каждые три часа. Стоило ей начать задремывать, Банти, дав ей время погрузиться в глубокий сон, снова заходилась в крике, требуя внимания, как какой-нибудь важный раздраженный клиент в «Савойе».
Она переодела Банти, взяла на руки и стала спускаться на кухню. Может быть, кофеин поможет?
Каждый раз, когда Алиса спускалась по лестнице с ребенком на руках, у нее возникало одно и то же видение. Она представляла себе, что спотыкается и катится вниз по ступеням, застеленным дорожкой из морских водорослей. В версии первой она крепко прижимает Банти к груди и, приземлившись у основания лестницы, случайно придавливает ее. В версии номер два она, падая, выпускает Банти, глядя, как та ударяется головой о стену и безжизненным комком валится на пол.
Неужели и другие матери способны вообразить себе разные способы, которыми они могут случайно убить своих младенцев? Уснуть во время кормления и придавить ребенка до смерти? Вести машину в измученном состоянии и врезаться в фонарный столб, отчего задняя часть машины с детским сиденьем складывается гармошкой? Не заметить, как ребенок проглотил двухпенсовую монету, легкомысленно оставленную на полу, как лицо его посинело?
Она недостаточно взрослая и ответственная для того, чтобы сохранить жизнь другому человеческому существу. Как они могли выпустить ее из больницы с живым ребенком на руках, не снабдив инструкциями? Какая идиотская безответственность! Разумеется, в Интернете можно найти миллион инструкций, но все они противоречат одна другой.
До недавнего времени Алиса была довольно успешной. Она работала аккаунт-менеджером в крупной рекламной компании, а потом уволилась, будучи на шестом месяце беременности, чтобы стать мамой с полной занятостью и онлайн-авторитетом в соцсетях. В свое время она проводила совещания, делала презентации для сотен людей и планировала глобальные кампании. А вот теперь не могла справиться с маленьким ребенком.
И ей было скучно. Бесконечная череда кормлений ребенка, переодеваний ребенка, загрузок посудомоечной машины, развешиваний белья, протираний мебели и качаний ребенка на качелях ужасно досаждала ей. Но Алиса не могла никому об этом сказать. Как могла @алисавстранечудес, с ее идеальной, вызывающей зависть жизнью, признаться, что, любя ребенка больше жизни, она часто не очень любила @бебибанти? По сути дела, она не так уж любила саму жизнь. Алиса была уверена, что Банти тоже не так уж ее любит. И кто мог винить ее в этом?
Алиса столкнула с кресла, стоявшего в углу кухни, стопку журналов, чтобы освободить для Банти место, пока ставит на плиту чайник, и пошла к холодильнику за молоком.
И тут она услышала ужасный крик. Банти умудрилась вывалиться из кресла головой вперед, приземлившись на твердый плиточный пол кухни. Алиса бросилась, чтобы поднять ее, проверяя, нет ли очевидных повреждений. К счастью, удар головой был смягчен стопкой журналов для родителей. По крайней мере, эти журналы для чего-то пригодились.
Банти в упор смотрела на Алису, словно желая сказать: «Какая же ты бестолковая мать! Можно заменить тебя на кого-то другого? Я не просила, чтобы обо мне заботилась такая тупица».
Прозвенел входной звонок. Алиса подошла к двери, двигаясь как автомат, как аватар женщины, прежде известной под именем Алисы, оставив на кухонном полу плачущую Банти. Алиса молча уставилась на гостью. Она не могла понять, что та здесь делает. Позабыла, что ли, о какой-то договоренности? Это была Лиззи, одна из волонтеров «Маминого маленького помощника».
– Иди сюда, голубушка. Обними меня, – сказала она. – Я хорошо понимаю, как ты себя чувствуешь, и я пришла помочь тебе с Банти.
Не успев даже удивиться, откуда Лиззи знает, как она себя чувствует, Алиса чуть не задохнулась от прижавшейся к ней огромной, как подушка, груди.
Впервые после появления Банти у себя дома Алиса рыдала и рыдала, обильно смачивая слезами цветастую блузку Лиззи.
Лиззи
Лиззи нравилась ее работа на полставки в «Мамином маленьком помощнике», хотя эта работа лишь компенсировала ее расходы. В прошлом году ей исполнилось шестьдесят пять, и формально она была на пенсии, но от сидения дома она толстела и разленивалась, а ее муж Джек здорово бесил ее, поэтому два дня в детсаду были ее самыми любимыми за всю неделю.
Всю жизнь Лиззи ухаживала за детьми – сначала как старшая из шести братьев и сестер, потом как няня, мама для собственного выводка из пяти детей, а в последнее время как патронажная медсестра, которую молва передавала от одной молодой мамы к другой в привилегированных районах Челси или Кенсингтон. «Лиззи – просто чудо! Настоящая находка!» – говорили они. «Соль земли!» Словно в этом заключался какой-то другой смысл, помимо того что «она не похожа на нас, но, вероятно, ей можно доверять, и она не стащит столовое серебро».
Лиззи только что передала всех детей их родителям, включая маленькую Эльзу с ее вечно хлюпающим носом и грязью под ногтями, чья мама, как обычно, опоздала больше чем на полчаса. Немного странно, что у них в детском саду было одновременно три Эльзы. Виноват в этом был мультфильм «Холодное сердце».
Когда в прихожей Лиззи снимала с вешалки свое пальто, на полу, прямо под ним, она увидела тетрадь в бледно-зеленой обложке, в каких дети обычно решают примеры. Видимо, тетрадь выпала из чьего-то пальто или сумки. Она подняла тетрадь. На обложке было написано что-то, но Лиззи не смогла прочесть и засунула тетрадь в сумку. Завтра кто-то наверняка спросит о ней.
Только через несколько дней Лиззи вспомнила о тетради. Она спросила нескольких мам, не потерял ли кто-нибудь из детей тетрадь, и потом носила ее с собой, ожидая, что кто-то заявит, но этого не случилось. Поэтому во время заслуженного перерыва с чашкой чая Лиззи достала тетрадь и еще раз взглянула на нее. На обложке было: «Правдивая история». Блин, и что это означает? Она пролистала страницы, но не нашла примеров по арифметике, которые ожидала увидеть. В тетради писали несколько разных людей.
От предвкушения у Лиззи мурашки побежали по коже. Она всегда была любопытной. В работе няни или патронажной сестры есть один важный плюс: многое можно узнать о человеке, пошарив в его ящике с нижним бельем. Можно было ожидать от людей большей изобретательности в отношении тайников. А вид этой тетради предполагал наличие секретов. Как в дневнике, например. Лиззи никак не пользовалась добытой информацией. Она гордилась своей честностью и порядочностью. Просто ей были страшно интересны другие люди, вот и все. Откинувшись на стуле, она начала читать.
Насколько хорошо вы знаете живущих рядом людей? Насколько хорошо они знают вас? Вы хотя бы знаете, как зовут ваших соседей? Ха! Фактически Лиззи знала всех своих соседей. Она знала их имена, имена их детей и клички их кошек. Она знала, кто должным образом не сортирует бытовой мусор, у какой супружеской пары много разногласий, а кто слишком много времени проводит у букмекеров. Она знала обо всех соседях гораздо больше, чем им хотелось бы. Она понимала, что пользуется известностью. По крайней мере, в соседском дозоре она была популярной личностью.
Джулиан Джессоп.
Иногда, когда она слышала чье-то имя, стены как будто раздвигались, как в театре при смене декораций, и она переносилась назад в другое время. Вот и сейчас она оказалась в 1970-м на Кингс-роуд с подружкой Мэнди. Тогда они проводили вместе столько времени, что их знали как «Лизаимэнди». Им было по пятнадцать, на них были мини-юбки, волосы зачесаны назад, глаза обведены черной подводкой.
Они заглядывали в окна легендарной студии Мэри Куант, когда в их сторону направилась группа молодых людей от двадцати пяти до тридцати с небольшим лет, казавшихся невероятно гламурными. Трое мужчин были в новомодных расклешенных брюках, девушка – в мини-платье, на несколько дюймов короче их юбок, в меховом пальто и босиком. На публике! Волосы, все в спутанных завитках, доходили до талии, словно она только что встала с постели. Лиззи была уверена, что, подойди она к той девушке поближе, почуяла бы запах секса. Не то чтобы Лиззи тогда знала, как пахнет секс, но представляла себе, что это немножко похоже на консервированные сардины. У одного из мужчин на плече сидел живой попугай.
Лиззи осознавала, что у нее широко открыт рот.
– Вот это да! Лиззи, ты знаешь, кто это был? – спросила Мэнди и, не дожидаясь ответа, сказала: – Это был Дэвид Бейли, фотограф, и Джулиан Джессоп, художник. Ну разве они не великолепны? Ты видела, как Джулиан мне подмигнул? Правда, клянусь!
До этого дня Лиззи никогда не слышала о Джулиане, хотя не призналась в этом Мэнди, поскольку не хотела, чтобы та считала себя более крутой, но впоследствии она несколько раз видела его имя, обычно в колонках сплетен. А потом это имя исчезло, и она десятилетиями не слышала о нем. Если бы Лиззи пришлось задуматься об этом человеке, она решила бы, что он уже умер по какой-то трагической, но несколько гламурной причине вроде передоза или венерического заболевания. Но оказывается, он здесь, живет на той же улице, записывая что-то в тетради, которую кто-то выронил прямо к ней на колени.
Моника.
Лиззи знала и ее. Пару раз, желая кутнуть, она заходила в кафе Моники на чашку чая и кусок торта. Моника ей нравилась, потому что, несмотря на занятость, великодушно прекращала свое занятие, чтобы поболтать с ней. Лиззи вспомнила, что они как-то обсуждали местную библиотеку и то, какая это удача для общины.
И Лиззи точно знала, в чем состоит проблема Моники. В наше время молодые женщины слишком привередливы. В ее дни они понимали необходимость устроить свою жизнь. Находишь молодого человека примерно одного с тобой возраста, родители которого знакомы с твоими и живут поблизости, и выходишь за него замуж. Он может ковыряться в носу, сидя за рулем, или проматывать в ближайшем пабе слишком много денег, но ты понимаешь, что и сама, пожалуй, не идеальна и что относительно хороший муж лучше, чем отсутствие оного. Проблема со всеми этими новыми технологиями в том, что у людей чересчур большой выбор и они просто не в состоянии принять решение. Они продолжают искать и искать, пока однажды не поймут, что шанс упущен. Монике надо перестать вводить себя в заблуждение и смириться с этим.
Блин! Перерыв окончен. Ей страшно хотелось читать дальше, но придется с этим подождать.
– Что ты там читаешь, Лиз? – спросил Джек.
Получилось немного невнятно, поскольку он все еще пытался выковырять указательным пальцем кусочек курятины из задних коренных зубов. Неудивительно, что она уже много лет не целует его в губы. Теперь она, проходя мимо, просто чмокает его в лысину на макушке, похожую на вертолетную площадку.
– Да так, книга с работы, – нарочито небрежно ответила она.
В тот момент она читала историю Хазарда. Его она тоже знала. Очевидно, не могло быть двух молодых людей из Фулхэма с именем Хазард, и он вернулся из Таиланда и работал в саду «Маминого маленького помощника». Он был мужчина что надо, несмотря на бороду. Обычно Лиззи избегала бородатых мужчин. В смысле, что они прячут под бородой? Помимо подбородка.
Лиззи не осуждала этого парня за наркоманию как таковую. Она знала, что такие вещи могут незаметно одолеть человека. У нее самой был период, когда она слишком увлеклась кулинарным хересом, не говоря уже о кредитных картах. А Джек, игнорируя ужасные снимки почерневших легких, нанесенные на пачки сигарет, до сих пор выкуривает в день двадцать «Джон плеер спешиал», тратя на них немалые деньги.
Райли показался ей просто душкой, бедный запутавшийся парень. Его она тоже знала. Он был один из очаровательных молодых австралийцев, работавших с Хазардом. Лиззи до смерти хотелось узнать, по-прежнему ли в завязке Хазард, проводит ли Джулиан мастер-классы и разобрался ли Райли с Моникой. Это интересней «Жителей Ист-Энда».
Ей осталось прочесть одну историю. Кто следующий? Лиззи припасла ее на завтрашний перерыв.
Лиззи устраивалась на обеденный перерыв в комнате для персонала: чай «PG Tips», два печенья «Джемми Доджерс», передача Стива Райта по «Радио-2» и тетрадь с чужими секретами. Как сказали бы дети: а что тут может не понравиться? Устроившись поудобнее в любимом кресле, Лиззи принялась за чтение.
Меня зовут Алиса Кэмпбелл. Вы можете знать меня как @алисавстранечудес.
БИНГО! У Лиззи фулл-хаус. Она знает всех персонажей из этой тетради. И более того, она точно знает, как сюда попала тетрадь. Алиса – та хорошенькая блондинка, которая помогает им собирать средства. Лиззи вспомнила, как Арчи, годовалый малыш, играл с сумкой, которую Алиса оставила в прихожей под вешалкой. Наверное, он вынул тетрадь и бросил ее на полу.
Лиззи немного беспокоилась при каждом появлении Алисы в детском саду – как бы другие мамы не почувствовали себя неадекватными. Она всегда была так идеально одета, так уверена в себе, настолько отличалась от мам, которым они помогали, – неприбранным, неизменно в бедственном положении. Правда, Лиззи казалось, что Алиса немного притворяется. Иногда ее старательно модулированное, напряженное произношение чуть сбивалось, приоткрывая оттенки гораздо более колоритного и естественного. Лиззи продолжала читать.
Хотя, если вы подписываетесь на меня, вы фактически совсем меня не знаете, потому что моя настоящая жизнь и та идеальная, которую вы видите, все дальше и дальше расходятся друг от друга. Чем беспорядочнее становится моя жизнь, тем больше я жажду, чтобы лайки в соцсетях убедили меня, что все в порядке.
Когда-то я была Алисой, успешным PR-специалистом. Теперь я – жена Макса, или мама Банти, или @алисавстранечудес. Такое чувство, что, кроме меня самой, все завладели частями меня.
Я по-настоящему устала. Устала от бессонных ночей, кормлений, смены подгузников, уборки и стирки. Я устала тратить часы на то, чтобы документировать свою воображаемую жизнь, отвечать на сообщения незнакомцев, считающих, что знают меня.
Я безмерно люблю свою малышку, но каждый день подвожу ее. Она заслуживает матери, которая испытывает постоянную благодарность за их общую жизнь, а не такую, которая все время пытается сбежать в виртуальный мир, гораздо более привлекательный и управляемый, чем реальный.
Хотелось бы мне рассказать кому-нибудь о своих чувствах и о том, что иногда, сидя в детской музыкальной группе, мне хочется вмазать кулаком по дурацкому розовому тамбурину. Только вчера в детском бассейне я ощутила почти неконтролируемое желание опуститься на дно бассейна и сделать глубокий вдох. Но как мне признаться, что @алисавстранечудес – это всего лишь мистификация?
И если я не она, тогда кто же я?
Ох, Алиса! Еще до того, как было признано существование послеродовой депрессии, женщины из семьи Лиззи и ее социального круга знали признаки этого состояния. В те дни, когда Лиззи родила первого ребенка, все бабушки и дедушки, тети, дяди, крестные и подруги собирались вокруг молодой мамы. Они предлагали посидеть с ребенком, приносили запеканки и помогали по дому. Все это облегчало физический, эмоциональный и гормональный шок от рождения ребенка.
И вот Алиса, которой все приходится делать одной, отчаянно пытается придать этому идеальный вид.
Едва закончилась ее смена, как Лиззи нашла адрес Алисы. Кто сейчас нужен маленькой Алисе, так это профессионал.
Хазард
Хазард на день взял микроавтобус из «Маминого маленького помощника». Как оказалось, Моника, проведя всю жизнь в Лондоне с его изобилием средств общественного транспорта, так и не научилась водить машину, а их район был расположен за несколько миль от любой железнодорожной станции, поэтому Хазард исполнял роль шофера.
Он подъехал к двойной желтой линии у кафе Моники и просигналил.
– Это ты, Хазард, со своими угрозами? – спросила Моника.
Он такого еще не слышал. Он медленно присвистнул.
– Моника, ты похожа на лютик! Необычайно сексуальный лютик! – воскликнул он, глядя, как она усаживается рядом с ним в ярко-желтом платье-рубашке и широкополой шляпе. – Пожалуй, раньше я не видел тебя ни в чем, кроме черного, белого или темно-синего.
– Что ж, иногда мне нравится попробовать что-то новое, – ответила она, как ему показалось, с довольным видом. – А посмотрите на него – настоящий денди во фраке. Если не ошибаюсь, ты подстриг бороду. – Слово «борода» она произнесла несколько иронично. – Вот, я взяла с собой кофе в поездку. Для тебя – большой латте с цельным молоком. Я знаю, что не ошиблась. – Моника указала на пакет из коричневой бумаги у себя в руках.
– Класс! Спасибо. – Хазард, на удивление, был тронут тем, что она не забыла его заказ на кофе. – А у меня с собой фруктовая жвачка. Угощайся, не стесняйся. Я купил семейную упаковку, со жвачкой в форме маленьких фруктов. Мне они всегда нравились.
На пути по шоссе М3 они непринужденно болтали.
– Ты рада, что идешь на свадьбу? – спросил Хазард.
– Не очень. Свадьбы мне кажутся в чем-то депрессивными. Брак – всего лишь листок бумаги, а статистика разводов шокирует. Честно говоря, пустая трата времени и денег.
– Правда? – с удивлением спросил он.
– Нет, на самом деле, конечно нет! Ты ведь читал мою историю? Больше всего люблю хеппи-энд и хорошую добрую свадьбу. – Потом ни с того ни с сего Моника завела: – Хазард, прости, что вначале я плохо с тобой обращалась. Я была сбита с толку. И я считала тебя каким-то ленивым парнем из целевого фонда, которому нравится совать нос в дела других людей, потому что он чувствует свое превосходство.
– Ох, неудивительно, что ты меня ненавидела, – сказал Хазард. – По сути дела, я всегда сам зарабатывал деньги. Мои родители принадлежат к среднему классу, они тратили все свои сбережения на мою привилегированную частную школу, где меня немилосердно изводили за то, что я единственный, кто живет в доме с номером, а не с названием и кто летает на самолете не бизнес-, а эконом-классом.
– Так чем ты занимался до садоводства?
– Я работал в Сити. Трейдинг. Теперь я понимаю, что выбрал эту карьеру, потому что мне надоело быть самым бедным в комнате. Полагаю, ты не прочла мою историю в тетради? Райли тебе не говорил?
– Нет, он очень деликатный, Райли. Он предоставил это тебе. Так что же ты там написал? Не возражаешь, если я спрошу? В конце концов, мою-то историю ты прочитал.
– Э-э, я написал о том, как покончил с Сити, сделал передышку, чтобы собраться с мыслями. Я хотел найти работу более стоящую, позволяющую более полно себя выразить, – сказал Хазард, и это было совершенной правдой, но не всей правдой.
Между ними в микроавтобусе как будто сидел огромный слон, нажимающий на рычаг переключения. Притом Моника была самым последним человеком, с которым он хотел бы обсуждать свою наркотическую зависимость. Она была такой славной, чистой и яркой, а разговоры на эту тему такие грязные. Моника заставила его почувствовать себя более достойным человеком, а он не хотел напоминать себе, что это не так. Он догадывался, что она никогда не сталкивалась с подобной проблемой. Что хорошо для нее.
– И теперь ты ее нашел! Готова поклясться, эта тетрадь творит чудеса. Посмотри на Джулиана с его сотнями новых друзей. А у тебя новый успешный бизнес. Я в восторге оттого, как быстро ты все организовал. Ты проделал большую работу.
Хазард сиял от гордости. Он не привык гордиться собой, как не привык и к похвалам.
– Ну, в виде исключения я постарался сделать все хорошо. Как ты. Ты по-настоящему деловой человек – креативный, трудолюбивый – и отличный босс. К тому же у тебя есть принципы.
Не слишком ли он заливает? Хазард постоянно ловил себя на том, что старается произвести на Монику хорошее впечатление. Он не понимал почему. Это было совсем на него не похоже.
– Что ты хочешь этим сказать? – спросила Моника.
– Ну, например, если клиент по-настоящему достает тебя, ты когда-нибудь плюешь ему в тарелку? Просто чтобы отплатить ему?
Моника была шокирована.
– Конечно нет! Это страшно негигиенично и к тому же противозаконно.
– А если ты на кухне роняешь, к примеру, сэндвич и он падает, не перевернувшись, кладешь ли ты его обратно на тарелку или выбрасываешь?
– Нельзя класть обратно на тарелку еду, упавшую на пол! Подумай о бактериях, – сказала Моника.
– Вот видишь. У тебя есть стандарты.
– А у тебя их нет? – спросила она.
– О да, конечно есть. Но они более низкие. Чуть выше нуля.
– Хазард, ты сильно превышаешь скорость, – уставившись на приборную доску, сказала вдруг Моника.
– Ой, извини! – Он нажал на педаль тормоза. – Боюсь, у меня маленькая проблема с правилами. Мне говорят о правиле, и я хочу нарушить его. Я никогда не соблюдаю ограничения по скорости – буквально или в метафорическом смысле.
– Мы действительно полные противоположности, – заметила Моника. – Вот я люблю хорошие правила.
– Желтая машина, – произнес Хазард, обгоняя сверкающую «Пежо-205», и Моника с недоумением посмотрела на него. – В твоей семье никогда не играли в «желтую машину»?
– Гм, нет. И как в это играют?
– Ну, когда видишь желтую машину, говоришь: «Желтая машина», – объяснил Хазард.
– А кто выигрывает? – спросила Моника.
– На самом деле никто, – ответил он, – потому что игра никогда не кончается. Продолжается бесконечно.
– Это не очень-то стимулирует интеллект, а?
– А чем же тогда заняться в семейных автомобильных поездках? – спросил Хазард.
– У меня была записная книжка, в нее я записывала номера машин, которые мы обгоняли, – сказала она.
– Зачем? – поинтересовался Хазард.
– На тот случай, если снова увижу одну и ту же.
– И видела?
– Нет, – призналась она.
– Ну, тогда пусть остается «желтая машина», спасибо. А что, «Правдивая история» тоже сотворила с тобой волшебство?
– Ну да, – ответила Моника. – В каком-то смысле она спасла мой бизнес. Организация арт-классов повлекла за собой другие вечерние мероприятия, и потом Алиса с Джулианом постоянно представляют кафе в Instagram, привлекая кучу новых клиентов. Возможно, мне придется даже нанять еще одного баристу. До того как нашла тетрадь, я думала, банк может прекратить поддержку, и я потеряю кафе, а вместе с ним все мои сбережения.
– Это потрясающе! – Потом Хазард добавил более осторожно: – А эта тетрадь помогла тебе разобраться с любовными делами? Теперь у тебя с Райли все хорошо?
Он надеялся, она не сочтет его чересчур любопытным.
– Ну, мы действуем по обстановке. Плывем по течению. Ждем, что произойдет дальше.
– Не пойми меня превратно, но ни одно из этих выражений у меня не ассоциируется с тобой, – сказал Хазард.
– Знаю, – с улыбкой отозвалась она. – Я пытаюсь быть более беззаботной. Должна сказать, это нелегко.
– Но ведь Райли через несколько месяцев улетает, да? В начале июня?
– Да, но он пригласил меня поехать с ним.
– И ты поедешь? – спросил Хазард.
– В данный момент я понятия об этом не имею, что мне совершенно не свойственно, – ответила она.
– Наверное, быть Райли так легко, – заметил Хазард.
– Почему?
– Идти по жизни с такой беспечностью, представлять все простым и плоским… – сказал Хазард. – Желтая машина.
– Знаю, ты не имел это в виду, но, судя по твоим словам, он какой-то тупица.
Разумеется, он не имел этого в виду.
Моника сбросила туфли на высоком каблуке и положила узкие ступни на приборную доску. Одно это невольное движение показало Хазарду, как сильно она изменилась.
– С тех пор как познакомилась с Райли, я здорово изменилась, – словно прочитав его мысли, сказала она.
– Не меняйся слишком сильно, ладно? – попросил Хазард.
Моника ничего не ответила.
Они ехали еще час по более узким и менее шумным дорогам, где асфальт уступил место грунту.
– Слушай, если верить гугл-карте, мы доехали до места! – сказала Моника, когда они въезжали в какую-то образцовую деревню, которая послужила бы идеальной съемочной площадкой для Голливуда. Из каменной церкви медового цвета доносился праздничный звон колоколов. – Я не знала, что в церквях проводят однополые свадьбы.
– Вообще-то, нет, но вчера они официально зарегистрировались в ратуше, а это благословение. Полагаю, обряд проведут как при традиционной свадьбе, но немного другими словами, – ответил Хазард.
Они припарковали микроавтобус и последовали за нарядной толпой ко входу в церковь.
Моника
По пути на прием Моника зашла в туалет, чтобы проверить, не размазалась ли тушь. В церкви при виде двух невест, одетых в белые платья в пол, она немного всплакнула. Свадьбы всегда так на нее действовали, даже если она не знала брачующихся. Конечно, для пары это в основном счастье, но она отдавала себе отчет, что чуть-чуть завидует и сожалеет. Хазард подождал ее, и они вместе вошли в шатер. Вход был украшен белыми розами, и с каждой стороны стоял официант с серебряным подносом, на котором были расставлены бокалы с шампанским. Моника с Хазардом взяли по бокалу.
– По-моему, Райли говорил мне, что в Таиланде ты бросил пить, – заметила Моника.
Или Алиса сказала ей об этом? Во всяком случае, она не сомневалась, что кто-то это сказал.
– Ах да, бросил, – ответил Хазард. – Я пил слишком много. Но не то чтобы я был алкоголиком или типа того. По особым поводам я могу выпить бокал или два. Как в данном случае. В последнее время я целиком за умеренность.
– Это правильно, – одобрила Моника, которая считала самоконтроль недооцененной формой мастерства; ей все больше и больше нравился Хазард. – Не забудешь, что тебе предстоит везти нас домой?
– Ну конечно, – ответил Хазард. – Но мы уедем через несколько часов и невежливо будет отказываться, не так ли? – И он, подняв бокал, сделал большой глоток. – Что, по-твоему, в меню? Курица или рыба?
– Я предпочла бы рыбу. Тушеный лосось, – сказала она.
Моника веселилась от души. Хазард непрерывно отпускал несколько истеричные комментарии по поводу других гостей, несмотря на то что он знал только Родерика и двух невест. Они с Моникой делились историями о свадьбах, на которых побывали в прошлом, как изумительно романтичных, так и совершенно провальных.
На этом, так сказать, свидании с мужчиной, с которым она на самом деле не встречалась, Монике было легко и приятно. На каждой предыдущей свадьбе, где ей довелось побывать, она ловила себя на том, что мысленно прокручивает вперед свои нынешние отношения с мужчиной. Она мысленно намечала, в чем ее свадьба будет другой, какие из ее родственниц могут быть фотогеничными (но не слишком) подружками невесты и кого он может выбрать шафером. Во время службы она бросала на него косые взгляды, проверяя, переполняют ли его эмоции и обуревают ли его те же мысли.
С Хазардом же это было просто весело. Она искренне радовалась, что поехала.
За обедом они оказались за одним и тем же столом, хотя в центре этого огромного круглого стола была установлена гигантская цветочная композиция, и Моника не могла разговаривать с Хазардом и видела его, лишь вытянув шею. В центре было меню обеда. Тушеный лосось. Ей нравилось угадывать. Она переглянулась с Хазардом, указала на меню и подмигнула.
Обед длился целую вечность, поскольку после каждой перемены блюд произносились речи. Моника оживленно общалась с двумя мужчинами, сидевшими рядом с ней, но темы застольной беседы быстро исчерпали себя. Каждый рассказывал о своем знакомстве со счастливой парой, восторгался церковной службой и возмущался астрономическими ценами на жилье в Лондоне.
У Моники нарастала тревога за Хазарда, ведь она не сомневалась, что он принял от официанта бокал белого вина, потом бокал красного, и похоже было, он регулярно опрокидывал бокалы с вином. Она пыталась поймать его взгляд, напомнить о поездке домой, но он, похоже, нарочно избегает ее взгляда. Сидевшие рядом с ним девицы, откинув голову назад, вызывающе хохотали. Одна из них как будто положила руку ему на бедро. Очевидно, он веселился. Но его веселье было безответственным и эгоистичным.
Когда трапеза наконец закончилась и гости начали вставать из-за стола, Моника подошла к Хазарду и села на свободное место рядом с ним, сжимая в руке стакан газировки, словно пытаясь тем самым доказать свою правоту.
– Хазард, – прошипела она, – тебе нельзя напиваться, ты ведь должен везти нас домой.
– Ох, Моника, не будь такой брюзгой! Это же свадьба! Положено напиваться. Ради этого и существуют свадьбы. В кои-то веки расслабься. Живем один раз. – Он осушил очередной бокал вина. – Моника, это… – продолжил он, махнув в сторону сидевшей рядом с ним блондинки.
Губы у нее были явно накачаны, и она, очевидно, не слышала портновский совет о выставлении напоказ только ног или ложбинки между грудями.
– Аннабел, – закончила она за него. – Чао. – Как ей удалось надолго растянуть слово из трех букв? Она помахала Монике только кончиками пальцев, как будто Моника не заслуживала всей руки. – Хазард, если хочешь по-быстрому нюхнуть, у меня в сумке есть немного кокса, – сказала она, даже и не думая скрывать разговор от Моники или же предложить и ей.
Наверное, она считала Монику слишком правильной, чтобы принимать наркотики. Что ж, это так, но дело было не в этом.
– Это здорово! – Хазард отодвинул стул и нетвердо поднялся на ноги. – Я пойду за тобой. Не говоря о чем-то другом, это даст мне возможность заценить твою классную задницу.
– Хазард! – заорала Моника. – Ты сам задница. Не будь таким чертовым идиотом!
– О-о, Моника, блин! Какая же ты зануда! Иди прогуляйся, загляни в галантерку. Ты мне не мать, не жена и даже не подружка. И спасибо за маленькие радости.
Он ушел, пробираясь сквозь толпу за широким задом Аннабелы, как крыса за Крысоловом с дудочкой. Аннабел через плечо бросила взгляд на Монику, закинула назад голову и захохотала, обнажая крупные зубы.
У Моники было ощущение, что ей влепили оплеуху. Кто это, черт возьми?! Определенно, это не тот Хазард, которого она, как ей казалось, знала. Потом она вспомнила. Возможно, это не тот Хазард, которого она узнала недавно, а тот, которого видела раньше, тот, который налетел на нее на улице и обозвал тупой сучкой. Тот самый, который влез в ее жизнь, затем испортил рождественский ланч, ожидая бурных аплодисментов. И как он посмел упомянуть ее пристрастие к галантерейному магазину?! Она совершенно забыла, что писала об этом в тетради. Это удар ниже пояса. Она не хочет больше здесь оставаться. Она хочет вернуться домой. Моника достала из сумки сотовый, отыскала в шатре тихий угол и набрала Райли.
Райли, ответь, пожалуйста, ответь.
– Моника! Ну как, ребята, веселитесь? – произнес он своим чудесным бодрым голосом.
– Не совсем, нет. По крайней мере, я нет. На самом деле Хазард веселится вовсю. Он совершенно бухой. Без тормозов. Я не знаю, как попасть домой. Хазард слишком пьян и не сможет вести машину, а я не умею. И я не могу оставить здесь микроавтобус. Он завтра понадобится для пикника. И что мне делать?
Монике претило просить о помощи, и в особенности претило оказаться в роли девы в беде. Это шло вразрез со всеми ее феминистскими принципами. Ее мать, наверное, перевернется в гробу. Если она когда-нибудь выберется из этого чертова шатра, то запишется на водительские курсы.
– Не волнуйся, Моника. Оставайся на месте, я сяду в поезд и приеду за тобой. А потом привезу тебя на микроавтобусе домой. Просто пришли мне свой адрес, и я доеду с вокзала на такси. Это займет часа два, но свадьба ведь еще продолжается, да?
– Райли, не знаю, что бы я без тебя делала. Спасибо тебе. Понятия не имею, что нашло на Хазарда. Я никогда не видела его таким.
– Если ты наркоман, то проблемы неизбежны. Стоит только начать, и уже не можешь остановиться. Он так здорово со всем справлялся. Почти пять месяцев абсолютно трезвый, – объяснил Райли.
У Моники подвело живот. Какая же она дура!
– Райли, я понятия не имела. Он сказал мне, что все будет в порядке. Я должна была остановить его.
– Моника, ты ни в чем не виновата. Я уверен, что он нарочно сбивал тебя с толку. И вероятно, себя. Если и есть в этом чья-то вина, то только моя. Я должен был предупредить тебя следить за ним. По крайней мере, он начал опять нюхать кокаин, – сказал Райли. Моника промолчала. Говорить смысла не было. – Послушай, чем скорее я отправлюсь, тем скорее приеду к вам. Держись.
И он повесил трубку.
Иногда ничего не бывает тоскливее комнаты, полной людей. Моника ощущала себя ребенком, который, прижавшись носом к окну, наблюдает за вечеринкой, на которую его не взяли. Хазард эффектно танцевал в центре танцпола, со всех сторон облепленный женщинами, как та мерзкая лента в доме у Джулиана была облеплена мухами. Она почувствовала, как кто-то похлопал ее по плечу.
– Можно пригласить вас на следующий танец?
Это был Родерик, сын Дафни. Еще в церкви Хазард их познакомил.
Моника, которая всегда считала, что невежливо отказывать человеку, пригласившему тебя танцевать, молча кивнула и позволила отвести себя на площадку. Там Родерик, проигнорировав все условности современных танцевальных па, энергично и неуклюже закружил ее в неком подобии рок-н-ролла пятидесятых годов. Это дало ему кучу возможностей полапать ее влажной рукой за спину, плечи и зад. Она чувствовала себя цирковым пони на соревнованиях по выездке.
Хазард, очевидно находя все это забавным, издали восторженно выражал свое одобрение, выставляя вверх большие пальцы. Родерик наклонился к Монике и, обдавая ее горячим влажным дыханием, в котором запах виски смешивался с запахом торта со взбитыми сливками и земляникой, зашептал ей на ухо:
– Значит, вы с Хазардом вместе?
– Господи, да нет же! – ответила Моника.
Родерик воспринял ее бурную реакцию как зеленый свет и с еще большим пылом ухватился за ее зад.
Райли осторожно пробирался сквозь поредевшую толпу – уверенный незваный гость посреди непредсказуемо неустойчивой массы. Моника в одиночестве сидела за большим круглым столом, как единственный выживший после кораблекрушения, выброшенный на необитаемый остров. Хазард, наподобие акулы, кружил между столами, подбирая забытые бокалы с вином и осушая их.
– Райли! – крикнула Моника.
Все находящиеся поблизости повернулись и уставились на вновь прибывшего. Райли улыбнулся, осветив все своей улыбкой, как солнце, показавшееся из-за грозовых туч.
– Не могу выразить, как я рада видеть тебя, – сказала Моника.
Хазард
Это было все равно что вернуться домой. Хазард успел забыть, как ему нравится это ощущение. С того самого первого глотка шампанского он почувствовал, как у него разжимаются челюсти, расслабляются плечи и снимаются все зажимы. После нескольких месяцев, когда все эмоции требовали от него четкого фокуса и высокого разрешения, спиртное позволило воспринимать все явления как бы через некий фильтр, добавляя мягкости, доброты и податливости. Его словно завернули в пуховое одеяло апатии.
Осушив первый бокал, он даже не смог вспомнить, почему так долго боролся с искушением. Почему он считал выпивку своим врагом, хотя на самом деле это его лучший друг?
С той минуты в автобусе, когда он понял, что Моника не имеет представления о серьезности его проблем с зависимостью, в голове у него зародилась мысль: «Может быть, только сегодня, по особому случаю, я могу выпить. Всего один бокал. Или два. В конце концов, прошло уже несколько месяцев. Я исправился. Я могу быть разумным. По-старому не будет. Теперь я другой человек».
На протяжении всей свадебной церемонии эти мысли продолжали кружиться у него в голове. Поэтому, едва они вошли в шатер, где при входе стоял официант с серебряным подносом, уставленным бокалами с шампанским, Хазард просто взял один бокал. Как и все прочие гости. Ему так нравилась мысль, что он такой же, как все. Он сказал Монике, что он не алкоголик, что придерживается умеренности, и, произнеся это вслух, поверил в это. В конце концов, алкоголики спят на парковых скамьях, пьют денатурат, и от них воняет мочой. Он ведь совсем не такой, правда?
Он выпил больше, чем намеревался, но это было не так уж важно. Все это только сегодня. Завтра он снова станет хорошим. Как там часто повторяла его мать? Семь бед, один ответ. Хотя она говорила это в отношении лишнего куска торта «Баттенберг».
На этом фоне кокаин показался ему благословенным даром, и от нескольких дорожек он испытал кайф, вызвавший волну уверенности в себе и неуязвимости. Он был супергероем. Он заметил, что совершенно не утратил своей притягательности для женщин. Он горел и зажигал. Это была первая свадьба, на которой он еще не успел перепихнуться, по крайней мере с двумя девицами. Вероятно, это следовало исправить.
Хазард заметил знакомую фигуру. Он заморгал и стал тереть глаза, думая, что ему это привиделось. Вполне вероятно, что привиделось. В конце концов, он недавно принял Монику за свою мать. Хазард усмехнулся. Но все-таки это был Райли. Какого хрена он здесь возник, нарушая планы Хазарда?!
– Хазард, дружище, пора ехать домой, – сказал Райли.
– Я тебе не дружище, Райли. Какого хрена ты здесь делаешь?!
– Я кавалерия. Приехал отвезти вас домой.
– Давай залезай на свою чертову лошадь и вали отсюда! Я веселюсь с новыми подружками.
И он махнул в сторону девицы как-ее-там и другой.
– Что ж, я забираю Монику домой. Вместе с микроавтобусом. А эта вечеринка сворачивается, так что, если не хочешь провести ночь с твоими новыми подружками, предлагаю тебе ехать с нами. Ну так что, приятель?
Судя по тону, Райли немного разозлился. Он никогда не злился. Моника, однако, злилась почти всегда. Она стояла рядом с Райли как чертова жена чертова викария, глядя на него как на мальчика-певчего, стащившего все общинное вино. Хазард был по горло сыт всяким там неодобрением.
Хазард быстро оценил ситуацию в уме. По крайней мере, настолько быстро, насколько позволяли его умственные способности после встряски нескольких предыдущих часов. Если он останется здесь, ему придется сделать ставку на блондинку, которая потащит его к себе домой. Он будет долго мучиться, вспоминая ее имя: Аманда? Арабелла? Амелия? К тому же он понимал, что его в основном привлекает наркота, лежавшая у нее в сумке, и почти не сомневался, что к тому моменту все иссякло. Ему гораздо лучше сделать то, что ему велят, пусть это и обидно. Итак, он поплелся за своими добродетельными друзьями с тем смирением, на какое способен супергерой на кокаине.
Они ехали уже час, и эффект от последней дорожки кокаина, которую он вдохнул пару часов назад, начал ослабевать, оставляя в нем чувство раздражения и беспокойства. И теперь он был не в состоянии поддерживать тонкое равновесие между стимулятором и депрессантом, от всего выпитого алкоголя он чувствовал себя одурманенным и сонным, хотя по опыту знал, что ему будет не уснуть несколько часов.
Он улегся поперек трех сидений в задней части микроавтобуса и следил, как к нему приближаются дементоры. Это ощущение он тоже помнил. Как аукнется, так и откликнется. Там, где свет, там есть и тьма, на каждое действие есть свое противодействие. Настал час расплаты.
Он почувствовал, как кто-то – Моника – набрасывает на него то ли плед, то ли пальто.
– Кажется, я люблю тебя, Моника, – сказал он.
Он понимал, что обошелся с ней ужасно. Он действительно плохой человек, не заслуживающий друзей.
– Если бы, Хазард. Ты любишь только себя, – отозвалась она, но это было неправдой.
Единственный человек, которого он не в состоянии любить, был он сам. Он потратил многие месяцы на то, чтобы кирпичик за кирпичиком построить уважение к себе, научиться вновь уважать себя, и в один момент все это рухнуло.
– Мне так жаль, – поизнес он. – Я думал, можно выпить бокальчик.
Проблема была именно в этом. Он всегда думал, что можно выпить один стакан. В конце концов, у других людей как-то получалось. Но только не у него. Хазарду нужно было всё или ничего. Не только в отношении выпивки и наркотиков, но и всего другого. Если он находил что-то – что угодно, – что ему нравилось, он всегда хотел еще больше. Именно это свойство делало его таким успешным трейдером, душой компании, но и жутким алкоголиком и наркоманом.
Он слышал, как впереди болтают Моника и Райли. Он помнил, как сам мог так же болтать – про погоду, уличное движение, общих знакомых, – но в данный момент не мог себе этого представить. Одна непрошеная мысль перевесила все другие непрошеные мысли. Где мои ключи от квартиры? Он пошарил в карманах. Пустые, как он и думал.
– Моника, – стараясь не мямлить, позвал он, – не могу найти свои ключи. Наверное, обронил их в плацебо.
– Газебо, – поправила Моника.
– Не будь таким педантом, – отозвался он.
Он услышал, как она вздохнула. Так обычно вздыхала его мать, когда он в детстве забывал про домашнюю работу или когда у него рвались штаны.
– Не волнуйся, Хазард. Можешь переночевать на моем диване. По крайней мере, так я смогу за тобой присматривать.
На какое-то время все смолкло, если не считать скрипа стеклоочистителей и еле слышного гудения шин по асфальту.
– Желтая машина, – услышал Хазард голос Моники.
– Что? – переспросил Райли.
– Ничего, – ответила она.
Хазард попытался улыбнуться, но его щека была прижата к пластику сиденья, на котором он лежал.
Моника
Еще не успев открыть глаза, Моника почувствовала какую-то перемену. Ее квартира, обычно пахнущая кофе, духами «Джо Малон», чистящим средством «CIF Lemon Fresh» и время от времени – Райли, теперь воняла винным перегаром. И Хазардом.
Моника выбралась из постели, накинула поверх пижамы мешковатую толстовку – она не собиралась лезть из кожи вон – и наскоро заколола волосы в пучок. Потом пошла в ванную, ополоснула лицо водой, чуть подкрасила глаза и нанесла блеск для губ. Она не старалась произвести впечатление, просто не хотела давать Хазарду повода для насмешек.
Она осторожно приоткрыла дверь в гостиную и, стараясь не разбудить его, на цыпочках вошла. Его там не было. Диван пустовал, а пуховое одеяло было аккуратно сложено. Тазик, оставленный ею на полу на случай, если его будет тошнить (опять), был выдворен на кухню. Шторы раздвинуты, а окна открыты для проветривания. Никакой записки.
У Моники не было желания видеть Хазарда, тем более утром и после вчерашних событий, но – пусть даже и так – немного невежливо вот так сбегать. Могла ли она ожидать чего-то другого?
Перед ней вдруг открылась входная дверь, заставив ее вздрогнуть. Сначала появилась огромная охапка бледно-желтых роз и вслед за ней Хазард.
– Надеюсь, ты не сердишься, я взял твои ключи, – сказал он, дрожащими руками кладя букет на стол.
Моника видела Хазарда во многих обличьях: наглый обидчик, обозвавший ее сучкой, герой (каковым он не являлся), возвращающий всем Рождество, трудолюбивый и решительный садовник, он же бизнесмен и вчерашний безответственный и грубый надоеда. И во всех этих обличьях Хазард был вполне уверен в себе. Он всегда занимал больше места, чем могло понадобиться его внушительной фигуре ростом шесть футов три дюйма.
Этот Хазард был другим. Прежде всего, выглядел он ужасно: изможденный, вялый, с серым лицом, одетый в ту же помятую визитку, но, что еще больше сбивало с толку, он казался неуверенным. Вся его вчерашняя напыщенность и самоуверенность улетучилась, и это делало его каким-то униженным. Грустным. Блеск в его глазах погас.
– Спасибо. – Моника положила розы в кухонную раковину, наполненную водой, чтобы не дать им увянуть; такие вещи надо делать сразу.
– Моника, не знаю даже, что сказать… – Хазард тяжело опустился на диван. – Вчера я непростительно дурно обошелся с тобой. Мне очень-очень жаль. Тот человек был не я. По крайней мере, полагаю, он часть меня, но та часть, которую я пытался отбросить. Я ненавижу человека, каким становлюсь в подпитии, и мне действительно нравится человек, в которого я превратился за эти последние месяцы. А теперь я все испортил.
Он сидел, зажав голову в ладонях. Всклокоченные потные волосы падали вперед.
– Ты плохо со мной обошелся. Неописуемо плохо.
Но она поняла, что впервые увидела настоящего Хазарда. Несовершенного, ненадежного и уязвимого парня, скрывавшегося под наигранным бахвальством. И сердиться на него казалось несправедливым. Очевидно, он сам хорошо справлялся с этой задачей. Вздохнув, она отложила в долгий ящик речь, которую мысленно репетировала вчера по дороге домой.
– Давай просто сегодня начнем с начала, а? Я спущусь вниз, возьму кофе и попрошу Бенджи присмотреть за кафе.
Моника с Хазардом сидели в разных углах дивана, деля на двоих большое пуховое одеяло и ведерко с попкорном за просмотром одного из сериалов «Нетфликс». Хазард потянулся за попкорном, и Моника успела заметить его покрасневшие пальцы с обкусанными ногтями. Это живо напомнило ей о собственных руках, какими они были после смерти матери, – воспаленные, кровоточащие, с потрескавшейся кожей после бесконечной стирки. Она не знала, пытается ли помочь Хазарду или себе самой, но она должна была рассказать ему эту историю.
– Послушай, я понимаю, что такое навязчивая тяга к чему-то, когда тебя одолевает потребность что-то сделать, даже если знаешь, что делать этого не следует, – сказала она, глядя не на Хазарда, а прямо перед собой; он промолчал, но она почувствовала, что он слушает, поэтому продолжила: – Моя мама умерла, когда мне было шестнадцать, как раз перед Рождеством, в год получения аттестата об общем среднем образовании. Она захотела умереть дома, поэтому мы превратили гостиную в больничную палату. Поскольку ее иммунная система была совершенно разрушена химиотерапией, медсестра из Онкологического центра Макмиллан велела мне постоянно дезинфицировать ее комнату. Это было единственное, что я могла контролировать. Я не могла сделать так, чтобы мама не умирала, но я могла убить все микробы. И я чистила и чистила, я по нескольку раз за час мыла руки. И даже когда она умерла, я не могла остановиться. Даже когда с моих рук начала сходить кожа, я не остановилась. Даже когда ребята в школе начали шептаться у меня за спиной, а потом в лицо называть психованной, я не могла остановиться. Так что я тебя понимаю.
– Моника, мне так жаль. Потерять мать в таком возрасте – это ужасно!
– Я не потеряла ее, Хазард. Ненавижу это слово. Можно подумать, мы пошли в магазин, и я просто оставила ее там, потеряла. И она не скончалась и не ушла. Не было никакого мирного, красивого ухода. Было грубо, отвратительно, плохо пахло. И было чертовски несправедливо!
Слова царапали ей глотку.
Хазард взял Монику за руку, разжал ее и накрыл своей ладонью:
– А твой отец? Он тебе не помогал?
– Он тоже боролся. Он писатель. Ты когда-нибудь читал детские книги, в которых действие происходит в вымышленном мире под названием Драгонлиа? – Краем глаза она заметила, что он кивнул. – Ну, так он их писал. Он, бывало, уходил в свой кабинет, чтобы спрятаться в волшебный мир, где всегда побеждает добро, а зло наказано. В то первое Рождество мы с ним были как два матроса с потонувшего корабля, пытавшиеся остаться на плаву, но каждый держался за свой обломок кораблекрушения.
– Как ты справилась с этим, Моника? – осторожно спросил Хазард.
– Поначалу мне было очень плохо. Я забросила учебу и перестала даже выходить из дому. Я просто зарылась в книги. И конечно же, занималась уборкой. Папа тратил бо́льшую часть авторских гонораров на психотерапевта для меня, и ко времени сдачи экзаменов со вторым уровнем сложности мне стало гораздо лучше. Я по-прежнему чересчур рьяно отношусь к вопросам гигиены, но в остальном я совершенно нормальна! – с оттенком иронии сказала она.
– А я считал тебя самым разумным человеком из всех мне известных. Или мне это показалось? – спросил Хазард.
– Ну, до вчерашнего дня я считала тебя самым трезвым человеком, – с улыбкой откликнулась Моника.
Когда автоматически загрузилась новая серия, они повернулись к экрану.
Хазард зачерпнул пригоршню попкорна и швырнул одно зернышко через комнату. Моника понятия не имела, куда оно приземлилось. Потом он повторил то же самое. Три раза.
– Хазард! – резко произнесла Моника. – Какого черта ты делаешь?!
– Назови это терапией для выработки рефлекса отвращения, – швыряя очередное зерно через комнату, ответил Хазард. – Постарайся посмотреть всю серию, не беспокоясь из-за попкорна.
Моника может это сделать. Конечно может. Но все же, сколько длится эта чертова серия?! Она сидела пятнадцать минут, показавшиеся ей часами, стараясь не думать о мерзких зернах, забившихся в трещины и впадинки и прячущихся под мебелью.
Ну хватит! Она пошла за метлой.
– Ты проявила большую выдержку, Моника, – сказал Хазард, когда они вымели последнее зернышко и снова уселись на диван.
– Хазард, ты понятия не имеешь, насколько мне это трудно.
– Вот здесь ты не права, – ответил он. – Я точно знаю, насколько это трудно. Каждый раз, проходя мимо паба, я чувствую то же самое. Знаешь, мы все пытаемся тем или иным способом спрятаться от жизни: я – с помощью наркоты, Джулиан – становясь отшельником, Алиса – с помощью соцсетей. А ты – нет. Ты намного смелее любого из нас. Ты встречаешь жизнь с поднятой головой, пытаясь победить и контролировать ее. Иногда излишне контролировать.
– Нам всем надо быть немного похожими на Райли, правда? Вот почему он так мне подходит.
– Ммм, – промычал Хазард.
Какое-то время они молчали. Вначале они сидели в противоположных углах дивана, но теперь пододвинулись к середине и уселись рядом.
– Знаешь, Моника, в той тетради тебе следовало написать вот эту историю, – сказал Хазард. – Как ты ухаживала за умирающей матерью и какой после этого стала. В этом твоя правда, а не вся эта чепуха с замужеством и детьми.
Она понимала, что он прав.
– Мне просто любопытно, все банки в твоих кухонных шкафах стоят наклейками наружу?
– Конечно, – ответила она. – А иначе как я прочту наклейки?
Он протянул к ней руку и осторожно извлек из ее волос зернышко попкорна, а потом положил его на кофейный столик. На миг она подумала, что он собирается ее поцеловать. Но разумеется, не поцеловал.
– Хазард! – позвала она; повернувшись, он остановил на ней пристальный взгляд. – Можешь положить это зернышко в мусорное ведро?
Райли
Англичане, решил Райли, очень похожи на здешнюю погоду. Изменчивые и непредсказуемые. Сложные. День кажется погожим, потом вдруг откуда-то налетит шквал и пойдет град, отскакивая от тротуаров и капотов автомобилей. Как бы прилежно ни следил за прогнозом, никогда не знаешь точно, что случится в следующую минуту.
Со времени неудачной свадьбы Хазард был сам не свой. Райли был уверен, что тот не пьет и не принимает наркотики. Хазард сильно сокрушался, и чувствовалось, что он усвоил суровый урок, но весь как-то сник.
А между тем Моника немного приободрилась. Она и Райли много времени проводили вместе, подолгу предаваясь на ее диване горячим ласкам. Но она была как роза с шипами – красивая, душистая, многообещающая, но, если приблизишься, уколешься о шипы.
Хотя Райли пару раз оставался на ночь, у них по-прежнему не было секса. Это смущало Райли. Для него секс был в жизни одним из простых удовольствий, как серфинг, свежеиспеченные булочки или хорошая прогулка на восходе. Он не видел смысла сдерживаться теперь, когда между ними не осталось секретов. Тем не менее Моника придавала этому такое значение и относилась с такой осторожностью, словно это была неразорвавшаяся бомба.
И Моника так и не сказала ему, поедет ли с ним путешествовать. Не то чтобы это влияло на его планы. Ему не нужны были планы. Он просто соберет рюкзак, отправится на вокзал и посмотрит, что будет дальше. Но ему хотелось бы знать, – представляя себя на ступенях Колизея, он должен знать, представлять ли себе, что рядом сидит Моника. Или нет.
Райли выдернул маленький сорняк из цветочного бордюра, который уже был почти безупречным перед тем, как он начал работу. Миссис Понсонби любила, чтобы все было идеально. Никаких случайных сорняков, лобковых волос или мужей. И, как он догадывался, никаких развлечений. Она угощала их с Бреттом чаем – каким-то особым, с цветочным вкусом. Он предпочитал обычный чай. Известного ему сорта.
Передавая Райли кружку с чаем, миссис Понсонби слегка задела его руку и дольше, чем нужно, задержала на нем взгляд.
– Скажите мне, если вам понадобится что-то еще, Райли, все что угодно.
Это смахивало на сценарий из плохого порнофильма семидесятых. Что не так с домохозяйками из Челси? Скука? Или они просто ищут занятие, более привлекательное, чем обычные тренировки по пилатесу, или их возбуждает риск, на который они идут? Возможно, он все это придумал и миссис Понсонби предлагала ему всего-навсего шоколадное печенье?
Как только Райли закончил там, он отправился в «Мамин маленький помощник», где выращивал нарциссы в горшках для кафе Моники. Идея состояла в том, чтобы заполнить кафе цветами для занятия по рисованию четвертого марта, на пятнадцатую годовщину смерти Мэри. Моника собиралась испечь торт. Лиззи, новая подруга Алисы из детсада, была примерно одного возраста с Мэри, поэтому она предложила поискать ее снимки в Интернете, чтобы развесить на стене.
С тех пор как Лиззи вмешалась в жизнь Алисы, та сильно изменилась. Лиззи наладила для Банти нужный режим, и Алиса стала меньше уставать, поскольку ребенок теперь хорошо спал. Алиса объявила, что Лиззи расщепила ее геном. Райли толком не знал, что такое геном, но это было не важно. Поскольку Лиззи часто сидела с ребенком, Алисе не приходилось постоянно таскать Банти с собой. Она также перестала непрерывно пялиться в свой телефон. Очевидно, Лиззи сказала, что Алисе нужно урезать общение в соцсетях. Честно говоря, немного раздражало то, что Алиса теперь начинала каждую фразу словами: «Лиззи говорит…»
Джулиан по-прежнему не имел представления о предстоящей вечеринке. Возможно, до него даже не дошло, что Моника запомнила дату, которую он упомянул вскользь довольно давно. Даже Алисе удалось сохранить все в тайне. Это должно было стать большим сюрпризом.
Лиззи
Лиззи пока удавалось не поддаться искушению порыться в бельевых ящиках Алисы. Это казалось каким-то нелояльным. В отношении Макса она не испытывала подобной лояльности, поэтому от души порылась в его ящиках. Ей не попалось никаких указаний на то, что у Макса есть любовная интрижка: никаких сомнительных чеков в карманах, никаких следов помады на воротниках или спрятанных сувениров. Лиззи была экспертом в вынюхивании неверности – как свинья, выкапывающая из земли трюфели. Она с облегчением вздохнула. У Алисы, пусть и легкомысленной болтушки, доброе сердце, и она не заслуживает, чтобы ее обманывали. Однако Лиззи не собиралась окончательно снять Макса с крючка. Если не женщина отвлекает его от дома, то, значит, это пренебрежение и отсутствие интереса к измученной жене и маленькому ребенку.
Она также следила за утилизацией бытового мусора. У Алисы с Максом накапливалось изрядное количество винных бутылок, и Лиззи догадывалась, что львиную долю вина выпивала Алиса, но с удовольствием стала замечать, что с тех пор, как ей удалось наладить для Банти более предсказуемый и управляемый режим, число бутылок уменьшается.
И наконец, Лиззи по-быстрому пошарила в корзине для мусора, стоявшей в ванной. Всегда интересно. И в этот раз она не разочаровалась. Лиззи нашла пустую упаковку от снотворного – неудивительно, что от Макса не дождаться помощи с ночными кормлениями, – и один использованный тест на беременность. Хвала Создателю, он был отрицательным. Иначе это могло бы доконать Алису. И по крайней мере, они с Максом все же занимаются сексом.
Теперь вот Лиззи с большим удовольствием гуглила Интернет на Алисином ноутбуке в поисках фотографий покойной жены Джулиана. Ей нравилось копаться в Интернете. Это был как бы гигантский бельевой ящик, готовый раскрыть все свои тайны. Лиззи быстро проглядела историю просмотра. Как можно было предположить, Макс смотрел порно, но ничего слишком противного или незаконного.
Лиззи искала по именам Мэри и Джулиана Джессопа и нашла их чудесную свадебную фотографию, где они стоят на ступенях ратуши Челси. На Мэри было белое мини-платье и белые сапоги на высоком каблуке, а на нем – невероятно элегантный белый костюм с расклешенными брюками и лиловой шелковой рубашкой. Оба заразительно смеялись. Лиззи отослала фотографию на Алисин принтер. Под свадебной фотографией она нашла девичью фамилию Мэри – Сэндилэндс. Теперь стало еще интереснее.
Лиззи услышала, как в замке поворачивается ключ, и быстро закрыла страницу.
– Привет, Лиззи! Все в порядке? – спросила Алиса.
– Все замечательно. Я накормила Банти детским рисом и яблочным пюре, и она отключилась в положенное время. Думаю, до шести утра ты ее не услышишь.
– Ты ангел, – сказала Алиса.
Она сняла кашемировое пальто и повесила его на вешалку у двери, сбросила с ног сапожки с высоченными каблуками и села за кухонный стол рядом с Лиззи. Макс сразу отправился наверх. Она слышала, как закрылась дверь его кабинета.
– Как прошел романтический ужин? – спросила Лиззи.
– Отлично, спасибо, – ответила Алиса без особого энтузиазма, как отметила Лиззи. – Потрясающий новый ресторан, тут неподалеку. Супермодный. Там был и Хазард с какой-то девушкой. Сногсшибательной. Как там у нас с фотографиями?
– Здорово. Я нашла несколько замечательных. Мэри была красоткой. Немного напоминает мне Одри Хепберн. С широко распахнутыми глазами, такая невинная с виду, как Бэмби. Посмотри.
Сидя на кровати, Лиззи прислушивалась к храпу Джека. Иногда храп вдруг надолго замирал, и она пугалась – уж не умер ли он? – думая, что будет очень горевать. Потом, словно мощно запускался двигатель машины, он начинал снова.
Лиззи почесала голову. Черт! Она почти не сомневалась, что один из этих маленьких негодников из детсада снова заразил ее вшами. Следует ли ей спать в отдельной комнате, пока не изведет их? Она взглянула на почти лысую голову Джека. Вероятность того, что какая-нибудь заблудившаяся вошь сумеет там спрятаться, была исчезающе мала. Но Лиззи не хотела заводить с ним очередную дискуссию о паразитах. Ему понадобилось несколько недель, чтобы пережить инцидент с круглыми червями.
Она выдвинула собственный ящик для белья, посмеиваясь над иронией ситуации, и достала тетрадь, найденную в детсаду. Теперь настала ее очередь писать, и она в точности знала, что напишет.
Хазард
Прошло шесть дней после той свадьбы, и Хазард наконец почувствовал, что жизнь возвращается в свою колею. Он физически оправился после попойки, чувствуя в себе еще бо́льшую решимость. То, что он так резко вновь ударился в пьянство, напомнило ему, насколько лучше было воздерживаться. Он также понял, что «всего один стакан» – это недостижимая иллюзия.
Бизнес Хазарда постепенно расширялся, и впервые за долгое время он чувствовал себя счастливым и спокойным. Его беспокоила лишь одна сторона его жизни. Если не считать новых друзей из художественного кружка, Хазард был лишен светской жизни. Прекратив пить, он стал немного затворником, и такое положение дел не могло продолжаться вечно. Хазарду до сих пор не давало покоя то, что он едва не поцеловал Монику. Мало того что она совершенно не его тип, но к тому же девушка Райли, а Хазард не связывается с подружками других парней. Во всяком случае, больше не связывается.
Проблема состояла в том, что Хазард не мог вспомнить, какой же тип его.
Хазард пытался расчесать свои спутанные волосы, когда заметил записку, спрятанную в комоде, как послание в бутылке, плавающей в море его прежней истории и выброшенной на сегодняшний берег. На записке было нацарапано его нетвердым почерком: «ЕЕ ЗОВУТ БЛАНШ». А внизу женской рукой было приписано: «ЕЕ НОМЕР 07746 385412. ПОЗВОНИ ЕЙ».
Хазард улыбнулся. Большинство женщин рассердились бы, найдя такую записку. Может быть, Бланш была лучше, чем он помнил. В конце концов, он тогда был не в себе. И она, без сомнения, его тип – сногсшибательная блондинка, уверенная в себе и готовая на все. Надо ей позвонить. На его улице открылся новый супермодный ресторан – как раз такой, какие он любил. Если она свободна, они могут пойти туда вечером.
Хазард не ошибся по поводу ресторана: точно в его вкусе – минималистский индустриальный стиль. В ресторане, заполненном нарядно одетыми людьми, царил дух превосходства, слышался гул светских сплетен. Все это было ужасно. Хазард возвращался мыслями к своему столику в кафе Моники и старому кожаному креслу под торшером в окружении книг. Он посматривал на Бланш, стараясь разглядеть что-то в ее распахнутых голубых глазах, но видел только отражение своего же лица.
Бланш рассеянно ковырялась вилкой в салате из цикория со свеклой, который заказала. Она была не в состоянии съесть больше двух ложек. Между тем Хазард, умирая от голода, быстро сметал крошечные порции еды, которые ему приносили. Для него это было новое ощущение. По сути дела, Хазард уже много лет по-настоящему не ел в модном ресторане. Бо́льшую часть времени он бегал в туалет и обратно, чтобы нюхнуть кокса, и потом ему приходилось симулировать энтузиазм к еде, которая по вкусу напоминала ему картон.
– Разве тебе не нравится этот ресторан? – пытаясь перекричать шум, в третий раз спросила Бланш.
– Нравится, – соврал Хазард, потом, пытаясь поддержать разговор, добавил: – Интересно, как оформил бы этот зал мой друг Джулиан? Он художник.
Хазард указал на бессмысленные уродливые инсталляции, свисающие с потолка и напоминающие детские мобильные телефоны, словно спроектированные кем-то под наркотой.
– О-о, художник! Я его знаю? – взвизгнула Бланш.
– Сомневаюсь. Ему семьдесят девять лет, – сказал Хазард.
Интерес Бланш поутих.
– Хазард, ты такой милый, что заботишься о старичках! – захихикала она. – Знаешь, когда я училась в школе, нас заставляли раз в неделю ходить на чаепития со стариками в качестве одной из общинных обязанностей. Мы называли это «тусовки с бабушками». – Она изобразила в воздухе знак кавычек. – Конечно, мы там ничего такого не делали. Просто сидели в комнатах, где пахло мочой, и слушали бесконечную нудную болтовню о старых временах, считая минуты до того момента, когда можно будет перед школой выкурить по сигаретке со своим парнем. – Она снова захихикала, потом вдруг задумалась. – Слушай, а большое наследство он оставит тебе по завещанию?
Хазард уставился на нее. Он продолжал думать о Монике и о том, насколько веселее было бы здесь с ней. Что было странно, поскольку веселье и Моника не очень сочетались одно с другим. Так или иначе, они с ней вряд ли попали бы сюда. Моника ни за что не стала бы заказывать столик в этом ресторане. Он заставил себя вновь сконцентрироваться на бездумной болтовне об общих знакомых, скучных местах и бессмысленных символах статуса.
И Хазард со всей очевидностью понял, что ему просто не вписаться в прежнюю жизнь. Теперь он был другой человек. И как ни пытался, он никак не мог отбросить мысль, что, может быть, подошел бы Монике. Монике, самой сильной и самой уязвимой женщине из тех, что он знал.
Как только появилась возможность, Хазард оплатил счет, скривившись при виде заоблачной цены салата, который Бланш не съела, и оставил ее с друзьями, оказавшимися в баре. В другом конце ресторана он заметил обедающих Алису с мужем. Как чудесно, что даже в браке и с детьми можно сохранять романтические отношения, чувствуя себя уютно в обществе друг друга и даже не испытывая потребности в разговоре.
Выйдя на Фулхэм-роуд, Хазард прошел мимо кафе Моники. В ее квартире над кафе горел свет. Вероятно, она там сейчас с Райли занимается безудержным австралийским сексом.
Хазард пошел дальше – к своему пустому, тихому и надежному жилищу.
Алиса
У Алисы все еще сохранялось чувство разочарованности после так называемого свидания с Максом. Поддавшись после разговора с Моникой в поезде порыву вернуть назад их романтические отношения, она заказала столик на двоих в новом ресторане, открывшемся на их улице. Но она совершила ошибку, сказав Максу, что за столом им запрещается говорить о чем угодно, имеющем отношение к Банти. Проблема заключалась в том, что ни один из них, казалось, не в состоянии вспомнить, о чем они говорили до того, как Банти осчастливила их жизнь. Они подолгу смущенно молчали, и Алиса, к своему ужасу, осознала, что они превратились в одну из тех пар, над которыми они подсмеивались, когда встретились. Эти парочки сидели в ресторане, совершенно не зная, что сказать друг другу.
Алиса сделала фотографию и загрузила ее на свою страничку в Instagram. Это был первый ее пост за три дня. Она пыталась взять это под контроль. Но такому снимку она не могла противиться, потому что кафе «У Моники» выглядело чудесно. Повсюду на столах горели свечи и стояли букеты нарциссов. На центральном столе – изумительные фотографии Джулиана и Мэри, лимонный пирог – любимый Джулиана – и несколько бутылок «Бейлиса».
– Я начинаю беспокоиться, – сказала Моника. – Как считаешь, это ненормально – устраивать вечеринку для человека, который умер? Может быть, пока не пришел Джулиан, все это быстро убрать?
– Нет, это чудесно, – возразил Хазард. – Очень важно вспоминать людей, которых мы любили. И во всяком случае, не этим ли занимался Джулиан последние пятнадцать лет в пять часов вечера по пятницам? Просто сейчас у него есть друзья, с которыми можно отметить эту дату.
Алису удивлял Хазард. Она не думала, что он такой добряк. Этот мужчина был весь соткан из противоречий. Если бы не Макс, она бы чуточку в него влюбилась. Глядя на Хазарда, Алиса заметила, что он хмурится. Проследив за его взглядом, она увидела, как Райли обнимает Монику. Интересно. Вещи, которые замечаешь, оторвавшись от экрана айфона. Кто бы мог подумать?
Все было готово, часы показывали начало восьмого. Собрался весь класс рисования, все ждали. Не хватало лишь Джулиана.
– Джулиан никогда не опаздывает на занятия. – Моника явно игнорировала очевидность противоположного. – Единственное, что он воспринимает невероятно серьезно, – это его мастер-класс. О-о, и моду, конечно. И этого шелудивого пса.
– Это не пес, дорогая, – невольно пародируя Джулиана, произнес Райли. – Это шедевр. Как думаешь, не пора нам приложиться к «Бейлису»? Джулиан нас догонит.
– Конечно, – снова бросив взгляд на дверь, ответила Моника.
К половине восьмого Моника заметно поскучнела. Собравшиеся пытались отвлечь ее, но это не помогало. Алиса взяла свой телефон и открыла страничку Джулиана в Instagram.
– Моника, я выследила нашу приглашенную звезду, – сказала она. – Он только что запостил свое фото с командой какого-то телевизионного реалити-шоу на Слоун-сквер.
– Черт! Вот мерзавец! – воскликнула Моника; Алиса не видела Монику такой сердитой с того раза, когда та выгнала ее из этого кафе на Рождество. – И он не отвечает на мои звонки.
– Я пошлю ему сообщение в Instagram, – предложила Алиса. – Уверена, он проверяет.
ДЖУЛИАН, ПРЯМО СЕЙЧАС ТАЩИТЕ СВОЮ ТОЩУЮ ЗАДНИЦУ К МОНИКЕ, А ИНАЧЕ ОНА ВЗОРВЕТСЯ. С ЛЮБОВЬЮ, АЛИСА
Она набрала, глядя, как Моника расхаживает взад-вперед, с каждым шагом накручивая себя все больше и больше.
Джулиан появился только к восьми часам. Вопреки ожиданиям Моники, он даже особо не смущался. Ему не мешало бы подольститься к Монике. Алиса знала, каково это – лишиться расположения Моники, ничего смешного в этом не было.
– Прошу прощения, народ! Надеюсь, вы начали без меня! Никогда не угадаешь, что может случиться… Господи, что все это значит?
– Ну, мы закатили вам вечер-сюрприз. Мы подумали, что вам может быть немного грустно, поскольку сегодня – пятнадцатая годовщина кончины Мэри, так что мы решили помочь вам вспомнить ее, – произнесла Моника стальным голосом. – Вы забыли про ее годовщину, да?
– Нет, конечно нет! – ответил Джулиан, очевидно забывший об этом. – И огромное вам спасибо за все. Не могу сказать, как много ваше внимание для меня значит.
Алиса взглянула на Монику, чтобы проверить, удалось ли Джулиану успокоить ее. Ничуть не бывало.
– Что произошло с правдивостью, Джулиан? Как насчет того, чтобы делиться правдой? Вы хотя бы знаете, что такое правда? – поинтересовалась она.
Все замолчали, переводя взгляды с Джулиана на Монику и обратно, как зрители, наблюдающие за напряженным финалом в Уимблдоне.
– Ладно-ладно, Моника, я просто глупый старик, прости меня, – сказал он не слишком убедительно, загораживаясь ладонями, как от нападения.
Но Моника еще не закончила.
– Господи, почему вы проводите все время с «друзьями» из Instagram? – Она сердитым жестом взяла слово «друзья» в кавычки. – С пустыми знаменитостями из списка Б, а не с людьми, которые по-настоящему заботятся о вас? Вы понятия не имеете, что значит дружба.
Алиса с облегчением услышала, как открывается входная дверь, подумав, что новый посетитель поможет снять напряжение. И действительно, Моника остановилась на месте как вкопанная.
Отвернувшись от Джулиана, она уставилась на дверь, у которой стояла хорошо одетая седая женщина, показавшаяся ей странно знакомой.
– Здесь закрытое мероприятие, – сказала Моника. – Могу я вам чем-то помочь?
– Вероятно, вы Моника, – ответила женщина, сохраняя невозмутимость, несмотря на очевидное напряжение в комнате. – Я Мэри, жена Джулиана.
Мэри
Мэри только вечером представился случай посмотреть почту. На обед пришли Гас и Уильям, сыновья Энтони, со своими женами и детьми. На двоих у них было пятеро детей, которых она любила, как любила бы собственных внуков. Когда матери не видели, она совала им фунтовые монетки, шоколадные батончики и крекеры с сыром.
Она обожала свою нынешнюю роль старейшины рода. Со своего места во главе большого дубового стола она смотрела, как они уплетают ее стряпню. Энтони, ее партнер, сидел на другом конце стола. Но в ее семьдесят пять такие дни, как этот, казались ей довольно утомительными.
В почте в целом не было ничего волнующего. Последнее время так обычно и бывало. Сюрпризы пусть будут для молодых. Счет за электричество, каталог «Боден» и благодарственное письмо от дамы, которую она на прошлой неделе пригласила на обед. Но был там также тонкий пакет, надписанный вручную незнакомым ей почерком. На лицевой стороне было указано имя Мэри Джессоп, которым она не пользовалась уже пятнадцать лет. Едва покинув «Челси стьюдиос», Мэри вернула себе фамилию Сэндилэндс, словно опять стала девочкой, которой когда-то была.
Пятнадцать лет назад она не только оставила в прошлом свою замужнюю фамилию, она оставила все. Она оставила ему записку, в которой объясняла, что много лет мирилась с унижением и муками ревности к другим женщинам, но что наконец ее терпение иссякло. Она оставила также целую кучу инструкций – например, как включить стиральную машину, – написанных на клочках бумаги и рассованных по всему дому. Она долго заботилась о Джулиане и понимала, что ему будет трудно справляться без нее. Может быть, каждое ее послание будет напоминать ему о том, как много она для него сделала. Эта мысль ее успокоила, но потом она подумала, что, вероятно, он, едва убрав ее одежду из шкафов, переключит внимание на одну из натурщиц.
Интуиция подсказала ей, что перед тем, как распечатать пакет, нужно сесть, и она удобно устроилась в кухонном кресле, надела очки для чтения и осторожно вскрыла плотный конверт кухонными ножницами. Внутри лежала тетрадь в самоклеющейся обложке, на которой было написано: «Правдивая история». Как странно. Почему вдруг кто-то послал ей это? Мэри открыла тетрадь на первой странице.
Она сразу же узнала почерк и вспомнила первый раз, когда увидела его. Им были написаны слова: Дорогая Мэри, почту за честь, если Вы составите мне компанию на обеде в «Плюще» в субботу в девять часов вечера. Искренне Ваш, Джулиан Джессоп.
Тогда все в этой записке показалось ей чарующим и восхитительным. Ресторан «Плющ», о котором она так много слышала, но никогда там не бывала, обед в девять часов, а особенно – Джулиан Джессоп, художник. Она перевернула листок бумаги с запиской и увидела на обратной стороне набросок – несколько смелых карандашных линий, но ее лицо узнавалось безошибочно.
Почему она? Она совершенно не имела об этом понятия, но испытывала невероятную признательность. И она почти сорок лет была признательна, пока однажды не обнаружила, что ее признательность исчезла. И вскоре после этого она сама тоже исчезла.
Мэри начала читать.
Я ОДИНОК.
Джулиан? Солнце, вокруг которого все они вращались, удерживаемые силой притяжения. Каким образом Джулиан может быть одиноким? Незаметным?
Потом она прочитала следующие слова:
Мэри… умерла в относительно молодом возрасте, в шестьдесят.
Мерзавец! Он устранил ее. Как он посмел?!
Она понимала, что не стоит особо удивляться. У Джулиана всегда были довольно гибкие творческие взаимоотношения с правдой. Именно его способность переосмысливать события в соответствии с его потребностями позволяла ему так долго лгать Мэри. Все эти натурщицы, которых он только рисовал, ничего больше. Как она могла предположить такое? Она введена в заблуждение, она – ревнивый параноик. Но тем не менее вместе с пылинками в воздухе висел запах секса, смешанный с краской. С тех пор запах масляных красок всегда напоминал ей о предательстве.
На протяжении многих лет Мэри старалась не читать колонки светской хроники, не обращала внимания на то, как, стоило ей войти в комнату, стихали общие разговоры, а потом тема разговора быстро менялась. Она старалась не замечать сочувствующих взглядов одних женщин и злобных взглядов других.
Потом, вслед за большой неправдой Джулиана, быстро возникла простая правда:
Меня должны были любить больше всех… Я принимал Мэри как нечто само собой разумеющееся.
И она осознавала, что именно поэтому оставалась с ним так долго. Он заставлял ее чувствовать себя менее значительной, чем он, как будто он настолько лучше ее во всех отношениях, что она должна быть счастлива тем, что ей разрешили разделить с ним жизнь, греться в его лучах.
Равновесие нарушилось из-за довольно незначительного происшествия.
Мэри в своей форме акушерки пришла домой рано после ожидаемых родов, оказавшихся подготовительными схватками. Джулиан лежал, распростершись на диване с сигаретой «Голуаз» в руке, в толстовке художника на голое тело. Последняя из его натурщиц, Делфин, совершенно обнаженная, если не считать туфель на шпильке, стояла у камина, довольно скверно играя на альте Мэри.
Другие женщины уже много лет играли с ее мужем, но ни одна не играла на ее альте. Мэри вышвырнула Делфин, проигнорировав протесты Джулиана с упоминанием «искусства и музы» и ее «чрезмерного воображения, ведь это всего-навсего чертов альт».
Годами Мэри тешила себя мыслью о том, что Джулиан в конце концов вырастет из всего этого распутства и однажды обнаружит, что у него нет ни желания, ни энергии и что он утратил свой шарм. Но единственное, что менялось, – это разница в возрасте между ней и девицами Джулиана. Последняя, по оценке Мэри, была на тридцать лет моложе ее. На следующий день, когда он писал графиню Денби из Уорикшира, Мэри оставила ему свои хозяйственные записки и ушла.
Она никогда не оглядывалась назад.
Год спустя она познакомилась с Энтони. Он ее обожал. И обожает до сих пор. Он постоянно говорил ей, как счастлив, что нашел ее. Он заставил ее чувствовать себя особенной, любимой и спокойной. Он никогда не заставлял ее чувствовать себя благодарной, но она каждый божий день ощущала себя таковой.
Она пыталась связаться с Джулианом по поводу развода и несколько раз писала ему, но не получала ответа, поэтому в конечном счете отказалась от этих попыток. Чтобы чувствовать себя уверенно с Энтони, ей не нужна была официальная бумага, к тому же первый брак оказался для нее не слишком-то удачным.
Иногда она думала: а жив ли Джулиан? Она так долго ничего о нем не слышала. Но гордость мешала ей посмотреть в Интернете или поискать кого-нибудь, кто может знать, где он и что с ним. В любом случае, если бы он умер, ей сообщили бы как ближайшей родственнице, так ведь?
Она быстро прочла истории из тетради, следующие за историей Джулиана, не в состоянии нормально сосредоточиться, пытаясь – безуспешно – не выносить поверхностных суждений.
Моника – постарайся чаще расслабляться.
Хазард – ты храбрец, продолжай бороться со своими демонами.
Райли – милое дитя, надеюсь, ты найдешь свою девушку.
Алиса – ты понятия не имеешь, какое это счастье – иметь ребенка.
Оставалась только одна история. Короткая. Вероятно, ее написал человек, отправивший ей эту тетрадь. Почерк был беззастенчиво крупный, с множеством закорючек, и в букве «о» слова «любовь» был пририсован смайлик.
Дорогая Мэри!
Меня зовут Лиззи Грин. Вот правда обо мне: я ужасно любопытная. Некоторые могут сказать – пронырливая. Я люблю людей – их причуды, их достоинства, их тайны. Вот так я нашла Вас. Вы вовсе не умерли, а живете в Льюисе.
Вот еще что Вы должны обо мне знать: я ненавижу обман. Пока человек честен в отношении меня или себя самого, я буду изо всех сил защищать его. А Джулиан, как Вы знаете, не был честным.
Если и существует одна вещь, которой должна достичь «Правдивая история», так это сделать его создателя более правдивым.
Вот почему я и послала Вам эту тетрадь и почему сообщаю Вам, что Джулиан проводит арт-класс в кафе «У Моники» каждый понедельник в семь часов вечера.
С любовью,
Лиззи
Джулиан
Как можно было при виде ее прийти в ужас и одновременно страшно обрадоваться ее появлению? В нем кипели противоречивые эмоции, как два цвета в лавовой лампе. Она изменилась – конечно изменилась, – ведь прошло пятнадцать лет. Ее лицо увяло – немного. Но она осталась прямой, высокой и сильной, как серебристая березка, и вся светилась.
Неужели она всегда была такой, и он просто не замечал, или она стала такой, после того как ушла от него? И потом пришло тревожное понимание: наверное, это он уничтожил его – это внутреннее свечение. Именно оно всегда притягивало его к Мэри, но он потушил этот свет.
Он вспомнил, как в первый раз увидел ее в кафетерии больницы Святого Стефана. Потеряв ключи от дома, он влезал в коттедж по стене и сломал палец на ноге. Он услышал, как одна из акушерок позвала ее по имени – Мэри. Он не мог оторвать от нее глаз и нарисовал ее портрет на страничке блокнота для зарисовок, который всегда носил с собой, написал на обратной стороне приглашение на обед, вырвал листок и, ковыляя мимо, положил на ее поднос.
– Здравствуй, Мэри, – произнес он теперь, – я скучал по тебе.
Четыре слова, не дающие ни малейшего представления о пятнадцати годах сожалений и одиночества.
– Ты меня убил, – откликнулась она.
– Твой уход убил меня, – схватившись за ближайший стул для опоры, возразил он.
– Зачем вы лгали, Джулиан? – спросила Моника.
На этот раз очень деликатно. Мэри опередила его с ответом:
– Он лишь хотел, чтобы его любили. Все, чего он хотел, – это чтобы люди его любили. Понимаете… – Она замолчала, подыскивая нужные слова; в кафе слышался лишь приглушенный шум машин, катящихся по Фулхэм-роуд. – Если бы правда состояла не в том, каким он хотел себя видеть, он изменил бы ее. Это как добавить немного цвета к картине, чтобы скрыть несовершенства. Разве я не права, Джулиан?
– Да, хотя и не совсем, Мэри, – сказал он, потом замолчал, ловя ртом воздухом, как рыба, выброшенная на берег.
– Продолжайте, Джулиан, – потребовала Моника.
– Пожалуй, мне было легче поверить, что ты умерла, чем постоянно напоминать себе, что я оттолкнул тебя. Все эти женщины, вся эта ложь. Прости меня, прости меня, пожалуйста.
– Знаешь, дело не только в женщинах, Джулиан. Я к этому привыкла. А в том, что ты заставлял меня чувствовать себя такой ничтожной. У тебя такая энергия. Ты как солнце. Когда тебя кто-то интересует, ты обращаешь свои лучи на этого человека, и он купается в твоем тепле. Но потом ты поворачиваешься к кому-то другому, оставляя в тени того человека, и он тратит всю свою энергию на оживление воспоминаний о тех лучах.
Джулиан не решался взглянуть на Монику, своего нового друга, которого он подвел, как подводил в своей жизни многих людей.
– Я не хотел обидеть тебя, Мэри. Я любил тебя. И до сих пор люблю. Когда ты ушла, мой мир рухнул.
– Вот почему я здесь. Я прочла твою историю в этой тетради. – (Он впервые заметил, что она держит в руке «Правдивую историю». Как она к ней попала?) – Я тогда думала, что ты едва заметишь мое отсутствие, что мое место займет одна из тех девиц. Я понятия не имела, что для тебя это будет настолько тяжело. Я злилась на тебя, но совсем не хотела, чтобы ты страдал. – Она подошла к нему, положила тетрадь на стол и взяла обе его руки в свои. – Садись, старый дурачок, – сказала она.
И оба они сели за стол. Моника принесла им бутылку «Бейлиса» и рюмки.
– Знаешь, я больше не пью его, – сказала Мэри. – Слишком много воспоминаний. К тому же он гадкий на вкус. Не найдется ли у тебя красного вина, дорогой?
– Не беспокойся, Моника, я постараюсь обменять бутылки «Бейлиса», – вмешался Райли, словно это имело значение.
– Джулиан, мы сейчас уйдем, чтобы оставить вас одних, – сказал Хазард.
Джулиан кивнул и рассеянно махнул рукой другим студентам, когда Хазард стал выпроваживать их. Остались только Моника и Райли, чтобы прибраться после вечеринки.
– Ты счастлива, Мэри? – спросил он, чувствуя, что действительно хочет этого.
– Очень, – ответила она. – Уйдя от тебя, я научилась быть солнцем для себя самой. Я встретила чудесного мужчину, вдовца Энтони. Мы живем в Суссексе.
Хорошо. Он, конечно, хотел, чтобы она была счастлива, но не очень.
– И у тебя тоже счастливый вид, – сказала она, – со всеми этими новыми друзьями. Просто не забывай хорошо с ними обращаться, и пусть тебя снова не уводит в сторону всякая чепуха.
К ним подошла Моника с бутылкой красного вина и двумя бокалами.
– Может быть, мне уже слишком поздно меняться, – чувствуя некоторую жалость к себе, произнес Джулиан.
– Никогда не бывает слишком поздно, Джулиан, – ответила Моника. – В конце концов, вам всего лишь семьдесят девять. У вас куча времени, чтобы хоть что-нибудь исправить.
– Семьдесят девять? – переспросила Мэри. – Моника, ему восемьдесят четыре!
Моника
«Правдивая история» была основана на лжи. Дружба Моники с Джулианом, в последнее время занимавшая большое место в ее жизни, была не тем, чем казалась. Какую еще ложь насочинял Джулиан? А она потратила не один час на подготовку вечера памяти кого-то, кто вовсе не умер.
Джулиан и Мэри ушли из кафе около полуночи.
Прощаясь, Мэри обняла Монику.
– Спасибо тебе за то, что заботишься о моем Джулиане, – прошептала она Монике на ухо.
Ее дыхание было как воспоминание о летнем ветерке. Она стиснула руку Моники мягкой слабой рукой пожилой женщины. Потом за Мэри и Джулианом закрылась дверь, и колокольчик возвестил об их уходе нестройным звоном. И вместе с ними ушло полвека любви, страсти, гнева и печали, оставив за собой разреженный воздух.
Моника ужасно ругала себя за свои предположения, что Мэри скучная, что она «тряпка», что совсем не такая интересная, как ее муж. Мэри, с которой она познакомилась в тот вечер, была чудесной. Эта женщина излучала тепло, но под ее мягкостью скрывалась внутренняя сила, сила, позволившая ей отбросить почти сорок лет брака и начать все сначала.
Райли поднялся вместе с Моникой к ней в квартиру.
– Блин! Какой вечер. Было немного напряжно, правда? – сказал он, и Монику разозлило то, как небрежно он отозвался об этом вечере с его сильными эмоциями. – Кто, по-твоему, прислал Мэри эту тетрадь?
– Должно быть, Лиззи, – ответила Моника. – Она нашла в детсаду тетрадь, выпавшую из Алисиной сумки. И после этого стала помогать ей с Банти.
– Ты не считаешь, что с ее стороны было немного подло вот так подставить Джулиана? – спросил Райли.
– На самом деле я считаю, что она оказала ему услугу, заставив признаться в своей лжи. Он стал немного другим, когда уходил с этой встречи, правда? Меньше хвастовства и показухи, больше реальной жизни. По-моему, с этого момента он станет более симпатичным и счастливым человеком. И наверное, они с Мэри могут быть друзьями.
– Надеюсь. Хотя он мне всегда нравился такой, какой есть. У тебя найдется что-нибудь пожевать? Умираю от голода.
Моника открыла кухонный шкаф, поражающий своей пустотой.
– У меня есть немного кулинарного шоколада, если хочешь, – сказала она, отломив кусочек, положила его себе в рот и почувствовала, как эта сладость возвращает ей энергию.
Теперь, когда напряжение спало, она поняла, как голодна и измучена.
– Моника, перестань! – подал голос Райли. – Его есть нельзя. Он ядовитый.
– О чем ты говоришь, черт возьми?! – с набитым ртом спросила Моника.
– Кулинарный шоколад. Он ядовитый, пока его не приготовят.
– Райли, тебе об этом говорила мама, когда ты был маленький?
– Да! – ответил он, а Моника ждала, пока до него дойдет. – Она лгала мне, да? Чтобы я не таскал шоколад?
– Вот одна из тех вещей, которые мне так в тебе нравятся. Ты всегда полагаешь, что люди хорошие и говорят правду, потому что ты сам такой. Ты привык думать, что все будет хорошо, и поэтому так оно обычно и бывает. Кстати, мама говорила тебе, что, когда в фургоне с мороженым играет музыка, это означает, что мороженое закончилось?
– Да, действительно говорила, – ответил он. – Но знаешь, у меня есть и темные стороны. Все считают меня чертовски милым, но у меня не меньше плохих мыслей, чем у любого другого. Честно.
– О нет, Райли, нет! – Моника села рядом с ним на диван. – В тебе есть много такого, что мне нравится, – сказала она, протягивая ему несколько кусочков шоколада, – но я не люблю тебя.
Моника вспомнила слова Мэри о том, что она научилась быть для себя солнцем. Моника вспомнила разговор с Алисой в поезде. В одиночестве есть свои преимущества. Ей не нужен никто, вокруг кого надо бегать. Ребенок ей тоже не нужен. Ребенок не делает счастливой на всю жизнь. Она знала, что скажет ему.
– Я не могу поехать с тобой в путешествие, Райли. Прости. Мне надо быть здесь, с моими друзьями и кафе.
– Я типа ожидал, что ты это скажешь, – произнес Райли с расстроенным видом, что было совершенно на него не похоже, и положил шоколад на кофейный столик как ненужный утешительный приз. – Я понимаю, Моника. В любом случае поначалу я планировал ехать один. Со мной все будет в порядке. – (И она знала, что это так, с Райли всегда все будет в порядке.) – А если ты решишь, что совершила ужасную ошибку, то всегда сможешь приехать и разыскать меня в Перте.
– Пока ты не уехал, мы ведь можем остаться друзьями, да? – спросила она, думая, не совершает ли ужасную ошибку.
Ведь именно этого она давно хотела, а вот теперь просто отмахнулась от него.
– Конечно, – ответил он, вставая и идя к двери.
Она поцеловала его. Этот поцелуй говорил гораздо больше, чем просто «прощай». Он говорил: «Прости, и спасибо тебе, и я почти тебя люблю». Но не совсем.
А она не хотела жить «не совсем».
Райли ушел, унося с собой все ее мечты. Они двое стоят на мосту Вздохов в Венеции, плавают в уединенной бухточке на изумительном греческом острове, целуются в берлинском баре, слушая джаз-банд. Райли учит их детей серфингу. Моника привозит их в Фулхэм, чтобы показать кафе, где все это началось.
Моника уселась на диван, чувствуя ужасную усталость. Она взглянула на стоящую на каминной полке фотографию своей смеющейся мамы. Моника вспомнила, когда сделала этот снимок, – на семейном празднике в Корнуолле, за несколько недель до оглашения диагноза.
Я знаю, мне не нужен мужчина, мама. Я знаю, мне не стоит идти на компромисс. Я сама могу о себе позаботиться, конечно могу.
Но иногда так не хочется этого делать.
Хазард
Прошла неделя со времени неудачного свидания с Бланш и осознания по поводу Моники.
Хазард накинулся на работу, беря на себя все самые трудоемкие садовые дела и пытаясь таким образом отвлечься. Он перестал пользоваться кафе как офисом, и его удивило то, насколько ему стало не хватать этого, а также игр в нарды с Моникой.
Забавно было, что, потратив не одну неделю на сватовство Моники, Хазард теперь прочил ей в партнеры только себя самого.
Но он все испортил.
Его воспоминания о свадьбе были в лучшем случае отрывочными, но один эпизод с поразительной ясностью вновь и вновь прокручивался у него в голове: «Блин, Моника, не будь ты такой занудой. Ты мне не мать, не жена и даже не подружка, и на том спасибо. А не пошла бы ты…» Или что-то в том же духе.
На следующий день она обошлась с ним очень мило и потом была вполне дружелюбна. Похоже, она не держит на него зла, но теперь, когда она увидела его с такой стороны, ни за что не согласится с ним встречаться.
Так или иначе, она едет в путешествие с Райли. Добрый старый Райли, полная противоположность ему – надежный, честный, простой, добрый и щедрый.
Если Моника ему действительно дорога, Хазард должен порадоваться за них. Очевидно, из них двоих следует выбрать именно Райли. А вот Хазард не такой милый, и в этом состоит часть проблемы. Он ущербный и эгоистичный. И ему действительно очень нужна Моника.
Все в Райли раздражало Хазарда – начиная с дурацкого австралийского акцента и кончая его манерой свистеть во время работы. Выбрось это из головы, Хазард. Он ни в чем не виноват. Райли не сделал тебе ничего плохого.
– Ну и какое место вы с Моникой посетите первым? – спросил Хазард, подхватывая беззаботный свист Райли, хотя и понимал, что этот разговор будет для него неприятным.
– На самом деле, дружище, она все-таки не поедет со мной, – ответил Райли. – Она говорит, у нее здесь много дел, так что я поеду один, если только не уговорю Бретта составить мне компанию.
Хазард изо всех сил старался не смотреть на Райли, чтобы ничем не выдать, как много для него значит эта случайно оброненная фраза. Он понимал, что надо ответить Райли, чтобы не показаться безразличным, но в этом случае он выдал бы себя.
Неужели возможно, что Моника остается в Лондоне из-за него? Хазард сильно в этом сомневался, но, может быть, это знак? Это определенно шанс, который ему нельзя упустить. Пока он окончательно не свихнулся, ему надо по крайней мере поговорить с ней.
Выдергивая гигантский чертополох из заросшей клумбы, Хазард обдумывал свои слова.
Я знаю, я грубый, эгоистичный мужик с множеством проблем, и недавно я повел себя с тобой непростительно дурно, но мне кажется, ты замечательная, и нам будет очень хорошо вместе, если только ты дашь мне шанс.
Не слишком лестные слова о себе самом.
Моника, мне все в тебе нравится, начиная с силы воли, амбиций и принципов и кончая тем, как ты волнуешься за своих друзей и как строго блюдешь санитарные нормы для продуктов. Если ты дашь мне шанс, я сделаю все, чтобы стать достойным тебя.
Пожалуй, чересчур жалостливо.
Моника, все те вещи, о которых ты писала, – семья, дети и вся эта волшебная сказка, – ну, может быть, я тоже этого захочу.
Гм… Суть в том, что он по-прежнему пытается приложить к себе этот пунктик, но хочет быть честным. Он когда-нибудь станет достаточно взрослым и ответственным, чтобы быть отцом? Кроме того, он сомневался, что стоит упоминать о том, что она написала в тетради. Как выяснили они с Райли, Моника очень чувствительна к этой теме.
Может быть, ему просто явиться к ней домой и действовать по обстановке? В конце концов, терять ему нечего.
Хазард на автопилоте доехал до «Маминого маленького помощника». Ему надо было оставить там садовые инструменты, которыми они сегодня пользовались. Однако быстро уехать из садика не получилось, потому что его сразу окружили толпой его маленькие помощники.
– Эй, Фин, – обратился он к худенькому мальчугану, помогавшему ему убирать инструменты в сарай, – как у тебя дела с девчонками?
– У меня? Лучше всех! – ответил Фин, выпятив грудь колесом. – У меня ПЯТЬ подружек. Больше даже, чем у Лео. А у него есть «Плейстейшн-4».
– Ух ты! Какой у тебя секрет? Как ты даешь им знать, что они тебе нравятся?
– Это легко. Я дарю им мармеладку. А знаешь, что я делаю, если девочка мне очень-очень нравится?
– Что? – наклонившись к Фину, спросил Хазард.
Фин прошептал Хазарду в ухо, обдавая его теплым дыханием:
– Я дарю ей мармеладку в форме сердечка.
Алиса
– Я не думала, что вы будете здесь, Джулиан, поскольку Мэри не умерла и все такое, – сказала Алиса, дойдя до могилы Адмирала. – Привет, Кит! – Она наклонилась, чтобы потрепать собаку за уши.
У Кита был недовольный вид, как будто эта ласка унижала его достоинство.
– Как видите, моя дорогая Мэри не умерла пятнадцать лет назад, – отозвался Джулиан, словно это была для него новость, – но я по-прежнему сюда прихожу. Не для того, чтобы вспомнить о ней, а чтобы сохранить связь с прошлым, бо́льшая часть которого осталась позади. Вместо «Бейлиса» я принес вот это. – Он достал из сумки бутылку красного вина, несколько пластмассовых стаканчиков и штопор. – На самом деле мне никогда не нравился «Бейлис», и, оказалось, Мэри тоже его больше не пьет, так что и нам не обязательно.
Алиса, которая на протяжении последних нескольких месяцев выливала «Бейлис» в траву, испытала большое облегчение. Она уселась на мраморную плиту рядом с Джулианом и приняла из его рук стакан вина. Кладбище было усеяно пролесками, и с веток деревьев, как снег, опадал цвет. Весна, время для новых свершений. Алиса вынула Банти из коляски и посадила себе на колени. Банти потянулась за цветком, зажав его в пухлом кулачке.
– Алиса, дорогая, можно поделиться с тобой моей новой идеей? – спросил он, и она немного нервно кивнула, ведь никогда не знаешь, что придумает Джулиан. – Я размышлял о «Правдивой истории», о том, почему я начал ее и как одинок я был. И я знаю, вокруг так много людей, которые чувствуют то же самое, им не с кем поговорить и не с кем разделить свою трапезу. – (Алиса кивнула.) – Тогда я вспомнил, как Хазард рассказывал о своем пребывании в Таиланде и что, хотя он был сам по себе, там был общий стол и все каждый вечер ужинали вместе.
– Да, я это помню, – сказала Алиса. – Отличная идея. Только подумать обо всех людях, которых можно встретить, обо всех разговорах.
– Вот именно. Ну вот, я и подумал: почему бы нам раз в неделю не делать то же самое у Моники? Мы можем приглашать одиноких людей на обед за одним большим столом. Брать по десять фунтов с человека, а спиртное приносить с собой. И еще я подумал: можем попросить тех, кто в состоянии, платить по двадцать фунтов, а те, кто не в состоянии, пусть едят бесплатно. Что скажешь?
– Думаю, это замечательно! – Алиса захлопала в ладоши, Банти засмеялась и тоже захлопала в ладоши. – А что говорит Моника?
– Я еще ее не спрашивал, – ответил Джулиан. – Ты думаешь, она согласится?
– Уверена, что да! Как вы это назовете?
– Я подумал, может быть, «Ночной клуб Джулиана».
– Отлично. Смотрите, Райли пришел.
– Райли, мальчик мой, садись. – Джулиан протянул ему стакан вина. – Я хотел поговорить с тобой. Тридцать первого мая будет мой день рождения, как раз за несколько дней до твоего отъезда. Я хочу закатить вечеринку в честь твоего отъезда и отблагодарить всех вас за то, что терпели меня. Что скажешь?
– Это будет потрясно! – воскликнул Райли. – Вам исполнится восемьдесят. Ух ты!
– Но, Джулиан, – вмешалась Алиса, – вы говорили, что родились в тот день, когда мы объявили Германии войну, и я точно знаю, что это было в сентябре, а не в мае.
В свое время Алиса выиграла в школе награду по истории. Это было ее высочайшее – и единственное – академическое достижение.
Джулиан закашлялся с несколько смущенным видом:
– Ты знаешь историю, не так ли, дорогая моя? Да, я мог немного перепутать месяцы. И по сути дела, год. Мне исполнится не восемьдесят, а скорее восемьдесят пять. День после объявления войны был моим первым днем в начальной школе. Я ужасно злился, что никто не хотел слушать, как он прошел. Во всяком случае, – он быстро сменил тему, – я подумал, мы сможем устроить вечеринку в Кенсингтонских садах, между эстрадой для оркестра и Круглым прудом. Я всегда устраивал там вечеринки на свой день рождения. Соберем, бывало, все шезлонги поблизости и наполним большие ведерки «Пиммсом», лимонадом, фруктами и льдом. Потом кто-нибудь сыграет на инструменте, и мы останемся до темноты, пока нас не вышвырнет парковая полиция.
– Это кажется идеальным способом попрощаться с Лондоном, – сказал Райли. – Спасибо.
– Сделаю это с огромным удовольствием, – просиял Джулиан. – Попрошу Монику все организовать.
Джулиан
Джулиан не мог до конца поверить, что в его коттедже у камина сидит Мэри и пьет чай. Он сощурил глаза, чтобы картинка стала размытой, и ему представилось, что сейчас девяностые годы, еще до того, как все пошло кувырком. Правда, Кита все это не радовало: в его кресле сидела Мэри.
Мэри зашла, чтобы забрать некоторые из своих вещей. Она взяла совсем мало, сказав, что нехорошо слишком погружаться в прошлое. Для Джулиана это была новая точка зрения. Он собрался с духом для разговора – необходимого, как ему казалось. Если он не сделает это сейчас, она уйдет, и нужного момента может больше не представиться.
– Прости за все эти выдумки про смерть, Мэри, – сказал он, не зная, удачно ли выразился. – Я честно не считал, что вру. Я столько лет представлял, что ты умерла, что почти поверил в это.
– Я верю тебе, Джулиан. Но зачем? Зачем понадобилось меня убивать?
– Наверное, потому, что это было проще, чем примириться с правдой. Очевидно, я стал бы постоянно доставать тебя, пытаясь загладить свою вину. Но при этом мне пришлось бы признать свои ужасные промахи, рискуя, что меня снова отвергнут, поэтому я… не стал этого делать, – уставившись в чашку с чаем, объяснил он.
– Только из любопытства, – чуть улыбнувшись, сказала Мэри, – как я умерла?
– О-о, я годами забавлялся с разными вариантами. Одно время я считал, что тебя сбил четырнадцатый автобус по дороге домой с рынка на Норт-Энд-роуд. Мостовая рядом с нашими апартаментами была усыпана абрикосами и вишнями.
– Сколько драматизма! – заметила Мэри. – Хотя не очень справедливо в отношении водителя автобуса. Что еще?
– Необычайно редкая, но агрессивная форма рака. В последние месяцы я героически ухаживал за тобой, но ничто уже не могло тебя спасти.
– Гм… Это вряд ли. Из тебя получилась бы ужасная сиделка. Ты всегда не любил болезни и больных.
– Справедливо. На самом деле я горжусь своим последним вариантом. Ты случайно попала в перестрелку между враждующими бандами наркодельцов. Ты пыталась помочь молодому человеку, истекавшему на тротуаре кровью от ножевых ранений, но была убита за свою доброту.
– О-о, это мне нравится больше всего. Из меня получилась настоящая героиня. Только пусть я буду убита выстрелом в сердце. Не хочу медленного, мучительного конца. Кстати, Джулиан… – (Джулиану не нравилось, когда Мэри начинала фразу с «кстати». Слова, следующие дальше, никогда не бывали случайными.) – По пути сюда я натолкнулась на одну из твоих соседок. Кажется, ее зовут Патрисия. Она рассказала мне о безусловном праве на собственность, о том, что вас намерены продать с торгов.
Джулиан вздохнул. Он чувствовал себя как в прежние дни, когда Мэри ловила его на чем-то неблаговидном.
– О господи, они уже несколько месяцев изводят меня этим, Мэри. Но как я могу продать? Куда пойду? Что будет со всем этим?
Он указал широким жестом на все свое имущество, набитое в одну гостиную.
– Это всего лишь барахло, Джулиан. Ты увидишь, что без него почувствуешь себя свободным! Это будет новое начало, новая жизнь. Таким это было для меня, когда я все оставила позади.
Джулиан старался не рассердиться при мысли о том, что Мэри почувствовала себя свободной от него.
– Но здесь так много воспоминаний, Мэри. Здесь мои старые друзья. Здесь ты.
– Но меня здесь уже нет, Джулиан. Я в Льюисе. И я очень счастлива. Добро пожаловать в гости к нам, в любое время. Все эти вещи, все эти воспоминания, они только душат тебя, не дают вырваться из прошлого. У тебя появились новые друзья, и твой дом там, где они. Ты можешь купить новую квартиру и начать все заново. Только представь. – Мэри внимательно на него посмотрела.
Джулиан представил себя в квартире вроде той, в которой живет Хазард, и куда он на прошлой неделе ходил на чай. Все эти большие окна, чистые линии и чистые поверхности. Теплый пол. Вазоны с белыми орхидеями. Выключатели с диммерами. Мысль о том, чтобы жить в таком месте, озадачивала и в то же время приятно волновала. Хватит ли у него смелости расстаться со своим барахлом в возрасте семидесяти девяти лет? Или восьмидесяти четырех. Не важно.
– Во всяком случае, – продолжала Мэри, – продажа – это правильный шаг. Упорствовать нечестно по отношению к твоим соседям. Ты усложняешь жизнь многим людям. Не пора ли тебе подумать о других, Джулиан, и сделать доброе дело?
Джулиан понимал, что она права. Мэри всегда была права.
– Послушай, мне нужно повидать еще одного человека, поэтому я оставляю тебя, а ты подумай. Обещаешь, что сделаешь это? – Мэри наклонилась к нему, обняла и быстро чмокнула в щеку.
– Хорошо, Мэри, – ответил он, решив выполнить обещание.
Джулиан постучал в дверь дома № 4. Дверь распахнулась, и он увидел перед собой импозантную женщину с вопросительным недружелюбным выражением на лице.
Оба выжидали, когда заговорит другой. Джулиан заговорил первым. Он не выносил тягостные паузы.
– Миссис Арбакл, – начал он, – по-моему, вы хотели со мной поговорить.
– Ну да, – ответила она, – последние восемь месяцев. Зачем вы здесь сейчас?
Она нарочито растянула слово «сейчас».
– Я решил продавать, – сказал он.
Патрисия Арбакл разжала руки и испустила глубокий выдох, как сдувшаяся подушка безопасности.
– Ну и ну! – воскликнула она. – Входите, пожалуйста. Что заставило вас передумать?
– Что ж, очень важно поступать правильно, – Джулиан полагал, что повторение вслух его новой мантры поможет ему выполнить свое намерение, – а продажа – это правильный поступок. У всех прочих жильцов впереди много лет, и я не могу лишить вас сбережений на черный день. Простите, что так долго заставил вас ждать.
– Никогда не поздно, мистер Джессоп. Джулиан, – произнесла явно приободрившаяся Патрисия.
– Вы не первый человек, кто говорит мне это, – признался Джулиан.
Моника
Моника поместила постер Джулиана в витрине точно на том месте, где полгода назад повесила рекламу учителя рисования. Она аккуратно приклеила липкую ленту на старые отметины, которые не удалось полностью удалить.
ДОВОЛЬНО ОБЕДОВ В ОДИНОЧЕСТВЕ!Присоединяйтесь к общему столу в «Ночном клубе Джулиана» в кафе «У Моники» каждый четверг, в 7 часов вечера.
Бутылку приносите с собой.
10 фунтов с человека, 20 – если вы обеспеченны.
Если не можете себе это позволить, ужин бесплатный
Моника вспомнила, как Хазард стащил ее постер и сделал фотокопии. Надо будет в качестве наказания попросить его сделать копии с этого объявления и распространить их по Фулхэму. Она как раз переворачивала табличку на двери надписью «ЗАКРЫТО» наружу, когда пришел посетитель. Моника собиралась сказать женщине, что уже слишком поздно, но узнала Мэри.
– Привет, Моника, – поздоровалась Мэри. – Я только что была у Джулиана, вот и подумала, что зайду и отдам вам это. – Она достала из сумки тетрадь, оставленную в этом кафе полгода назад. – Я пыталась отдать ее Джулиану, но он сказал, что она лишь будет напоминать ему о том, каким он был неправдивым, и что тетрадь должна быть у вас.
– Спасибо, Мэри. – Моника взяла тетрадь. – Хотите чашечку чая? И пирога. Думаю, пирог не помешает.
Мэри села за стойку, пока Моника заваривала чай.
– Простите, что повергла вас всех в шок, неожиданно появившись здесь, – сказала Мэри. – Я думала, что незаметно подойду к Джулиану во время занятия и поговорю с ним. Я не ожидала, что попаду незваным гостем на поминальный вечер. И уж точно не в мою честь.
– Право, не извиняйтесь, пожалуйста! – Моника налила ей чай. – Откуда вам было знать? Я просто рада возможности познакомиться с вами.
– Я тоже. Я поняла, что «Правдивая история», по сути дела, оказала мне некоторую услугу. Видите ли, я ушла из этого дома безо всяких объяснений или прощаний, оставив здесь частичку себя. Вот и вся эта история. И знаете, при всех его недостатках Джулиан – необыкновенный человек. Увидев его снова, я смогла разобраться в некоторых вещах.
– Я рада, – сказала Моника.
– Между прочим, – я спрошу, если не возражаете, – выяснили вы отношения с тем мужчиной, который страстно в вас влюблен? – спросила Мэри.
– Райли? – переспросила Моника, подумав, что «страстно влюблен» – это уж чересчур. – Боюсь, что нет. В сущности, совсем наоборот.
– Нет-нет, не милый австралийский мальчик, а другой. Тот, который сидел вон там, – Мэри показала на угол, – как удрученный мистер Дарси, глядя на Райли, как будто он украл у него что-то очень дорогое.
– Хазард? – в изумлении спросила Моника.
– А-а, так это был Хазард, – откликнулась Мэри. – Тогда понятно. Я прочла в тетради его историю.
– Вы ошибаетесь насчет Хазарда, Мэри. Он не влюблен в меня. По сути дела, мы полные противоположности.
– Моника, я всю жизнь наблюдаю за людьми и хорошо в них разбираюсь. Мне понятно то, что я вижу. У него вид немного закомплексованного и ущербного человека, и я все знаю о таких людях.
– Даже если вы правы, Мэри, разве это не хороший повод держаться от него подальше?
– О-о, но вы, Моника, намного сильнее, чем была я. Вы никогда не позволили бы никому обращаться с вами так, как Джулиан обращался со мной. Но знаете, несмотря ни на что, я не жалею ни об одном дне, прожитом с этим человеком. Ни об одном. А теперь мне пора.
Мэри перегнулась через стойку и поцеловала Монику в обе щеки. Потом она ушла, оставив Монику в странно приподнятом настроении.
Хазард? Почему мысль о нем не заставляет ее презрительно фыркнуть? Это всего лишь тщеславие. Ей просто лестно думать, что Мэри считает ее женщиной, способной внушить страсть. Возьми себя в руки, Моника.
Она взяла со стойки тетрадь, завершившую полный цикл. Ей пришло в голову, что почти все прочли ее историю, но она не читала их, за исключением истории Джулиана. Это казалось несправедливым. Она налила себе еще чая и принялась за чтение.
Хазард
Хазард позвонил в дверь квартиры Моники. Было почти десять часов, позже, чем он собирался зайти, но он два раза менял решение – идти, не идти. Он по-прежнему не был уверен, что поступает правильно, но трусом он точно не был. В домофоне послышался тонкий голос:
– Кто там?
Слишком поздно отступать.
– Э-э, это Хазард, – сказал он, чувствуя себя современным Ромео, который пытается объявить Джульетте о своей любви.
Если бы только вместо переговорного устройства у нее был балкон.
– А-а, это ты. Господи, что тебе нужно?
Это был явно не Шекспир. И даже не радушный прием, на который он рассчитывал.
– Мне очень нужно с тобой поговорить, Моника. Можно мне подняться?
– Не понимаю зачем, но если тебе нужно.
Она нажала кнопку входной двери, и он толкнул дверь, а потом поднялся по лестнице к ней в квартиру.
У него осталось только смутное воспоминание о квартире Моники с той ночи, которую он провел здесь после скандальной свадьбы. Теперь он с ясной головой вникал во все детали. Все было так, как мог ожидать любой, знающий Монику. Аккуратно и чисто, в относительно традиционном стиле, со стенами светло-серого цвета, минималистской мебелью и полированными дубовыми полами. Было, однако, несколько предметов, выявлявших неожиданный вкус, свойственный Монике: лампа в форме фламинго, антикварный манекен, используемый как вешалка для пальто, потрясающая картина Дэвида Боуи, занимающая всю стену. Снизу, из кафе, просачивался слабый запах кофейных зерен.
Моника совсем не рада была видеть его. Время явно не подходило для важного заявления. Отказ от своих слов! Какую еще причину позднего появления он может назвать? Думай, Хазард!
В этом нет толку, он должен действовать.
– Ну и что? – спросила Моника.
– Э-э, Моника. Я хотел рассказать, как я к тебе отношусь, – сказал он, расхаживая взад-вперед по комнате, поскольку нервничал и не мог усидеть на месте, да к тому же его не пригласили сесть.
– Я в точности знаю, как ты ко мне относишься, Хазард, – ответила она.
– Знаешь? – смущенно спросил он.
Может быть, все будет проще, чем он думал.
– Угу.
Она такая напряженная, что это обескураживает до ужаса.
– Это наводит тебя на какие-то мысли?
Только тогда он заметил у нее в руках тетрадь. Она читает его историю.
– Или как насчет этого: «Она заставляет меня думать, что я делаю что-то не так. Она относится к тем людям, которые ставят все банки в кухонном шкафу наклейками наружу, а все книги на полках – в алфавитном порядке». А я-то удивлялась, почему ты на днях спросил меня о моих чертовых банках!
– Моника, перестань. Выслушай меня, – начал Хазард, видя, как его мечты разбиваются, словно в замедленной съемке автомобильной аварии.
– О-о, я не перестану, не прочитав самого лучшего куска! «В ней чувствуется безысходность, которую я могу преувеличивать в воображении, поскольку прочитал ее историю, но это вызывает у меня желание бежать без оглядки». – И она швырнула в него тетрадь.
– Ты уже во второй раз швыряешь мне предметы в голову. В прошлый раз это был фиговый пудинг, – уклонившись, сказал он.
Все пошло не так, но, боже, как она великолепна в гневе, сгусток энергии и праведного негодования. Ему надо заставить ее слушать.
– Давай, Хазард. Беги без оглядки, блин! Я тебя не держу!
– Когда я это писал, я тебя не знал.
– Конечно ты меня не знал. Так почему ты возомнил, что можешь судить о моих кухонных шкафах, твою мать!
– Я был не прав. Полностью, совершенно не прав. Как оказалось, не в отношении шкафов, а всего остального. – (Она сердито взглянула на него, – очевидно, юмор не срабатывал.) – Ты одна из самых невероятных женщин, каких мне довелось встретить. Послушай, вот что я должен был написать… – Он сделал глубокий вдох и продолжил: – Я пошел в кафе «У Моники», чтобы вернуть тетрадь Джулиана. У меня не было намерения играть в эту глупую игру. Но, когда я понял, кто она была – женщина, с которой я столкнулся несколько дней назад, – то психанул. Я вцепился в тетрадь и взял ее с собой в Таиланд. Я не мог позабыть ее историю, вот и решил найти ей подходящего мужчину и отправить его к ней. Но со временем я осознал, что подходящий мужчина – это на самом деле я сам. Не потому, что я идеален. Я очень далек от этого. – Он рассмеялся, но смех прозвучал неискренне; Моника не поддержала. – Я целиком понимаю, что не стою ее, но я люблю ее. Люблю все в ней.
– Я доверяла тебе, Хазард! Я рассказывала тебе о том в моей жизни, о чем не рассказывала никому, даже Райли. Я думала, что ты единственный из всех людей поймешь, а не станешь насмехаться, – заявила Моника, словно не услышав ни слова из сказанного им.
– Моника, я все понимаю. Более того, я люблю тебя еще больше из-за того, что тебе пришлось вынести. В конце концов, «сквозь трещинку проникнет свет».
– Не надо перевирать цитаты из чертова Леонарда Коэна, Хазард! Просто убирайся! И не возвращайся больше.
Хазард понял, что сегодня не достучится до Моники, если вообще когда-нибудь достучится.
– Ладно, я уйду, – он попятился к двери, – но в четверг в семь вечера я буду у Адмирала. Прошу тебя, подумай о моих словах, и, если передумаешь, встретимся там.
Хазард шел домой кружным путем, через парк Ил-Брук-Коммон. Ему пока не хотелось возвращаться в пустую квартиру. На скамье впереди сидел мужчина, освещенный уличным фонарем. Вид у него был несчастный, под стать настроению Хазарда. Лицо мужчины показалось Хазарду знакомым. Возможно, по Сити. На нем были сшитый на заказ костюм, ботинки «Черчис» и тяжелые часы «Ролекс».
– Привет, – сам не зная зачем, произнес Хазард.
Видимо, этот парень ему совсем незнаком.
– Привет, – откликнулся мужчина, пододвигаясь, чтобы Хазард мог сесть. – Ты в порядке?
– Не совсем, – вздохнул Хазард. – Проблемы с девушкой. Ну, ты знаешь.
Что он делает? Все эти откровения… Сначала с Фином, а теперь с каким-то случайным мужиком на скамейке.
– Расскажи об этом, – сказал парень. – Не хочу идти домой. Ты женат?
– Нет, – ответил Хазард. – Пока холостой.
– Ну так прислушайся к моему совету, приятель, и оставайся холостым. Как только женишься, она поменяет все правила. Поначалу так: секс по щелчку, потрясающая жена, которая поддерживает дом в идеальном порядке и развлекает твоих друзей, потом все меняется. Не успеешь оглянуться, как у нее появляются на животе растяжки, из сисек течет молоко, дом заполняется пластмассовыми игрушками кричащих цветов, а все ее внимание переходит на ребенка. А ты всего лишь простофиля, от которого только и ждут, чтобы он платил по счету.
– Я тебя услышал, – сказал Хазард, решивший, что ему не особо нравится его новый друг, – и я уверен, что брак – вещь непростая, но у меня проблема в том, что, когда человек мне что-то советует, я привык делать прямо противоположное.
Хазард неловко попрощался. Он почувствовал жалость к жене этого парня. Неужели он сам такой уж идеальный? А как же: «на радость и горе, в здоровье и немощи»? Честно говоря, полная задница!
Потом он вспомнил, откуда знает парня. Хазард видел его не так давно, в том ужасном ресторане, куда он ходил с Бланш. Парень тогда обедал с Алисой.
Райли
Райли предполагал, что его жизнь вернется в привычное русло – простая, ничем не осложненная и беззаботная. Но так не получалось. Он был не в силах забыть Монику. Ему казалось, на несколько месяцев торнадо забросил его в какую-то живописную страну, где все было немного странным и волнующим, где он не представлял, что будет за следующим поворотом дороги из желтого кирпича, и вот он вернулся в Канзас, чувствуя себя каким-то… разочарованным.
Почему он так легко сдался? Почему не попытался более настойчиво уговорить Монику поехать с ним? Почему не предложил самому остаться здесь? Он мог бы поездить по Европе, как и планировал, а потом вернуться в Лондон и попытаться снова. Неожиданно все это показалось ему таким очевидным.
Райли сбросил с себя оцепенение, владевшее им последние несколько дней, и в порыве энергии и страсти вышел из квартиры, направившись в сторону Фулхэм-роуд. Было поздно, поэтому ворота кладбища были заперты, но он едва ли заметил лишнее расстояние, которое ему пришлось пройти, – так он горел решимостью. Райли чувствовал себя примкнувшим к рядам романтических героев, которые сделали бы что угодно для завоевания своей принцессы. Он был мистером Дарси, он был Реттом Батлером, он был Шреком. Нет, пожалуй, не Шреком.
Подойдя к квартире Моники, Райли понял, что она еще не спит. Шторы на окнах были раздвинуты, и свет из гостиной сиял, как самонаводящийся маяк. Райли перешел дорогу и запрокинул голову, чтобы попытаться увидеть Монику.
Ее он не увидел. Но увидел Хазарда. Что Хазард делает дома у Моники так поздно вечером?
Вдруг Райли почувствовал себя дураком. Все эти отговорки о чувстве долга и бизнесе, в то время как правда заключается в том, что она встречается с кем-то другим. Все те случаи, когда он с Хазардом, своим другом, работал в саду, и Хазард всегда переводил разговор на Монику. Теперь это стало понятным.
Наверное, поэтому Хазард пригласил Монику на свадьбу? Райли тогда показалось это немного странным, но он доверял Хазарду. Доверял им обоим. Удивляться тут нечему. Хазард с его мужской привлекательностью, смекалкой и превосходной деловой хваткой – это очевидный выбор.
Как он мог быть таким наивным? Неудивительно, что Моника не может его любить.
Райли почувствовал, как его затопляет волна усталости. Впервые попав сюда, в это кафе, он нашел для себя идеальное пространство в этом замечательном городе, среди этих необыкновенных людей. Но теперь это пространство замкнулось, и его отторгли. Незваный гость, чужеродное тело. Пора уезжать.
Райли повернул к Эрлс-Корту, ощущая себя совершенно другим человеком в сравнении с тем, который пришел сюда полчаса назад. Люди думают, раз Райли такой жизнерадостный и улыбчивый, он ничего не чувствует. Но они ошибаются. Они сильно ошибаются.
Моника
У кафе Моники выстроилась длинная очередь. Лиззи проделала отличную работу и нашла многих из сегодняшних гостей. Она сказала Монике, что знает занятия всех своих соседей, знает, кто живет один и не принимает гостей, поэтому обошла их и пригласила на обед. Потом Лиззи отправилась к своему терапевту и оставила ей несколько флаеров для раздачи, а затем у библиотекарши из Фулхэмской библиотеки, у своей подруги Сью, а также у местных социальных работников.
Моника открыла дверь и пригласила всех войти. Столы в кафе были составлены в один большой прямоугольник со стульями примерно для сорока человек. Готовкой еды занимались миссис Ву и Бенджи. Моника и Лиззи подавали тарелки, а Джулиан с Китом исполняли обязанности хозяев. Кит, единственная собака, официально допущенная в кафе, сидел у ног Джулиана под столом, с треском выпуская газы. А может быть, это был Джулиан.
Вскоре в кафе поднялся гул разговоров и смеха. Средний возраст гостей был около шестидесяти, и, ободряемый Джулианом, каждый делился своими рассказами о многолетней истории округи.
– Кто помнит Фулхэмские общественные бани и прачечную? – спросил Джулиан.
– О-о, я помню, как будто это было вчера! – сказала миссис Брукс, вероятно более пожилая, чем Джулиан.
Лиззи по ходу дела разъясняла Монике, кто есть кто. Миссис Брукс жила на той же улице, что и Лиззи, в доме № 67. Ее муж умер после того несчастного случая с газовщиком, и с тех пор она живет одна.
– Мы, бывало, складывали в детские коляски простыни, полотенца и покрывала и катили их к Норт-Энд-роуд, – продолжила миссис Брукс. – День стирки был хорошим поводом для сплетен. Мы часами судачили обо всем, оттирая белье покрасневшими руками. Когда у нас появилась стиральная машина, мне этого немного не хватало. Знаете, теперь там танцевальная студия. Я хожу туда каждую неделю попрактиковаться в плие.
– Правда? – спросила Моника.
– Нет, конечно нет! – со смешком возразила миссис Брукс. – Я с трудом хожу. Если я сделаю плие, то уже не поднимусь!
– Кто видел, как Джонни Хейнс играл на стадионе «Крейвен Коттедж»? – задал свой предсказуемый вопрос Берт из дома № 43, постоянный посетитель кафе, и все разговоры, которые он много лет заводил с Моникой, сводились к Футбольному клубу Фулхэма. – Вы знаете, что Пеле назвал его лучшим нападающим из известных ему? Наш Джонни Хейнс.
Берт едва не прослезился, но, от души глотнув темного пива, овладел собой.
– Знаешь, я, бывало, пил с Джорджем Бестом, – сказал Джулиан.
– В этом нет ничего особенного. Джордж пил со всеми! – отрезал Берт.
Миссис Ву, сияя от восторженных отзывов по поводу ее еды, как благосклонный тиран, раздавала Бенджи свои указания. Интересно, думала Моника, сожалеет ли он о том дне, когда семья Ву взяла его под свое крыло.
В одном из мужчин, жадно поедающем курицу в кисло-сладком соусе, Моника узнала местного бездомного. Когда в кафе оставалась еда, она относила ее к мосту Патни, где обычно видела этого человека. В последнюю порцию еды она засунула рекламную листовку Джулиана.
– Никогда не ел такой вкуснотищи, – сказал он Джулиану.
– Я тоже, – откликнулся Джулиан. – Как тебя зовут?
– Джим, – ответил тот. – Приятно познакомиться. И спасибо за ужин. Жаль, заплатить не могу.
– Не нужно, дружище. – Джулиан махнул рукой. – Однажды, когда разбогатеешь, сможешь заплатить за свой обед и чей-то еще. Слушай, ты похож на человека, понимающего толк в хорошей одежде. Обычно я никого не подпускаю к моей коллекции, но если ты заглянешь ко мне завтра, сможешь выбрать себе новый прикид. Только если это не «Вествуд». Моя щедрость так далеко не распространяется.
Моника села рядом с Джулианом и хлопнула в ладоши, чтобы заставить всех замолчать. Никто не обратил на нее ни малейшего внимания.
– Замолчите все! – рявкнула миссис Ву, и моментально настала полная тишина.
– Спасибо всем, что пришли, – сказала Моника. – И ваша огромная благодарность Бетти и Бенджи за эту превосходную еду и, разумеется, нашему замечательному хозяину, организатору этого обеденного клуба Джулиану.
Моника взглянула на Джулиана, который откинулся в кресле и широко улыбался, наслаждаясь аплодисментами, приветственными возгласами и свистом. Когда гости возобновили свои разговоры, он повернулся к Монике:
– Где Хазард?
– Понятия не имею, – ответила она, хотя и знала, где он.
Помимо своей воли, она взглянула на часы: без четверти восемь. Может быть, он все еще ждет на кладбище.
– Моника, Мэри поведала мне свою теорию. Я такой глупец, что не понял ее. Я всегда был слишком погружен в себя. Райли – очаровательный мальчик, но это, пожалуй, и все – просто мальчик, для которого жизнь легка. Ему не приходилось сталкиваться с несчастьем. Хазард более сложный. Он стоял на краю пропасти и всматривался в бездну. Я знаю, потому что сам был там. Но он выжил и вернулся возмужавшим. Он подходит тебе. Вам будет хорошо вместе.
Джулиан взял ее за руку. Она смотрела на его кожу, изборожденную морщинами.
– Но мы с Хазардом такие разные, – сказала Моника.
– И это хорошо. Вы будете учиться друг у друга. Ты же не захочешь провести остаток жизни, глядя в зеркало. Поверь мне, я пытался! – сказал Джулиан.
Моника рассеянно раскрошила лежащее перед ней печенье на мелкие крошки, потом, заметив, что наделала, аккуратно смела крошки на тарелку.
– Джулиан, вы не возражаете, если я на время вас покину? Мне надо кое-что сделать.
– Конечно. Мы справимся. Правда, миссис Ву?
– Да! Иди! – сказала миссис Ву, размахивая перед собой руками, словно выгоняла курицу из курятника.
Моника выбежала на улицу, как раз когда автобус № 14 отъезжал от остановки. Она помчалась вслед за ним, колотя в дверь и крича «пожалуйста» водителю, хотя знала, что это не поможет.
На этот раз помогло. Водитель остановил автобус и открыл ей двери.
– Спасибо! – опустившись на ближайшее сиденье, сказала она.
Она взглянула на часы. Ровно восемь. Наверняка Хазард не стал бы ждать целый час. И к тому же кладбище, видимо, закрывается в восемь? Напрасно она поехала.
Почему Хазард просто не дал ей номер своего сотового и не попросил позвонить? Несложно было бы найти его номер или адрес, но теперь, похоже, в игру вступила судьба. Если она пропустит эту встречу, значит ее и не должно быть. Моника понимала, что это совершенно нелогично и совершенно на нее не похоже, но за последние несколько месяцев она как будто сильно изменилась. Для начала, прежняя Моника даже и в мыслях не допустила бы, что у нее могут быть романтические отношения с наркоманом. Как это могло вписаться в ее шкалу критериев?
Едва выскочив из автобуса у кладбища, Моника увидела, что кованые ворота заперты на огромную цепь с навесным замком. Опоздав, она должна была испытать хотя бы небольшое облегчение. Но облегчения не было.
По улицам после недавнего матча слонялись толпы футбольных болельщиков «Челси», поедая бургеры, которые продавались из фургонов, стоящих на боковых улицах. Один крупный, сильно подвыпивший мужчина, с головы до ног увешанный реликвиями «Челси», остановился и уставился на Монику. Этого ей только не хватало.
– Улыбнись, любовь моя! – сказал он. – Знаешь, этого может никогда не произойти!
– Этого никогда не произойдет, если я не попаду на кладбище! – выпалила Моника.
– Что там такое? Помимо очевидных вещей! Готов поспорить, любовь. Это любовь, любовь моя? – спросил он, гогоча над своей шуткой и хлопнув по спине приятеля, который от неожиданности выплюнул на тротуар полный рот пива.
– Знаешь, это возможно, – ответила Моника, удивляясь, какого черта она говорит такое незнакомцам, хотя не признается в этом себе.
– Мы поможем тебе перелезть через эту стену. Да, Кевин? – сказал ее новый друг. – Держи. – Он передал ей наполовину съеденный бургер, густо намазанный кетчупом и горчицей. Она старалась не думать о своих испачканных жиром пальцах. Поспешно уйдя из кафе, она не взяла с собой антибактериальный гель. Мужчина, как пушинку, поднял Монику на плечи. – Можешь отсюда достать до верха стены? – спросил он.
– Да, – ответила она, забираясь на стену и садясь на нее верхом.
– Сможешь спуститься вниз?
Моника посмотрела вниз. Со стороны кладбища высота стены была меньше, и груда листьев должна была смягчить удар.
– Да, смогу. Спасибо! Вот, возьми.
И она вернула мужчине бургер.
– Если все получится, можешь назвать первого ребенка в честь меня, – сказал футбольный фанат.
– А как тебя зовут? – спросила Моника чисто из любопытства.
– Алан! – ответил он.
Моника задумалась: а как отнесется Хазард к сыну или дочери по имени Алан?
Она собралась с духом и прыгнула.
Хазард и Моника
Хазард посмотрел на часы. Уже восемь, и смеркается. Он услышал тихое гудение двигателя машины, медленно едущей по центральной аллее. На кладбище допускались только автомобили парковой полиции. Кладбище закрывалось, и они проверяли, не остался ли кто. Его время истекло.
Он знал, что должен уйти. Надо признать, что Моника не придет. Она и не собиралась приходить. Все это было нелепой фантазией. Почему он решил, что это хорошая идея? Он мог бы просто оставить ей свой номер сотового и сказать: «Позвони мне, если передумаешь». Зачем он придумал эту глупость про свидание не где-нибудь, а на кладбище? Явно насмотрелся голливудских фильмов.
И вот теперь он прячется от полиции за могильной плитой, что было чертовски глупо с его стороны, потому что сейчас они запрут ворота. Моника не сможет сюда попасть, даже если бы захотела, а он застрянет здесь на ночь, коченея среди призраков.
Хазард завернулся в пальто и уселся на холодную землю, прислонившись к памятнику Адмирала, так, чтобы его не заметили. И все же он понятия не имел, что делать дальше. Потом вдруг услышал:
– О-о, какого хрена! Конечно, его здесь нет, блин. Тупая женщина!
Он выглянул из-за плиты, и вот она стоит перед ним, рассерженная и прекрасная – вне всякого сомнения, – Моника собственной персоной.
– Моника? – спросил он.
– А-а, ты все еще здесь, – отозвалась она.
– Ага. Я надеялся, ты придешь. – О господи, Хазард, известный покоритель женских сердец, безудержный волокита, не знал даже, что сказать. – Ты любишь мармеладки «Харибо»?
Возможно, это был важнейший момент его жизни, а он решил воспользоваться советом восьмилетнего мальчугана. Полный идиот!
– Хазард, ты совсем тупой? Думаешь, я вломилась на закрытое кладбище, впервые в жизни нарушив закон, чтобы попробовать чертовы «Харибо»?!
Потом она подошла к нему и поцеловала. Крепко. Как будто у нее серьезные намерения.
Они целовались до полной темноты, пока у них не распухли губы, не понимая, почему никогда не делали этого раньше, не понимая, когда останавливался один и начинал другой. Хазард почти два десятилетия потратил на поиски наивысшего кайфа как самого эффективного способа заставить мозг кипеть и сердце биться сильнее. И вот он, этот кайф. Моника.
– Хазард… – окликнула его Моника.
– Моника… – с восторгом произнес он ее имя.
– Как мы отсюда выберемся?
– Полагаю, придется вызвать парковую полицию и сочинить какую-то причину, почему мы застряли на кладбище.
– Хазард, прошел всего час, а ты уже заставляешь меня врать полиции. Куда это нас заведет?
– Не знаю, – ответил Хазард, – но я не могу ждать, чтобы выяснить.
Он стал снова ее целовать, и, пока не остановился, ей было наплевать, кому придется врать.
Моника понимала, что она не дома. Даже сквозь опущенные веки она чувствовала, что эта комната светлее, чем ее, что она купается в солнечном свете. Здесь было также и тише – никакого шума от транспорта на Фулхэм-роуд или от ее древней системы центрального отопления. И пахло здесь по-другому – сандаловым деревом, перечной мятой и мускусом. И сексом.
И тогда она мысленно стала припоминать эпизоды прошлого вечера. Они сидят на заднем сиденье полицейской машины, рука Хазарда у нее на бедре. Хазард шарит на полу в поисках ключей, которые уронил, торопясь отпереть дверь. Их одежда, разбросанная на полу спальни. Она не забыла сложить одежду, перед тем как лечь в постель? Она вспомнила, как они поначалу, задыхаясь, безумно предавались сексу, а потом все замедлилось и не останавливалось до восхода солнца.
Хазард. Она пошарила ногой по широкой кровати Хазарда. Его не было. Ушел? Сбежал, не оставив даже записки? Конечно же, она ведь не могла все так неправильно понять?
Моника открыла глаза. И вот он сидит рядом с ней в семейных трусах, вынимая белье из выдвижного ящика и складывая его на полу рядом с собой.
– Хазард! – позвала она. – Что ты делаешь?
– О-о, с добрым утром, соня, – откликнулся он. – Просто освобождаю место. Для тебя. Знаешь, на тот случай, если ты захочешь что-то держать здесь. В собственном ящике.
– Ах вот как! – засмеялась она. – А ты уверен, что готов к подобным обязательствам?
– Можешь смеяться, – сказал Хазард, заползая обратно в постель и нежно целуя ее в губы, – но я никому прежде не выделял ящик. Пожалуй, я наконец готов взять это препятствие.
Он обхватил ее рукой, и она положила голову ему на плечо, вдыхая его запах.
– Что ж, я очень польщена, – произнесла она, и это было правдой. – Думаю, я готова просто плыть по течению. Нужно принимать жизнь такой, какая она есть.
– Неужели? – скептически изогнув бровь, спросил Хазард.
– Ну, я готова попробовать, – ответила Моника, улыбаясь ему в ответ.
И впервые в жизни она действительно не беспокоилась о том, что произойдет дальше, потому что понимала, чувствовала всеми фибрами души, что ее место здесь.
– Ладно, пусть будет по одному ящику зараз, – сказал Хазард.
Алиса
Алиса дожидалась подходящего момента для спокойного и разумного разговора с Максом о состоянии их брака. Потом, разумеется, она выбрала наихудший.
Макс, как обычно, поздно вернулся из офиса. В кои-то веки Алиса сумела с нуля приготовить ужин, но передержала его на огне. У Банти резались зубы, ее пришлось долго укладывать, и Алиса измучилась.
Они сидели за кухонным столом, как незнакомцы, обмениваясь новостями прошедшего дня. Макс взял свою тарелку с недоеденной едой, отнес к посудомоечной машине и поставил на столешницу.
– МАКС! – завопила Алиса. – В посудомойке полно места. Почему ты НИКОГДА ничего не ставишь в посудомойку?
– Алиса, нет нужды кричать на меня, как базарная баба. Опять напилась, что ли?
– Нет, я не напилась, черт возьми! – возразила Алиса, которая, вероятно, все-таки напилась. – Но я сыта ТОБОЙ по горло! Мне надоело всегда загружать чертову посудомойку, всегда подбирать с пола твои мокрые полотенца, вставать ночью, когда Банти просыпается, заниматься уборкой, чисткой…
Список был таким длинным, что Алиса замахала руками и завыла.
– Ты хотя бы знаешь, как пользоваться посудомоечной машиной? – сердито глядя на мужа, спросила Алиса.
– Ну нет, но вряд ли это так уж сложно.
– Это не СЛОЖНО, Макс! – повысила голос Алиса. – Это просто дико СКУЧНО. И я делаю это дважды КАЖДЫЙ ДЕНЬ.
– Но, Алиса, у меня есть работа. – Макс посмотрел на нее как на совершенно незнакомого человека.
– А ЧТО, ПО-ТВОЕМУ, ВСЕ ЭТО, МАКС?! – опять завопила Алиса. – Я НЕ СИЖУ ТУТ ЦЕЛЫМИ ДНЯМИ И НЕ КРАШУ НОГТИ!
Сказав это, она вспомнила, что на днях сделала маникюр, пока Лиззи сидела с Банти. Но это было впервые за несколько месяцев. Чтобы спрятать ногти, она сжала руки в кулаки. Потом вдруг оказалось, что она плачет. Она села за стол и обхватила голову руками, забыв про ногти.
– Прости, Макс, – между рыданиями произнесла она. – Просто я не знаю, смогу ли это выдержать.
– Что выдержать, Алиса? – садясь напротив, спросил он. – Быть матерью?
– Нет, – ответила она. – Нас. Я не знаю, смогу ли выдержать наши отношения.
– Почему? Потому что я не поставил тарелку в посудомойку?
– Нет, это не имеет никакого отношения к долбаной посудомойке, просто я чувствую себя такой одинокой. Мы оба родители для Банти и живем в одном доме, но иногда мне кажется, мы чужие. Я одинока, Макс.
– О-о, Алиса, – вздохнул Макс. – Мне жаль. Но знаешь, не только ты находишь все это трудным. Честно говоря, я не так представлял себе свою жизнь. Конечно, я люблю Банти, но мне не хватает нашего идеального мира. Уик-энды в дорогих отелях, чистый дом и моя великолепная, счастливая жена.
– Но я же здесь, Макс, – сказала Алиса.
– Да, но ты все время злая и усталая. И, по правде говоря… – он на время замолчал, словно раздумывая, продолжать или нет, а потом выбрал неправильное решение, – ты здорово запустила себя.
– ЗАПУСТИЛА СЕБЯ?! – прокричала Алиса, которой показалось, что ее ударили. – Сейчас не чертовы пятидесятые, Макс! Нельзя ожидать, что я вернусь в форму через несколько месяцев после рождения ребенка. В реальной жизни так не бывает.
– И я чувствую себя ненужным. – Очевидно, Макс прибег к единственно возможной тактике – сменить тему. – Ты точно знаешь, что и когда делать и как делать. Я чувствую свою бесполезность. Несоответствие требованиям. И я каждый день задерживаюсь в офисе, поскольку точно знаю, чего от меня ждут, и люди делают то, что я им говорю. Они уважают меня. Там все идет по расписанию. У меня все под контролем.
– Я делаю все, что могу, Макс, но меня не покидает чувство, что я не оправдала ожиданий. Ни твоих, ни твоей матери, ни ожиданий Банти, ни даже моих собственных. Брак и семья основаны на компромиссе, верно? Приходится над этим трудиться. Во всем этом мало идеального, легкого и красивого. Чаще всего это грязь, усталость и сплошные проблемы. – Алиса замолчала, ожидая, что Макс скажет, что любит ее, что будет больше ей помогать, что у них все получится.
– Может, нам нанять няню, Алиса? На несколько дней каждую неделю. Что скажешь? – спросил Макс.
– Мы не можем себе этого позволить, Макс, но даже если бы могли, я не хочу платить кому-то, чтобы заботился о моем ребенке, а я могла тратить больше времени, притворяясь твоей идеальной женой в идеальной жизни, – стараясь не расплакаться, сказала Алиса.
– Ну, я не знаю, что нам делать, Алиса. Просто я знаю, что ты несчастна и я тоже.
И он поднялся по лестнице в свой кабинет, как делал всегда.
Алисе стало нестерпимо грустно. Она взяла телефон и стала листать свою страничку в Instagram, рассматривая все фотографии своего безупречного мира с потрясающим мужем и красивым ребенком. Может ли она отказаться от этого миража? Смогут ли они с Банти справиться самостоятельно?
Она подумала о Мэри, которая ушла от Джулиана после сорока лет брака, а теперь светится от счастья. Она подумала о Монике, которая, как узнала Алиса вчера, бросила Райли, несмотря на то что ей почти сорок. Она подумала обо всех своих новых друзьях, жизнь которых не выглядела красивой в Instagram, но тем не менее они все такие глубокие, сильные и интересные.
Она тоже может быть такой. Разве нет?
Наверняка лучше жить настоящей и честной жизнью, пусть иногда не очень красивой, по временам тяжелой и неприятной, чем постоянно пытаться изображать идеальную жизнь, полную притворства?
Алиса снова заглянула на свою страничку @алисавстранечудес. Реальная мода для реальных мам и их детей. Смайлик. Может, она сумеет показать, как выглядят мамы в реальной жизни. Она напишет о беспорядке, усталости, отметинах от растяжек, о выпирающем животе и разрушающемся браке. Она могла бы выбросить этого улыбающегося эмоджи. О чем она только думала? Наверняка она не единственная мать на свете, очень уставшая от постоянных попыток быть идеальной.
Мысль о том, чтобы покончить с притворством, была сродни облегчению, которое испытываешь, снимая вечером моделирующее белье.
«Я делаю большое дело. Или, по крайней мере, это лучшее, на что я способна, – сказала она себе, поскольку никто другой ничего не говорил. – А если это не устраивает Макса или моих подписчиков из Instagram, пусть найдут кого-то другого для дурацкого пьедестала, потому что я не могу больше на нем оставаться».
Посадив Банти себе на бедро, Алиса позвонила в дверь. Лиззи открыла, и взору Алисы предстал теплый, уютный дом, в котором царила счастливая суматоха, совсем как в доме, где выросла Алиса. Макс стал бы насмехаться, подумала Алиса, вспомнив, зачем она здесь.
– Лиззи, извини, что так поздно тебя беспокою, – сказала она, – но нельзя ли нам с Банти остаться у тебя на несколько дней? Пока я не придумаю, что делать?
Алиса очень надеялась, что Лиззи не станет задавать вопросов, поскольку пока у нее не было ответов. Она знала только, что ей нужно место для раздумий вдали от Макса. Вдали от всех ожиданий и взаимных обвинений. Лиззи, должно быть, поняла это и в виде исключения сдержала свое любопытство. Но это, как считала Алиса, ненадолго.
– Конечно можно, голубушка, – ответила Лиззи, проводив Алису в дом и плотно закрывая за ней дверь.
Моника
Моника сидела со стаканом «Пиммса» в руке, прислонившись спиной к дереву в Кенсингтонских садах. Она увидела пару, стоявшую с края их группы. Они держались за руки и, казалось, были поглощены друг другом.
– Джулиан, я так рада, что вы пригласили Мэри! – сказала она.
– Да. И ее бойфренда. Можно ли называть бойфрендом мужчину почти восьмидесяти лет? Здесь какое-то противоречие в терминах.
– Он определенно тот мужчина, каких называют седовласым красавцем, верно? Как и вы, разумеется, – поспешно добавила Моника, чтобы не задеть самолюбие Джулиана.
– Он кажется довольно приятным парнем, если вам нравится такой тип, – отозвался Джулиан. – Правда, немного безликий. Пойду познакомлю его с народом.
Джулиан направился к Мэри и Энтони, а за ним потрусил Кит. У того и другого худые конечности разгибались с трудом.
– Кит не собака, – услышала Моника его слова, обращенные к Энтони. – Он мой персональный тренер.
Подошел Бенджи и уселся рядом с Моникой.
– Моника, я хотел кое-что сказать тебе, – начал он. – Я не собираюсь красть лавры Джулиана и Райли, но не могу больше скрывать это от тебя.
Она догадывалась, о чем он собирается ей сказать.
– Мы с Базом скоро поженимся. – (Да, как она и надеялась, но следующая фраза, однако, явилась сюрпризом.) – И мы бы очень хотели, чтобы ты была на свадьбе подружкой жениха или невесты. Не важно. Ты согласна? Пожалуйста, скажи да!
– О Бенджи, я так рада за тебя! – Она обняла его. – Почту за честь выполнить твою просьбу.
– Ура! Не могу дождаться, чтобы сообщить Базу! Очевидно, свадьбой займется Бетти. Она уже планирует меню для приема. Мы поженимся в ратуше Челси, как Джулиан с Мэри, но, надеюсь, с более счастливым концом. Потом будет прием в ресторане Бетти.
– Значит, Бетти вполне смирилась с ситуацией? – спросила Моника.
– Похоже, что да, – ответил Бенджи. – Хотя она здорово накрутила себя в отношении прав геев в Китае. Ты знала, что гомосексуализм был легализован там только в тысяча девятьсот девяносто седьмом? Но больше всего ее расстраивает то, что Китай не разрешает гомосексуальным парам, здесь или за границей, усыновлять китайских детей.
– Что ж, если кто-то и способен убедить Китайскую Народную Республику в изменении политики, так это миссис Ву. О-о, все это замечательно! – воскликнула Моника, поняв, что, вероятно, впервые она искренне рада новостям о свадьбе других людей.
Она ожидала знакомого приступа зависти, но ничего подобного не произошло. Подошел Хазард и сел рядом с ней.
– У тебя счастливый вид, – заметил он.
– А я счастлива, – ответила она, жалея, что не может поделиться новостью, не желая разглашать чужие секреты. – Такое чувство, что все сходится.
– Знаешь, это первая вечеринка за всю мою жизнь, начиная с детства, когда я не испытывал потребности поймать кайф. Даже тогда я объедался драже «Смартиз» и пил слишком много кока-колы. Разве это не удивительно?
– Да, Хазард. Ты сам удивительный. О-о, мне надо кое-что передать Райли. Сейчас вернусь.
Она подошла к Райли, вокруг которого собралась группа его австралийских друзей, включая Бретта, собиравшегося вместе с ним через несколько дней поехать в Амстердам.
– Райли, можно тебя на минутку? – спросила она.
Райли немедленно оторвался от толпы и отошел вместе с ней в сторону, в тихое место.
– Я ждала случая поблагодарить тебя. За то, что ты написал в той тетради про меня. О том, что я буду отличной матерью. Не могу выразить, как много это значит для меня, даже если я не смогу проверить, прав ли ты.
– Я уже забыл, что написал эти слова, хотя это абсолютно справедливо, – улыбнулся он.
– У меня тут есть для тебя кое-что. – Она достала из сумки сверток странной формы, завернутый в бумагу с изображением падуба и плюща. – Я купила это для тебя к Рождеству, но из-за всей суматохи после появления Хазарда, когда я бросила в него фиговым пудингом, я так ничего тебе и не подарила. Сегодня как будто подходящее время сделать это.
Райли взял сверток и развернул бумагу с искренним удовольствием пятилетнего ребенка.
– Моника, как красиво! – Он повертел предмет в руках.
Это был садовый совок отличного дизайна с гравировкой «Райли» на рукоятке.
– Это чтобы ты мог заниматься садоводством, где бы ни был, – объяснила она.
– Спасибо, мне очень нравится. Я буду думать о тебе, обо всех вас, – быстро поправился он, – работая им. Прошу тебя, давай будем поддерживать контакты, а? В любом случае я захочу узнать, что будет с тобой и Хазардом.
– Это так очевидно? – спросила Моника, в глубине души радуясь этому. – Ты не возражаешь?
– Знаешь, сначала я переживал. Чуть-чуть, – ответил Райли. – Но я люблю вас обоих, и когда я это осознал, то понял, что счастлив за вас.
Моника удивлялась великодушию Райли. На его месте она кипела бы от злости и втыкала булавки в восковые фигурки. А у него за ослепительными улыбками пряталась едва заметная грусть. Или, может быть, ей так казалось.
– Райли, ты действительно один из самых приятных людей, с какими я встречалась в жизни. – Моника обняла его, и он не сразу ее отпустил. – Я буду скучать. Мы все будем скучать.
– Знаешь, Хазард станет хорошим папой, – сказал Райли.
– Ты так думаешь? Он не так в этом уверен. Пока он еще не полностью доверяет себе, – сказала Моника, осознавая, как мало это для нее теперь значит.
– Ну, скажи ему, чтобы спросил у ребятишек из «Маминого маленького помощника», выйдет ли из него хороший отец. Они убедят его! – заявил Райли.
– Знаешь, может, я так и сделаю.
– Народ, я хочу сделать объявление. – Джулиан постучал черпаком по боку чаши с пуншем. – Когда Мэри ушла, она оставила что-то особенное. Нет, я имею в виду не меня. – Как актер из театра «Вест-Энд», он сделал паузу, чтобы переждать смех. – Она оставила свой альт. И я надеюсь, она сейчас для нас сыграет. Мэри?
И он протянул ей альт, который, вероятно, спрятал в одной из своих сумок.
– Боже, я не играла много лет. Привет, старый друг. Попробую, – сказала Мэри, поворачивая инструмент в руках, чтобы снова почувствовать его.
Она осторожно настроила каждую струну, потом заиграла, сначала медленно и робко, потом, осмелев, сыграла бешеную ирландскую джигу. Вокруг них собралась толпа. Целые семьи, которые возвращались домой после того, как покормили лебедей, останавливались посмотреть, кто это играет с таким воодушевлением.
Моника подошла к Джулиану и, сев на траву рядом с шезлонгом, принялась чесать за ушами Кита, его неизменную тень.
– Все хотел сказать тебе, Моника, я так рад за тебя и Хазарда, – произнес Джулиан. – Мне хотелось бы приписать себе самую малость от этого, если не возражаешь.
– Конечно не возражаю, Джулиан. В конце концов, если бы не ваша тетрадь, я никогда не заговорила бы с ним после того первого раза, когда мы с ним столкнулись. Буквально, – объяснила Моника.
– Не упусти свой шанс, Моника. Не повторяй моих ошибок.
Он посмотрел в сторону Мэри и Энтони со смешанным чувством счастья и печали.
– Вы же не думаете, что Хазард очень похож на вас, Джулиан? – осторожно спросила Моника, надеясь, что он не обидится.
– О-о нет, не волнуйся, – рассмеялся Джулиан. – Хазард намного симпатичнее меня и не такой глупый. А ты гораздо сильнее, чем была тогда Мэри. Ваша история любви будет совершенно другой, с другим завершением. Во всяком случае, не беспокойся, мы с ним немного поболтали. Что-то вроде отцовского напутствия.
Моника ужаснулась, но была заинтригована. На миг ей захотелось стать мухой на стене.
– У меня есть для вас кое-что, Джулиан.
– Милая девочка, ты уже сделала мне подарок, – отозвался он, указывая на шелковый галстук с орнаментом, небрежно повязанный у него на шее.
– Это не подарок, это вещь, которая возвращается домой. – Она передала ему тетрадь в бледно-зеленой обложке с надписью «Правдивая история»; после всех своих странствий тетрадь выглядела немного потрепанной. – Я знаю, вы сказали Мэри, что не можете оставить ее у себя, потому что не были до конца правдивым, но теперь вы такой, и тетрадь должна быть у вас. С вас она началась и на вас должна закончиться.
– А-а, моя тетрадь. Добро пожаловать. Какие приключения тебе достались. – Джулиан осторожно положил тетрадь себе на колени, поглаживая ее, как кошку. – Кто сделал для нее эту красивую пластиковую обложку? – спросил он, но, увидев усмешку Моники, добавил: – Ах, как глупо! Можно было не спрашивать.
Мэри наигрывала песню Саймона и Гарфанкела, которой все подпевали. Банти, сидевшая с Алисой и Лиззи, встала и захлопала в ладоши, потом, заметив, что музыка закончилась, смутилась и снова уселась. Где Макс? – подумала Моника.
Начало смеркаться. Все загорающие и владельцы собак ушли, появилась мошкара. Моника поймала несколько черных такси, чтобы увезти в кафе то, что осталось от пикника, стаканы и коврики. Джулиан наблюдал, как все это укладывают, и пошел в сторону дороги.
– Поедем, Джулиан! – позвала Моника.
– Вы, ребята, поезжайте, – сказал Джулиан. – Хочу остаться еще на несколько минут. Я скоро приеду.
– Вы уверены? – неохотно оставляя его одного, спросила Моника.
Она вдруг увидела, что он выглядит на свои настоящие годы. Вероятно, в этом были виноваты опускающиеся сумерки, заполняющие темнотой все складки его кожи.
– Да, уверен. Мне надо немного подумать.
Помогая Монике залезть в такси, Хазард протянул ей руку с заднего сиденья. Моника осознала, что в этом жесте было все, что ей нужно в жизни. Она оглянулась на Джулиана, сидевшего в шезлонге. Кит положил голову ему на колени. Держа тетрадь в руке, Джулиан помахал ей. Несмотря на особенности его характера и недостатки, он действительно был самой неординарной личностью из тех, кого встречала Моника в жизни.
И она была ужасно благодарна ему за то, что среди всех кафе мира он выбрал ее кафе.
Джулиан
Джулиан с чувством удовлетворения смотрел на отъезжающие такси. Он понял, что впервые за долгое время он себе нравится. Это было хорошее чувство. Опустив руку, он потрепал Кита по голове:
– Теперь тут только ты и я, старина.
Но они были не одни. Он смотрел, как к ним с разных сторон подходят люди, неся шезлонги, пледы для пикника, музыкальные инструменты. Разве они не знают, что вечеринка окончена?
Джулиан собирался встать, пойти и сказать им, что пора идти домой, но ноги его не слушались. Он чувствовал страшную усталость.
Свет был настолько тусклым, что он не сразу смог разглядеть лица новых гуляк, но, когда они подошли ближе, он увидел, что это не незнакомые люди, а старые друзья. Его преподаватель из Школы изобразительного искусства Слейда. Владелец галереи на Кондуит-стрит. Даже школьный приятель, которого он не видел со школы, теперь средних лет, но с узнаваемыми рыжими волосами и наглой ухмылкой.
Джулиан улыбался им всем. Потом он увидел своего брата, огибающего Круглый пруд. Без костылей, без инвалидного кресла, он шел своими ногами. Брат помахал ему. Таких плавных движений Джулиан не видел у брата с тех пор, как тому исполнилось двадцати лет.
По мере того как контуры друзей и родных становились более четкими, все вокруг них – деревья, трава, пруд и эстрада для оркестра – расплывались.
Джулиан ощутил острый приступ тоски по прошлому, словно в его сердце вонзился кинжал.
Он ждал, когда боль утихнет, но она не утихала. Она расширялась, доходя до кончиков пальцев рук и ног, пока Джулиан совсем не перестал чувствовать свое тело. Осталось лишь ощущение боли. Боль превратилась в свет – яркий и ослепляющий, потом в металлический привкус, а потом в звук. Пронзительный вопль, переходящий в звон, а потом ничего. Совсем ничего.
Эпилог
Дейв
Дейв грустил оттого, что этот рабочий день подходит к концу. Обычно он торопился запереть ворота парка и отправиться в паб, но сегодня он работал в одной смене с Салимой, одной из новых практиканток, и время прошло так быстро. Всю смену он пытался набраться храбрости и пригласить ее в кино. Уже почти стемнело. Он упустит эту возможность.
– Дейв, подожди! – сказала Салима, и он подскочил от неожиданности. – Там кто-то сидит в шезлонге?
Он посмотрел в ту сторону, куда она показывала, – туда, где была эстрада для оркестра.
– Пожалуй, ты права. Всегда кого-нибудь найдешь после закрытия! Останься здесь, а я пойду и выгоню его. Не хочу, чтобы кто-то остался здесь запертым на ночь. Смотри, как я это делаю – вежливо, но твердо, в этом вся штука. – Он въехал в карман для парковки и выключил двигатель. – Я недолго.
Он пошел в сторону мужчины, сидевшего в шезлонге, стараясь идти широкими размашистыми шагами, поскольку знал, что Салима смотрит ему в спину. Подойдя ближе, он понял, что нарушитель довольно стар. И он спит. Рядом с ним, как часовой, сидел старый лохматый терьер, глядя немигающими, мутными от катаракты глазами. Наверное, правильно было бы предложить подвезти старика и собаку домой, при условии, что он живет недалеко. Тогда он сможет подольше побыть с Салимой и показать свою доброту. Он ведь и был добрым.
Мужчина улыбался во сне. Дейв подумал: а что ему снится? Наверное, что-то хорошее.
– Привет! – сказал он. – Простите, что бужу вас, но пора домой.
Он положил руку на плечо мужчины и немного потряс его, чтобы разбудить. Что-то здесь было не так. Голова человека упала на одну сторону как-то безжизненно.
Дейв приподнял холодную кисть человека и пощупал пульс. Ничего. И никаких признаков дыхания. Дейв никогда прежде не видел покойников и тем более не прикасался к ним. Немного дрожащими руками он достал телефон и стал набирать 999.
Потом он заметил, что мужчина держит что-то в другой руке. Тетрадь. Дейв осторожно разжал пальцы мужчины. Может быть, это важно. Может быть, она пригодится ближайшим родственникам. Он взглянул на обложку. На ней красивым почерком было выведено: «Правдивая история». Дейв осторожно засунул тетрадь во внутренний карман пиджака.
Благодарности
Для меня «Правдивая история» – очень личная история. Пять лет назад я, как и Алиса, жила вроде бы идеальной жизнью, но на самом деле все было по-другому. Как и Хазард, я была зависимой. Моим пагубным пристрастием было вино, дорогое, высококачественное вино. Поскольку бутылка стоит дорого, ты не алкоголик, а ценитель, верно? После многих неудачных попыток завязать я решила, как Джулиан, рассказать миру свою правду и начала вести блог о моей борьбе с алкоголем, который превратился в книгу «Дневник трезвенницы».
Я обнаружила, что, рассказывая правду о своей жизни, можно сотворить чудо и изменить к лучшему жизнь многих других людей. Поэтому первую благодарность я выражаю всем людям, прочитавшим мой блог и мою автобиографию и не поленившимся связаться со мной, чтобы рассказать, каким образом это на них повлияло. Этот роман вдохновлен вами.
Я пришла в ужас оттого, что перехожу от документальной прозы к беллетристике, и, не будучи уверенной в своих возможностях, записалась на трехмесячные писательские курсы при литературном агентстве «Curtis Brown». Недавно я вновь просмотрела свое заявление и отрывок в три тысячи слов из «Книги, изменившей жизнь», как она тогда называлась. Это было чудовищно, и я выражаю огромную благодарность моей преподавательнице Шарлот Мендельсон, а также Анне Дэвис и Норе Перкинс.
Одной из самых замечательных вещей на курсах «Curtis Brown» была потрясающая группа писателей, с которыми я там познакомилась. После окончания курсов мы организовали «Писательский клуб», где по-прежнему регулярно встречаемся, чтобы познакомиться с работами друг друга за стаканом пива для них и воды для меня, посмеяться и поплакать над той чередой взлетов и падений, какой является жизнь писателя. Спасибо всем вам, Алекс, Клайв, две Эмили, две Дженни, Джефри, Наташа, Кейт, Кира, Мэгги и Ричард. И особая благодарность Максу Данну и Зои Миллер, которые первыми прочли мой первый ужасный черновик.
Благодарю также моих первых читателей: Люси Шунховен, консультировавшей меня по австралийцам и садоводству и придирчиво относившейся к опечаткам или повторам; Рози Коупленд – за ее бесценные советы в отношении живописи и художников; Луизу Келлер – за ее осведомленность в вопросах психического здоровья; Диану Гарднер-Браун – за ее проницательность.
Мои компаньонки по выгулу собак – Кэролайн Ферт и Аннабел Эббс – в последние несколько лет писательства помогли мне сохранить разум и помогали дельными советами. Помню, как я, впервые встретившись с Аннабел, довольно нервно сказала ей, что хочу написать книгу. Она ответила, что сама уже пишет книгу «Девушка Джойса». До сих пор не могу поверить, что нас обеих напечатали. Мне нравится путешествовать с тобой по этой дороге, подруга.
Моя следующая благодарность предназначена моему замечательному агенту Хейли Стид за любовь к моей книге с самого начала, за помощь в ее усовершенствовании и за дружеское участие в процессе публикации. Моника обязана Хейли своей увлеченностью таблицами Excel с цветовым кодированием. Огромная благодарность потрясающей Мадлен Милберн за ее мудрые советы и направляющую руку, а также удивительной Алисе Сазерленд-Хоз за организацию одновременных аукционов в разных регионах и продажу «Правдивой истории» на двадцати восьми огромных рынках в течение двух недель в рамках подготовки к Франкфуртской книжной ярмарке. Агентство Мадлен Милберн – необыкновенное творческое объединение, но это также и семья, и каждый заставлял меня чувствовать себя как дома, помогая, насколько возможно, улучшить эту книгу. Спасибо всем вам.
Следующая в этом ряду Салли Уильямсон, мой блестящий редактор. Я удостоилась большой чести подписать у Салли первый контракт в «Transworld». Она с самого начала отстаивала эту книгу, обладая огромным умением точно указать на необходимые поправки для улучшения текста. Большое спасибо, Салли, за эти замечания и за поддержку в процессе подготовки к печати. Работа с вами была подлинным мастер-классом, и я безмерно благодарна.
Спасибо Вики Палмер и Беки Шорт, моему потрясающему дуэту по маркетингу и пиару. Если вы услышите об этой книге, прежде чем натолкнетесь на нее в книжном магазине, то это будет благодаря их гению.
Я припасла лучшее к концу – моя семья. Спасибо моему мужу Джону за то, что всегда верил в меня, пусть даже я сама в себя не верила, за его проницательность и честность в отношении моей писанины, даже когда я в ответ швыряла рукопись ему в голову. Спасибо моим чудесным родителям, которые гордились мной и поддерживали меня. Эта книга посвящена моему отцу, лучшему из известных мне писателей, ведущему легендарную колонку в приходском журнале. Отец читал не только мой первый черновик, но и девять последующих, на каждой стадии делая подробные комментарии. Чтобы вы знали: если собираетесь оставить на Amazon не слишком благоприятный отзыв, он вам ответит! И благодарю троих моих детей – Элизу, Чарли и Матильду – моих самых ярых фанатов и мое ежедневное вдохновение.
Соприкоснувшись с издательской индустрией, я поразилась тому, сколько людей задействовано в публикации книги. Не только все те люди, которых я упомянула, но и многие другие, приложившие свой талант, энтузиазм, мудрость, время и энергию к тому, чтобы эта книга оказалась у вас в руках. Дизайнеры обложки, редакторы текста, корректоры, менеджеры по продажам и многие другие. Причина, по которой я выбрала в качестве издательства «Transworld», помимо их не имеющей себе равных репутации и того факта, что они печатают Джилли Купер и у них работает Салли Уильямсон, состоит в том, что с момента моего появления там я почувствовала себя членом их большой семьи. Благодарю всех сотрудников издательства «Transworld», работавших над публикацией «Правдивой истории».
