Золотые яблоки Солнца
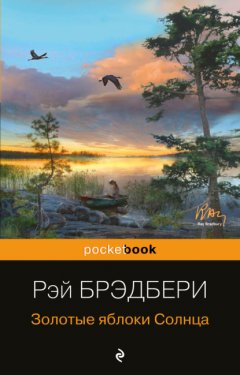
RAY BRADBURY
The Golden Apples of the sun
© by Ray Bradbury, 1953
Ray Bradbury trademark used with the permission of Ray Bradbury Literary Works LLC
© В. Чарный, перевод на русский язык, 2022
© Издание на русском языке. ООО «Издательство «Эксмо», 2022
Туманный Горн
В холодном океане, вдали от берега, каждую ночь мы ждали, когда придет туман – и вот он пришел, и мы, смазав медные механизмы, зажгли лампу на верху нашей каменной башни. МакДанн и я, словно пара птиц в сером небе, следившая за одинокими судами, подавали световые сигналы: красный, белый и снова красный. Если же вдруг с их борта не видели вспышек огня, на помощь приходил наш Туманный Горн, чей гулкий, протяжный зов разрывал туман в клочья, распугивая чаек, рассыпавшихся, как колода карт, взметая пенящиеся волны.
– Вокруг ни души, но ты ведь уже привык, да? – спросил МакДанн.
– Вполне, – отвечал я. – Слава богу, с тобой есть о чем поболтать.
– Что ж, завтра твой черед отправляться на Большую землю, – улыбнулся он. – Будешь с девчонками танцевать, пить джин.
– МакДанн, а о чем ты думаешь, когда остаешься тут один, без меня?
– О тайнах моря.
МакДанн раскурил трубку. Было пятнадцать минут восьмого – холодный вечер ноября, топилась печь, маяк слал свои сигналы во все стороны света и Туманный Горн гудел в вышине, в башенной глотке. На сотню миль вдоль побережья никто не жил – лишь дорога, где изредка проезжали автомобили, вилась среди этой пустыни, и столь же редкими были суда, что шли мимо нашего маяка на острове среди стылых волн, в двух милях от берега.
– О тайнах моря, – задумчиво повторил МакДанн. – Знаешь, океан – он как огромная снежинка. Такой изменчивый – чертова прорва форм и цветов, и все время разных. Диву даешься. Однажды ночью, много лет назад, когда я сидел здесь один, целое сонмище рыб вдруг поднялось из глубин. Что-то заставило их всплыть – трепещут себе на воде, в свете лампы – красные, белые, красные, опять белые – и будто уставились на него, я их глаза видел, чудные такие. Целую трубку выкурил, а они все качались, как павлиний хвост, пока не пробило двенадцать. А потом вдруг все ушли обратно в океан – целый миллион. Думаю, может, они все проплыли столько миль, чтобы поклониться маяку? Не понимаю. Но если еще подумать, то, может, башня действительно кажется им Богом? На семьдесят футов возвышается над морем, и вся ангельски сияет, и громогласно трубит над водами. Рыба больше не приходила сюда, но как знать, может, тогда они ощутили присутствие чего-то божественного?
Я содрогнулся. Взглянул на серую, бескрайнюю водную гладь, уходившую в никуда.
– В море всего полно. – МакДанн, моргая, беспокойно попыхивал трубкой. Весь день он был сам не свой, но до сих пор не сказал почему.
– Изобретаем все новые и новые машины, и всякие субмарины, а все равно десять тысяч веков пройдет, пока мы ступим на самое дно океана, в это царство чудес, и тогда-то узнаем, что значит настоящий ужас. Подумай, что там, внизу, все так же, как и триста тысяч лет назад. Мы тут маршируем под звуки труб, грыземся за землю, сносим друг другу головы, а там, на глубине двенадцати миль, все старое, как хвост кометы, живет и живет себе в холодной бездне.
– Да уж, этот мир очень стар.
– Пойдем-ка, я хотел тебе кое о чем рассказать.
Мы неспешно поднялись по лестнице в восемьдесят ступеней, беседуя по пути. Наверху МакДанн выключил свет в камере, чтобы можно было смотреть сквозь стекло. Гигантский глаз жужжал, вращаясь в своей смазанной глазнице.
И каждые пятнадцать секунд слышался размеренный зов Туманного Горна.
– Кричит, будто зверь, правда? – МакДанн кивал сам себе. – Большой одинокий зверь, плачущий в ночи. Сидит над бездной, которой десять миллиардов лет, и все взывает к глубинам: я здесь, я здесь, я здесь! И бездна отвечает, и еще как. Ты здесь уже три месяца, Джонни, к этому надо быть готовым. В это время года, – он вгляделся в туманную мглу, – что-то приходит сюда, к маяку.
– Косяки рыб, про которые ты рассказывал?
– Нет, совсем не это. Я все не хотел тебе рассказывать, боялся, ты подумаешь, что я рехнулся. Но откладывать нельзя – если судить по моим отметкам в прошлогоднем календаре, оно придет этой ночью. Не стану утомлять тебя подробностями, сам все увидишь. Просто присядь. Если захочешь – завтра же соберешь свою сумку, сядешь в лодку, поплывешь на материк, сядешь в свою машину у пристани, уедешь в какой-нибудь городок подальше отсюда и будешь спать со светом – и я тебя винить не стану. Это повторяется уже три года, но сегодня ты – мой первый свидетель. Ты только жди и смотри в оба.
Минуло полчаса, и за все время мы лишь пару раз перешепнулись. Когда мы устали ждать, МакДанн поделился со мной кое-какими соображениями. Насчет самого Туманного Горна у него было несколько теорий.
– Однажды, много лет назад, человек, шедший вдоль берега, остановился, слушая, как океанские волны бьются о темный холодный берег, и сказал: «Нам нужен голос, что звучит над водами, предупреждая корабли, и я создам его. Я создам голос, звучащий сквозь все века и сквозь туман; создам голос, подобный пустой постели в ночи, покинутому дому, что встречает стоящего в дверях, голым осенним деревьям. Голос, что звучит, как клич стаи птиц, улетающих на юг, что воет, как ноябрьский ветер, как волны, что бьются о суровый, стылый берег. Голос настолько одинокий, что никто не пройдет мимо, и каждый, заслышав его, в душе будет плакать, и очаги покажутся теплее, и все, кто услышат его в далеких городах, будут рады, что они дома. Я создам этот голос и заключу его в машину, которую назовут Туманным Горном, и каждый, кто сумеет вынести его, познает печаль всей вечности и то, как коротка наша жизнь.
Раздался зов Туманного Горна.
– Я выдумал эту историю, – тихо продолжал МакДанн, – пытаясь объяснить, почему оно каждый год приходит к маяку. Я думаю, что оно откликается на зов Туманного Горна…
– Но… – начал было я.
– Тише! – оборвал меня МакДанн. – Вон там!
Кивком он указал на морскую бездну.
В ней что-то было, и оно плыло к башне.
Я уже говорил, что ночь была холодной; в высоком маяке тоже было холодно, вспыхивал и гас свет лампы, и зов Туманного Горна все звучал и звучал среди клубившегося тумана. Все было смутным, и вдали ничего не было видно, но вокруг был ночной океан, глубокий, спокойный, безмолвный, грязно-серый, и мы были совсем одни на верху башни, а там, вдалеке, по воде пошла рябь, затем волна, затем всплеск, и пузырьки, и пена. И вдруг над холодной водой взметнулась голова – огромная, темная, с гигантскими глазами – а затем взвилась шея. А потом – не тело, но все еще шея, еще и еще! На сорок футов над водой на красивой, изящной, темной шее вздымалась эта голова. И лишь затем из глубин показалось тело, как черный остров, усеянный кораллами, раковинами и лангустами. Над водой качнулся хвост. Я прикинул, что от головы до кончика хвоста чудовище было порядка девяноста-сотни футов длиной.
Не помню, что именно я сказал тогда. Но что-то пробормотал.
– Спокойно, парень, спокойно, – прошептал МакДанн.
– Это невозможно! – ответил я.
– Нет, Джонни, это мы невозможны. Оно все такое же, каким было десять миллионов лет назад. Оно не изменилось. Но изменилась Земля, появились мы, и стали невозможными. Мы!
Величественное, черное, оно плыло там, вдалеке, среди ледяных вод. Клубы тумана скрыли его очертания. Его глаз отразил свет нашей лампы – как гигантский прожектор, светил красным, белым, красным и снова белым, слал весточку на древнем языке. Оно молчало – безмолвное, как скрывавший его туман.
– Это какой-то динозавр! – Я присел, схватившись за перила.
– Да, один из них.
– Но все они вымерли!
– Нет, просто скрылись в бездне. Глубоко-глубоко, в самой глубокой бездне. Понимаешь теперь, Джонни, что означает это слово, как много скрыто в нем? Бездна. В этом слове весь холод, вся тьма и глубина.
– Что же нам делать?
– Что делать? У нас работа, мы не можем уйти. Да и здесь оставаться безопасней, чем пытаться добраться до берега на лодке. Эта штуковина размером с эсминец и почти такая же быстрая.
– Но почему она приплывает именно сюда?
Спустя мгновение я получил ответ.
Раздался зов Туманного Горна.
И чудовище ответило.
Сквозь миллионы лет, сквозь воды и туман звучал этот крик. Столько тоски и одиночества было в нем, что я задрожал всем телом. Чудовище взывало к башне. Взревел Туманный Горн. Чудовище вновь закричало. Взревел Туманный Горн. Исполин раскрыл необъятную, усеянную зубами пасть, исторгнув вопль, и голос его был голосом Туманного Горна. Одинокое, громадное, оно кричало там, вдали. И голос его был голосом отчуждения, бескрайнего моря, холодной ночи, разлуки. Таков был этот голос.
– Теперь, – шепнул МакДанн, – понял, почему оно приходит сюда?
Я кивнул.
– Весь год, Джонни, это несчастное чудище лежит там, за тысячу миль отсюда, на глубине двадцати миль, и в молчании ждет. Может, ему миллион лет! Только подумай: ждать целый миллион лет – ты бы смог столько ждать? Может, оно последнее на Земле. Я почему-то думаю, что так и есть. Как бы там ни было, на Земле появились люди и пять лет назад построили здесь маяк. Поставили Туманный Горн, включили его – и теперь его голос зовет и зовет тебя, спящего и видящего сны о мире, в котором когда-то жили тысячи таких же, как ты, но теперь ты совсем один, и мир больше не твой, и ты вынужден скрываться. И голос Туманного Горна звучит и смолкает, зовет и стихает, и ты пробуждаешься в илистой бездне, глаза раскрываются, как объективы двухфутовых камер, и ты движешься – медленно, ведь на твоих плечах вся тяжесть океана. Но зов Туманного Горна за тысячу миль пронзает толщу вод, слабый, знакомый, и запускаются котлы в брюхе, и ты начинаешь подъем – очень, очень медленно. Кормишься косяками трески и мальками, стаями медуз и медленно поднимаешься всю осень – весь сентябрь, когда приходят туманы; весь октябрь, когда они сгущаются; и на исходе ноября, когда ты приспособился к давлению, день за днем, час за часом поднимаясь на несколько футов – ты у поверхности, все еще живой. Двигаться нужно медленно – тебя разорвет, если ты будешь подниматься быстрее. Целых три месяца нужно тебе, чтобы всплыть наверх, и еще несколько дней, чтобы добраться до маяка, рассекая холодные волны.
Ты один в ночи, Джонни – самая гигантская из всех тварей, которых когда-либо порождала Земля. А маяк все зовет тебя, и длинная шея, совсем как твоя, торчит из воды, покоясь на скале, огромной, как твое тело, но самое важное – его голос совсем как твой. Понимаешь теперь, Джонни, в чем дело?
Взревел Туманный Горн.
Чудовище ответило.
Я видел все своими глазами, и мне все стало ясно – миллионы лет ждать в одиночестве, ждать того, кто никогда не вернется. Миллионы лет скрываться на дне морском, где безумно долго тянулось время, пока в небе не исчезли перепончатокрылые ящеры, царившие в небе, не иссохли болота на материках, не вымерли гигантские ленивцы и саблезубые тигры, опустившись на дно асфальтовых ям, и люди, как белые муравьи, принялись сновать по склонам холмов.
Взревел Туманный Горн.
– В прошлом году, – продолжал МакДанн, – оно всю ночь проплавало возле башни, круг за кругом. Держалось неподалеку, наверное, сбитое с толку. А может, испугалось. Или разозлилось – столько-то проплыть! Наутро туман вдруг рассеялся, выглянуло солнце, в небе посвежело – все было голубое, как на картине. Тогда чудовище уплыло прочь от жары и тишины и не вернулось. Весь этот год, наверное, ломало себе голову, размышляя.
Теперь тварь была всего в сотне ярдов от нас и перекрикивалась с Туманным Горном. Пылали ее глаза в свете бившего в них луча – огонь сменялся льдом, огонь – льдом.
– Такова жизнь, – заключил МакДанн. – Кто-то всегда ждет того, кому уже не вернуться домой. Всегда любит кого-то больше, чем любят его самого. Пройдет время, и ты захочешь уничтожить то, что любишь, чтобы оно перестало мучить тебя.
Чудовище мчалось к маяку.
Взревел Туманный Горн.
– Посмотрим, что будет, – сказал МакДанн.
И отключил Туманный Горн.
Стало так тихо, что с минуту мы слышали, как биение наших сердец отражалось в стеклах световой камеры, и как смазанный механизм медленно вращал лампу.
Чудовище остановилось, замерло. Моргнули гигантские лампы глаз. Открылась пасть. Оно зарокотало, как вулкан. Качнуло головой, будто пытаясь расслышать те звуки, что исчезли в тумане. Уставилось на маяк. Заклокотало вновь. Его взгляд полыхнул огнем. Встав на дыбы, оно взметнуло волны и бросилось на башню – злой мукой пылали его глаза.
– МакДанн! – завопил я. – Включай сирену!
МакДанн нерешительно взялся за рычаг. Но даже когда он включил Горн, тварь снова встала в полный рост. Я увидел, как мелькнули ее исполинские лапы, и чешуя блеснула сквозь перепонки меж пальцев, вцепившихся в башню. Невероятный глаз на страдальчески вскинутой голове горел, словно кальдера, где мог утонуть и я, и мой крик. Маяк содрогнулся. Взревел Туманный Горн, ревела тварь. Она обхватила башню – стекло не выдержало и обрушилось на нас.
МакДанн схватил меня за руку.
– Давай вниз!
Башня качалась, дрожа, поддаваясь. Ревел Туманный Горн, ревело чудовище. Спотыкаясь, мы скатились по лестнице.
– Быстрее!
Мы спустились, и башня угрожающе накренилась. Залезли в подвал под лестницей. Тысячи камней сыпались градом, и вдруг Туманный Горн умолк. Чудовище билось о башню. Башня не выдержала. МакДанн и я, вцепившись друг в друга, стояли на коленях, пока рушился весь наш мир.
Все было кончено – воцарилась тьма, и океан бился о сырые скалы.
Но мы услышали кое-что еще.
– Прислушайся, – шепнул МакДанн. – Слышишь?
С минуту мы ждали. Затем я услышал, как тяжко вздохнула гигантская тварь, и прямо над нашим убежищем, в воздухе, напитанном ее тошнотворным смрадом, раздался ее скорбный, растерянный, одинокий вой. Чудовище захлебывалось криком. Башни больше не было. Угас ее свет. Погибло то, что звало его сквозь миллионы лет. И теперь тварь, распахнув пасть, ревела в ночи. Ревела, как Туманный Горн, снова и снова. И на судах вдали от побережья не видно было сигнала во тьме, но моряки слышали ее и, должно быть, думали: «Вот он, звук сирены в Одинокой Бухте. Все в порядке. Мы обошли мыс».
Так продолжалось всю ночь.
Когда прибыли спасатели, раскопавшие наше укрывище, в небе уже стояло жаркое желтое солнце.
– Взяла и развалилась, – угрюмо пробурчал МакДанн. – Волны были ужасные, вот кладка и не выдержала, – прибавил он, ущипнув меня.
Смотреть было не на что. Океан стих, и над нами было синее небо. Все, что осталось – зеленая слизь с терпким запахом водорослей, покрывавшая камни рухнувшего маяка и скалы. Вокруг вились мухи. Прибой ничего не вынес на берег.
На следующий год маяк возвели заново, но я уже получил должность в городишке на побережье, женился, и мы поселились в теплом домике, где осенними ночами в окнах горел свет, двери были заперты и дымил камин. МакДанн стал смотрителем нового маяка, по его просьбе построенного из армированного бетона. «Мало ли что», – говорил он.
В ноябре новый маяк был готов. Как-то поздним вечером я поехал туда, остановил автомобиль и слушал, как над серыми водами одиноко звучит новый Горн – один, два, три, четыре раза в минуту.
Чудовище?
Больше оно не возвращалось.
– Оно ушло, – сказал МакДанн. – Ушло назад, в бездну. Узнало, что в этом мире никого нельзя любить слишком сильно. Ушло в самые бездонные глубины, чтобы ждать еще миллион лет. Как жаль его! Люди пришли на эту маленькую, жалкую Землю, и люди исчезнут – а оно все еще будет ждать. Ждать и ждать.
Я сидел в машине и слушал. Не видно было ни маяка, ни его света в Одинокой Бухте. Лишь слышно было, как звал Туманный Горн, Горн, Горн. И голос его был зовом того исполина.
Мне хотелось что-то сказать, но я не мог найти слов.
Пешеход
В восемь часов, туманным ноябрьским вечером, выйти на безмолвные улицы города, ступая по выщербленному бетону, перешагивая через травянистые швы, и бродить в тишине, сунув руки в карманы, – вот что Леонард Мид любил больше всего на свете. Он вставал на углу перекрестка, всматриваясь в освещенные луной улицы, что расходились на все четыре стороны, и решал, куда пойти, но идти можно было куда угодно – в 2053 году от Рождества Христова на этих улицах он был один, или почти один – решившись и выбрав направление, он шагал дальше, и морозный воздух клубился перед ним, как сигарный дым.
Иногда он бродил так часами, пройдя много миль, и возвращался домой лишь в полночь. По дороге он видел дома с темными окнами, за которыми лишь изредка вспыхивали слабые отблески света, словно светляки, и он как будто шел по кладбищу. Серые призраки виднелись на фоне стен в тех комнатах, где не задернули шторы, чтобы укрыться от ночи, шепот и бормотание слышались там, где осталось распахнутым окно, и каждый дом был, как склеп.
Леонард Мид, помедлив, склонял голову набок, прислушиваясь, присматриваясь, и бесшумно шагал дальше по выщербленному тротуару. Уже давно он благоразумно сменил ботинки на кроссовки, чтобы попадавшиеся ему стаи собак не провожали его лаем, не включался свет в окнах, не появлялись лица и стук каблуков одинокого пешехода – его каблуков – не тревожил покой целой улицы этим ранним ноябрьским вечером.
Этим вечером его путь лежал на запад, где пряталось море. Воздух был свежим, морозным – щипал нос, а легкие горели, как рождественская елка; холодный свет в них вспыхивал и гас, и ветви покрывались невидимым снегом. Он с удовольствием слушал слабый отзвук своих шагов на осенней листве, тихонько насвистывая, иногда поднимал сухой лист, разглядывая его скелет в свете редких фонарей, вдыхая его увядающий аромат.
«Эй, вы там, – шептал он домам, стоявшим по обе стороны улицы, – что показывают по четвертому, седьмому, девятому каналам? Куда скачут ковбои, кому на выручку спешит кавалерия там, за холмом»?
Улица была тихой, длинной, пустынной, и видна была лишь его тень, как тень ястреба на полях Среднего Запада. Закрывая глаза, застывая, дрожа от холода, он представлял, что стоит посреди безветренной ледяной аризонской пустоши, где на тысячу миль вокруг ни души – лишь улицы, как иссохшие русла рек.
«А что теперь? – спрашивал он у домов, взглянув на часы. – Половина девятого? Дюжина убийств на любой вкус? Викторина? Ревю? Комедиант падает со сцены?»
Неужели отзвук смеха донесся из дома, бледного, как луна? Он чуть помедлил, но больше ничего не услышал, и он отправился дальше. Ему повстречался совсем разбитый кусок тротуара, где цемент едва виднелся из-под цветов и травы. Десять лет он гулял вот так, днями и ночами, и ни разу никого не встретил на пути.
Он подошел к развязке клеверного типа, в молчании стоявшей на перекрестье двух шоссе. Днем здесь бурлил поток машин, кипели заправки, и автомобили, как скарабеи, сновали, меняясь местами, дымя выхлопными трубами, разбегались домой, на все четыре стороны. Сейчас они опустели, словно русла пересохших рек, чьи каменные ложа покоились под светом луны.
Свернув в переулок, он пошел домой кружным путем. Ему оставалось пройти всего квартал, когда из-за поворота внезапно показался одинокий автомобиль, ослепивший его ярким, белым лучом прожектора. Он замер, совсем как сбитый с толку мотылек, и шагнул ему навстречу.
Его окликнул металлический голос:
– Стоять! Оставаться на месте! Не двигаться!
Он остановился.
– Руки вверх!
– Но… – возразил он.
– Руки вверх, или мы будем стрелять!
Разумеется, это полиция – но какой же невероятной была эта встреча для трехмиллионного города, где осталась всего одна патрульная машина! Еще в 2052 году, сразу после выборов, их количество сократили с трех до одной. Преступность сходила на нет, и в полиции больше не нуждались – лишь этот автомобиль все еще катил и катил по пустынным улицам.
– Ваше имя? – В шепоте машины слышался металл.
Свет мешал ему разглядеть людей внутри.
– Леонард Мид, – ответил он.
– Говорите громче!
– Леонард Мид!
– Род занятий и профессия?
– Полагаю, можно считать меня писателем.
– Без профессии. – Патрульная машина словно говорила сама с собой. Луч света пригвоздил его к месту, как игла, пробившая грудь музейного экспоната.
– Можно и так сказать, – согласился Мид. Он уже много лет ничего не писал. Больше не продавали ни журналов, ни книг. По вечерам средоточием жизни были дома-гробницы, где у телевизоров, будто мертвецы, сидели люди, и свет с цветных экранов падал на их лица, не касаясь их.
– Без профессии, – как фонограф, прошипел голос. – Что вы делаете снаружи?
– Гуляю, – ответил Леонард Мид.
– Гуляете!
– Просто гуляю, – бесхитростно повторил он, чувствуя, как по лицу пробежал холодок.
– Просто гуляете? Гуляете?!
– Да, сэр.
– Куда направляетесь? С какой целью?
– Дышу воздухом. Смотрю по сторонам.
– Ваш адрес?
– Юг, Сент-Джеймс-стрит, дом одиннадцать.
– У вас дома есть воздух, чтобы дышать им? Есть кондиционер, мистер Мид?
– Да.
– У вас дома есть телевизор, чтобы смотреть его?
– Нет.
– Нет? – Голос умолк, и в потрескивавшем молчании слышалось обвинение.
– Вы женаты, мистер Мид?
– Нет.
– Не женат, – проговорил голос за ослепительным лучом. Высоко в небе, среди звезд ярко сияла луна, и дома вокруг были серыми, безмолвными.
– Я никому не был нужен, – уточнил Леонард Мид, улыбаясь.
– Не говорите, пока к вам не обратятся!
Леонард Мид ждал в холодной ночи.
– Просто гуляете, мистер Мид?
– Да.
– Но вы не объяснили, с какой целью.
– Я же сказал: дышу воздухом, осматриваюсь, просто прогуливаюсь.
– Вы часто так делаете?
– Каждую ночь, уже много лет.
Полицейский автомобиль стоял посреди улицы, и в его радиоглотке слышалось слабое гудение.
– Что ж, мистер Мид, – раздался голос.
– Это все? – вежливо спросил он.
– Да, – ответил голос. – Сюда. – Раздался вздох, затем щелчок. Широко распахнулась задняя дверь.
– Садитесь.
– Подождите, я же ничего не сделал!
– Садитесь.
– Я протестую!
– Мистер Мид.
Неверным шагом, как пьяный, он направился к машине. Заглянул в лобовое стекло. Как он и ожидал, там никого не было – в автомобиле никто не сидел.
– Садитесь.
Опершись на дверь, он смотрел на заднее сиденье – маленькую тюремную камеру с черными решетками. Оттуда пахло кованой сталью. Оттуда сильно пахло антисептиком; пахло чистотой, жесткостью, металлом. Там не было ничего мягкого.
– Если бы вы были женаты, жена могла бы предоставить вам алиби, – проговорил железный голос. – Но…
– Куда вы меня везете?
Машина медлила с ответом, а точнее, слабо жужжала, щелкая, словно где-то там электрические глаза считывали данные с перфокарт.
– В Психиатрический центр изучения регрессивных наклонностей.
Он сел в машину. С глухим стуком захлопнулась дверь. Патрульный автомобиль катился по ночным улицам, лампы ближнего света освещали его путь.
Минуту спустя они миновали дом – единственный во всем темном городе, – где ярко горели огни и желтые квадраты окон лучились теплом среди холодного мрака.
– Это мой дом, – сказал Леонард Мид.
Ему никто не ответил.
Машина катилась по дорогам, пустым, как русла мертвых рек, все дальше и дальше, оставляя позади безлюдные улицы и тротуары, и не было больше ни звука, ни движения в этой стылой ноябрьской ночи.
Апрельская ведьма
В звездном небе над долинами, над рекой, над прудом и дорогой летела Сеси. Невидимая, как свежие весенние ветра, свежая, как аромат клевера на сумеречных полях. Она парила в голубках, мягких, как мех горностая, приземлялась на кроны деревьев, жила в цветках, чьи лепестки падали, словно дождь, под дуновением ветерка. Зеленой, холодной, как мята, лягушкой она ютилась у сверкающей заводи. Кудлатым псом она семенила и лаяла, и эхом ей откликались другие в далеких дворах. Она жила в молодых апрельских травах, в сладких, чистых ручьях, бежавших из терпкой земли.
«Весна, – подумала Сеси. – Этой ночью я побываю во всем, что живет в этом мире».
Вот она вселилась в опрятных кузнечиков на дороге у асфальтовых ям, вот окунулась в росу на железных воротах. Сегодня вечером ее разум, невидимый другим, летел на крыльях иллинойского ветра – сегодня ей исполнилось семнадцать.
– Я хочу влюбиться, – сказала она.
Она сказала это за ужином. Ее родители, от удивления распахнув глаза, вжались в кресла.
– Терпение, – таков был их совет. – Помни, что ты особенная. Вся наша семья необычная и особенная. Мы не можем смешиваться с обычными людьми и вступать с ними в брак. Будь так, мы бы растеряли свои волшебные силы. Ты же не хочешь лишиться своей способности путешествовать при помощи магии? Так будь осторожной. Будь начеку!
Но у себя в спальне, наверху, Сеси слегка надушила шею и растянулась на кровати с балдахином, дрожа в предвкушении, а молочно-белая луна поднялась над иллинойской равниной, и реки стали сливочными, а дороги платиновыми.
– Да, – вздыхала она. – Я из необычной семьи. Днем мы спим, а ночью несемся по небу, как черный воздушный змей на ветру. Захотим – впадем в спячку под теплой землей, став кротами. Я могу стать всем чем угодно – галькой, крокусом, богомолом. Я могу покинуть свое бледное, худое тело, отправив свой разум далеко-далеко, на поиски приключений. Вот как сейчас!
И ветер понес ее прочь, над полями и лугами.
Она видела теплые весенние огни домов и ферм, мерцавших в сумерках.
«Если я не могу влюбиться сама, потому что я некрасивая и странная, значит, влюблюсь с чьей-нибудь помощью», – подумала она.
На дворе фермы, весенней ночью, темноволосая девушка, которой было не больше девятнадцати, черпала воду из колодца. Она что-то напевала.
Сеси зеленым листом упала в колодец. Она лежала среди его замшелых стен, в прохладной тьме, и смотрела вверх. Задрожала невидимой амебой. Стала каплей воды! Наконец, ощутила, как в холодной чашке поднимается наверх, к теплым девичьим губам. В ночи было слышно, как та пьет воду.
Сеси взглянула на мир ее глазами.
Из темноволосой головы сияющими глазами она смотрела, как руки тянули грубый канат. Слышала мир вокруг ее ушами. Вдыхала вселенную ее изящным носиком, чувствуя, как бьется и бьется это удивительное сердце. Чувствовала, как движется ее чудесный язык, когда она поет.
«Знает ли она, что я здесь?» – спросила себя Сеси.
Девушка ахнула, всматриваясь в ночной луг.
– Кто там?
Нет ответа.
– Это просто ветер, – шепнула Сеси.
– Просто ветер. – Девушка смеялась над своими страхами, но все еще дрожала.
Оно было прекрасным, это девичье тело. Изящные белоснежные кости скрывались там, где круглилась женственная плоть. Мозг был, как чайная роза среди темных ветвей, а рот – ароматным, как яблочное вино. Упругие губы покоились на белых зубах, дуги бровей дивились миру, и мягкие, послушные ветру волосы ложились на молочно-белую шею. Аккуратным узором на коже теснились поры. Нос был задорно обращен к луне, а щеки пылали огнем. Ее тело было легким как перышко, ее движения были плавными, как песня. Находиться в нем, жить в этой голове было сродни блаженству у горящего очага, мурлыканью спящей кошки, купанию в теплых речных водах, спешивших встречь морю в ночи.
«Мне здесь нравится», – подумала Сеси.
– Что? – спросила девушка, будто услышала чей-то голос.
– Как тебя зовут? – осторожно спросила Сеси.
– Энн Лири. – Девушка поежилась. – А зачем говорить его вслух?
– Энн, Энн, – шептала Сеси. – Энн, ты полюбишь кого-то.
И словно в ответ на эти слова, с дороги послышались грохот и лязг, и колеса зазвенели на гравии. Высокий мужчина правил повозкой, поводья лежали в могучих руках, а ясная улыбка осветила весь двор.
– Том, это ты?
– Кто, как не я? – Спрыгнув с козел, он привязал поводья к забору.
– Я с тобой не разговариваю! – Энн отвернулась, и вода плеснула из ведра в ее руках.
– Нет! – вскричала Сеси.
Энн застыла. Взглянула на холмы, на первые весенние звезды. На мужчину, которого звали Том. Сеси заставила ее выронить ведро.
– Смотри, что ты наделал!
Том подбежал к ней.
– Это все из-за тебя!
Смеясь, он отер ее туфли платком.
– Убирайся!
Она попыталась пнуть его по рукам, но он вновь рассмеялся, и Сеси, смотревшая на него за много миль отсюда, увидела, как он тряхнул крупной головой, как он втянул воздух ноздрями, как блеснули его глаза, как он повел широкими плечами, и как ловко его суровые, сильные руки управились с платком. Сеси, наблюдая с потайного чердачка этой прелестной головки, потянула за неприметную медную струну чревовещания, и красивый рот распахнулся:
– Спасибо!
– О, так ты можешь быть благодарной?
Его руки пахли кожей повода, его одежда пахла лошадью, и запах достигал нежных ноздрей, и Сеси, где-то далеко-далеко за ночными лугами и цветущими полями, беспокойно металась в постели, словно ей что-то приснилось.
– Только не с тобой! – отрезала Энн.
– Тише, будь вежливой, – сказала Сеси. Она заставила пальцы Энн потянуться к голове Тома. Энн отдернула руку.
– Я схожу с ума!
– Это точно. – Он кивнул, улыбаясь, но явно был озадачен. – Ты что, хотела коснуться меня?
– Не знаю. Уходи же! – Ее щеки горели, как розовые угли.
– Почему ты не убегаешь? Я же тебя не держу. – Том поднялся. – Ты передумала? Пойдешь со мной на танцы? Сегодня особенная ночь. Потом узнаешь почему.
– Нет, – сказала Энн.
– Да! – закричала Сеси. – Я еще никогда не танцевала. Хочу на танцы. Никогда не надевала длинного шуршащего платья. Я хочу туда! Хочу танцевать всю ночь. Я никогда еще не была в танцующей девушке – мама и папа не позволили бы. Собаки, кошки, цикады, листья – я побывала всем, что есть в этом мире, но девушкой в весенней ночи, такой, как эта, – никогда! Ах, пожалуйста, давай пойдем на танцы!
Ее разум тянулся к ней, словно пальцы, расправлявшие новую перчатку.
– Да, – согласилась Энн Лири, – я пойду с тобой. Не знаю почему, но я пойду танцевать с тобой, Том.
– А теперь скорей домой! – торопила ее Сеси. – Тебе нужно искупаться, отпроситься у родителей, достать платье, погладить его – скорее в комнату!
– Мама, – сообщила Энн, – я передумала!
Повозка неслась по дороге, на ферме кипела жизнь – грелась вода для ванны, в духовке пылали угли для утюга, чтобы отгладить платье, мать сновала по дому, и шпильки обрамляли ее рот.
– Что на тебя нашло, Энн? Тебе же не нравится Том!
– Это правда. – И Энн вдруг застыла среди лихорадочной суеты.
«Но ведь пришла весна!» – подумала Сеси.
– Пришла весна, – сказала Энн.
«И такая чудная ночь, как раз для танцев!» – подумала Сеси.
– …как раз для танцев, – пробормотала Энн Лири.
А потом она очутилась в ванной, и пена клубилась на ее гладких белых плечах, гнездилась под мышками, теплые груди вздымались в такт движениям рук, и Сеси улыбалась ее губами, не давая рукам покоя. Нельзя медлить, нельзя сомневаться, или всей пантомиме придет конец! Энн Лири должна продолжать двигаться, действовать, притворяться, вымыть вон там, намылиться тут, а теперь прочь! Вытереться полотенцем! Надушиться, напудриться!
– Ты! – Взгляд Энн поймал собственное отражение в зеркале – кровь с молоком, будто лилии и гвоздики. – Что с тобой этой ночью?
– Я девушка, и мне семнадцать. – Сеси смотрела ее фиалковыми глазами. – Ты не сможешь меня увидеть. Чувствуешь мое присутствие?
– Верно, мое тело взяла внаем апрельская ведьма.
– Почти угадала! – рассмеялась Сеси. – А теперь одевайся.
Как чудесно было ощущать добротное платье, касавшееся этого роскошного тела! А затем услышать приветственный оклик за окном.
– Энн, Том вернулся!
– Скажи ему, чтобы подождал.
Энн вдруг села.
– Скажи, что ни на какие танцы я не пойду.
– Что? – спросила мать, стоявшая в дверях.
Сеси вновь сосредоточилась. Она расслабилась, покинув тело Энн лишь на миг, и едва не случилась беда. Ей слышен был далекий стук копыт и грохот повозки, катившейся по равнине в свете луны. Лишь на миг она пожелала отыскать Тома, побывать в его голове, узнать, что значит быть мужчиной двадцати двух лет в такую ночь, как эта. И она помчалась над вересковым полем, но теперь, как птица в клетке, метнулась назад и билась в голове Энн Лири.
– Скажи, чтобы он уходил!
– Энн! – Сеси вернулась, раскинула сеть своих мыслей.
Но Энн вырвала поводья.
– Нет, нет, ненавижу его!
Не стоило ей уходить, даже на миг. Мысли Сеси опутали руки девушки, затем ее сердце, ее голову – мягко, осторожно.
«Вставай!» – подумала она.
Энн встала.
«Надевай пальто!»
Энн надела пальто.
«Вперед!»
«Нет!» – подумала Энн Лири.
«Давай же!»
– Энн, – вмешалась мать, – хватит уже Тому тебя ждать. Выходи сейчас же, и давай без глупостей. Что на тебя нашло?
– Ничего, мама. Спокойной ночи. Мы вернемся поздно.
Энн и Сеси выбежали из дома навстречу весенней ночи.
Зала была полна порхающих голубей, тихо шелестевших перьями, павлинов, радужных глаз и огней. И в самом ее центре кружилась, кружилась, кружилась в танце Энн Лири.
– Ах, какой чудный вечер! – сказала Сеси.
– Ах, какой чудный вечер! – сказала Энн.
– Ты какая-то странная, – заметил Том.
Смутная музыка несла их, песня качала на волнах, и они плыли, погружаясь и всплывая вновь, хватая воздух, вдыхали, сжимая друг друга в объятиях, будто тонули, и вновь кружились вихрем, среди шепотов, вздохов, под звуки «Прекрасного Огайо».
Сеси подпевала. Слова срывались с распахнутых губ Энн.
– Да, я странная, – согласилась Сеси.
– Не такая, как обычно, – продолжил Том.
– Да, не в эту ночь.
– Ты не та Энн Лири, которую я знаю.
– Совсем, совсем не та, – шептала Сеси за много-много миль отсюда.
– Совсем не та, – двигались губы.
– Забавное у меня чувство, – проговорил Том.
– Что же такого забавного?
– Ты. – Он чуть отстранился в танце, пристально вглядываясь в ее пылающее лицо. – Что-то с твоими глазами, – заключил он. – Не могу понять.
– Ты меня видишь? – спросила Сеси.
– Часть тебя здесь, Энн, а другая – нет. – Том осторожно развернул ее, его лицо посуровело.
– Да.
– Почему ты пошла со мной?
– Я не хотела идти, – отвечала Энн.
– Тогда зачем?
– Что-то меня заставило.
– Что?
– Я не знаю. – Энн, казалось, вот-вот разрыдается.
– Ну-ну, тише, тише, – нашептывала Сеси. – Тише, вот так. Танцуй, кружись!
Они шептались, взмывая и падая, шуршало платье в темной зале, они кружились, ведомые музыкой.
– Но ты все-таки пошла, – сказал Том.
– Я пошла, – ответила Сеси.
– Идем. – И он, танцуя, повел ее к дверям, тихонько уводя из залы, прочь от музыки, прочь от людей.
Они забрались на козлы повозки и сели рядом.
– Энн. – Весь дрожа, он взял ее руки в свои. – Энн. – Но ее имя он произнес так, словно оно было чужим. Он все всматривался в ее бледное лицо, и ее глаза вновь открылись.
– Знаешь, я ведь любил тебя когда-то, – сказал он.
– Знаю.
– Но ты всегда была такой капризной, а я не хотел страдать.
– Тем лучше, мы еще так молоды, – отвечала Энн.
– Нет, я хотела попросить прощения, – сказала Сеси.
– Ты сейчас о чем? – Том отпустил ее руки, напрягся.
Ночь была теплой, их окутывал мерцающий пар, поднимавшийся от земли, и свежим было дыхание листьев, что трепетали на деревьях.
– Не знаю, – сказала Энн.
– А я знаю, – сказала Сеси. – Ты высокий, ты самый красивый мужчина в целом свете! Этот вечер прекрасен, я навсегда запомню его, потому что была с тобой.
Она протянула чужую холодную руку к его противящейся руке и крепко стиснула ее, чтобы согреть.
– Но, – Том поморгал, – ты сегодня сама не своя. Сперва говоришь одно, затем совсем другое. Я хотел потанцевать с тобой сегодня, как раньше. Я ни о чем таком не думал, когда тебя пригласил. А когда мы стояли у колодца, увидел, что в тебе что-то изменилось. Ты стала совсем другой. Ты изменилась, стала нежнее, стала… – Он пытался подобрать слова. – Не знаю, как сказать. Ты выглядела иначе. Твой голос изменился. И я понял, что снова тебя полюбил.
– Не ее, – сказала Сеси. – Меня, меня!
– Меня пугает эта любовь, – признался он. – Ты снова причинишь мне боль.
– Может быть, – сказала Энн.
«Нет-нет, я полюблю тебя всем сердцем! – подумала Сеси. – Скажи ему, Энн, скажи за меня. Скажи, что полюбишь его всем сердцем!»
Энн промолчала.
Том осторожно придвинулся к ней, приподняв ее подбородок.
– Я уезжаю. Нашел работу в сотне миль отсюда. Ты будешь скучать без меня?
– Да, – ответили Энн и Сеси.
– Могу я тогда поцеловать тебя на прощание?
– Да, – поспешно согласилась Сеси.
Его губы прижались к чужим губам. Дрожа, он поцеловал их.
Энн замерла, будто бледная статуя.
– Энн! – сказала Сеси. – Протяни руки, обними его!
Но в свете луны та сидела неподвижно, как резная деревянная кукла.
Он снова поцеловал ее в губы.
– Я люблю тебя, – шепнула Сеси. – Я здесь, это меня ты увидел в ее глазах, меня, и я буду любить тебя, даже если она никогда не полюбит.
Он отодвинулся, измученный, будто пробежал много миль. Сел рядом.
– Не понимаю, в чем дело. На миг мне показалось, что…
– Что? – спросила Сеси.
– Показалось, что… – Он закрыл глаза руками. – Неважно. Отвезти тебя домой?
– Пожалуйста, – попросила Энн Лири.
Он цокнул лошади, устало дернув поводьями, и повозка покатилась прочь.
Было одиннадцать, и повозка катилась в лунной, все еще ранней ночи, шелестя колесами; хлопали вожжи, мимо проплывали блестящие луга и поля сладкого клевера.
А Сеси, глядя на поля и луга, думала: «Это стоит того, можно все отдать ради того, чтобы быть с ним отныне и навсегда». И ей вновь послышались слабые голоса родителей: «Берегись. Ты же не хочешь потерять свой волшебный дар, выйдя замуж за простого смертного? Берегись. Ты же не хочешь этого?»
«Да, да, – подумала Сеси, – я бы хотела этого, прямо сейчас, лишь бы только он стал моим. Тогда мне не нужно будет больше скитаться весенними ночами, не нужно будет вселяться в птиц, собак, кошек и лис, и я буду с ним. Только с ним, с ним одним.
Дорога неслась под колесами и что-то шептала.
– Том, – наконец сказала Энн.
– Что? – Он холодно смотрел на дорогу, на лошадь, деревья, небо и звезды.
– Если ты когда-нибудь, когда угодно, окажешься в Грин-Тауне, в Иллинойсе, за несколько миль отсюда, сделаешь кое-что для меня?
– Может быть.
– Сможешь навестить там одну мою подругу? – запинаясь, смущенно проговорила Энн Лири.
– Зачем?
– Она хорошая. Я тебе про нее рассказывала. Я дам тебе ее адрес. Сейчас, подожди.
Когда телега остановилась у ее фермы, она достала из сумочки клочок бумаги и карандаш и в лунном свете что-то нацарапала на коленке.
– Вот, держи. Сумеешь разобрать?
Он взглянул на бумагу, растерянно кивнул.
– Сеси Эллиотт, Уиллоу-стрит, 12, Грин-Таун, Иллинойс, – прочел он.
– Навестишь ее как-нибудь? – спросила Энн.
– Как-нибудь, – ответил он.
– Обещаешь?
– Как это связано с тобой и мной? – яростно вскричал он. – Зачем мне какие-то имена и бумажки?
Он скомкал листок, сунув его в карман пальто.
– Пожалуйста, обещай мне! – взмолилась Сеси.
– …обещай… – сказала Энн.
– Ладно, ладно, только отстань! – огрызнулся он.
«Я устала, – подумала Сеси. – Не могу оставаться здесь, нужно вернуться домой. Я слабею. Моих сил хватает всего на несколько часов ночных путешествий. Но перед тем, как я покину тебя…
– …покину тебя… – сказала Энн.
Она поцеловала Тома в губы.
– Это я целую тебя, – сказала Сеси.
Том отстранился, взглянув на Энн Лири, и смотрел на нее, заглянув глубоко-глубоко. Он ничего не сказал, но его лицо медленно, очень медленно разгладилось, морщины исчезли, смягчились ожесточенные губы, и снова он вгляделся в лицо той, что смотрела на него в лунном свете.
Он снял ее с повозки и, не прощаясь, быстро погнал повозку по дороге.
Сеси отпустила ее.
Энн Лири, рыдая, словно вырвавшись из темницы, стремглав бросилась по лунной дорожке, что вела к дому, и за ней захлопнулась дверь.
Сеси еще чуть помедлила. Глазами кузнечика она смотрела на весенний ночной мир. Побыла одинокой лягушкой у пруда. Ночной птицей глядела с высокого вяза под призрачной луной, увидев, как гаснет свет на ферме, и еще на одной, в миле отсюда. Думала о себе, о своей семье, о своем странном даре, о том, что никто из ее родных никогда не сможет быть с кем-то из этих людей в огромном мире за этими холмами.
«Том? – Разум ее слабел, ночной птицей летя под кронами деревьев, над полями дикой горчицы. – Сохранил ли ты тот клочок бумаги, Том? Придешь ли ты ко мне однажды, через года, когда-нибудь? Узнаешь ли меня? Посмотришь на мое лицо, вспомнишь, где видел меня в последний раз, полюбишь ли меня так, как я тебя – всем сердцем и навсегда?»
Она застыла в холодной ночи, за миллион миль от городов и людей, над фермами, материками, реками и холмами.
– Том? – прошептала она.
Том уже спал. Стояла глубокая ночь, его одежда висела на стуле и аккуратно лежала на кровати у него в ногах. В его руке, тихо покоившейся на белой подушке, у самой головы, был клочок бумаги с адресом. Медленно, медленно, дюйм за дюймом, его пальцы смыкались, а затем крепко стиснули его. Он не пошевелился, не вздрогнул, когда черный дрозд вдруг слабо, чуть слышно постучался в его окно, сиявшее в свете луны, как хрусталь, затем тихо вспорхнул и, чуть помедлив, полетел прочь, на восток, над спящей землей.
Пустошь
«Блаженный наступает час…»
Смеркалось, и Дженис с Леонорой размеренно паковали вещи в своем летнем домике, пели песни, прерываясь, чтобы перекусить, и помогали друг другу, когда нужно.
Но ни разу не посмотрели в окно, за которым сгущалась ночь и в небе светили яркие, холодные звезды.
– Слушай! – сказала Дженис.
Казалось, будто пароход плыл по реке – но так звучала ракета на взлете. И кто-то играл на банджо? Нет, лишь сверчки пели этой летней ночью 2003 года. В городе было слышно дыхание десяти тысяч жарких солнц. Дженис прислушалась, склонив голову. Давным-давно, в 1849-м, на этой самой улице звучали голоса чревовещателей, проповедников, гадателей, глупцов, ученых, игроков, собравшихся в том же самом городе Индепенденс штата Миссури. Все ждали, когда земля просохнет после дождей, покрывшись ковром из трав, способным выдержать тяжкую ношу их телег, фургонов, смешенья чаяний и судеб.
- «Блаженный наступает час,
- Мы отправляемся на Марс,
- И в небесах пять тысяч дев —
- Таков весенний наш посев!»
– Эту песню давным-давно пели в Вайоминге, – сказала Леонора. – Чуть поменять слова, и для две тысячи третьего в самый раз.
Дженис подняла коробочку с пищевыми пилюлями, пытаясь сосчитать, сколько всего везли в тех высокобортных фургонах на огромных колесах. Тонны припасов на каждого мужчину, каждую женщину! Окорока, ломти грудинки, сахар, соль, мука, сушеные фрукты, галеты, лимонная кислота, вода, имбирь, перец – списку, как прерии, конца не видать! И вот, пожалуйста – сегодня одной пилюли, меньше, чем дамские часики, хватит не от Форт-Ларами до Хэнгтауна, а на весь путь сквозь звездную пустошь.
Дженис распахнула дверцу шкафа и чуть не закричала. Тьма, ночь и звездная бездна смотрели на нее из его глубины.
Много лет назад с ней произошло два события. Сестра закрыла ее, кричащую, в кладовке. В другой раз, на вечеринке, когда все играли в прятки, она бежала сквозь кухню в длинный темный коридор, оказавшийся темной лестницей, поглотившей ее, словно черная бездна. Она ощутила, как пол уходит у нее из-под ног, и все кричала, падая. Падая прямо во тьму, в подвал, она слышала, как бьется сердце. И в той кладовке она задыхалась – так долго, без света, без друзей, и никто не слышал, как она кричит. Отрезанная от всего мира, запертая во тьме. Все падала и падала в бездну, и кричала.
Вот о чем она вспомнила.
Дверца шкафа широко распахнулась, и тьма перед ней была осязаемой, как бархатная пелена, до которой можно было дотянуться дрожащей рукой – она дышала, как черная пантера, глядя блеклыми глазами. Воспоминания овладели ей. Она падала в бездну. Кричала, запертая в ней. Размеренно пакуя вещи с Леонорой, не смея смотреть в окно на пугающий Млечный Путь, в бездонную пустоту. И все равно старый, давно знакомый шкаф, в котором пряталась ночь, наконец, напомнил им о том, что за судьба им уготована.
Так и будет – плавное движение навстречу звездам, в ночи, в громадном, ужасном, черном шкафу, и никто не услышит их криков. Вечное падение среди сонма метеоров и безбожных комет. Прямо в шахту лифта. В разверстую пасть угольной шахты. В никуда.
Она кричала. Ни звука не сорвалось с ее губ – они теснились в ее груди, в ее голове. Она кричала. Захлопнула дверцу, прижалась к ней, слушая, как там, внутри, дышит и стенает тьма, и, со слезами на глазах, держала изо всех сил. Долго она стояла так, наблюдая за сборами Леоноры, пока не перестала дрожать. От ее позабытой истерики постепенно не осталось и следа. В комнате слышалось тиканье наручных часов – ясное, говорившее о том, что теперь все хорошо.
– Шестьдесят миллионов миль. – Наконец она приблизилась к окну, будто к краю колодца. – Не могу поверить, что в эту ночь там, на Марсе, мужчины строят города и ждут нас.
– Верить стоит только в то, что завтра мы уже будем на борту нашей ракеты.
Дженис подняла белое платье – будто белый призрак среди комнаты.
– Как это странно – выйти замуж на другой планете.
– Давай-ка уже ложиться.
– Нет! Он позвонит в полночь. Я спать не смогу, пока не скажу Уиллу, что полечу на Марс. Леонора, ты только подумай: мой голос пролетит по светофону шестьдесят миллионов миль, и он его услышит! Я так быстро все решила, а теперь боюсь.
– Это наша последняя ночь на Земле.
Теперь они на самом деле поняли и приняли происходящее – к ним пришло осознание. Они улетали и, может быть, никогда не вернутся назад. Они покидали город Индепенденс в штате Миссури, на континенте Северная Америка, омываемом Атлантическим и Тихим океанами, и ничто из этого не поместилось бы в их чемоданах. Перед лицом этой истины они чувствовали себя совсем крошечными. Она сковала их, ошеломила.
– Наши дети не будут американцами, не будут землянами. До конца своих дней мы останемся марсианами.
– Не хочу никуда лететь! – вдруг закричала Дженис.
Она застыла от ужаса.
– Мне страшно! Этот космос, эта тьма, ракета, метеоры! Всей прошлой жизни конец! Зачем мне туда лететь?
Леонора обняла ее за плечи, прижала к себе, баюкая.
– Это новый мир. Так и раньше было. Мужчины идут первыми, а следом – женщины.
– Зачем я должна туда лететь? Почему?
– Потому, – тихо ответила, наконец, Леонора, усадив ее на кровать, – что там Уилл.
Его имя прозвучало так радостно. Дженис успокоилась.
– Тяжело с этими мужчинами, – размышляла Леонора. – Раньше все дивились, стоило женщине уехать за двести миль ради мужчины. Потом за тысячу. А теперь меж нами вся вселенная. Но мы же не отступимся, ведь так?
– Боюсь, в ракете я буду вести себя, как полная дура.
– А я заодно с тобой. – Леонора поднялась. – Пойдем, прогуляемся по городу, посмотрим на него в последний раз.
Дженис взглянула в окно, за которым лежал город.
– Завтра вечером все здесь будет, как и прежде, только без нас. Люди проснутся, позавтракают, пойдут на работу, снова уснут и проснутся, только мы этого не увидим, и никто не станет скучать без нас.
Леонора и Дженис бродили по комнате, словно не могли отыскать дверь.
– Идем.
Открыв дверь, они выключили свет, вышли из дома и закрыли ее за собой.
В небе над ними было сплошное движение. Кружились, свистели, вращаясь, лопасти винтов, словно метель, и вертолеты тихо приземлялись, словно снежинки. С запада, востока, севера и юга прибывали женщины, вновь и вновь. В ночном небе снежным вихрем кружили вертолеты и падали вниз. Все отели были забиты, внаем сдавались комнаты в домах, причудливые, безобразные цветы палаточных городков распускались на лугах и полях, но не одним лишь жаром летней ночи пылали город и округа. Стало теплее от румянца на лицах женщин, от загорелых лиц мужчин, смотревших в небо. За холмами грелись двигатели ракет, звуча, как гигантский орган, все клавиши которого нажали разом, дрожали блестящие стекла в домах, и люди тоже содрогались – до последней косточки. Дрожь пробирала до зубов, до самых кончиков пальцев.
Леонора и Дженис сидели в аптеке среди незнакомых женщин.
– Такие красавицы, и такие грустные, – сказал продавец из-за стойки с напитками.
– Два шоколадно-солодовых, – за двоих улыбнулась в ответ Леонора, так как Дженис сидела, словно немая.
Они смотрели на свои напитки, как на редкую картину в музее. На Марсе таких не подадут еще много лет.
Дженис порылась в сумочке, нерешительно вытянула конверт и положила его на мраморную стойку.
– Это от Уилла. Пришло два дня назад с ракетной почтой. Из-за него я решила, что полечу. Я тебе ничего не сказала, но сейчас хочу, чтобы ты взглянула. Вот, прочитай.
Леонора достала из конверта листочек, прочла вслух:
«Дорогая Дженис, если ты решишь прилететь на Марс – это наш дом. Уилл».
Леонора постучала по конверту, и на стойку упала блестящая цветная фотография. На ней был дом – темный, замшелый, древний, золотисто-коричневый, как карамель, уютный, в окружении красных цветов и свежих, зеленых папоротников, с верандой, увитой неприлично разросшимся плющом.
– Дженис, но!..
– Что?
– Это же твой дом, здесь, на Земле, на Элм-стрит!
– Нет. Смотри внимательней.
И они вместе принялись изучать фотографию, на которой за уютным темным домом лежал неземной пейзаж. Почва была со странным фиолетовым оттенком, трава – рыжеватой, небо сверкало, как серый бриллиант, а рядом причудливо горбилось дерево, напоминавшее старуху с кристаллами в седых волосах.
– Вот дом, который Уилл построил для меня на Марсе, – сказала Дженис. – Когда я на него смотрю, мне становится легче. Вчера, когда я оставалась одна, и мне было страшнее всего, я доставала фотографию и смотрела на нее.
Они глядели на темный уютный дом за шестьдесят миллионов миль отсюда, знакомый и все же незнакомый, старый, но новый, где справа в окне гостиной горел свет.
– Уилл молодец, – одобрительно кивнула Леонора, – постарался на славу.
С напитками было покончено. За окном текла необъятная, разгоряченная толпа приезжих, и с летнего неба мерно падали «снежинки».
В дорогу они накупили всякой ерунды: лимонных леденцов, женских глянцевых журналов, флаконов с духами, а потом взяли напрокат пару антигравитационных курток на ремнях, став похожими на мотыльков, пробежались пальцами по чувствительным клавишам и вспорхнули над городом, словно белые лепестки.
– Куда угодно, – сказала Леонора, – все равно куда.
Отдавшись на милость ветра, они летели в жаркой суетной ночи над их милым городом, над цветущими яблонями, над домами, где выросли, и над теми, где бывали, над школами, улицами, ручьями, лугами и фермами – такими родными, что каждое пшеничное зернышко было, как золотая монета. Летели, будто листья в дыхании жаркого ветра, в предвестии летних гроз средь ущелий в горах. Видели, как молочно-белая пыль искрится на дорогах, над которыми не так давно в свете луны они кружили на вертолетах, по спирали спускаясь вниз, к прохладным ночным рекам вместе с любимыми, которых больше не было рядом.
Паря на крыльях в гуле ветра, они плыли над городом, что уже казался им столь далеким там, на земле, растворяясь позади в черной реке, набегая волной света и красок, уже недостижимый, как сон, наполняющий их взгляды тоской, и они отчаянно цеплялись за память о нем, пока он не исчез.
В тихом кружении, незримо они смотрели в лица сотни дорогих друзей, что оставались позади, в свете ночников за окнами, точно влекомые воздушным потоком, но то было дыхание самого Времени, уносившее их прочь. Не осталось ни дерева, которое бы они упустили в поисках старых, вырезанных ножом признаний в любви, ни единой тропинки, над которой не скользили бы они, как над полями искусственного снега. Впервые они узнали, как прекрасен их город, его одинокие фонари, старинные дома из кирпича, и они дивились увиденному, наслаждаясь им. Ночная карусель кружилась под ними, там и тут слышалась музыка и голоса смутно звучали в домах, где призрачно мерцали белые телеэкраны.
Сшивая деревья нитью духов, две женщины проносились меж стволами. Глаза их вбирали в себя так много, и все же они запоминали каждую деталь, каждую тень, каждый одинокий дуб или вяз, каждый автомобиль, проезжавший внизу по извилистым улицам, пока ни глаза, ни разум, ни сердце не переполнились до самого края.
«Я словно умерла, – думала Дженис, – и вот я на кладбище весенней ночью, и все, кроме меня, вокруг живет, все движется, готовое жить дальше, только уже без меня. С тех пор как мне исполнилось шестнадцать, я чувствовала это с каждым приходом весны, проходя мимо кладбища, оплакивая мертвых, ведь в те чудные ночи я была жива, а они – нет, и это было нечестно. Моя вина была в том, что я живу. А сегодня, этой ночью, меня будто забрали из могилы, позволив подняться над городом всего лишь раз, чтобы увидеть, каково это – жить в нем, среди людей, чтобы затем вновь запереть меня за черной дверью.
Тихо, бесшумно, как бумажные фонарики на ночном ветру, женщины плыли над своей прошлой жизнью, над лугами, где сверкали палаточные городки, над шоссе, где до самого рассвета будет полным-полно мчащихся грузовиков, что везут припасы. Долго, долго они плыли над всем этим в вышине.
Часы на здании муниципалитета били без четверти двенадцать, когда они, как паутинки со звезд в лунном свете, коснулись мостовой перед домом Дженис. Город спал, и дом Дженис ждал их, ищущих нейдущий сон.
– Это и вправду мы? – спросила Дженис. – Дженис Смит и Леонора Холмс, и сейчас две тысячи третий год?
– Да.
Дженис облизала сухие губы, выпрямилась.
– Лучше бы это был другой год.
– Тысяча четыреста девяносто второй? Тысяча шестьсот двенадцатый? – вздохнула Леонора, и с ней ветер в кронах деревьев, летящий мимо. – Вечно то День Колумба, то день высадки в Плимутской гавани, а нам, женщинам, что со всем этим делать?
– Остаться старыми девами.
– Или закончить начатое.
Они открыли дверь дома, встречавшего их ночным уютом, и шум города мало-помалу затих. Едва захлопнулась дверь, зазвонил телефон.
– Звонок! – крикнула Дженис на бегу.
Вслед за ней в спальню вошла Леонора, а Дженис уже сняла трубку и говорила: «Алло, алло!» И где-то в далеком городе оператор готовил гигантский аппарат, соединяющий миры, и женщины ждали – одна сидит, вторая склонилась над ней, и на обеих лица нет.
Они ждали долго – падали звезды, текло время; все они ждали так же, как и в минувшие три года. Теперь настал тот миг, когда Дженис должна была звонить сквозь миллиарды миль, мчась среди метеоров и комет, прочь от желтого солнца, что могло сжечь ее слова, испепеляя самую их суть. Но ее голос, будто серебряная игла, пронзал пространство, сшивая его нитью слов в ночной бездне, эхом отражаясь от марсианских лун. И он достиг мужчины, сидевшего в комнате, в городе, там, в другом мире, пять минут ждавшего радиоволн. И она сказала ему:
– Привет, Уилл. Это Дженис!
Она сглотнула.
– Говорят, у меня не так много времени. Всего минута.
Закрыла глаза.
– Не хочу говорить так быстро, но говорят, чтобы я поторопилась. И я хочу сказать тебе, что… решилась. Я полечу туда. Завтра, на ракете. Я столько ждала, а теперь прилечу к тебе. И я люблю тебя. Надеюсь, ты меня слышишь. Я тебя люблю. И так скучаю…
Ее голос летел навстречу иному, невидимому миру. Слова сорвались с губ, она все сказала – и теперь хотела забрать их назад, сказать их иначе, чтобы они звучали красивее, искреннее. Но они уже летели на другую планету, и если космическое излучение каким-то чудом зажгло их, ее любви хватило бы, чтобы осветить дюжину миров, и на той части Земли, что погрузилась в ночь, утро бы настало до срока. Слова принадлежали уже не ей одной, а всему космосу – и в то же время никому, пока летели к цели со скоростью сто восемьдесят шесть тысяч миль в секунду.
«Что он ответит мне? Что скажет за отведенную минуту?» – думала она. Она теребила часы на запястье, а в прижатой к уху трубке слышался треск, и космос говорил с ней пляской разрядов и звуком сияний.
– Что он ответил? – прошептала Леонора.
– Тише! – Дженис согнулась, словно в приступе дурноты.
И через пространство зазвучал его голос.
– Я его слышу! – вскричала Дженис.
– Что он говорит?
Голос, взывавший к ней с Марса, шел сквозь бездну вечной ночи, не знавшей ни рассветов, ни закатов, в центре которой было солнце. И где-то между Марсом и Землей сбился с курса – может, встретил комету на пути, а может, попал под дождь серебристых метеоров. И все лишние, ненужные слова исчезли, оставив лишь одно:
– …люблю…
И вновь настала бесконечная ночь, где слышны были песнь звездного кружения и шепот солнц, и биение ее сердца, еще одного мира в космосе, эхом отдавалось в ее ушах.
– Ты услышала его? – спросила Леонора.
Дженис лишь сумела кивнуть.
– Так что, что он сказал тебе? – кричала Леонора.
Но Дженис никому бы не ответила – слишком чудесно звучало то слово. Вновь и вновь она слышала его в своей памяти. Она долго сидела так и все слушала, не заметив, как Леонора забрала у нее трубку, вернув на рычаг.
Затем они легли в постель, выключили свет, и ночной ветер принес в комнаты запахи долгой дороги во тьме среди звезд; звучали их голоса, говорившие о том, что будет завтра, и в остальные дни – не дни, не ночи в безвременье; и голоса их звучали все тише, пока они не уснули, или просто не смолкли, без сна, и Дженис лежала в постели одна.
«Так ли все было сто с лишним лет назад, – думала она, – когда в ночь перед отъездом женщины лежали вот так, не в силах заснуть, в городишках на Востоке, слыша в ночи лошадей и скрип конестогских повозок, готовых отправиться в путь, и угрюмых волов под деревьями, и плач детей, что остались одни раньше времени? Шум прибытия и отъезда навстречу лесным чащам и полям, и кузнецов, что в полночь трудились среди адского пекла? Запах грудинки и ветчины, припасенных в дорогу; тяжесть вагонов, словно кораблей, чьи трюмы полнились снедью; воды, что будет колыхаться в бочках на степной дороге; истерично кудахтавших кур в клетях под вагонами; собак, что убегали в пустошь впереди, чтобы вернуться со страхом в глазах, отразивших ее? Не так ли все и было тогда, давным-давно? На краю пропасти, на краю звездной бездны. В те времена пахло буйволами, а в наши – ракетами. Ведь все так и было?
И едва сон начал вступать в свои права, как она решила, что да, на самом деле, несомненно – так было, и так будет всегда.
Фрукты на дне вазы
Уильям Эктон поднялся с пола. Часы на камине пробили полночь.
Он осмотрел свои пальцы, всю комнату вокруг и перевел взгляд на того, кто лежал на полу. Эти самые скрюченные пальцы, стучавшие по клавишам печатной машинки, ласкавшие жену и готовившие яичницу с беконом на завтрак, только что помогли Уильяму Эктону задушить человека.
Он никогда бы не подумал, что ему придется стать скульптором, но, снова взглянув на труп, распростертый на блестящем паркете, он вспомнил, как плоть Дональда Хаксли послушно поддавалась его пальцам, как менялось его лицо и тело.
Стоило лишь сжать их покрепче и надавить как следует, и серые глаза Хаксли потускнели, стали холодными и пустыми. Раскрылись губы, такие тонкие и чувственные, обнажились лошадиные зубы курильщика: желтые резцы, потемневшие клыки, моляры в золоте коронок. Некогда розовый, нос весь пошел пятнами, побледнел, обесцветились и уши. Руки Хаксли, столь привыкшие указывать и повелевать, застыли в бессильной мольбе.
Да, это тоже искусство. В целом это пошло на пользу Хаксли. Теперь, когда он мертв, с ним хотя бы можно спокойно поговорить, и он прислушается.
Уильям Эктон снова взглянул на свои пальцы.
Дело сделано. Ничего не вернуть. Слышал ли их кто-нибудь? Он прислушался. Шумела вечерняя улица. Никто не постучался в дверь, не разнес ее в щепы, никаких голосов, требующих ее открыть. Свершилось убийство, теплая глина человеческого тела застыла втайне от всех.
Что теперь? Было за полночь. Все его чувства указывали на дверь. Прочь, прочь, бежать и никогда не возвращаться, сесть на поезд, поймать такси, уйти, убежать, пешком, как угодно, но подальше отсюда!
Его руки плыли и кружились у него перед глазами.
Он медленно повел ими: пальцы были прозрачными, легкими как перышко. «Чего это я так на них уставился?» – спросил он себя. Что в них такого интересного, почему после убийства он все время изучает их, каждый суставчик?
Самые обычные руки. Не полные, не тонкие, не длинные, не короткие, не волосатые, не безволосые, без маникюра, но не грязные, не мягкие, но и не в мозолях, не морщинистые, но и не гладкие: не руки убийцы, но и не руки невиновного. Он смотрел на них, как на чудо.
Впрочем, его интересовали не собственные руки и не пальцы как таковые, а их подушечки. В немом безвременье совершившегося злодеяния лишь они что-то значили.
На камине тикали часы.
Он склонился над телом Хаксли, достав платок из его кармана, и начал методично вытирать его шею. Он яростно скреб ее спереди, затем сзади. Затем он встал.
Посмотрел на шею убитого. На отполированный пол. Медленно склонясь, прошелся платком по паркету пару раз, затем взвыл и принялся протирать пол под головой и руками Хаксли. Затем вокруг всего тела. Затем вытер весь пол на расстоянии ярда от него.
Затем остановился.
На мгновение он увидел весь дом целиком, зеркальные залы, резные двери, великолепную мебель, слово в слово услышал их разговор, состоявшийся час назад.
Палец коснулся кнопки звонка. Хаксли открыл дверь.
– Ого! – Хаксли, похоже, шокирован. – Эктон, ты?
– Где моя жена, Хаксли?
– Так я тебе и сказал. Давай, заходи, не стой на пороге, как идиот. Хочешь поговорить, так проходи. Вон в ту дверь. Сюда. В библиотеку.
Эктон отворил дверь в библиотеку.
– Выпьешь?
– Не помешает. Не могу поверить, что Лили ушла, что она…
– Вон, бутылка бургундского в шкафу. Доставай.
Да, доставай. Возьми ее. Прикоснись к ней. Он взял бутылку.
– Смотри, Эктон, там есть оригинальные издания. Пощупай переплеты.
– Я не книги пришел разглядывать, я…
Он прикасался к книгам, библиотечному столу, к бутылке бургундского и бокалам.
Сидя на полу, у остывшего тела Хаксли, сжимая платок, он уставился на стены вокруг, на мебель, на все, что окружало его, и зрачки его расширились, челюсть отвисла, он замер, ошеломленный увиденным. Он закрыл глаза, уронив голову, сжимая платок, скомкал его, кусая губы, натянул его на голову.
Отпечатки его пальцев были повсюду!
– Принесешь бутылочку бургундского, а, Эктон? Бургундского, а? Ручками, а? Я жуть как устал, понимаешь?
Нужна пара перчаток.
Перед тем как что-то чистить, коснуться чего-нибудь, нужно найти пару перчаток, или он снова оставит улики.
Он спрятал руки в карманы. Прошел через весь дом к стойке для зонтов и шляп. Плащ Хаксли. Он вывернул карманы.
Пусто.
Держа руки в карманах, он пошел наверх, двигаясь осторожно, размеренно. Ошибкой было не надеть перчатки сразу (убивать он не собирался, а потому подсознание ему даже не намекнуло, чтобы он их взял этим вечером), и сейчас он, потея, расплачивался за свою забывчивость. Должна же где-нибудь в доме быть пара перчаток? Надо спешить, ведь даже в этот час кто-нибудь может заявиться к Хаксли. Богатенькие дружки-пропойцы, кричащие, гогочущие приходя и уходя, не здороваясь и не прощаясь. Надо все сделать до шести утра, когда за Хаксли приедут друзья, чтобы отвезти его в аэропорт, на рейс в Мехико…
Эктон суетился наверху, обыскивая шкаф за шкафом, обмотав руку платком. Он выдвинул семьдесят или восемьдесят ящиков, и каждый был, как разинутый рот, и безостановочно рылся в других. Без перчаток он чувствовал себя голым, немощным. Пусть даже он вычистит весь дом этим платком, все, на чем он мог оставить отпечатки, одно неловкое касание там или тут станет роковой печатью! Подписью на его собственном признании! Совсем как в старину, когда чернильные перья скрипели по пергаменту, затем песком сушили чернила, а затем внизу ставили оттиск перстнем на алом сургуче. Всего один-единственный отпечаток, и он погиб! Да, он виновен, но приговор себе подписывать не собирается.
Еще ящики! Тише, соберись, будь внимательнее, повторял он про себя.
Перчатки нашлись на самом дне восемьдесят пятого ящика.
«Боже, боже мой!» – он облокотился на комод, вздохнув. Он примерил перчатки, повертел руками, сгибая и разгибая пальцы, застегнул их. Мягкие, серые, толстые, непроницаемые перчатки. Теперь он что угодно мог делать руками, не оставляя ни следа. Он передразнил свое отражение в зеркале спальной, показав ему нос и причмокнув.
– НЕТ! – вскричал Хаксли.
Как же хитро все задумано.
Хаксли специально упал на пол! Какой извращенный ум! Сначала упал Хаксли, а сверху повалился Эктон. На полу они катались, кувыркались, царапались, и теперь на полу его отпечатки! Когда Хаксли откатился в сторону, Эктон пополз к нему, схватил за шею и выдавил из его глотки весь дух, как пасту из тюбика!
Теперь Уильям Эктон был в перчатках и, вернувшись в комнату, принялся старательно счищать с пола каждое пятнышко, не пропуская ни дюйма. Он начищал пол до тех пор, пока не увидел на нем свое отражение: сосредоточенное, вспотевшее лицо. Затем он подошел к столу, протер его ножку, протер его добротное основание и крышку с ручками ящиков. Добравшись до вазы с фруктами, он начисто вытер все, кроме тех, что лежали на дне.
– Эти я точно не трогал, – сказал он.
За столиком последовала картина, что висела над ним.
– Ее я тоже не трогал, – сказал он.
Он стоял и смотрел на нее.
Потом обвел взглядом все двери в комнате. Какие из них он открывал? Сейчас уже не вспомнить.
Значит, надо все протереть. Начав с ручек, отполировав их до блеска, он вытер все двери снизу доверху, ничего не упустив. Последовала очередь мебели в комнате, вплоть до ручек кресел.
– Ты сейчас, Эктон, сидишь на кресле времен Людовика XIV. Пощупай обивку, – предложил Хаксли.
– Я не ради мебели к тебе пришел, Хаксли! Дело касается Лили.
– Ты серьезно? Забудь о ней, сделай милость. Она ж тебя не любит, ты прекрасно это знаешь. Завтра полетит со мной в Мехико, она сама так сказала.
– Все твои чертовы денежки и твоя чертова мебель!
– Отличная же мебель, Эктон, будь порядочным гостем, потрогай ее.
На обивке тоже могли остаться отпечатки.
– Хаксли! – Уильям Эктон сверлил взглядом труп. – Ты что, догадался, что я хочу убить тебя? Твое подсознание знало, как знало мое? Твое подсознание нашептало тебе пройтись со мной по всему дому, чтобы я трогал все твои книги, посуду, двери и мебель? Неужто ты и впрямь настолько же умный, насколько подлый?
Стиснув платок, он насухо вытер обивку кресел. Вспомнил про тело – его он вытер не так тщательно. Он вернулся к трупу и вычистил его с головы до пят. Даже ботинки теперь сверкали – упустить нельзя ничего.
Пока он занимался ботинками, лицо его омрачалось. Внезапно он встал и направился к столу.
Достал со дна вазы нетронутые фрукты и вытер их.
«Так-то лучше», – прошептал он, возвращаясь к телу.
Едва лишь он присел на корточки, его веки задергались, челюсть задвигалась, и, охваченный сомнениями, он снова вскочил и подошел к столу.
Еще раз прошелся платком по картинной раме.
Полируя ее, взглянул на…
Стену.
«Да ну, – проговорил он, – глупость какая».
«Ох!» – вскрикнул Хаксли, отбиваясь. В пылу борьбы он толкнул Эктона. Эктон упал, поднялся, оперся на стену и вновь бросился на Хаксли. А затем задушил его. Хаксли был мертв.
Эктон резко отвернулся от стены, тщательно обдумав свои действия. Ругательства и все, что он натворил, померкло, скрылось за пеленой. Он взглянул на стены.
«Полная чушь!» – заверил он себя.
Боковым зрением он что-то заметил на одной из стен.
«Незачем мне туда смотреть, – сказал он, чтобы отвлечься. – Пора в другую комнату. Надо быть последовательным. Так, посмотрим: мы были в зале, в библиотеке, в этой комнате, в столовой и на кухне».
На стене у него за спиной было пятнышко.
Или не было?
Он озлился, развернулся. «Ладно, ладно, просто проверю», – проверив, никакого пятна он не нашел. Или нет, вон там есть маленькое. Он вытер его. Пусть это и не было отпечатком. С ним было покончено, и он оперся на стену рукой в перчатке, но стена была и слева, и справа, и над головой, и внизу, и он тихо проговорил: «Нет уж». Осмотрев ее всю вдоль и поперек, он пробормотал: «Это уж слишком». Сколько в ней квадратных футов? «Да черт бы ее побрал», – произнес он. Помимо его воли, пальцы шарили по стене, вытирая ее.
Он оглядел свою руку и обои. Через плечо взглянул на соседнюю комнату. «Надо бы пойти туда и почистить все, что нужно», – сказал он себе, но руки его не слушались, подпирая стену. Лицо его ожесточилось.
В полном молчании он принялся оттирать стену, вверх-вниз, взад-вперед, снова вверх-вниз, так высоко, как мог дотянуться, и так низко, как мог согнуться.
«Господи, чушь-то какая!»
Надо убедиться самому, говорил ему разум.
«Конечно, надо», – отвечал он.
С этой стеной покончено, а теперь…
Другая стена.
«Который час?»
Он посмотрел на каминные часы. Прошел час. Было пять минут второго.
Звонили в дверь.
Эктон замер, посмотрел на дверь, на часы, опять на дверь, потом на часы.
Кто-то барабанил в дверь.
Прошел тягостный миг. Эктон боялся вздохнуть. Без воздуха он ослаб, покачнулся, в голове у него рокотали холодные волны и тяжко бились о скалы.
– Эй, там! – раздался пьяный возглас. – Я знаю, ты дома, Хаксли! Открой, черт тебя дери! Это я, Билли, нажрался и пришел к своему старому собутыльнику Хаксли.
– Убирайся, – беззвучно шептал Эктон, сползая по стене.
– Хаксли, хорош уже, я слышу, ты там дышишь! – кричал пьяница.
– Да, я здесь, – прошептал Эктон, чувствуя себя неуклюже распростертым на полу, безмолвным, холодным. – О, да.
– Черт! – произнес голос, растворяясь в тумане. Звук шагов стихал. – Черт подери…
Эктон долго стоял, чувствуя биение сердца, отдающееся в закрытых глазах и голове. Когда он наконец открыл глаза и взглянул на стену перед собой, то снова обрел дар речи. «Глупости, – процедил он. – Это безупречная стена. Я и пальцем ее не трону. Надо спешить. Надо торопиться. Время, время. Всего несколько часов, и сюда ввалятся его придурковатые дружки!» Он отвернулся.
Краешком глаза он заметил паутинку. Пока он не видел, из деревянных панелей выползли маленькие паучки, плетя еле видимую паутинку. Не на стене слева, нет, ее он отдраил, а на трех остальных. Каждый раз, когда он присматривался к ним, паучки прятались в щелях, чтобы снова появиться тогда, когда он отворачивался.
«Эти стены в порядке. – Он почти кричал. – Я их трогать не стану!»
Он подошел к письменному столу, за которым сидел Хаксли. Выдвинул ящик и нашел то, что искал. Небольшую лупу, которой Хаксли изредка пользовался для чтения. Взяв ее в руку, он осторожно приблизился к стене.
Отпечатки пальцев.
«Но это же не я оставил! – Он нервно усмехнулся. – Не я, я уверен! Слуга, дворецкий, может, горничная!»
Вся стена была испещрена ими.
«Вот этот, – сказал он, – длинный, узкий, бьюсь об заклад, что женский».
«Спорим?»
«Спорим!»
«Точно?»
«Точно!»
«Уверен?»
«Ну да».
«Совершенно?»
«Да, черт возьми, да!»
«Все равно, сотри и его тоже».
«Да стер уже, о господи!»
«Все, нет его больше, а, Эктон?»
«А вот этот, – смеялся Эктон, – какой-то толстяк оставил».
«Ты уверен в этом?»
«Ты опять начинаешь?» – гаркнул он и стер пятно. Стянув перчатку, он рассмотрел свою ярко освещенную дрожащую руку.
«Сюда смотри, придурок! Видишь, какой здесь рисунок? Видишь?»
«Это не доказательство!»
«Ну ладно, смотри!» В ярости он принялся тереть стену вверх-вниз, вперед и назад, руками в перчатках, потел, пыхтел, ругался, наклонялся, вставал, лицо его раскраснелось.
Он стянул с себя плащ и положил его на кресло.
«Уже два часа», – сказал он, расправившись со стеной и взглянув на часы.
Подойдя к вазе, он тщательно протер восковые фрукты, лежавшие на ее дне, положил их на место, протер картинную раму.
Его внимание привлекла люстра наверху.
Его пальцы беспокойно шевелились.
Рот его раскрылся, он облизал губы, посмотрел на люстру, оглянулся, посмотрел на люстру, на труп Хаксли, на хрустальную люстру, на эти капельки радужного стекла.
Он схватил кресло, поставил его под люстрой, занес над ним ногу, тут же убрал ее и, хохоча, швырнул кресло в угол. Затем выбежал из комнаты, оставив одну стену нетронутой.
В столовой ему попался стол.
– Хочу показать тебе грегорианские столовые приборы, Эктон. – говорил Хаксли. Какой у него небрежный, гипнотизирующий голос!
– Некогда мне, – возразил Эктон. – Я пришел к Лили…
– Ерунда, взгляни-ка, как мастерски это сделано!
Эктон задержался у стола со множеством приборов, лежавших в ящичках, и снова услышал голос Хаксли, перебирая в памяти все, чего касался.
Эктон протер все вилки и ножи, снял со стены все подносы и блюда…
– Вот прекрасный образец керамики работы Гертруды и Отто Натцлеров, Эктон. Знакомы ли они тебе?
– Действительно, прекрасный.
– Возьми его. Переверни. Видишь, какая тонкая, ручная работа, не толще яичной скорлупки, просто невероятно. Этот потрясающий вулканический блеск. Взгляни, я не против.
ВОЗЬМИ ЕГО В РУКИ. ДАВАЙ. ПОТРОГАЙ!
Эктон всхлипнул. Запустил вазой в стену. Она разбилась, разлетелась по полу хлопьями осколков.
Мгновение спустя он упал на колени. Нужно найти каждый осколок, даже самый маленький. Дурак, болван, глупец! – ругал он себя, качал головой, зажмуриваясь и открывая глаза, ползая под столом. Ищи их все, тупица, до последнего осколка, на полу не должно остаться ни следа. Болван, глупец! Он собрал их все. А все ли он собрал? Они лежали перед ним на столе. Он еще раз поискал под столом, под стульями, под сервировочным столиком, и рядом с зажигалкой нашел еще один фрагмент и отполировал их все так тщательно, словно это были драгоценные камни. Выложил их в ряд на сияющий чистотой стол.
«Прекрасный образец керамики, Эктон. Давай, возьми его в руки».
Он вытащил все белье и вытер его и вытер начисто стулья, столы, дверные ручки и окна, выступы, занавески, вытер пол, добрался до кухни, задыхаясь, сорвал жилетку, поправил перчатки и принялся драить блестящий хром…
– Я покажу тебе свой дом, Эктон, – приглашал Хаксли. – Пойдем…
И он чистил все столовые приборы, серебряные краны, каждую миску, ведь он уже забыл, чего касался, а чего нет. Здесь, на кухне, Хаксли задержал его и с гордостью демонстрировал свою утварь, скрывая волнение в присутствии потенциального убийцы, а может, хотел, чтобы ножи были под рукой, если вдруг понадобятся. Они стояли здесь, касаясь одного, другого, третьего, уже и не вспомнить, чего именно, – и он, разобравшись с кухней, прошел через зал в комнату, где лежал Хаксли.
И закричал.
Он совсем позабыл о четвертой стене в этой комнате! В его отсутствие паучки вылезли из щелей в этой стене и теперь кишели на тех, что он уже вытер, снова пятная их! На потолке, на люстре, в углах, на полу висел целый миллион паутинок, покачнувшихся от его крика! Такие маленькие, не крупнее, чем – о, какая ирония – его палец!
Он видел, как паутинки оплели картину на стене, вазу с фруктами, тело и пол. На ноже для бумаги, на выдвижных ящиках, на крышке стола, везде и всюду были они, эти узоры.
Он, словно безумный, принялся начищать пол. Перевернул труп и снова протер его, яростно крича, встал, подошел к вазе, достал фрукты со дна и протер их. Поставил стул под люстрой, взобравшись на него, вытер каждую горящую стекляшечку, встряхивая ее, как хрустальные бубенцы, затем отпустил, и она колоколом закачалась под потолком. Соскочив со стула, хватаясь за дверные ручки, он запрыгивал на другие стулья, оттирая стены так высоко, как только мог, убежав на кухню, вернулся со шваброй, сметая паутинки с потолка, вытер фрукты на дне вазы, и тело, и дверные ручки, и столовое серебро, и в зале, увидев балюстраду, взлетел наверх.
Три часа! Всюду, с неумолимой точностью машины, тикали часы! Внизу было двенадцать комнат, и восемь было наверху. Он вычислил их площадь и необходимое время. Сотня стульев, шесть диванов, двадцать семь столов, шесть радиоприемников. Под ними, на них, за ними. Он отодвигал мебель от стен и, всхлипывая, счищал с них лежавшую годами пыль, качаясь, цепляясь за перила, поднимался по лестнице, вытирая все начисто, начищая и полируя, ведь один-единственный отпечаток порождал миллион новых, и пришлось бы все переделывать, а ведь уже пробило четыре! так болели руки, полуослепший, с остекленевшими глазами он блуждал по дому на подгибающихся ногах, и его голова упала на грудь, а руки все еще двигались, терли, чистили, спальню за спальней, шкаф за шкафом…
