Образ врага
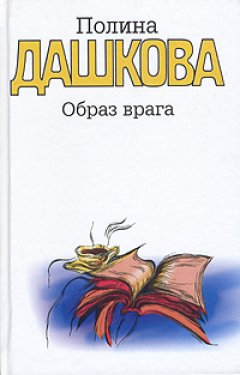
Глава 1
Снег падал так медленно, словно каждая снежинка дремала на лету. Разноцветные огни вечерней Тверской едва пробивались сквозь рябую пелену. Москва тонула в мягком, мокром снегопаде, и даже истерические гудки машин, застрявших в безнадежной пробке перед площадью Белорусского вокзала, звучали спокойней, глуше.
Был час пик. Пешеходы месили соленую слякоть, поспешно огибали глубокие лужи, шарахались от фонтанов грязи, летевших в лицо из-под шальных колес.
– Чтоб ты провалился, мать твою! – пробормотала полная пожилая дама в светлой шубе, проводив сердитым взглядом черный «Линкольн», который хоть и ехал медленно, а все-таки грязью в прохожих брызгал.
В салоне, за глухими черными стеклами, двое мужчин легонько чокнулись крошечными коньячными рюмками и выпили. Один залпом, закрыв глаза и жадно двинув тяжелым щетинистым кадыком. Другой лишь пригубил густой, медово-золотистый коньячок, быстро облизнул тонкие губы и произнес:
– Твое здоровье, Азамат. Слушай, давно хотел спросить, у тебя вроде был выход на этого, как его? – Худые белые пальцы нервно отбили дробь по краю салонного столика. – Ну, немец, шустрый такой, в Москве учился, фамилия у него сложная, на «М».
– Не знаю, Гена, о ком ты. Зачем тебе немец? Своих, что ли, мало людей?
Азамат говорил с сильным кавказским акцентом и выглядел так, словно черный «Линкольн» только что подобрал его на каком-нибудь грязном перекрестке, где он с грузовика торговал мятыми мандаринами. Утепленные спортивные штаны с лампасами, облезлый тулупчик, траур под ногтями, длинный смуглый нос. Черные быстрые глаза посверкивали из-под нависших бровей, неприятно убегали от взгляда собеседника, но при этом как бы ощупывали, обшаривали его лицо.
Азамату не нравился этот разговор. Он отлично понял, о ком спрашивает хозяин «Линкольна», но назвать имя, которое тот как бы запамятовал, не спешил. Слишком уж громкое имя.
– Понимаешь, есть у меня одна идейка, – продолжал Геннадий Ильич Подосинский, вовсе не замечая мрачной напряженности Азамата, – тебе, как старому другу, скажу. Хорошая идейка, смешная… Немца-то как звать, а?
Геннадий Ильич быстрым движением выбил сигарету из пачки, жадно затянулся, выпустил дым, прищурился и чуть выпятил нижнюю губу. Даже на мягком диване в уютном салоне своего «Линкольна» он ни минуты не мог усидеть спокойно, вздрагивал, ерзал, менял позу, закидывал ногу на ногу, барабанил пальцами по худому колену, почесывал мягкий пористый нос, приглаживал тусклые черные прядки, прикрывающие лысину. Его высокий, глуховатый тенорок часто опускался до нервного шепота, словно он сообщал собеседнику какую-нибудь интимную подробность, и если посмотреть со стороны, то казалось, вытащили эту нелепую несимпатичную фигурку из провинциального нафталина семидесятых, не помыли, даже не встряхнули, запаковали в тысячедолларовый костюм от Кардена, поменяли кривые зубные коронки на голливудскую белоснежную челюсть, усадили в бархатное теплое нутро «Линкольна» и везут сквозь декабрьский снегопад по сумеречной нервной Москве девяносто седьмого года.
– Я хочу очень быстро провернуть кое-что в Израиле. – Геннадий Ильич сделал на секунду задумчивое, мечтательное лицо, откинулся на мягкую спинку дивана, но тут же качнулся вперед, сгорбился, собрался в комок. – Мне надо вытащить оттуда одного интересного человечка. Будет отлично, если это сделает именно немец. Вот, вспомнил! – Подосинский легонько шлепнул себя по коленке и радостно рассмеялся. – Надо же, вспомнил! Карл Майнхофф!
Азамат мрачно молчал и шарил быстрыми глазами по лицу собеседника. В ответ на радостный смех он только слабо растянул губы.
– У меня, конечно, есть и другие каналы, – продолжал Подосинский интимным шепотком, – но я решил, что тебе, старому лентяю, не худо будет встряхнуться. Стареем мы с тобой потихоньку. – Он покачал головой и печально вздохнул. – Время летит! Через три дня кончится девяносто седьмой год. Останется всего два года до конца тысячелетия, до президентских выборов, до новой эпохи… Ты только вдумайся, Азамат, два года!
Азамат плеснул коньяку себе в рюмку, выпил залпом, закурил и произнес медленным, тяжелым басом:
– Слушай, Гена, не крути. Зачем тебе Карл?
– Я же сказал, хочу добыть одного человечка. Лучше, если это сделает именно Майнхофф. Он знает Израиль, у него есть там связи, он сделает все красиво, а мне надо, чтобы получилось очень красиво и чтобы никто ничего не понял. И еще мне надо, чтобы ни один чеченец в этом деле не засветился.
– Все равно на нас подумают, – криво усмехнулся Азамат.
– Ну, ты преувеличиваешь. – Подосинский снисходительно похлопал Азамата по плечу. – У тебя, как говорят психологи, завышенная самооценка. Вы не одни в мире такие страшные, и это все-таки Израиль. Ты сначала дослушай до конца. Пока на Ближнем Востоке продолжается арабо-израильский конфликт, пока не снято полностью эмбарго на иракскую нефть, у Западной Европы есть постоянный соблазн – каспийская нефть. Самый короткий путь для нефтепровода – через Чечню. Чтобы погасить все сомнения по поводу нефтепровода и прекратить канитель, надо организовать хороший скандал.
– На Ближнем Востоке и так сплошные скандалы, – заметил Азамат, – в Чечне тоже.
– Из двух зол всегда выбирают меньшее. К заварушке на Ближнем Востоке уже привыкли, никто не боится и не удивляется. А надо, чтобы испугались и растерялись. Евреи с арабами ссорятся, но глядишь – и договорятся. Так вот, чтобы они не могли договориться, мы потихоньку спутаем карты. Понимаешь?
– Пока нет, – честно признался Азамат.
Мимо затемненных окон «Линкольна» проплывало Ленинградское шоссе, медленный снег переливался и вспыхивал лимонно-желтым, алым, зеленым огнем. У метро «Динамо» торговали елками.
– Нужен крепкий компромат на Израиль. – Подосинский весело подмигнул. – И компромат этот должен добыть совершенно нейтральный человек.
– Это Карл-то нейтральный? – засмеялся Азамат. – Карл Майнхофф, краса и гордость международного терроризма. У него завязки по всему миру, его все ненавидят и боятся.
– Вот именно, – кивнул Геннадий Ильич, – все разведки встанут на уши, если Карл привезет из Израиля человека, который заявит публично, что по заданию израильского правительства работает над биологическим оружием нового поколения.
– А что, у тебя есть на примете человек, которому поверят, если он так скажет?
– Разумеется, есть.
– И что за оружие?
– Отличное оружие. Вирусы пострашней СПИДа. Можно при желании использовать так, что атаку никто не заметит. Станут вдруг все дохнуть как мухи. Генетические мутации начнутся, как в каком-нибудь ужастике. А потом еще будет рождаться много поколений уродов, но не по всему миру, а в отдельно взятой стране, которая станет жертвой атаки. Я не специалист, но знаю, там все как-то очень хитро. К каждому определенному виду сразу разрабатывается система вакцинации. Любые исследования в этой области были запрещены специальной резолюцией ООН еще пять лет назад. И тут – здрасьте вам, оказывается, честные цивилизованные израильтяне по-тихому работают над чумой двадцать первого века.
– Брось. – Азамат махнул рукой. – Кому надо, тот и так знает. Очередная страшилка о супероружии не ускорит подписания контракта по нефтепроводу.
– Скучный ты человек, Азамат, – вздохнул Геннадий Ильич, – ты главного не понял. Дело ведь не в очередной страшилке. Вся соль в том, чтобы освежить привычную, поднадоевшую склоку новыми подробностями. Пусть заварушка продолжается и усложняется. Чем меньше шансов разрешить конфликт мирным путем, тем неопределенней ситуация на мировом нефтяном рынке. Ты, Азамат, тактик. Ты живешь сегодняшним днем, и в этом твоя сила. Но и слабость тоже. А я стратег. Я генератор идей. Я смотрю далеко вперед.
– Ох, Гена, с огнем играешь. Замочат тебя, и все дела, – покачал головой Азамат.
– Типун тебе на язык, Азамат. – Подосинский криво усмехнулся. – Уже пробовали, не по зубам я им. Они у меня будут как собаки. Все поймут, но сказать, то бишь доказать, ничего не сумеют. Пока все ниточки ближневосточной проблемы у меня в руках. И я не хочу ни одной из них упустить. Ни одной.
– И все-таки почему именно Майнхофф? В какой связи ты вообще вдруг вспомнил о нем?
– В связи с Израилем. Все просто, Азамат. Майнхофф имеет там прочные связи. Ну не посылать же к евреям твоих джигитов! Они, конечно, молодцы, никто не спорит, но прости, они даже по-английски не говорят, не то что на иврите.
«Что-то ты темнишь, великий стратег. Лапшу мне на уши вешаешь. Тебе, вероятно, нужен не только еврей-профессор с супероружием, но и сам Карл. Интересно, зачем? Мало разве у тебя крепких ребят-исполнителей, не только чеченцев, которые по-английски не говорят, но всяких-разных, на выбор?» – с легким раздражением подумал Азамат. Но вслух сказал совсем другое:
– Карл очень дорого стоит.
– Сколько попросит, столько дам, – улыбнулся Подосинский.
– А оружие? – тихо спросил Азамат.
– Что – оружие? – Геннадий Ильич недоуменно вскинул брови.
– Ну, вирусы эти. – Азамат чуть поморщился. – Их не хочешь заодно добыть по-тихому? Если все боятся этих микробов, так, может, пусть будут на всякий случай, вместе с этой, как ее? С системой вакцинации.
– А зачем? – равнодушно пожал плечами Подосинский. – На фига мне вирусы? Я человек мирный.
Глава 2
В первую неделю девяносто восьмого года в Иерусалиме выпал снег, а на побережье, в курортном Эйлате, где даже в январе температура редко падает ниже плюс пятнадцати, дул ледяной пронзительный ветер. Туристы, у которых была охота погулять по вечерней набережной в такую скверную погоду, понуро брели вдоль светящихся витрин сувенирных лавок, заглядывали внутрь, заходили, лениво перебирали дорогие безделушки.
У пристани покачивались яхты, огни отражались в спокойной тяжелой воде Красного моря, и казалось, будто яхты, прогулочные катера, маленькие рыбацкие лодки стоят на дрожащих разноцветных столбах. Тонкий серпик молодого месяца висел рогами вверх, словно темно-лиловое небо улыбалось белым маленьким ртом, не разжимая губ.
Парк аттракционов на набережной был пуст. Карусели не работали. В такое позднее время, да еще в такой холод, не нашлось желающих кататься на машинках и лошадках, стрелять в тире, сбивать пластмассовыми шариками жестянки из-под колы, вылавливать магнитной удочкой из стеклянного аквариума китайские игрушки, которые все равно никогда не ловятся. Только грозное, пылающее яркими огнями сооружение под названием «Камикадзе» крутилось вокруг своей оси, высоко взлетало, переворачиваясь, зависало над парком.
Обычно из кабинок слышался восторженно-испуганный визг, но сейчас было тихо. Урчал, поскрипывал мотор аттракциона, тяжелая маслянистая вода Красного моря шуршала, набегая на холодный песок пустого пляжа. Иногда прорывался сквозь завывания ветра одинокий голос скрипки. Уличный музыкант у ограды парка, закрыв глаза, выводил скрипичное соло из концерта Вивальди исключительно для собственного удовольствия. В мятой кепке у его ног лежала с утра жалкая мелочь, и ни гроша за долгий день не прибавилось. А теперь уж вряд ли кто-то пройдет мимо и бросит хотя бы полшекеля. Странное время, разгар курортного сезона, а тихо, пусто, будто вымерло все.
Единственный ребенок, пожелавший покататься на «Камикадзе», десятилетний русский мальчик Максим Воротынцев, не кричал и не визжал, когда висел вниз головой на восьмиметровой высоте. В животе все сжималось и леденело, ужасно хотелось заорать, но он молчал, стиснув зубы. Можно было бы и не стесняться. Кроме мамы, которая одиноко сидела на лавочке, и карусельщика, читавшего журнал в своей стеклянной будке, никто бы визга не услышал. Но Максимка молчал. Так было страшней и интересней.
Карусель сделала очередной круг, на этот раз медленный, плавный, и Максим успел заметить, что мама уже не одна на лавочке. Рядом с ней уселся какой-то тип.
– Гадкая погода, – произнес по-английски низкий мужской голос.
Алиса Воротынцева вздрогнула от неожиданности и оглянулась. Вспыхнули огни карусели, осветили черную спортивную куртку, высокий ворот белого свитера, жесткое загорелое лицо.
«Американец», – равнодушно отметила про себя Алиса, вежливо улыбнулась и посмотрела на часы.
Максимка катался на этой дурацкой вертушке уже двадцать минут. Он уговорил купить сразу три билета, и карусельщик, дернув рубильник, уселся в своей будке, уткнулся в журнал, покуривал, прихлебывал пиво и, кажется, вообще не собирался выключать карусель.
– А знаете, почему здесь так холодно? – спросил загорелый американец.
– Нет, – буркнула Алиса.
– Здесь так холодно потому, что я мечтал полежать на песке, понырять с аквалангом в Красном море, погреться на солнце. Я мечтал об этом почти три года. Именно поэтому так холодно. Мне не везет.
«Нам с Максимкой тоже не везет, – лениво подумала Алиса, – мы тоже мечтали пожариться на солнышке в январе, поваляться на пляже. Мы здесь уже третий день, я выложила на эту поездку три тысячи долларов, почти все, что заработала за два месяца, а погода дрянная…»
Она поднялась со скамейки, подошла к будке.
– Извините, по-моему, пора уже выключать.
– А? – встрепенулся карусельщик.
Это был маленький, почти карлик, эмигрант из России.
Сначала Алиса и Максим удивлялись, слыша повсюду русскую речь. Потом им объяснили, что, по статистике, каждый пятый израильтянин говорит по-русски.
– Уже двадцать минут прошло, – напомнила Алиса.
– Да ладно, – махнул он рукой, не поднимая глаз от журнала, – пусть мальчик покатается в свое удовольствие. Все равно ведь нет никого.
– Ему плохо станет. Выключите, пожалуйста.
– Как скажете. – Карусельщик пожал плечами, отложил журнал, неохотно вылез из своей будки. – А может, еще на чем желаете прокатиться? «Мертвая петля», «Сумасшедший паук», «Американские горки»?
– Нет, спасибо.
Карусель наконец застыла. Алиса бросилась к кабинке, чтобы помочь Максимке вылезти. Он был бледно-зеленый, чуть не упал, спрыгивая с высокой ступеньки. Голова у него, разумеется, кружилась, однако он отстранил мамину руку и тихо фыркнул:
– Я сам. Не маленький.
– Вы из России? Это ваш младший брат? – не унимался американец.
Алиса с раздражением отметила, что, вероятно, парень слегка перебрал, ищет приключений и теперь долго не отвяжется. Почти никого на набережной нет, а ему охота пообщаться.
– Сын, – ответила она и, обняв пошатывающегося Максимку за плечи, направилась к выходу из парка. Американец не отставал, шел за ними.
– Что за тип? – спросил Максимка, кивнув на американца.
– Понятия не имею. Есть хочешь?
– Хочу. Но не здесь и не в отеле. Ты обещала, сегодня мы поужинаем в том ковбойском кабачке, у площади, где бедуинский рынок. Помнишь?
– Далековато. Пойдем в отель, там полный холодильник еды.
– Ты обещала…
– Тогда давай на машине. Я промерзла насквозь, и у тебя уши ледяные. Кстати, надень, пожалуйста, капюшон.
Скрипач у ограды выводил мелодию старинного русского романса «Капризная, упрямая». Максимка вытащил маленький серебряный шекель из кармана курточки, положил в кепку у ног скрипача.
Небольшой клубный отель «Ривьера» находился на соседней улице, в двух шагах от парка аттракционов. Проходя мимо ярко освещенной зеркальной витрины ювелирного магазина, Алиса скосила глаза и заметила, что американец в черной куртке все еще идет следом. Он успел поймать ее взгляд в зеркале и улыбнулся широкой, открытой улыбкой.
– Вы выглядите слишком молодо для такого большого сына, – произнес он громко, пытаясь заглушить шум ветра. – Впрочем, вы, вероятно, сами это знаете.
Они свернули за угол. Короткая улица была пуста. Американец свернул за ними.
– Простите, я плохо говорю по-английски. – Алиса ускорила шаг.
У нее не было никакой охоты продолжать разговор с посторонним поддатым человеком.
– Мам, ну что ты напрягаешься? – тихо спросил Максим. – Ты у меня дикая какая-то. Может, ему просто по пути, скучно и хочется поболтать?
– Я не напрягаюсь. С чего ты взял?
На самом деле она и правда никак не могла расслабиться, войти в спокойный ритм отдыха. Слишком устала, зарабатывая на этот отдых, который, кажется, не оправдывал радужных ожиданий и вложенных денег.
Алиса работала архитектором-дизайнером в крупной российско-австрийской строительной фирме. Дела у фирмы шли отлично, поступали заказы на строительство и оформление всего – от огромных торговых центров и спортивных комплексов до частных коттеджей. Оплата была сдельной – сколько осилишь заказов, столько заработаешь. Для того чтобы заработать на поездку, Алиса взялась за оформление дачного особняка для стареющей эстрадной певицы. От этого выгодного на первый взгляд заказа отказались многие Алисины коллеги.
Певица, дама амбициозная, истеричная, сама не знала, чего хочет, и все подозревала, что получается не так шикарно, как у другой пожилой звезды, ее давней соперницы. К тому же ее отношение к людям основывалось на одном нехитром принципе: она могла нормально общаться лишь с теми, кто не забывал восхищаться ее потрясающим голосом, неподражаемым артистизмом, божественной красотой.
Певица оказалась одним из самых сложных заказчиков за всю Алисину практику. Но и с такими надо уметь работать. Никуда не денешься. Однако это сильно выматывает. Хочется потом заткнуть уши ватой и целый месяц молчать.
Алиса ждала этой поездки, чтобы побыть с сыном, посмотреть новую интересную страну, в которой никогда прежде не бывала. И вот они с Максимкой здесь уже третьи сутки. Холодно, неуютно, ледяной ветер с моря.
Раздражали жуткие цены, совершенно не соответствующие уровню сервиса, раздражала приторная навязчивость этого сервиса. В воздухе все время чувствовалась какая-то неприятная подозрительность, напряженность. Бесчисленные вооруженные патрули, военные и полицейские, – на набережной, на пляже, в гостинице, на каждом шагу. Мальчики и девочки из службы безопасности каждый раз вежливо просили открыть сумку перед входом в супермаркет или торговый центр.
Еще в Москве, в Шереметьево-2, перед пограничным контролем, молодая израильтянка в униформе учинила ей допрос с пристрастием.
– Простите, вы позволите мне взглянуть на свидетельство о рождении вашего сына? – любезно попросила она по-русски, без всякого акцента.
Алиса вытащила свидетельство.
– Здесь у вас стоит прочерк в графе «отец», – мягко произнесла девушка, разглядывая документ, – вы не могли бы все-таки назвать фамилию отца ребенка?
В первый момент Алиса даже задохнулась от подобной наглости. К счастью, Максимка стоял чуть в стороне и не слышал их тихого диалога.
Алису предупреждали в турагентстве, что Израиль – особая страна. Служба безопасности вправе задавать любые вопросы. У них есть вполне серьезные основания. Они боятся террористов, привыкли жить под прицелом. Однако при чем здесь личная жизнь тихой, незаметной матери-одиночки из России?
– Если бы я могла назвать фамилию отца ребенка, она была бы записана в документе, – сквозь зубы процедила Алиса.
– Но есть отчество: Юрьевич, – не унималась девушка, – отца вашего ребенка звали Юрий?
– Нет. Так звали моего отца, – буркнула Алиса.
Да, их можно понять. Вежливая израильтянка в униформе лезла в ее личную жизнь вовсе не для собственного удовольствия. И в сумки здесь заглядывают не из любопытства. Ищут взрывные устройства, оружие. Заботятся о безопасности. Но все-таки противно, когда в тебе, обычном мирном туристе, подозревают террориста либо идиота, который по рассеянности проглядел, как к нему в кошелку сунули бомбу.
Они подошли к автостоянке перед отелем.
– Вы отлично говорите по-английски, мэм. Не скромничайте, – произнес у них за спиной американец.
Алиса не сочла нужным ответить, достала ключи от машины. Еще в Москве, в туристической компании, покупая тур, она оплатила прокат машины. В Эйлате фирма «Баджет» выдала ей маленький двухдверный «Рено», совершенно новый, нежно-салатового цвета.
– Ну вот, он просто живет в нашем отеле, – сказал Максимка, усаживаясь на переднее сиденье.
Алиса увидела, как американец в черной куртке поднимается по ступенькам и перед ним разъезжаются стеклянные двери холла.
– Ты уверен, что хочешь ужинать именно в той грязной забегаловке у рынка? – спросила Алиса, выезжая со стоянки. – Может, поедем в какое-нибудь более приличное место?
– Мама, ты обещала. – Максимка упрямо тряхнул головой. – К тому же мы с тобой здесь разоримся, ужиная в приличных местах. А там наверняка дешево.
– Экономный ты мой, – вздохнула Алиса, – ладно, поехали.
– Ну кто-то из нас двоих должен быть экономным, мамочка, – пожал плечами ребенок, – иначе придется тебе играть на скрипочке у парка аттракционов, а мне выламываться в акробатических этюдах, ходить на руках, крутить колесо. Много нам, конечно, не подадут, но проживем как-нибудь.
– Я не умею играть на скрипке, малыш, – засмеялась Алиса, – а ты только второй год занимаешься акробатикой.
– И скоро вообще брошу, если будут задавать столько уроков в школе. Я не вундеркинд. Вот, придумал! Мы с тобой займемся астрологией. Будем судьбу предсказывать, как та толстая женщина вчера на рынке. А что, думаешь, она зарабатывает меньше тебя?
– Ну подожди, Максим, мы пока еще не разорились. Мы с тобой вполне состоятельные люди, отдыхаем зимой на море.
– Какой ценой, мамочка! – вздохнул ребенок. – Видимся с тобой только утром, вечером ты приходишь с работы, я уже сплю. Даже по выходным тебя не вижу.
– Эй, ты что разворчался, ребенок?
– Есть хочу. Ты же знаешь, я всегда злой, когда голодный.
…Кабачок, который приглянулся Максимке, прятался в глубине рыночной площади. Площадь была пуста. С трудом верилось, что вчера здесь бурлил тесный, яркий, грязный бедуинский рынок, который произвел на Максима огромное впечатление.
Повозки, лавчонки, расписная глиняная посуда, пышногрудые восточные красавицы, нарисованные на дешевых коврах, горы поддельных джинсов, футболок, сумок с аляповатыми этикетками известных американских и французских фирм, гирлянды разноцветных бус.
В матерчатой разрисованной палатке пожилая предсказательница-астролог сидела за компьютером и на нескольких языках глубоким мелодичным басом окликала людей в толпе:
– Мадам, зайдите! Вас ждет большая удача! Не проходите мимо, сэр! Завтра вам улыбнется счастье! Только я знаю, как вам избежать неприятностей, фрейлейн!
Эта дама вызвала у Максима целую бурю эмоций. Он даже захотел зайти к ней в палатку и узнать свое будущее, но тут же его внимание переключилось на шарманщика с обезьянкой.
Из большой старинной шарманки звучал знакомый шлягер. Безногий шарманщик цедил колу из мятой жестянки. Обезьянка в крошечных джинсиках дремала у него на плече. В пустое нутро шарманки был спрятан обыкновенный кассетный магнитофон. Инвалид ставил кассету, потом для вида крутил ручку. Звучали шальные голоса Майкла Джексона, Мадонны или группы «Спайс-герлз». Обезьянка вздрагивала во сне, приоткрывала воспаленные круглые глазки и опять засыпала.
– Может, он ее снотворным подкармливает? – страшным шепотом спросил Максим. – У нас в метро сидят нищие с младенцами, и младенцы всегда спят. Я слышал, эти гады их кормят снотворным, чтобы не мешали работать…
Кричали грустные грязные верблюды, торговцы трясли бусами и платками прямо перед носом. Надо было следить за сумкой, за карманами, продираясь сквозь толпу. Они очень скоро устали и проголодались. Алиса не решилась кормить сына липкими восточными сладостями и сомнительной шаурмой. В глубине, за площадью, Максимка углядел закусочную.
Они подошли к невысокой оградке. Все столики были заняты. Но ребенок почему-то непременно хотел поесть именно в этом грязноватом заведении, хотя кафе и ресторанов в курортном городе больше, чем людей. Минут пять они стояли у ограды и ждали, вдруг освободится какой-нибудь столик. Однако никто из посетителей уходить не собирался.
– Ладно, – махнул рукой ребенок, – но обещай, что завтра мы обязательно здесь поужинаем. Это настоящий ковбойский кабачок, как в американском вестерне.
Алиса не заметила ничего особенного, ничего «ковбойского», кроме замшевой шляпы хозяина. Обычная забегаловка, столики прямо на улице, под матерчатым полосатым навесом. Ободранные лавки, грязная клеенка на столах. Огромные жирные куры крутятся в засаленной жаровне, воняет окурками и кислым пивом.
– Атмосфера, – объяснил Максим, – понимаешь, на набережной и вообще везде в этом городе все прилизанное, стерильное, официанты в «бабочках», белые скатерти. А в этом кабачке никто перед тобой не выпендривается, чтобы содрать с тебя лишнюю сотню шекелей. Это заведение не для туристов, а для своих, поэтому здесь интересней.
Сейчас над пустой рыночной площадью уныло свистел ветер, хлопал матерчатый тент над закусочной. Казалось, вчерашний рынок просто сдуло, унесло куда-то вместе с палатками, верблюдами, толстой гадалкой, сонной обезьянкой. Остался только грязный кабачок с хозяином в замшевой шляпе и несколькими сомнительными посетителями.
Алиса припарковала машину почти у самого входа. Был занят только один столик, за ним сидели человек пять – смуглые, мрачные, крикливые мужчины с длинными сальными волосами, забранными в хвостики, с усами «скобкой», с массивными перстнями и грязными ногтями. Они пили пиво и что-то бурно обсуждали на иврите, размахивая руками. Стол был завален объедками, окурками, уставлен пивными кружками.
Хозяин, лет шестидесяти, с жидкими седыми космами, свисающими из-под ковбойской шляпы, сидел среди них и с явной неохотой поднялся, увидев новых посетителей, принял заказ и удалился, мрачно кивнув, не сказав ни слова.
Алиса закурила. Максим вытащил из кармана электронную игрушку и принялся нажимать кнопки на пульте. Игрушка пищала и мелодично позванивала. Смешной компьютерный зверек на крошечном экране жил своей немудреной жизнью, требовал заботы и участия, играл в мячик, капризничал, кушал, какал, болел, выздоравливал, выражал полное счастье, мог совсем умереть, но тут же его «рождали» заново.
Алиса никак не могла привыкнуть к этому новомодному увлечению сына. Такие игрушки были у каждого ребенка в Максимкином классе, они заменяли не только привычных плюшевых мишек, собачек, кукол, но даже друзей, младших братьев и сестер. Когда первый Максимкин электронный питомец умер от простуды, ребенок плакал по нему целый день, а вечером вышел в Интернет и похоронил нарисованную крошку на специальном нарисованном кладбище. Потом успокоился и «родил» себе нового томагошу.
Хозяин принес курицу, бутылку колы, стаканы, тарелку острого овощного салата. За соседним столиком что-то бурно обсуждали, кричали, хлопали кулаками по столу так, что подпрыгивали тяжелые кружки.
И вдруг что-то неуловимо изменилось. Пятеро мужчин замолчали на миг, потом опять загалдели, еще оживленней загремели стульями, давая место шестому, который появился не с улицы, а откуда-то изнутри кафе.
Ему было около сорока. Невысокий, коренастый. Потертые до белизны джинсы, клетчатая шерстяная рубашка. От остальных он отличался опрятностью, отсутствием тяжелых дешевых украшений, короткой стрижкой. Волосы, брови, небольшие усики были совсем светлыми, светлее загорелой, обветренной кожи. Глубоко посаженные бледно-карие глаза скользнули по лицу Алисы, потом вперились в Максима.
Алиса почувствовала, как леденеют пальцы. Она заметила, что рука с зажатой сигаретой мелко дрожит. Белобрысый тоже это заметил, и по его лицу пробежала усмешка.
Такая хорошо знакомая усмешка, легкая, скользкая, холодная и одновременно обжигающая, словно прикосновение медузы.
Алиса резким движением загасила сигарету.
– Мам, можно руками? Можно я буду курицу есть руками? – Голос сына доносился откуда-то издалека, хотя Максимка сидел рядом и повторял свой вопрос уже в третий раз, прямо в ухо. – Мама, очнись! Что с тобой?
– Да, малыш, можно руками…
– А ты? Почему ты не ешь? – Ребенок с аппетитом уплетал горячую курицу. – Налей мне, пожалуйста, колы. Эй, ты только что курила, ты обещала, что не будешь смолить одну за другой.
Алиса заметила, что вертит в пальцах сигарету. Может, встать и уйти? Но внезапным уходом она только привлечет внимание. Прежде чем уйти, придется позвать хозяина, попросить счет. А потом – как она объяснит Максимке свой странный поступок?
Для начала надо успокоиться.
«Действительно, что со мной? Ведь этого быть не может. Просто случайное сходство. Он погиб три года назад в Северной Ирландии. Я читала в нескольких газетах, я видела фотографию похорон. Его хоронили на родине, в Германии. Однако почему он так смотрит?»
Она залпом выпила стакан колы и щелкнула зажигалкой. «Предположим, это он. Что дальше? Во-первых, прошло одиннадцать лет. Почему он непременно должен меня узнать? Я изменилась. Так не бывает, чтобы женщина за одиннадцать лет нисколечко не изменилась. Во-вторых, даже если он узнал, – что из этого?»
– Мам, ты точно не хочешь курицу? Тогда я доем, ладно?
– Да, малыш, доедай, – кивнула она, подвигая к нему свою тарелку.
Белобрысый весело болтал на иврите со своими приятелями, потягивал пиво, бросал в рот соленые орешки. Алиса старалась не смотреть на него, но то и дело ее взгляд натыкался на холодные бледно-карие глаза.
«Да что я, в самом деле? Через десять минут мы уйдем отсюда. Разумеется, это не он, просто очень похож. До жути похож…»
– Максимка, доедай, поехали. Я спать хочу, – сказала она.
– Ты же спала почти двое суток, как сурок. Слушай, мам, что с тобой вообще происходит?
– А что со мной происходит? – Алиса попыталась улыбнуться.
– Достань пудреницу и посмотри на себя в зеркало. Ты бледная, прямо синяя вся. Может, у тебя голова болит?
– Да, честно говоря, у меня ужасно болит голова, просто раскалывается. – Алиса открыла сумку, но вместо пудреницы вытащила фотоаппарат. – Максимка, ты здорово смотришься с куриной косточкой на фоне этих темных личностей за соседним столом. Они похожи на наркоторговцев или бандитов, – произнесла она нарочно громко, поднялась, обошла стол, встала так, чтобы белобрысый попал в кадр.
– Мам, тише! Вдруг кто-то из них понимает по-русски? – испуганно зашептал ребенок.
– Вряд ли.
Щелкнула вспышка, потом еще раз и еще. Хотя бы на одном из кадров белобрысый должен получиться достаточно четко. Завтра утром она отдаст проявить пленку. Потом спокойно разглядит лицо на фотографии и окончательно убедится в своей паранойе, ибо это, разумеется, не он.
Она убрала фотоаппарат, позвала хозяина, попросила счет. Вместо счета мрачный ковбой просто назвал сумму – пятьдесят шекелей. Это было очень дешево. Алиса достала купюру, добавила несколько монет чаевых. Максим отправился к раковине за стойкой вымыть руки после жирной курицы. Белобрысый проводил его глазами, потом опять уставился на Алису. Она не отвела взгляда.
«Даже если это и правда ты, я не боюсь тебя. Ты умер. Тебе удобней, чтобы все думали, будто ты умер».
Алиса взяла сына за руку и, не оглядываясь, направилась к машине. Когда нежно-салатовый новенький «Рено» отъехал от кафе, обогнул площадь и свернул в переулок, ведущий к набережной, белобрысого за столом уже не было. Шумная компания во главе с хозяином в ковбойской замшевой шляпе продолжала пить пиво, курить, жевать соленые орешки.
– Сэр, я не сомневаюсь, это он.
– Чушь. Какого черта он стал бы здесь светиться? И потом – пластическая операция…
– Он сделал еще одну.
– Тогда тем более, как же ты умудрился узнать его?
– Во-первых, почуял печенью… Можете считать меня сумасшедшим, но после того как три года назад на моих глазах взорвался автобус с заложниками и человеческие потроха парили в воздухе, как комья красного снега, я чувствую этого ублюдка печенью. Ну а во-вторых, он сделал еще одну пластическую операцию.
– Ты не просто псих, ты еще и поэт. Для секретного агента это слишком. И между прочим, еще не доказано, что именно он взорвал автобус с заложниками под Луксором. Списали на него, для удобства.
– Идея с захватом туристического автобуса в Египте принадлежала ему. И то, что произошел взрыв, его вина. А насчет поэзии – да, я баловался верлибрами, когда учился в университете, и, наверное, что-то такое во мне осталось с тех пор. Но работе это не мешает.
– Кстати, говорят, Майнхофф тоже баловался поэзией, когда учился в России. Может, ты так тонко чувствуешь его потому, что между вами много общего?
– Я не учился в России. А Майнхофф никогда не писал стихи. У меня нет ничего общего с этим ублюдком.
– Ладно, не злись. Как ты мог узнать его, если он во второй раз сменил внешность?
– Он вернул свое прежнее лицо.
– То есть?
– Он стал опять собой, Карлом фон Майнхоффом. Остался небольшой шрам на подбородке, и все. У спецслужб есть фотография другого Карла, то есть Людвига Хошельбаума, гражданина Австрии.
– Вот здесь ты не прав. Хошельбаум – это совершенно другой человек. Он погиб полтора года назад при попытке захвата израильского пассажирского самолета, и его опознали как Карла Майнхоффа. Они действительно чем-то были похожи. Рост, возраст, телосложение, цвет волос и глаз. Отпечатки пальцев идентифицировать не удалось, у трупа были до кости сожжены руки. Лицо уцелело, и эксперты подтвердили, что покойный подвергался пластической операции. Но его первоначальный внешний облик восстановить не сумели, никто не узнает, кем был погибший Хошельбаум на самом деле. Но то, что именно он возглавлял террористическую группу, которая успела застрелить троих заложников в самолете, известно доподлинно.
– Да, я знаю, существует миф, будто Хошельбаум, который был торжественно похоронен под именем Майнхоффа, на самом деле являлся подставным лицом, двойником, а Майнхофф вообще не имел отношения к истории с самолетом. Я знаю одно: после двух смертей и двух пластических операций вряд ли удастся идентифицировать его по внешним признакам.
– Есть отпечатки пальцев. Раньше он с удовольствием шлепал их повсюду, даже оставлял журналистам в качестве автографов.
– В Гонконге был арестован врач, который менял ему лицо. Этот китаец признался, что отшлифовал ему подушечки пальцев. Есть китайская методика, при которой папиллярный узор не восстанавливается. Думаю, именно поэтому он решился вернуть свое прежнее лицо. Он ведь безумно любит себя, этот сукин сын. Просто обожает. Он помешан на чистоте баронской крови и все в самом себе считает бесценным, не только черты лица, но даже папиллярный узор. Он относится к своей персоне как к реликвии, и любое нарушение целостности образа для него кощунство, трагедия, оскорбление памяти благородных предков.
– Когда-нибудь ты напишешь об этом сумасшедшем фундаментальный труд. Но бестселлером он вряд ли станет. Ты, Деннис, любишь все усложнять, у тебя как-то странно устроены мозги. Ты застреваешь на мелочах и раздуваешь их до немыслимых размеров. А потом оказывается, что внутри воздух, пустота. Ты слишком много говоришь о его баронстве, а это просто один из пунктов его помешательства, не более. Очередной мыльный пузырь или воздушный шарик, как тебе больше нравится. Карл Майнхофф прежде всего международный бандит, и не надо делать из него героя древнегерманского эпоса. И так хватает мифов. Показания твоего китайца были признаны недействительными. Его объявили душевнобольным, освободили из-под стражи, а через месяц он скончался в больнице от острой сердечной недостаточности. Никакой методики нет. Это тоже миф, легенда. Для того чтобы папиллярный узор не восстановился, мягкие ткани надо стесать до кости. При этом неминуемо пострадают сухожилия и двигательные функции пальцев. Человек станет инвалидом…
– И тем не менее такая методика есть. Другое дело, для бандитов-практиков это слишком дорого, а главарям преступных организаций – ни к чему. Они работают чужими руками. Сразу после ареста китайца допрашивал мой человек. Собственно, он и вышел на этого доктора. Разумеется, хирург был совершенно нормален. А мой человек погиб в автомобильной катастрофе еще раньше, чем китайца поместили в госпиталь.
– Ну ладно, это все уже история. Что мы имеем на сегодня? Почему ты вдруг уцепился за эту русскую с ребенком?
– Вчера днем из кафе у рыночной площади Майнхофф неожиданно пошел за ними, за женщиной с мальчиком. Довел их до гостиницы.
– Они что, вчера тоже были там?
– Нет. Они ходили по рынку, потом подошли к кафе. Не было ни одного свободного столика. Они постояли, поговорили о чем-то, потом отошли. Я бы не обратил на них внимания, если бы Майнхофф не рванул за ними.
– Пешком или на машине?
– Пешком. Вчера у рынка негде было парковаться.
– Женщина вступала с ним в контакт?
– Нет.
– Уверен?
– Почти. Вообще все это очень странно. Никаких попыток контакта ни с его, ни с ее стороны. Сегодня женщина и мальчик как будто просто заехали в кафе поужинать. Я чуть не потерял их сначала, потом мне пришлось припарковать машину довольно далеко от площади и от забегаловки, там было пусто и почти невозможно вести наблюдение, особенно после того, как я попытался вступить с ней в контакт.
– Так, может, ты поспешил с прямым контактом?
– Уж больно подходящая была обстановка в парке аттракционов. Я взвесил все «за» и «против» и решил, что прямой контакт логичней, чем скрытое наблюдение. Уж если я живу в соседнем номере…
– Тогда не надо было потом вести за ней скрытое наблюдение.
– Не утерпел. Вошел у нее на глазах в гостиницу и тут же выбежал. Как чувствовал, что они опять встретятся. Ну спрашивается, почему из всех кафе в городе они выбрали именно эту грязную забегаловку? Женщина явно нервничала. Я хорошо ее видел. На мое счастье, прямо напротив кафе оказался узкий проход между домами, совершенно темный. Так вот, мне показалось, что встреча была для нее полнейшей неожиданностью. Возможно, вчера она его вообще не заметила. Слишком уж явно удивилась и испугалась сегодня. Запаниковала, повела себя совершенно неадекватно. Вдруг вскочила и стала фотографировать.
– И после этого ты продолжаешь утверждать, что она из ФСБ?
– Не смейтесь. Пока я ничего не утверждаю. Рано делать выводы. Я буду осторожно вести ее, а там посмотрим.
– Судя по тому, что ты рассказал, на агента она не тянет. Надо быть кретинкой, чтобы в открытую щелкать Майнхоффа. Разумеется, он бы моментально такого агента вычислил. Ерунда, ни одна спецслужба так не работает. Когда эта русская прилетела?
– Она здесь всего третий день. Раньше почти не выходила из гостиницы. Мне здорово повезло, что соседний номер оказался свободным. Так или иначе это зацепка.
– А если она не говорит по-английски, эта твоя зацепка?
– Она свободно владеет языком. Я понял по нескольким фразам. Отличное произношение, мягкий европейский акцент, скорее французский, чем русский. Правда, она довольно резко отшила меня сегодня в парке, но это не проблема.
– Может, все-таки не стоит тебе сразу идти напролом?
– Наоборот. Красивая одинокая женщина с мальчиком десяти лет. Одинокий скучающий бизнесмен из Америки, зимний Эйлат, соседние номера…
– Ладно, я попытаюсь прощупать эту русскую через наши каналы. Однако мне кажется, лучше заняться забегаловкой у рынка. Там все ясней и проще.
– Забегаловкой уже вовсю занимается МОССАД. Там мы моментально засветимся. Не стоит повторять прежних ошибок. Майнхофф прибыл сюда по делу, и я не удивлюсь, если окажется, что МОССАД не просто в курсе, но имеет свой серьезный интерес. Они позаботятся, чтобы он опять испарился.
– Ты хочешь сказать, что собираешься охотиться за Карлом Майнхоффом в одиночку?
– Не вижу других вариантов.
– МОССАД, Интерпол, ФСБ, а также немцы, англичане, итальянцы… Ты можешь назвать хотя бы одну секретную службу, которая не ловила бы Карла Майнхоффа?
– Я не могу назвать ни одной, которая не пользовалась бы его услугами.
– Ты не только псих и стихотворец. Ты еще и самоубийца.
Глава 3
В номере было холодно. Алиса достала из шкафа запасное одеяло, накрыла Максимку. Он спал неспокойно, вертелся, несколько раз всхлипнул во сне. Он с младенчества остро чувствовал ее настроение. Малейший оттенок тревоги моментально передавался ему. Алиса могла сколько угодно хитрить, улыбаться, выдумывать отвлекающие игры, сочинять веселые и грустные сказки. Все было напрасно.
И сейчас он не мог уснуть до тех пор, пока она не объяснила ему подробно и внятно, почему вдруг, ни с того ни с сего, так запаниковала в этой дурацкой забегаловке.
– Понимаешь, в какой-то момент компания за соседним столиком показалась мне не то чтобы опасной, но неприятной, способной на агрессию. Согласись, они ведь и правда не внушали доверия, к тому же вокруг не было ни души. А совсем недавно я читала американский триллер, и там была похожая ситуация. Героиня случайно зашла в сомнительную закусочную выпить чашку кофе и съесть что-нибудь, а там как раз собрались уличные наркоторговцы. Девушка едва успела надкусить свой гамбургер, как ворвались люди в масках, с автоматами… Ты ведь знаешь, какое у меня бурное воображение. Я сразу представила нас с тобой на месте этой Элен Кроуфорд, и так ярко представила, что испугалась.
Она стала пересказывать роман Энтони Спейсона «Я не умею стрелять». Ребенок слушал затаив дыхание.
– Ты, мамочка, все-таки немножко чокнутая, – пробормотал он, засыпая. – Эти дядьки в кафе были вполне мирные, просто грязные, и прикид у них бандитский. Расслабься, мы отдыхаем…
– У них – что?
– Прикид.
– Малыш, говори, пожалуйста, по-русски.
– Мам, я вообще-то ничего плохого в этом слове не вижу. У нас в классе все так говорят.
– У вас в классе некоторые матерятся через слово.
– Ладно, мамуль, не ворчи. Давай дальше, что там было с этой Элен, которая не успела съесть свой гамбургер?
Когда она дошла до середины, Максимка уже спал.
Номер находился на первом этаже. Вместо балкона был отдельный закуток, окруженный пальмами и невысоким кустарником и выходивший во внутренний двор отеля. Перед стеклянной дверью стояли пластиковый стол под тентом, два стула. Алиса накинула куртку и вышла покурить.
От ветра сухо шуршали пальмовые листья, тихонько плескалась вода в бассейне. Сквозь шторы соседнего номера пробивалась тонкая полоска света. Алиса не заметила, а скорее почувствовала, что рядом, у соседнего номера, в таком же закутке, за таким же пластиковым столом, кто-то сидит.
– Мы с вами соседи, – произнес мужской голос по-английски, – вам, я вижу, тоже не спится.
Алиса повернула голову. В темноте белел высокий ворот свитера, блестели глаза и зубы. Американец улыбался.
– Меня зовут Деннис, как героя известного фильма «Один дома». Ваш сын наверняка смотрел этот фильм.
– Восемь раз, – неохотно отозвалась Алиса.
– У меня есть сухой джин. У вас случайно не найдется бутылочки тоника?
– К сожалению, нет.
– Жаль. Тогда хотя бы скажите, как вас зовут.
– Алиса.
– Как поживаете, Алиса?
Стандартное английское «Хау ду ю ду» предполагало такой же стандартный ответ.
– Спасибо, хорошо. – Она поднялась и шагнула к стеклянной двери. – Спокойной ночи, Деннис.
– Подождите. Вы наверняка сейчас будете пить чай. Русские обожают пить чай ночами. Можно я составлю вам компанию?
Они разговаривали в темноте, почти не видя друг друга, но по интонации Алиса поняла, что лицо ее собеседника стало серьезным, даже напряженным.
– Нет, Деннис. Как-нибудь в другой раз. Спокойной ночи.
Она ушла в номер, закрыла стеклянную дверь, плотно задернула шторы.
Неофициальный новогодний фуршет в посольстве США в Москве, на улице Чайковского, был в самом разгаре. Сверкала огромная рождественская елка, по зеркальному паркету, как по замерзшему озеру, скользили дамы в вечерних туалетах, мужчины в смокингах.
В яркой надушенной толпе мелькали, как вспышки, лица знаменитостей, эстрадных и киношных звезд, политиков средней руки, которые больше светятся на телеэкране, чем в реальной политике. Был обычный для таких престижных мест набор безымянных «тусовщиков» мужского и женского пола. Странная порода людей, которые со всеми знакомы, везде примелькались, однако никто толком не знает, чем они занимаются, откуда взялись, куда исчезают потом и где достают деньги на столь неопределенно-легкомысленный образ жизни.
Были, конечно, и телевизионщики из программы светских новостей, были журналисты, бизнесмены, дипломаты.
Тихо, ненавязчиво играл классический джаз. Звон бокалов сливался с равномерным, спокойным гулом разговоров.
– Неужели вы не побоитесь вкладывать такие большие деньги в иракскую нефть? – спросила высокая пожилая американка Геннадия Ильича Подосинского. – Если это не слухи, то я совершенно ничего не понимаю в пресловутой загадочной русской душе.
– Я слишком устал от праздников, чтобы говорить о делах, – улыбнулся Геннадий Ильич, – вы великолепно выглядите сегодня, Джуди. Надеюсь, я не получу по физиономии за сексуальные домогательства? – Он весело подмигнул и поцеловал даме руку.
Дама рассмеялась, щедро демонстрируя идеальный фарфоровый рот.
– Геннадий, я поняла ваш секрет. Вы – как это по-русски? – пройдоха. Плут. Вы мне напоминаете героя Николая Гоголя, того, который скупал мертвых батраков, чтобы сколотить на этом состояние. Вы делаете деньги из воздуха и умудряетесь всем вскружить голову, в том числе и мне, старой американской феминистке. Иракская нефть сейчас – это даже не воздух. Это пороховая бочка.
Официант, проходивший мимо, поскользнулся, выронил поднос. Несколько бокалов со звоном посыпались на пол.
– Сорри, – пробормотал официант и стал поспешно собирать осколки, вытирать салфеткой лужу шампанского.
– Джуди, я делаю деньги на собственной живой энергии и на оптимизме. – Подосинский быстрым движением пригладил прядки на лысине. – Я – представитель крупного капитала. Акула капитализма, как говорили в советские времена. А капитал – это концентрированный энергетический потенциал нации. Потенциал нации не может не думать стратегически. Нефть – неотъемлемая часть стратегии. Слишком затянулся ближневосточный конфликт. Я верю в скорый и счастливый конец.
Он говорил, и к нему уже тянулись руки с диктофонами. Журналисты налетели, как мухи на мед. Щелкали фотовспышки, разворачивались в его сторону телекамеры. Геннадий Ильич, казалось, совершенно не замечал этого. Он обаятельно улыбался и непринужденно беседовал с американкой, словно никого вокруг не было.
– Эмбарго будет снято, нефть потечет рекой. А Чичиков, герой гениального Гоголя, плохо кончил. Так что не сравнивайте меня с ним, я хоть и оптимист, но человек суеверный.
– Это ты суеверный? – послышался рядом раскатистый бас. – Ты, Гена, прагматик, циник. С Новым годом, дорогой!
Толстяк двухметрового роста наклонился и троекратно расцеловался с маленьким Подосинским.
– Володя, здравствуй! Джуди, познакомьтесь, вот человек, рядом с которым я пигмей. Вот кто умеет делать деньги и кружить головы. Володя Мельник, мой друг, красавец мужчина.
– О, господин Мельник, концерн «Триумф», – улыбнулась американка, – много слышала о вас, очень рада познакомиться. Скажите, вы тоже собираетесь вкладывать деньги в иракскую нефть, как только будет снято эмбарго?
– Это что, новый анекдот? – хохотнул Мельник.
– Вот, Джуди, вы спрашивали, как рождаются русские анекдоты. Именно так. – Подосинский легонько стукнул своим бокалом о бокал американки. – Ваше здоровье, дорогая.
На следующее утро Джуди Мак-Мейнли, пресс-атташе посольства США, просматривала кипу русских газет и ярких тонких журналов, прихлебывая жидкий кофе без кофеина.
«Усилия генерального секретаря ООН увенчались успехом, однако аналитики утверждают, что успех опять будет временным. Мир на Ближнем Востоке не продлится долго…»
«Пока рано говорить о полном снятии эмбарго на нефть в этом регионе… Трудно поверить в искренность представителей крупных нефтяных корпораций, когда они ратуют за мир на Ближнем Востоке. Частичное снятие эмбарго уже привело к обвальному падению цен на нефть. Но наши магнаты не теряются, они успели разжалобить правительство и выбить колоссальные дотации и налоговые льготы. Они повысили цены на бензин. На самом деле себестоимость нефти знает только тот, кто рядом с вышкой…»
«…российские нефтяники терпят серьезные убытки. По предварительным подсчетам, даже временный и непрочный мир на Ближнем Востоке обойдется им в три-четыре миллиарда долларов…»
«Беспорядки в секторе Газа… Вооруженные арабские террористы обстреляли израильский военный патруль в Хайфе… Саддам Хусейн заявил, что не изменит своей позиции по отношению к США и Израилю до тех пор, пока…»
«Хотя накал военно-политических и дипломатических страстей вокруг Ирака приугас немного, в конгрессе и спецслужбах США все громче говорят о том, что пора бы решить проблему глобально, избавиться от неудобного Саддама навсегда… ЦРУ разработан очередной, пятый по счету, план смещения иракского лидера, в котором задействованы агенты-курды, шииты, иракские эмигранты в Лондоне, а также беглые офицеры из армии Хусейна, живущие в Иордании…»
«Нефтяные месторождения на территории Ирака продолжают простаивать, вложенные в них деньги прогорают… Нет надежды, что когда-нибудь эта нефть сможет приносить стабильный доход, даже при условии полного снятия эмбарго…»
«Банк „Галатея“, принадлежащий Геннадию Подосинскому, стал соучредителем нефтяной компании „Халифар“. По приблизительным подсчетам, размер инвестиций на сегодня составил пять миллионов долларов, хотя точных цифр не знает никто…»
Джуди Мак-Мейнли присвистнула и покачала головой. Компания «Халифар» была иракской. Она давно разорилась, и надо быть сумасшедшим, чтобы вложить в нее хотя бы сотню долларов.
На другом конце Москвы, в своем особняке в Крылатском, соучредитель концерна «Триумф» Владимир Мельник, едва продрав глаза, нащупал под кроватью сотовый телефон, набрал номер и хрипло произнес в трубку:
– Кирюха, что там насчет акций компаний-посредников по иракской нефти? Перестали падать? Интересно… Слушай, давай-ка по-быстрому, узнай, кто почем скупает… Что, серьезно?..
Он нажал кнопку отбоя и тут же набрал еще один номер:
– Наташа, вызывай всю команду на совещание. Я буду через сорок минут. Срочно, девочка. Очень срочно.
Глава 4
Восточный Берлин, ноябрь 1971 года
– Карл! Встань и выйди из-за стола.
Полная веснушчатая рука фрау Майнхофф взлетела, описала мягкий полукруг и отвесила сыну крепкий подзатыльник. Шестилетняя Ингрид тихо захихикала, но тут же подавилась смехом и куском воскресного яблочного пирога, встретив грозный взгляд бледно-карих глаз матери.
Тринадцатилетний Карл продолжал сидеть не шелохнувшись. Он хотел есть сырой говяжий фарш большой ложкой. Ему не нравилось мазать фарш на толстый кусок хлеба, как это принято в их доме и во всех приличных немецких домах. Он знал, что нарушает священный ритуал воскресного семейного завтрака, но его бесили ритуалы.
Он мог вообще обойтись без свежего сырого фарша и даже без яблочного пирога с ванилью, который его мать пекла лучше всех окрестных хозяек. Он бы с удовольствием убежал на улицу, купил бы себе сахарный крендель, пакет молока за двадцать пфеннигов и позавтракал в одиночестве на мокрой скамейке. Если бы мать не выгоняла его сейчас, а просто дала подзатыльник, он бы так и поступил. Но теперь будет сидеть. Из принципа.
Принципы у Карла были следующие: никогда никому не подчиняться, всегда нападать первым, ничего никому не прощать, платить за обиды той же монетой, но осторожно, продуманно, чтобы не пострадать вновь.
Разумеется, он не мог отвесить матери ответный подзатыльник. Но сестренка Ингрид еще пожалеет о своем мерзком хихиканье.
– Карл, встань и выйди из-за стола, – подал голос герр Майнхофф, маленький, узкоплечий, худой, но с округлым аккуратным брюшком.
По воскресеньям к семейному завтраку герр Майнхофф надевал белую сорочку и галстук, прыскал одеколоном розовую лысину, весь лоснился и сверкал. Нос у него был крупный, хрящеватый, туго обтянутый глянцевой кожей. Блестела промытая шампунем рыжеватая бородка, искрились глаза, маленькие, глубоко посаженные, ярко-голубые. Сверкала галстучная булавка, золотая, с прямоугольным светлым сапфиром в серединке.
Карл искоса смерил отца презрительным взглядом. Бюргер, мясник. Разве он достоин своих предков? Старинный фамильный герб благородных баронов он сменил на розовое свиное рыло.
Портрет улыбающейся счастливой хрюшки красовался на двери мясной лавчонки, которая принадлежит семье Майнхофф. Вместо рыцарских доспехов – фартук из рыжей клеенки, вместо шлема – дурацкий белый колпак, вместо священного меча, обагренного кровью в боях и на турнирах, – топорик для разделки свиных и говяжьих туш.
Сейчас тысяча девятьсот семьдесят первый, доспехи пылятся в музеях. Двадцатый век всех уравнял, баронов и мясников. Это век торжества заурядности. В Восточной Германии национал-социализм сменился просто социализмом. Но есть законы древней крови и родовой чести. Отец пренебрег ими. Карл не уважал отца.
– Хорошо же, Карл, – фрау Майнхофф поджала пухлые губы, – ты можешь сидеть, если ослиное упрямство в тебе перевешивает здравый смысл. Но в таком случае ты лишаешься своих ежедневных двадцати пфеннигов на весь месяц.
– Марта, подай мне, пожалуйста, сливки, – произнес герр Майнхофф и улыбнулся жене. – Ингрид, детка, перестань ковырять в носу. – Он протянул руку и погладил дочь по пухлой щеке.
Он давал понять, что Карл со своим ослиным упрямством больше никого за мирным семейным столом не интересует. Это было хуже подзатыльника.
– Я могу остаться? – спросил Карл вкрадчивым, тихим голосом.
– Да, ты можешь остаться, – кивнул отец.
Карл грохнул стулом, выскочил из столовой, сдернул свою вельветовую курточку с вешалки в прихожей, выбежал на улицу. В лицо ему брызнул дождь, со всех сторон обступили темно-серые дома узкой старинной улицы.
Тяжелая лепнина в стиле позднего барокко, когда-то обильно украшавшая фасады, была сбита при обстрелах Берлина в сорок пятом году. Голые, гладкие стены унылого темно-серого цвета только кое-где оживлялись зелеными листьями вьющихся декоративных растений. Но сейчас, в конце ноября, фасады домов были оплетены сухими, скорченными стеблями, напоминавшими Карлу фрагменты гигантской безобразной паутины. Родной город представлялся ему огромным, разоренным, заброшенным чердаком, на котором давно нельзя найти ничего интересного.
Серое небо, с нездоровым желтоватым отливом у горизонта, серые дома. Мокрый липкий туман, превращающий утро в сумерки. Самодовольная ухмылка свиньи на двери мясной лавки. Бледные тушки молочных поросят, розовые с белыми прослойками жира окорока.
Он вскочил в трамвай, проехал несколько остановок и вышел у ворот старинного лютеранского кладбища. Немного подумав, перебежал на другую сторону, в маленькой кондитерской на углу купил плитку молочного шоколада, картонный пакет жидкого йогурта. Рядом с лавкой был табачный автомат. Он опустил в щель свою последнюю марку и несколько пфеннигов, вытащил из никелированной пасти автомата пачку сигарет и вернулся к кладбищенским воротам.
Мокрый гравий шуршал под ногами. Каркали вороны. Вокруг не было ни души. Он прошел насквозь почти все кладбище, остановился у мраморной фигуры пухлого ангела. Белый мрамор местами позеленел от времени, нос был отбит, но в целом фигура сохранилась, хотя стояла здесь уже двести лет. Низенькая чугунная оградка отделяла квадратный участок земли, принадлежащий семье Майнхофф. Последним в списке похороненных значилось имя Фрица фон Майнхоффа, 1900–1970.
Карл сел на мокрую скамейку, развернул шоколад, откусил, запил приторным клубничным йогуртом из пакета. Съел всю плитку, закурил дешевую сигарету.
Дедушка Фриц был сумасшедший. Так говорили соседские дети, и Карл колотил их за это. Дедушка Фриц страдал душевной болезнью. Так говорили родители, и Карл презирал их за это.
Отпрыск разорившегося аристократического семейства, Фриц фон Майнхофф избрал военную карьеру. Во время Второй мировой войны служил в абвере. В сорок четвертом его завербовал русский разведчик, работавший в Берлине. В сорок пятом он оказался в советской зоне оккупации. Был тяжело контужен, чуть не погиб.
Дедушка никогда не рассказывал ни о работе в абвере, ни о вербовке и работе на русских. Он избегал разговоров о собственном прошлом, злился, упрямо мотал маленькой лысой головой.
– Моей главной задачей было выжить. Я делал все, чтобы уцелеть в этой пошлой бюргерской бойне. Слишком дорого стоит моя кровь.
И это все. Ни слова больше. Зато об истории баронского рода фон Майнхофф он мог рассказывать часами. Кроме маленького Карла, никто его не слушал.
– Ты фон Майнхофф. Ты последний мужчина из великого рода баронов фон Майнхофф. Твои предки были рыцарями, крестоносцами, триумфаторами. Ты – потомок великого Зигфрида.
Глуховатый, монотонный голос дедушки Фрица звучал в ушах волшебной таинственной музыкой. Маленький Карл слушал, листал толстые альбомы со старыми семейными фотографиями, высунув кончик языка, старательно срисовывал цветными карандашами ветвистое родословное древо.
Дедушка Фриц жил в долгом, беспощадном конфликте с единственным сыном Густафом, отцом Карла. Когда Густаф, закончив среднюю школу, пошел работать в мясную лавку, Фриц стал презирать его, общался с сыном только через посредничество жены, тихой, улыбчивой Гертруды.
Густаф женился на веснушчатой пухленькой девушке Марте, отрастил раннее брюшко, завел собственную лавку. Бабушка Гертруда умерла, когда Карлу исполнилось четыре года.
Фриц не разговаривал с сыном, хотя жил с ним под одной крышей и на его деньги. Густаф и Марта смиренно терпели старика. Он был хоть мрачный и неблагодарный, но тихий, к тому же почти полностью освобождал их от хлопот с маленьким Карлом, справлялся не хуже заправской няньки. Это было очень кстати. Супруги Майнхофф работали в лавке с утра до ночи, на ребенка не оставалось ни сил, ни времени.
Маленький Карл жадно впитывал все, что говорил дедушка. Родителей он видел только вечерами, и они молчали, уставившись в телевизор. Никто, кроме дедушки, не умел рассказывать интересные истории. Карлу было приятно слушать о том, что он – особенный мальчик, не как все. Чем старше он становился, тем глубже верил в свою исключительность.
Родителям не приходило в голову прислушаться к речам старика, обратить внимание, что он там бормочет ребенку. Наверное, сказки рассказывает. Они не могли представить, что именно эти сказки стали для ребенка единственной реальностью.
Про дедушку давно знали, что у него не все в порядке с головой, но Густаф и Марта не придавали душевной болезни никакого значения. Смирный, неопасный – ну и ладно. А странности бывают у всех. Только когда он попытался ночью поджечь лавку, они опомнились и отправили дедушку Фрица в лечебницу.
Карлу было десять лет. Он навещал дедушку каждую субботу, сидел на стуле у высокой койки в маленькой палате с зарешеченным окном. Соседи по палате кричали, бормотали. Лохматый старик на соседней койке сосал младенческую пустышку, которая висела у него на шее на голубой ленточке. Когда соска выпадала изо рта, он корчил обиженную гримасу и разражался ревом, словно огромный, сморщенный, чудовищный младенец.
У дедушки Фрица, как у всех в этой палате, под кроватью стояло резиновое судно. От запаха хлорки у Карла противно першило в горле и слезы наворачивались на глаза.
– У тебя голубая кровь, Карл. Ты не гляди, что из разбитой коленки течет красная. Ты прижги рану и погляди на фамильный герб, – говорил дедушка Фриц. – Мир рушится потому, что в этом веке им управляют плебеи. Адольф Шикльгрубер был сыном грязной батрачки и мелкого таможенного офицеришки, который сам являлся незаконнорожденным, к тому же приходился Кларе, матери этого недоноска, родным дядей. Вы слышите? Он быдло, недоносок, этот ваш обожаемый Адольф Шикльгрубер! – Дедушка Фриц кричал, обращаясь уже не к внуку, а ко всей палате, размахивал руками в крупных желтоватых пятнах старческой пигментации, тряс маленькой лысой головой.
Старик на соседней койке хлопал в ладоши и энергично сосал пустышку.
– Они родные братья с русским быдлом Джугашвили. Тот – сын прачки, этот – поденщицы. И оба оказались кретинами, как все плебеи в этом мире. Были бы умней, могли бы договориться. Они так похожи! Адольф учился пению в хоровой школе бенедиктинского монастыря. Иосиф учился в православной школе и готовился стать попом. Адольф рисовал бездарные картинки и считал себя художником. Иосиф писал бездарные стихи и считал себя поэтом. Женщины, которые были рядом с ними, кончали с собой. Адольф поставил перед собой цель – уничтожить несколько миллионов евреев и славян. Иосиф уже приступил к этому благородному делу и здорово преуспел, надо отдать ему должное. Они так похожи, эти два главных идиота двадцатого века. Они не договорились и проиграли оба. Но на самом деле, мой мальчик, они победили, однако по своей плебейской тупости даже не успели понять этого.
Сморщенное горбоносое лицо дедушки придвинулось совсем близко к лицу Карла. Выцветшие почти до желтизны когда-то светло-карие глаза грозно сверкали из-под лохматых седых бровей. От дедушки пахло дешевым мылом и лекарствами. Он перешел на громкий быстрый шепот:
– Они оба, Адольф и Иосиф, добились, чего хотели. Теперь мир принадлежит прачкам и мясникам, ростовщикам и поденщицам. Ты, Карл фон Майнхофф, последний аристократ в этой мертвой стране. Ты не станешь мясником, как твой отец. Ты вырастешь и покажешь им всем, кто они есть на самом деле. Ты вышибешь из их тупых голов всю дурь, которая накопилась за этот плебейский век. Поклянись, мой мальчик, что ты не дашь им спать спокойно и никогда не станешь мясником. Ты вырастешь, найдешь женщину, не плебейку, с чистой голубой кровью, и она родит тебе сына. Твой сын никогда не станет мясником.
Дедушка извлек из-под подушки мятый клочок бумаги, листок из детского альбома, на котором рукой маленького Карла был аккуратно нарисован фамильный герб баронов фон Майнхофф. Прямоугольник с оконечностью в форме фигурной скобки, рыцарский шлем с решетчатым опущенным забралом, хищный профиль черного орла, дубовая ветвь…
– Клянись, мой мальчик, что ты никогда не предашь наших предков. Ты не предашь Зигфрида.
Дрожащие узловатые пальцы с желтыми толстыми ногтями любовно разгладили листок и поднесли его к лицу ребенка совсем близко.
– Клянись, Карл, что ты будешь сеять смуту среди серых бездарных плебеев, которыми полон до отказа этот мещанский мертвый мир. Клянись, что ты продолжишь наш род. У тебя будет сын, которого ты воспитаешь как барона, как рыцаря. У тебя будут внуки и правнуки. Ни один из них не станет мясником.
– Клянусь, – ответил ребенок страшным шепотом.
Марта Майнхофф говорила, что ее свекор Фриц свихнулся от большого ума.
– Умники всегда плохо кончают, – вздыхала она, развешивая колбасы на крюках, красиво раскладывая на маленьких тарелочках кусочки ветчины, буженины, ростбифа.
В каждый кусочек втыкалась тонкая деревянная палочка-шпажка. Марта ревниво следила, чтобы покупатели по рассеянности не увлекались дегустацией и не сметали все, что было выставлено на пробу.
– Некоторые приходят, чтобы полакомиться нашей продукцией, и ничего не покупают, – ворчала она.
Мелодично звенел дверной колокольчик, фрау Марта расплывалась в любезной улыбке. Карл слышал приторное мяуканье:
– Гуттен морген… данке шен… фидерзейн… чуз-чуз-чуз… Так вот, сынок, умники всегда плохо кончают, – продолжала она уже другим, не сладким голосом, когда за очередным покупателем закрывалась дверь. – Ты знаешь, дедушка Фриц работал в абвере. Он был разведчиком. А разведчику приходится слишком уж усердно шевелить мозгами.
Карл молчал. Он понимал: спорить с матерью бесполезно. Он-то знал, что дедушка Фриц был единственным нормальным среди всех них. Думать, как они, жить, как они, – разве это не сумасшествие? Каждый день свиные туши, мерный стук топорика, жужжание мясорубки, чинный ужин, сериал по телевизору. Разговоры о делах в лавке, о ценах на говядину. Это они все слабоумные, а дедушка Фриц нормальный.
Из больницы дедушку перевели в интернат. Карл каждую субботу ездил в Потсдам. Интернат был хороший, старик жил в маленькой чистенькой отдельной комнатке. Карл привозил деду баночки с паштетами, мягкую вареную колбасу, фруктовое пюре. Все это готовила и аккуратно заворачивала в яркие бумажки фрау Марта.
Когда Карлу исполнилось двенадцать, дедушка Фриц умер. На старинном лютеранском кладбище пухлый улыбчивый патер прочитал короткую молитву, специальный кладбищенский экскаватор быстро и аккуратно засыпал гроб твердыми комьями желтоватой глинистой берлинской земли.
Было сырое туманное утро, каркали вороны, звенел трамвай за кладбищенской оградой. Карл глядел на скучные лица своих родителей и думал о том, что он – последний из рода фон Майнхофф. Последний и единственный потомок великого воинственного Зигфрида в этом пошлом, тупом бюргерском мире.
Глава 5
Эйлат, январь 1998 года
Сквозь плотные шторы пробивался солнечный свет, за стеной гудел пылесос и негромко переговаривались горничные. Алиса открыла глаза. Без пятнадцати одиннадцать. Максимкина кровать была пуста. На тумбочке жалобно попискивала электронная игрушка, а из-под скомканного одеяла выглядывала ушастая голова старой плюшевой обезьяны, с которой ребенок не расставался с четырех лет.
Алиса встала, прошлепала босиком к стеклянной двери, выходившей во внутренний двор, отодвинула штору. День был теплый и солнечный. В бассейне плескалось человек десять, и среди них она сразу заметила сына. Он пытался закинуть мяч в высокую баскетбольную корзину.
– Чуть медленней. Размах чуть медленней. – Рядом с Максимкой плавал темноволосый мужчина.
– Покажите мне еще раз! – крикнул Максим по-английски и кинул мужчине мяч.
Это был сосед, американец. «Ну ладно, пусть ребенок подтянет свой английский», – спокойно подумала Алиса и, сладко потянувшись, отправилась в душ.
За ночь все страхи улетучились. Разумеется, никакого Майнхоффа во вчерашней забегаловке не было. Все хорошо. Все отлично. Надо забыть про вчерашний призрак в грязной закусочной. Он действительно призрак, выходец с того света, существо из другой реальности, которой больше нет и быть не может в ее жизни. Надо взять себя в руки и начать наконец отдыхать в свое удовольствие.
Она вышла из душа, надела узкие бледно-голубые джинсы и темно-синюю блузку из плотного шелка, расчесала прямые пепельно-русые волосы, доходившие почти до пояса, быстро оглядела себя в огромном зеркале стенного шкафа и осталась довольна. Как сказал мудрый Козьма Прутков, хочешь быть счастливым, будь им. Глупо тратить драгоценное время отдыха на призраков, на дурные предчувствия и головную боль.
– Максимка, вылезай, будем завтракать, – негромко позвала она сына, подойдя к краю бассейна.
Он помахал рукой, нырнул, поднимая фонтан брызг, и через минуту его голова показалась у бортика.
– Мам, Деннис, наш сосед, согласился взять меня с собой поплавать с аквалангом, – радостно сообщил он, вылезая из бассейна. – Ты мне разрешаешь?
– Нет. Я не знаю никакого Денниса, к тому же ты еще слишком маленький для акваланга. – Алиса закутала сына в огромное гостиничное полотенце.
– Ну, не с аквалангом, так с маской.
– Все равно не разрешаю, – покачала головой Алиса, – вода в море слишком холодная…
– Мам, ну ты что?! Я уже договорился. А с Деннисом ты познакомься, он такой классный, он, кстати, приглашает нас на завтрак. Мам, ну пожалуйста! Я английский подтяну. Ты же сама говорила, без разговорной практики нельзя выучить язык.
– А зубы ты чистил, водолаз?
– Ты сейчас будешь изображать вредную мамашу? У тебя с утра острый воспитательный синдром? – буркнул ребенок, передернув плечами, скинул Алисину руку.
– Не груби, пожалуйста. На твоем месте я была бы тише воды, ниже травы, если бы так сильно хотела понырять, – заметила Алиса.
– Ты? Понырять?! Ха-ха, мамочка, не смеши меня! Ты здесь еще в воду ни разу не вошла, даже в бассейне не искупалась! Ты трусиха, к тому же у тебя приступ вредности!
– Вот я сейчас рассержусь, мы поссоримся, и никакого Денниса с аквалангом тебе точно не видать. Так зубы чистил или нет?
– А как ты думаешь? – прищурился Максимка.
– Разумеется, нет. Ладно, давай быстренько в душ, почисть зубы, а там видно будет.
– Мам, зачем в душ после бассейна?
– Хлорку смыть.
Завтрак можно было приготовить прямо в номере. В маленьком закутке имелось все необходимое – электрическая плита, набор кухонной посуды, микроволновая печка с грилем.
– Тебе омлет или гренки с сыром? – спросила Алиса, заглянув в ванную.
– Мне яичницу с беконом.
– Где я возьму бекон? Здесь не едят свинину.
– У Денниса есть бекон. – Максимка выглянул из-за пластиковой шторки. – Я, в отличие от тебя, мамочка, не такой дикий и легко схожусь с людьми.
– Слишком уж легко.
В стеклянную дверь постучали. На пороге стоял американец и смущенно улыбался.
– Наверное, я поступил опрометчиво, пообещав Максиму, что мы будем нырять? – Он шагнул в номер, не дожидаясь приглашения. – Надо было сначала у вас спросить.
При ярком солнечном свете он выглядел моложе и привлекательней. Лицо не казалось таким жестким. На нем были светлые холщовые брюки, бежевая рубашка с короткими рукавами. Широкие плечи, темные короткие волосы, небольшие залысины над высоким лбом. Карие глаза смотрели на Алису с явным мужским интересом, даже с восхищением.
«Американская феминистка расценила бы такой откровенный взгляд как сексуальное домогательство, – усмехнулась про себя Алиса, – а за такую настырность могла бы подать в суд».
– Я понимаю, что веду себя слишком навязчиво, – произнес он, как бы прочитав ее мысли, – но мне ужасно неуютно здесь в одиночестве. В Детройте у меня есть племянник Стивен, ему десять, как вашему Максиму. Они очень похожи. Разумеется, это ничего не значит. Если вам неприятно мое общество, я уйду сию же минуту и больше ни разу вас не побеспокою.
«Ага, так я тебе и скажу: пошел вон, паршивый янки, мне неприятно твое общество! А потом ребенок будет на меня дуться всю оставшуюся неделю. Я ведь не могу часами играть с ним в мячик в бассейне и тем более нырять с аквалангом. Максимка, вероятно, успел сообщить: мама не умеет плавать и не любит играть в мяч».
– Деннис, где вы достали бекон? В этой стране не едят свинину, – произнесла она вслух с любезной улыбкой.
– Купил в английском магазине деликатесов в Тель-Авиве. Надеюсь, вы не вегетарианка?
– Нет, я не вегетарианка. А почему вы приехали сюда отдыхать в одиночестве, если вам неуютно?
– Я приехал в Тель-Авив по делам фирмы. Я работаю социологом-аналитиком в корпорации, которой принадлежит сеть американских гостиниц «Холидей-инн» по всему миру. Я никогда раньше не был в Израиле, решил устроить себе небольшой тайм-аут, поплавать в Красном море и заранее выторговал у своего начальства недельку отдыха.
– Американские гостиницы «Холидей-инн» здесь на каждом шагу, – заметила Алиса, – а вы поселились в этом отеле. Наверное, в «Холидей-инн» могли бы жить бесплатно.
– Меня тошнит от наших «иннов», – усмехнулся Деннис, – и потом, там нет системы апартаментов, нет номеров с кухней. А я люблю готовить. В Детройте я даже хлеб себе пеку сам. Между прочим, именно поэтому от меня ушла жена два года назад. Она тоже обожала готовить, и мы дрались до крови за право стоять у плиты.
Из ванной вышел Максимка и, увидев Денниса, прямо засиял счастливой щенячьей улыбкой.
«Ладно, яичница с беконом на завтрак – это совсем неплохо, – подумала Алиса, – особенно в стране, где нет свинины и нельзя съесть ни кусочка ветчины, ни нормальной сочной сардельки».
Город Беэр-Шева, столица южной пустыни Негев, вовсе не похож на оазис. Унылая пустыня, нагромождение бесформенных глыб известняка и песчаника, и посередине – город, до сих пор напоминающий военное поселение на оккупированной арабской территории, хотя арабов отсюда изгнали еще в 1948 году.
Светло-серые прямоугольники домов, солдаты, полицейские, темнолицые бедуины, закутанные в экзотическое грязное тряпье с головы до пят, пропыленные военные грузовики и джипы на улицах.
Рядом с городом база ВВС, а чуть дальше израильский Научный центр ядерных исследований, мрачное строение, окруженное колючей проволокой, сторожевыми вышками и мертвой зоной пустыни.
В пятницу пятого января к трем часам дня в городе Беэр-Шева все бегали и суетились. Владельцы маленьких кафе убирали с улиц столы и стулья, терли щетками со специальной пеной плиты тротуара, опускали жалюзи. В продовольственных лавках, которые еще оставались открытыми, шла спешная, немного нервозная торговля. Жители закупали еду на ближайшие сутки.
К четырем часам город вымирал. Начинался иудейский шабат. До субботнего вечера, до первой звезды, все будет закрыто. Работать в это время – великий грех. Далеко не все жители города были правоверными иудеями. В Беэр-Шеве жили люди из семидесяти стран, переселенцы из Румынии, Польши, Марокко, Аргентины, бывшего Советского Союза и много другого пестрого разноязычного народу. Но древний обычай соблюдался аккуратно.
На окраине города, в трехэтажном здании, огороженном высоким забором с колючей проволокой, царила такая же суета, как и везде в Беэр-Шеве. Сотрудники снимали специальные прорезиненные костюмы, стягивали защитные маски, громко переговаривались через стенки душевых кабинок.
Покидая это здание, все сотрудники, даже охранники, переодевались, мылись, обрабатывали руки и лицо специальным дезинфицирующим раствором. Лаборатория занималась биологическим оружием нового поколения и всевозможными ядами, которые действуют либо мгновенно, либо медленно, проникают в человеческий организм при соприкосновении с небольшим участком кожи, не оставляют следов даже при тщательном химическом анализе.
В отличие от базы ВВС и Центра ядерных исследований, которые обозначены во всех туристических путеводителях, эта лаборатория была строго засекречена.
Все виды биологического оружия нового поколения, которым здесь занимались, были запрещены Женевской конвенцией. Специальная комиссия ООН еще пять лет назад, рассмотрев материалы исследований, объявила, что такие разработки представляют опасность для биосферы Земли и в дальнейшем могут привести к непредсказуемым последствиям, к генетическим мутациям, резкому росту иммунных и онкологических заболеваний.
Неприметное серое здание на окраине Беэр-Шевы скромно именовалось Санитарно-эпидемиологической станцией.
К половине четвертого все шкафы с химикатами, стеклянные резервуары с образцами смертоносных бацилл, вирусов и прочей гадости, барокамера с подопытными мышами и кроликами были закрыты, заперты, запечатаны специальными печатями. Стальные бронированные двери захлопнулись.
Руководитель лаборатории Натан Бренер, невысокий, полноватый, с непропорционально крупной головой, которая казалась еще больше из-за пышной седой шевелюры, сидел в своем кабинете, пил чай и никуда не спешил. Вопреки священной традиции он собирался сегодня еще поработать. Есть вещи, ради которых можно нарушить шабат. Штаммы живой культуры, полученные в результате скрещивания сибирской язвы с североамериканским бластомикозом, размножаются даже в шабат. Именно сегодня, по всем расчетам, подопытный кролик Карл, зараженный супер-вирусом, а затем получивший несколько инъекций специального антибиотика, должен был либо выздороветь, либо издохнуть.
Особенность исследований Бренера состояла в том, что он создавал не только смертоносные бактерии и яды, но пытался сразу разработать антибиотики и противоядия к ним. Если, к примеру, при использовании биологического оружия случайно заразится кто-то, кроме противника, должен быть шанс спасти, вылечить. Точно так же и с ядами. Чем проще и быстрее проникает он в организм жертвы, тем опасней для того, кто его использует.
Натан Бренер взглянул на часы. Старые, верные механические часы фирмы «Полет». Им двадцать лет. Он купил их в ГУМе, когда уезжал из России. Сейчас они показывали четыре. Начало шабата. В крошечном окошке на циферблате календарик. Оказывается, сегодня пятое января. Ровно двадцать лет, как он уехал из России. Может, стоит отпраздновать эту дату в компании подопытного кролика Карла? Да, если уж праздновать, то именно в такой печальной компании, ибо радости от этого юбилея Бренер не испытывал.
Покряхтывая по-стариковски, Натан Ефимович поднялся, вышел из кабинета. В небольшом холле у журнального столика, развалившись в мягких креслах, двое охранников лениво хрустели картофельными чипсами, потягивали колу из пластиковых бутылок. Автоматы «узи» валялись тут же, на столике, и на них сыпались жирные крошки от чипсов.
Бренер кивнул охранникам, прошел по коридору, сунул магнитную карточку в щель массивной металлической двери. За дверью находился просторный бокс для подопытных животных, за которыми необходимо было вести круглосуточное наблюдение. В стеклянной барокамере лежал, не двигаясь, подопытный кролик Карл. Белая шерстка местами облезла, обнаженные участки кожи были покрыты страшными гнойными волдырями.
– Ну что, братец кролик, плохо дело? – произнес Бренер по-русски.
Зверек не шевелился, но дышал. Длинные уши едва заметно вздрагивали. Натан Ефимович достал из стеклянного шкафа защитную маску, подошел к барокамере. В круглые отверстия были впаяны огромные резиновые перчатки, герметичные безопасные норы для человеческих рук. Бренер достал из кармана халата упаковку с одноразовыми хирургическими перчатками и только так, через двойной слой резины, прикоснулся пальцем к голове умирающего зверька, осторожно погладил за ухом. Кролик вздрогнул, чуть приподнял облезлую мордочку и уставился на профессора.
– А что, Карлуша, может, поживем еще? – задумчиво спросил Бренер.
Бледно-розовые ноздри зверька трепетали, нервно подергивались. Значит, антибиотик действовал. Возможно, он просто продлевал мучительную агонию. Но исследования надо продолжать именно в этом направлении, постепенно расширяя зыбкую границу между жизнью и смертью.
Натан Ефимович выдвинул ящик кормушки, ловко извлек кусочек морковки и поднес его к самому носу зверька. Ноздри затрепетали еще быстрей. Кролик открыл рот и ухватил оранжевый кружок.
– Отлично, Карлуша, – улыбнулся профессор, – если ты такой молодец, давай вместе праздновать круглую дату. В Москве-то сейчас мороз, снег. Говорят, это теперь совсем другой город. Может, смотаться мне туда на недельку, а, Карлуша?
Кролик старательно жевал морковку и глядел на профессора живыми красными глазками. Натан Ефимович поднес к его мордочке маленький лоток со свежей водой.
– Выпей, братец, за мой глупый юбилей. Ты спросишь, почему глупый? Сам не знаю. Я мечтал о собственной лаборатории – вот она. Я хотел путешествовать по всему миру, видел во сне Лондон, мысленно гулял по Парижу – таки теперь все это я поимел наяву. И что? Тоскую по Мещанским улицам, по бандитской Малюшенке, по Трифоновке тоскую, старый идиот, по перекурам и партсобраниям, по буфету в нашем паршивом НИИ. Девяносто рублей зарплата, мать твою. Младшему научному сотруднику больше не полагалось. А старшего не давали, мешала пятая графа. В партию вступил, а все равно не давали. Диссертацию дважды завернули… Коммуналка на Трифоновке, вонючий подъезд, в котором вечно кто-то пил, а потом блевал у батареи, индийский чай со слоном и финский сервелат в заказах на 7 Ноября… Ну, спрашивается, что я там забыл? Двадцать лет успокоиться не могу, потому и не еду туда в качестве богатого иностранца. Боюсь. Ну скажи, чего мне неймется? Отличный дом, денег – завались, сын Сережка окончил Кембридж, процветает, фирму свою открыл в Тель-Авиве. Внуков двое, чудесные детки, умные, с хорошей хваткой. Только по-русски не говорят. По-английски и по-французски болтают, засранцы малолетние, а по-русски – ни слова. Зачем им? Они здесь родились. Иврит их родной язык. Так-то, братец кролик.
Натан Ефимович тяжело вздохнул, потрепал зверька за ухом, вытащил руки из резиновых нор, стянул перчатки, снял маску. К боксу примыкала небольшая комната отдыха. Журнальный столик, пара кресел. Бренер тщательно вымыл руки, облил кисти дезинфицирующим раствором, достал из кармана белого халата серебряную плоскую фляжку, уселся в кресло, хлебнул коньяку прямо из горлышка, закурил и тихонько фальшивым, скрипучим тенорком стал напевать себе под нос:
- После дождичка небеса просторны,
- Голубей вода, зеленее медь…
Он забывал слова любимого романса Булата Окуджавы, врал мелодию, злился на самого себя за сентиментальность, за глупую тоску, которая ему, шестидесятилетнему профессору с мировым именем, вовсе не к лицу.
– Пустыня… – бормотал он, прихлебывая коньяк, перебивая самого себя, – чужая страна… совсем чужая…
Город Беэр-Шева к пяти был похож на пустыню. Улицы вымерли. В управлении полиции, которое находилось неподалеку от здания секретной лаборатории, дежурные слонялись по коридорам, смотрели телевизор, курили, пили безалкогольное пиво.
У ворот остановился серый спортивный «Форд» с открытым верхом. Из него вышла молодая пара. Светловолосые, в темных очках, в дорогих спортивных куртках, они заговорили очень возбужденно по-немецки, перебивая друг друга.
– В чем дело? – поинтересовался по-английски дежурный офицер.
– У меня вытащили бумажник здесь в кафе за углом. – Молодой человек перешел на английский. – Там все мои документы, кредитные карточки, водительские права.
– В каком именно кафе? – спросил офицер. – Сейчас все закрыто.
– Это случилось часа два назад, но пропажу я обнаружил позже.
– Вы помните, где именно это произошло?
Молодой человек стал пространно объяснять, где находится кафе. Дежурный принялся заполнять протокол.
– Мы туристы из Австрии, – сообщила девушка, – мы улетаем через два дня.
– Как вы попали в Беэр-Шеву? Это не туристический город. У вас есть какие-нибудь документы? – обратился офицер к девушке.
– Мы ехали из Эйлата в Иерусалим… Простите, где у вас туалет?
– По коридору направо.
Девушка удалилась в туалет. Молодой человек продолжал возбужденно рассказывать, как, по его мнению, могли вытащить бумажник из кармана куртки и что в этом бумажнике находилось. Офицер достал еще один бланк протокола.
– Ваша фамилия?
– Отто Штраус, гражданин Австрии.
Пока заполняли протоколы, вернулась девушка.
– Я бы советовал вам задержаться в городе. Мы постараемся найти вора по горячим следам. Сейчас вы вместе с нашей патрульной машиной попробуете отыскать то кафе, – сказал офицер.
Парочка вышла из здания в сопровождении двух полицейских. Патрульный джип выехал из ворот и последовал за серым «Фордом». Они не проехали и сотни метров. «Форд» резко затормозил. Девушка развернулась, встала во весь рост. В руках у нее оказался автомат. Двое офицеров не успели опомниться, переднее стекло джипа разлетелось вдребезги, полицейские были прошиты очередью, которую заглушил мощнейший взрыв. Управление полиции города Беэр-Шевы взлетело на воздух.
- Проливается черными ручьями
- Эта музыка прямо в кровь мою.
Натан Ефимович Бренер допел последний куплет романса Булата Окуджавы, вылил в рот остатки коньяка из серебряной плоской фляги, щелкнул зажигалкой и услышал жуткий грохот где-то совсем близко.
Завыла сирена. Через минуту в коридоре началась беготня. Профессор выскочил из бокса, прежде чем закрыть стальную дверь, бросил взгляд на кролика Карла. Кролик метался по барокамере.
– Господин Бренер… – Навстречу по коридору бежал охранник.
– В чем дело? Что происходит? – выкрикнул профессор.
Все здание секретной лаборатории было наполнено истерическим визгом сигнализации. Рядом, почти у самого уха, что-то хлопнуло, будто пробка вылетела из бутылки шампанского. Охранник открыл рот и стал медленно падать прямо на Натана Ефимовича. Профессор подхватил его и увидел, как стекленеют темно-синие молодые глаза. За охранником возвышался силуэт какого-то странного инопланетного существа с коротким рифленым хоботом. Резкий запах дешевой парфюмерии ударил в нос, в горле сильно запершило, глаза заволокли слезы, голова закружилась.
Краем уходящего сознания профессор успел понять, что перед ним не инопланетянин, а обыкновенный земной бандит в противогазе.
Здание акционерного общества «Шанс» возвышалось над старыми переулками в районе Остоженки, как огромный инопланетный корабль, этакий летающий фужер из черного стекла. На донышке фужера, в уютном просторном кабинете президента акционерного общества, шло экстренное совещание.
– Я не вижу в этом ничего странного и тем более абсурдного. Мирный договор подписан. На ближайшие несколько лет стабильность в регионе гарантирована. На наших глазах ситуация на нефтяном рынке резко меняется. Падают цены. Как только будет снято эмбарго, акции компаний, которые успеют вовремя подсуетиться, резко подскочат. По моим данным, деньги в иракскую нефть уже вложили «Триумф», «Прометей», «Российский купец», «Галатея», разумеется, пока тайно, через посредников.
– Вот это и настораживает. Подосинский уже несколько лет покупает через подставных лиц иракскую нефть за копейки и продает за доллары. С чего бы ему сейчас суетиться? Он вовсе не заинтересован в мире и в стабильности.
– Вот поэтому он и засуетился. Он вырабатывает новую стратегию. Нельзя зевать, иначе он опять будет первым.
– А может, он блефует? Разыгрывает спектакль?
– Что, спектакль с миром на Ближнем Востоке и снятием санкций ООН?
– Почему бы и нет? Я, например, ничего не исключаю, когда речь идет о Подосинском.
– Ну, не надо приписывать Гене Подосинскому полномочия генерального секретаря ООН. Гена, конечно, фигура серьезная, но не до такой степени. Другое дело, что с миром все не так просто. Американцы делают хорошие деньги на поставках оружия. Постоянный образ врага, агрессора – козырная карта политиков. Хочешь повысить свой рейтинг – добейся подписания пары-тройки договоров о перемирии, организуй освобождение десятка-другого заложников, и сразу тебе зааплодирует восхищенная общественность.
– Ладно, не стоит сейчас вдаваться в высокую политику. Сколько у нас времени, чтобы принять решение?
– Не больше недели. Но объем инвестиций надо обговорить заранее.
– О’кей, будем считать это рабочим вопросом.
– Даже так? Не рано ли? Надо сначала хорошо прощупать Подосинского.
Когда члены совета директоров разошлись, президент вызвал секретаршу:
– Свяжись-ка, Мариночка, с Харитоновым. Пусть подъедет. Скажи, срочно.
Через двадцать минут Валерий Павлович Харитонов, неприметный, серенький человек лет пятидесяти, начальник охраны акционерного общества, отставной полковник госбезопасности, бесшумно вошел в кабинет.
– Валера, мне нужно все о Подосинском за последний месяц. Официальные переговоры, планы по инвестициям, контакты, поездки, слухи и даже просто треп. Все, Валера. Очень осторожно и крайне срочно.
Глава 6
Восточный Берлин, март 1978 года
Закончив школу, Карл Майнхофф легко поступил в университет на исторический факультет. У него была отличная память, он быстро запоминал имена и даты. На вступительных экзаменах сыпал шелухой цитат из классиков марксизма-ленинизма.
К двадцати годам Карл был крепок, жилист и при небольшом росте умудрялся смотреть сверху вниз даже на тех, кто был выше его на голову. Лица людей на серых берлинских улицах казались ему свиными рылами. Ему было скучно. Иногда хотелось просто так, от скуки, вмазать кулаком в какое-нибудь рыло. И он с трудом сдерживался.
Он был примерным студентом, старостой группы, гордостью факультета, отлично учился, активно занимался общественной работой. Он хотел сделать карьеру не для того, чтобы жить в большом красивом доме, разъезжать на шикарной машине и так далее. Это все мелочи. Главное – не слиться с серой массой, подняться над ней, чтобы свиные рыла были не перед глазами, а где-то там, внизу. Под ногами. Он ведь последний и единственный из благородного рода баронов фон Майнхофф.
Разумеется, никому он про свое благородное происхождение не болтал. Болтал он о других вещах. О том, что все вокруг дерьмо и свинство. О том, что миром правят придурки, старые маразматики и, если ты молодой, здоровый, сильный, надо дать им всем пинком под зад. Вообще-то Гитлер был прав, когда истреблял евреев и славян. Правильно. А то развели сопливую демократию. Обязательно кого-то надо истреблять. Без этого человечество жиреет, тупеет. Не важно, кого именно. Главное – найти врага. Враг – это стимул. Без стимула нет развития. Если нет врага, люди начинают искать недостатки в самих себе. А это вредно для здоровья. От этого становишься рефлексирующим дерьмом. Что может быть хуже рефлексирующего дерьма? Нужна ясность. Вот враг. Он плохой. Он во всем виноват. Размажь его по стенке, и тебе сразу станет легче.
Все это Карл болтал тихо, но так убедительно, так вдохновенно, что с каждым разом становилось все больше слушателей. В подвальной пивной, неподалеку от университета собирались те, кому нравилось слушать Карла.
Скоро вокруг Майнхоффа сбилась крепкая, мрачно-восторженная стайка постоянных слушателей, дюжина мальчиков от пятнадцати до двадцати. Из них только двое были студентами университета, остальные учились либо в школе, либо в ремесленных училищах. Карл был самый старший, самый умный. Его не перебивали. Ему внимали, открыв рты, как голодные воронята. И падали в эти жадные клювики вкусные питательные червяки бредовых идей.
Мальчики, взбудораженные гормональными бурями полового созревания, томимые переизбытком тестостерона в крови, были счастливы сбиться в стаю. Стая давала сладкое чувство общности и в то же время – особости, исключительности.
Дальше разговоров пока не шло. Стайка подростков еще не оформилась в нечто серьезное, жуткое, кровавое. Старинный и вечно юный бред уничтожения еще только пульсировал в глупых головах берлинских мальчиков. Слоился табачный дым, шипели сардельки на жаровне, пузырчатой мутной пленкой оседала пивная пена на толстобоких кружках, юные глаза наливались кровью, лоснились от пота и пива почти детские, но уже не человеческие лица.
– Все дерьмо. Надо навести порядок. Великая немецкая нация разъедена буржуазно-еврейско-американской заразой. Надо спасать нацию. Надо удалить стерильным скальпелем раковую опухоль сионизма. Пора покончить с прогнившей слюнявой христианской моралью. Сколько денег уходит на всяких там дебилов, инвалидов, психов и прочих уродов! Нация не должна их кормить. Нация не должна их жалеть. В печь их всех, а пепел – на удобрение. Нельзя никого жалеть. Надо убивать евреев и цыган.
– И черномазых, – рыгнув, добавлял кто-нибудь из мальчиков.
– Черномазых, – согласно кивал Карл.
– И священников, – гаркал кто-то.
– Священников, – кивал Карл, – христианская церковь разлагает нацию, призывая к любви и смирению. Какая, к дьяволу, любовь? Есть здоровые инстинкты. Какое смирение? Ха-ха, вот пусть они и смиряются, когда мы будем их убивать.
– А русские? – выкрикнул кто-то так громко, что бармен и пара проституток, скучавшие у стойки, посмотрели в сторону веселой компании.
– Не ори, Отто, – поморщился Майнхофф, – с русскими мы тоже разберемся. Мы заставим их построить посреди Москвы точно такую же стену с колючкой, как у нас в Берлине. И пропустим ток по колючке. Мы будем во всем брать с них пример. Они умеют бить сапогами по свиным рылам и неплохо справляются с евреями. У них есть чему поучиться. Но вообще они тоже свиньи. А как поступают со свиньями?
– Из свиней делают ветчину.
– Правильно, Вилли.
– Но из русских выйдет плохая ветчина. Чтобы мясо было сочным, скотину надо хорошо кормить. А русские едят всякую дрянь. Моя тетка Герда была в России, там в магазинах продают тухлую рыбу, комки грязи вместо картошки. И стоят очереди, каких у нас не было даже после войны. Карл, почему они победили, а сами едят тухлятину?
– Потому что свиньи.
Мальчики за широким столом из нетесаных досок оглушительно ржали. Плыл горький слоистый дым, пахло пивом, молодым потом и кровью. Все-таки уже пахло кровью.
В погребок редко заглядывали посторонние. Публика была все та же: несколько тихих пьянчуг, проститутки с бульвара, иногда приходили панки с петушиными гребнями, покуривали марихуану, громко ржали, распевали нестройным хором похабные песенки. Между ними и компанией, сбившейся вокруг Карла Майнхоффа, до поры до времени соблюдался тихий, взаимовыгодный нейтралитет. Ни те ни другие вовсе не хотели, чтобы из-за случайных конфликтов хозяин кабачка вызвал полицию.
Разумеется, к табунку прибивались девочки. Карл равнодушно скользил взглядом по накрашенным лицам и все никак не мог остановить свой выбор на какой-нибудь одной. Его раздражали однообразие и скучная доступность этих молоденьких вульгарных бездельниц, готовых прибиться к любой компании, в которой много мальчиков, пива, марихуаны. Ему не нравились выщипанные в ниточку брови, ужимки, манера закатывать и прикрывать подведенные кукольные глаза. Одеты они были почти одинаково: короткие узкие юбки из замши или плотного эластика, трикотажные маечки с низкими декольте на спине и на груди, много дешевой тяжелой бижутерии. И пахли они одинаково: приторными дешевыми духами, потом, грубой похотью, и слова говорили одни и те же, а чаще молчали и хихикали.
Посетительницы пивной устраивали его только на одну-две ночи, не более. Но и в университете, среди совсем других девушек, не мог он найти себе постоянную подружку.
Берлинские студентки-интеллектуалки конца семидесятых носили потертые джинсы, кроссовки или мужские ботинки, мешковатые свитера, куртки защитного цвета. Бровей не выщипывали, любили маленькие круглые очки, огромные холщовые сумки-мешки. Волосы мыли каждый день, но почти не расчесывали, часто стриглись совсем коротко, под ежик. И никаких духов, каблуков, декольте, украшений, никакой косметики, ничего обтягивающего, яркого. Говорили эти девушки слишком много и умно, каждым жестом подчеркивали свою бесполость, независимость и совершенное нежелание нравиться. Это тоже раздражало, просто скулы сводило от скуки.
Ему нужна была особенная девушка. Не обязательно красотка, но непременно породистая, с тонкими пальцами и щиколотками, с узкими бедрами, с чистым правильным лицом. Не куколка, глупо хихикающая и хлопающая глазками, но и не бесполая серьезная умная швабра. У нее должно быть ума ровно столько, чтобы слушать и понимать Карла, но не больше. Она должна быть молчаливой, немного странной, ни на кого не похожей. Она должна уметь глубоко и ненавязчиво восхищаться каждым словом и поступком Карла. Должна быть верной, преданной, готовой ради него на все.
Нельзя сказать, что в душе его успел сложиться некий конкретный идеал, по которому он тосковал в обществе случайных подружек. Меняя девочек, он вовсе не тосковал, хотя всегда знал, что было бы приятней, удобней и надежней иметь радом одну, постоянную.
И вот однажды дождливым мартовским вечером в погребке появилась новая и совершенно особенная девушка.
У нее были очень светлые, почти белые волосы, прозрачные светло-голубые глаза, большой мягкий рот, редкие мелкие веснушки на вздернутом тонком носике. Ей было не больше шестнадцати.
Магнитофон работал на полную мощь, от ударов тяжелого рока пульсировали стены, тряслись пивные кружки. Приходилось орать в самое ухо, чтобы тебя услышали. У стойки, сидя на высоких табуретах и потягивая шнапс, пара вялых пожилых проституток обхаживала какого-то случайного пижона в двубортном красном пиджаке.
– Зря стараешься, Магда, он «голубой»! – громко прокричал Карл в ухо одной из женщин, проходя мимо.
– Что ты сказал? – Пижон повернул к Карлу длинную худую физиономию в спелых прыщах. – Повтори, дерьмо, что ты сказал?!
Он спрыгнул с табурета и двинулся на Карла, но тут же получил крепкий удар коленом между ног. Пока пижон, согнувшись пополам, хватал ртом дымный воздух, Карл уже прошел мимо и уселся за столик рядом с блондинкой, отодвинув при этом ее соседку на самый край дубовой лавки. В сторону пижона он больше не взглянул. Если тот вздумает возникать, с ним разберутся.
– Привет. – Карл прикоснулся к волосам девушки, заправил за ухо легкую прядь. – Как тебя зовут?
– Инга. – Девушка махнула светлыми, ненакрашенными ресницами и уставилась на Карла прозрачными глазами. – А ты Майнхофф. Карл Майнхофф.
Разумеется, она знала, кто он такой. Здесь собирались только свои. Чужака в красном пиджаке, который по дурости забрел сюда случайно, уже выкинули вон. Карлу даже не надо было кивать своим ребятам. Они сразу все поняли, и не успел пижон оправиться от первого удара, как красномордый двухметровый Отто Штраус подхватил его, словно перышко, и отнес к выходу. Пусть подышит свежим воздухом. Чужим здесь не место.
Проститутки Магда и Сюзанна, обиженные, что им не достался клиент, молча пили свой шнапс у стойки и недовольно косились в сторону Карла. В следующий раз будут знать, где снимать клиентов. А не усвоят урок – сами вылетят отсюда.
– Тебе здесь нравится, Инга? – Он положил ладонь на ее худую коленку.
На девушке были узкие вельветовые джинсы.
– Да, – она опять махнула ресницами, – здесь весело.
– Здесь ничего веселого. Ты куришь травку?
– Нет. Я вообще не курю.
– Сколько тебе лет, Инга?
– Шестнадцать.
– Я так и подумал. Учишься в школе?
– В медицинском училище. А правда, что ты учишься в университете?
– Правда.
– Ты не похож на студента.
– А на кого я похож?
Она выпятила мягкую нижнюю губу, сдула длинную прядь, упавшую на лицо.
– Ты похож на Карла Майнхоффа.
Из бара они вышли вместе. Было темно и холодно. Моросил мелкий, частый дождь. По черному асфальту расплывались синевато-белые блики фонарей. В старых домах топили камины, пахло угольным дымом, тянуло ванилью из кондитерской на углу. Прогрохотал над головой неспешный поезд наземного метро.
Ни слова не сказав друг другу, они стали целоваться в темноте под мостом. У Инги были прохладные мягкие губы, нежная, влажная от дождя кожа. Широко открытые глаза светились, как маленькие серебряные зеркальца, и в них ясно отражались разноцветные ночные огни.
Они продолжали молчать, пока поднимались по бесконечной лестнице на самый верхний, чердачный этаж старого дома. Родители оплачивали Карлу крошечную неуютную квартирку под плоской крышей.
Полукруглое окно без занавесок у самого пола. Письменный стол, вертящееся кресло у стола, широкий матрац без ножек, прямо на полу.
Напротив голого окна всю ночь светилась огромная яркая неоновая реклама. Чердачная комната была залита неверным, мерцающим светом. Загадочные глаза Инги вспыхивали прохладным бледно-голубым огнем.
Глава 7
Эйлат, январь 1998 года
Ларек «Кодак» находился у торгового центра, в двух шагах от пляжа. Молодой человек выдал Алисе талончик и сказал, что снимки будут готовы минут через двадцать.
Алиса вернулась на пляж. Она почти сразу заметила в конце длинного пирса Максима и Денниса. Они спускали на воду небольшой пластиковый плот и собирались поплавать на нем вдоль пляжа.
Алиса присела на край лежака, достала из сумки книжку Энтони Спейсона и начала читать второй роман, входивший в толстый сборник. День был солнечный, но порывы ледяного ветра отбивали у нее всякую охоту раздеваться и влезать в воду. Она вообще еще ни разу не решилась здесь искупаться. Вода была теплой, двадцать пять градусов, но влезать и вылезать под ледяным ветром – нет уж, это развлечение для более мужественных и волевых натур.
Второй роман Спейсона оказался не таким увлекательным, как первый. Алиса то и дело отрывала взгляд от книги, смотрела на сына и американца, которые плавали на плоту и помахивали ей. Она видела издалека, что оба смеются.
«Идиллия, – подумала она, – прямо-таки семейная идиллия. Хорошо, что Максимка не успеет за неделю по-настоящему привязаться к этому милому Деннису».
Совсем недавно в их жизни уже намечалась подобная идиллия, и не хотелось повторений. Год назад за Алисой стал нежно ухаживать такой же вот милый джентльмен, правда, не американец, а свой, русский. Детский доктор из частной стоматологической поликлиники, куда Алиса водила ребенка исправлять неправильный прикус.
Звали доктора Миша, ему было сорок. Обаятельный, интеллигентный, этакий душка, мечта матери-одиночки, он изо всех сил старался понравиться Максимке. Это ему удалось довольно скоро. Ребенок каждое утро просыпался с одним и тем же вопросом: «А Миша сегодня придет?»
Алиса не испытывала к стоматологу никаких особенных чувств, кроме благодарности за то, что он столько времени проводит с ее сыном, так глубоко вникает во все его детские проблемы, с таким искренним увлечением играет в мальчишеские игры.
Миша не только не скрывал, но постоянно подчеркивал свои серьезные намерения, говорил, что был женат, но давно развелся, детей нет, и больше всего на свете ему хочется, чтобы у него была такая вот замечательная семья – Алиса и Максимка.
Все это продолжалось почти год.
Но однажды Алисе позвонила женщина, которая представилась Мишиной женой.
– Я хочу задать вам один вопрос, – сказала она вполне спокойно и миролюбиво, – вам известно, что у нас с Мишей трое детей, девочка и два мальчика, младшему полтора года?
– Нет…
– В таком случае продолжим разговор. Я знаю, у вас мальчик десяти лет. То, что вы можете питать напрасные иллюзии по поводу моего мужа, меня не особенно беспокоит. Но мне жаль вашего ребенка. Дети, которые растут без отца, быстро привязываются к чужим мужчинам, особенно таким обаятельным и остроумным, как мой муж. Зачем вашему мальчику переживать психологическую травму? Я не ставлю вам никаких условий, не угрожаю и ни о чем не прошу. Просто считаю, что вы должны знать. А что касается одинокой холостяцкой квартиры, в которую Миша вас приглашает по воскресеньям как к себе домой, то это квартира его приятеля…
«Ну, где же ты, мое шестое чувство? – подумала Алиса, вежливо попрощавшись с Мишиной женой и положив трубку. – Почему же ты молчала, подлая, хитрая моя интуиция? Я-то переживу, а ребенку что сказать? Что его обожаемый Миша ублюдок, животное, готовое про трех родных детей выдумать, будто их нету вовсе, рад тому, чтобы себя, любимого, побаловать романчиком с такой симпатичной голубоглазой идиоткой, как твоя мама?»
Немного успокоившись, она набрала номер той самой холостяцкой квартиры и наговорила на автоответчик, что убедительно просит Мишу никогда больше не звонить, не появляться в ее доме, исчезнуть навсегда.
Чужое вранье имеет свойство распространяться с быстротой вирусной инфекции. Чтобы не ранить ребенка, пришлось ему врать. В тот же вечер, краснея и бледнея, Алиса сообщила сыну, что Миша улетел за границу, в Австралию. Его послали на специальные курсы для зубных врачей. Ребенок не поверил, стал выпытывать, что произошло на самом деле.
– Просто он тебе, мамочка, не нравится и ты не хочешь выходить за него замуж. Я это давно понял.
– Ну а если так? – тихо спросила Алиса.
– Если так, то ты поступаешь плохо, потому что мне он очень нравится. И тебя он любит по-настоящему, – так же тихо ответил ребенок, – у нас была бы наконец нормальная семья.
– У него уже есть семья, малыш, – морщась, как от зубной боли, произнесла Алиса после долгого молчания, – у него трое детей. Девочка и два мальчика. Младшему полтора года.
– Но это неправда! – Максимка заплакал. – Это неправда! Он не мог сказать о живых детях, что их нет! Так не бывает!
Потом она долго искала слова, чтобы объяснить десятилетнему ребенку, почему взрослые люди врут. Но как она могла объяснить то, что сама по-настоящему не понимала? Есть множество женщин, готовых с легкой душой закрутить роман с отцом чужого семейства. Ну почему стоматолог Миша не нашел себе именно такую, которой все равно? Ведь был у них разговор еще в самом начале. Алиса сказала, что для нее крутить роман с женатым человеком – это как воровать или надевать на себя чужое нижнее белье. Тогда он и сообщил, что разведен и детей у него нет…
Максимка переживал всю эту историю очень глубоко и тяжело. Не только потому, что успел привязаться к Мише. Главное, он впервые столкнулся с настоящим, жестоким взрослым враньем. Алиса до сих пор занималась самоедством, ругала себя последними словами за то, что сказала ребенку правду. Рано ему знать такую правду.
Только здесь, в Эйлате, он по-настоящему отошел от недавних переживаний. Алиса не знала, хорошо или плохо, что сразу после Миши появился этот американец Деннис. Во всяком случае, никакого романа она с ним закручивать не собиралась, и, в конце концов, речь идет всего лишь о неделе. Потом он исчезнет и забудется, не оставляя никаких болезненных следов в душе ее ребенка…
Алиса глубоко задумалась и не заметила, что Максимка и Деннис уже успели вылезти из воды. Теперь они носились по пляжу, играли в мяч, чтобы согреться.
Через полчаса, по дороге с пляжа, они втроем зашли в ларек «Кодак» забрать готовые фотографии. Там вместо молодого человека сидела девушка.
– Вероятно, ваши снимки еще не готовы, – сообщила она, пересмотрев все конверты на полке.
– Странно. Вы сказали, через двадцать минут, а прошло больше часа, – заметила Алиса.
Девушка еще раз просмотрела конверты с готовыми фотографиями, пожала плечами и с квитанцией в руках удалилась в глубь ларька, за расписную ширму. Появилась она минут через пять и спокойно сообщила:
– Ваши снимки уже забрали.
– Что? – Алиса почувствовала неприятный холодок в солнечном сплетении.
За спиной девушки показался молодой человек.
– Минут десять назад зашел мужчина. Он сказал, что потерял квитанцию. В таких случаях мы предлагаем клиенту вторично оплатить услуги, так как он не имеет документа об оплате, а потом просмотреть конверты и найти свои фотографии. Ведь чужие снимки никому не нужны. Вероятно, произошла ошибка…
– Как он выглядел, этот мужчина? – спросила Алиса.
– Собственно, я не приглядывался… Светлые волосы, светлые усы, на вид лет сорок.
– Он говорил по-английски?
– Да.
– С акцентом?
– Ну, вы слишком многого от меня хотите, – улыбнулся молодой человек, – не волнуйтесь. Возможно, тот мужчина скоро сам обнаружит ошибку и вернется. Скажите, в каком вы отеле? Я могу позвонить и передать портье.
– Спасибо. Отель «Ривьера». Фамилия есть у вас на квитанции.
– Мамочка, ну что ты так расстраиваешься? – спросил Максимка, когда они отошли от ларька. – Подумаешь, фотографии! Мы еще наснимаем, ведь не последний день. Давай зайдем в пиццерию, я есть хочу. Деннис, вы пойдете с нами обедать в пиццерию? – Он перешел на английский и тронул за руку американца, который все это время молча стоял рядом.
– К сожалению, мне надо немного поработать, – ответил Деннис, – я пойду в отель и посижу за своим «ноутбуком». Но вы не наедайтесь пиццей, оставьте место. Вечером я хочу пригласить вас в ресторан.
Попрощавшись, Деннис направился к отелю, Алиса и Максим пошли в другую сторону, вдоль набережной, к недорогой итальянской пиццерии.
Вернувшись в свой номер, Деннис не сел за компьютер. Он даже не стал развешивать мокрое полотенце и плавки, просто бросил пляжную сумку в кресло и поспешил назад, на набережную, к ларьку «Кодак».
– Скажите, этот человек забрал по ошибке фотографии? – Он показал небольшой цветной снимок.
Со снимка глядел Карл Майнхофф. Деннису удалось заснять террориста крупным планом во время уличных беспорядков в Югославии, пять лет назад, незадолго до фальшивых похорон и первой пластической операции.
– А почему, собственно?.. – начала было девушка, которой такое странное внимание к случайной ошибке показалось подозрительным.
– Да, именно он, – перебив ее, кивнул молодой человек, – только на вашем снимке он моложе и не такой загорелый.
– Спасибо, – улыбнулся Деннис и быстро спрятал фотографию во внутренний карман легкой куртки.
– Это похоже на детектив, – усмехнулась девушка, глядя вслед посетителю. – Почему ты не дал мне спросить?
– Это похоже на любовную драму, – покачал головой ее коллега, – но, что бы там ни было, правду он вряд ли тебе скажет.
Отставной полковник ФСБ Валерий Павлович Харитонов, человек серьезный, основательный, с солидным опытом работы в органах, не любил рисковать.
За годы службы у него накопились такие разнообразные, причудливые связи, что при желании он мог очень быстро собрать информацию о ком угодно. Однако он крайне редко загорался таким желанием. Он слишком хорошо знал, что нет ничего опасней оперативного любопытства. Стоит потянуть за одну ниточку, задать пару безобидных вопросов какому-нибудь старинному знакомому, и оглянуться не успеешь, как окажешься в центре сложного кровавого клубка, станешь выпутываться, брыкаться, а в итоге схлопочешь пулю в затылок.
В той сфере деятельности, которой он посвятил свою долгую тихую жизнь, не бывает безобидных вопросов и праздного любопытства.
Между тем задание, полученное Валерием Павловичем в кабинете президента акционерного общества «Шанс», предполагало прежде всего контакты со старыми и свежими информаторами. Наводить справки о Подосинском ему, начальнику охраны конкурирующей структуры, – это все равно что играть в теннис ручной гранатой с сорванной чекой.
Чутье подсказывало Валерию Павловичу, что назревает очередная схватка гигантов. На этот раз собираются делить ближневосточный нефтяной рынок, который давно поделен и приносит очень солидные доходы, хотя формально такого рынка как бы не существует.
Геннадий Ильич Подосинский, пользуясь запретом на торговые операции с ближневосточной нефтью, скупал ее по дешевке, а продавал задорого. Разумеется, действовал он через подставные, нейтральные, а иногда фиктивные компании. Это известно всем, правда на уровне слухов. Однако, если речь заходит о Подосинском, чаще всего приходится довольствоваться исключительно слухами, зыбкими, не подтвержденными, но и не опровергнутыми.
Вроде бы все логично. Завтра эмбарго будет полностью снято, цены на нефть катастрофически упадут, и, значит, надо менять стратегию. Подосинский не скрывает, а, наоборот, всячески афиширует свои планы в этом направлении. И вот в этом заключался главный вопрос. Слишком активно он делится планами с конкурентами, слишком поспешно раскрывает карты.
Дело в том, что Геннадий Ильич Подосинский никогда, ни при каких обстоятельствах, не раскрывал карт. Он всегда блефовал, тонко, неожиданно, непредсказуемо. Он мастер красивого блефа, гениальный шулер и при этом – самая загадочная фигура в финансово-политической олигархии.
Формально Геннадий Ильич никто. У него нет никакого юридического статуса. Он не политик, однако его политическое влияние конвертируется в огромные деньги, и, наоборот, – деньги постоянно подпитывают мощный авторитет Подосинского в высших сферах государственной политики. По мнению экспертов, его состояние оценивается примерно в три миллиарда долларов, однако доходы принадлежащих ему компаний равны нулю, и банковская структура не имеет даже пакета акций.
Геннадий Ильич никогда не был ни вором в законе, ни партийным функционером. Совсем наоборот. Он принадлежал к той тоненькой, бедненькой, обиженной прослойке советского общества, которая в недавнем прошлом именовалась научно-технической интеллигенцией.
В современной финансовой олигархии вряд ли можно найти адекватную фигуру в смысле чистого, безупречного прошлого. Один сидел и, по слухам, был даже коронован в зоне. Другой был коронован гэбэшными погонами. Третий успел напитаться деньгами и связями в темной кормушке ЦК ВЛКСМ. Четвертый… в общем, у каждого был свой трамплин. У Геннадия Ильича за спиной не имелось вроде бы ничего, разве ангельские крылышки мальчика-отличника, худенького, беззащитного очкарика из интеллигентной московской семьи среднего достатка.
До восемьдесят восьмого года Подосинский числился скромным заведующим лабораторией скромного академического института, и не более. Правда, был у него удивительный дар.
Генаша умел когда угодно для кого угодно организовать красивый отдых. Каким-то фантастическим образом ему удавалось арендовать волжские прогулочные теплоходы, банкетные залы лучших ресторанов, пробивать развлекательные загранпоездки для коллег и друзей, приглашать в качестве массовиков-затейников самых известных актеров, музыкантов, писателей-сатириков, всех со всеми знакомить, создавать неповторимую атмосферу праздника.
Но настоящий праздник вошел в жизнь Геннадия Ильича и его благодарных коллег, старших и младших научных сотрудников, в восемьдесят восьмом году вместе с правильным, прогрессивным законом о кооперации.
Лаборатория, которой руководил Подосинский, взялась разработать автоматическую систему управления (АСУ) для гиганта отечественного машиностроения – Волжского автомобильного завода.
Мода на АСУ существовала еще в славных шестидесятых, кормила не одну сотню старших и младших научных сотрудников, которые вдумчиво «асучивали» разные важные государственные объекты. Зачем это было надо, какую практическую пользу для заводов и фабрик несло «асучивание», никто до сих пор толком не разобрался. Но то, что Геннадий Ильич свою личную пользу поимел, – это вне всяких сомнений.
К девяносто второму году Подосинский стал фактическим хозяином Волжского автомобильного завода, а заодно лучшим другом свободолюбивого чеченского народа, ибо в то время автомобильный рынок был полностью подконтролен чеченской мафии и владеть гигантом машиностроения, не дружа и не делясь с братьями чеченцами, просто не имело смысла.
Но этого мало. К девяносто второму Геннадий Ильич крепко сдружился с человеком, которого именовали «серым кардиналом», и поговаривали даже, что на самом деле страной правит именно он, а все прочее правительство бегает у него на посылках.
Сейчас ясно, что всевластие начальника охраны президента было мифом. На поверку он оказался пешкой с амбициями ферзя и склочностью базарной торговки.
Но это сейчас ясно, а тогда, в девяносто втором, мифу охотно верили. Геннадий Ильич стал близким другом таинственного «серого кардинала», через его посредничество умудрился наладить теплые товарищеские отношения с ближайшими родственниками президента, стать для них полезным человеком.
Он вообще умел и любил дружить. Тогда же, в девяносто втором, он учредил престижную премию «Бенефис», которой удостаивались самые талантливые деятели российского искусства. Это были большие деньги, и вскоре друзьями скромного завлаба стали известные на весь мир музыканты, актеры, солисты оперы и балета. О нем говорили как о меценате, бескорыстном и щедром ценителе прекрасного.
Однако нашелся человек, который усомнился в благородстве и бескорыстии Геннадия Ильича. Известный всей России вор в законе по кличке Фома выразил свои сомнения весьма красноречиво. Он дал распоряжение примагнитить мощное взрывное устройство к днищу «Мерседеса» Подосинского.
Ничего не подозревающий Геннадий Ильич сел в свою машину на переднее сиденье, рядом с шофером. Тот включил зажигание, и через секунду прогремел мощный взрыв. Шоферу снесло голову, да так аккуратно, словно опустился косой нож гильотины. Геннадий Ильич отделался нервным шоком. Едва ли не такой же шок пережили спасатели и врачи «Скорой», когда извлекли его из-под искореженных, окровавленных обломков, перепуганного, но невредимого.
А через месяц в одном из тихих московских переулков снайперская пуля сразила наповал Фому Неверующего. Разумеется, ни исполнители, ни тем более заказчик найдены не были. Вся страна знала, кто приложил руку к безвременной гибели авторитета, однако разве докажешь? Правоохранительные органы сочли, что разумней будет сидеть тихо и молчать в тряпочку.
К девяносто четвертому году стало ясно, что недоброжелатели Геннадия Ильича долго не живут. Имя Подосинского связывали с серией самых громких заказных убийств. Ни одно из них так и не было раскрыто, ибо там, где мелькала скромная тень завлаба, хороводом кружились тени таких влиятельных, таких колоссальных фигур, что у представителей компетентных органов сдавали нервы, дрожали руки, бегали глазки перед объективами телекамер.
В последние пять лет ни одно крупное событие в политической и экономической жизни страны не происходило без тайного участия Геннадия Ильича. Где кончались мифы и начиналась правда, не знал никто. Он умел очевидные грубые факты окутывать нежной дымкой тайны, а зыбким слухам придавать железную достоверность фактов.
Слетал с поста крупный правительственный чиновник – политические обозреватели многозначительным шепотом произносили заветное имя Геннадия Ильича. Выходила из игры какая-нибудь финансовая махина, сгорала банковская структура – дошлые газетчики отыскивали десятки причин, по которым ее деятельность не устраивала господина Подосинского.
В своих официальных выступлениях и интервью Геннадий Ильич никогда ничего не подтверждал и не отрицал. Он умел говорить долго, интересно, однако совершенно ни о чем. Он цитировал советских поэтов, от Светлова до Евтушенко, он философствовал, но в меру, без сложных заворотов, он острил, иногда вполне смешно. Его замечания, касающиеся злейших противников, звучали снисходительно и психологически точно. Многие пытались разгадать тайный смысл, распахнув глаза и уши, ловили всякие оговорки, намеки и полунамеки, а потом восторженно преподносили их публике в качестве собственных догадок и открытий.
Подосинский отлично разбирался в психологии восприятия. Средний человек слышит примерно семьдесят процентов чужой речи, понимает шестьдесят, а в памяти остается в лучшем случае процентов двадцать, причем значительно крепче усваивается информация косвенная, пойманная как бы случайно. Человек охотней верит зыбким слухам, чем прямой и чистой правде официальных сообщений.
Простодушную уверенность российского обывателя в том, что настоящая правда прячется где-то между строк, Подосинский использовал с поразительной ловкостью. Именно в намеках и оговорках мелькала та информация, которую требовалось вдолбить в твердолобое общественное сознание.
В течение последних двух недель Подосинский только и делал, что давал интервью. Каждая вспышка его публичной активности была чревата глобальными переменами в стране. Никто пока не знал, что именно должно произойти, но все догадывались: что-то произойдет. То ли рухнет российский рубль, который вроде бы уже стабилизировался, то ли слетит в отставку какой-нибудь огромный чиновник вместе со своим кабинетом.
Отставной полковник Харитонов начал с самой безопасной и занудной части работы – с просмотра прессы и видеокассет с записями телеинтервью за последний месяц. Он фиксировал, занося в маленький отрывной блокнотик в виде странных аббревиатур, кружков, квадратиков, стрелок и зигзагов, всякие намеки и оговорки, оброненные господином Подосинским лично, а также политическими обозревателями, про которых было достоверно известно, что они работают на Геннадия Ильича.
За несколько часов тихого напряженного труда полковник аккуратно собрал целевую дезинформацию, которую закидывал Подосинский, и, проанализировав ее, пришел к интересному и весьма смелому выводу: если Геннадий Ильич говорит о крепком мире на Ближнем Востоке и о том, что грядут глобальные перемены на нефтяном рынке, значит, он намерен предпринять некую акцию, противоречащую интересам мирного урегулирования.
Проще говоря, очень скоро он подбросит хорошую охапку хвороста в затухающий огонь арабо-израильского конфликта. Как только из-за падения цен на нефть понизятся цены на акции нефтяных компаний, Подосинский быстро скупит их по дешевке. А потом по мановению его невидимой волшебной палочки конфликт неожиданно вспыхнет с новой силой, соответственно подскочат цены. Он тут же продаст акции задорого и заработает на этом… Господи, кто бы назвал точную цифру?
Геннадий Ильич был мастером подобных трюков. В общем, ничего мудреного в этом нет. Купить задешево, продать задорого – азбука предпринимательства. Важен масштаб, умение вывернуть наизнанку весь мир ради своей тихой коммерческой выгоды и при этом остаться в таинственной безопасной тени.
Полковник тихонько присвистнул от собственной смелой догадки и в первый момент отказался самому себе поверить.
Глава 8
Восточный Берлин, апрель 1978 года
Карл, Отто и все остальные за широким столом были навеселе. Пива успели выпить слишком много и крепкого шнапса добавили. Отмечали день рождения Гитлера, громко смеялись, поминая старика Адольфа.
– А все-таки он был слабак. – Карл аккуратно поставил пивную кружку на картонный кружок. – У него сдали нервы. Он слишком увлекался всякой сопливой мистикой. Крушение сгнивших веков, сумерки богов, ритмы солнцестояния… Надо было теплее одевать солдат, отправляя войска в Россию. А он распорядился выдать только шарфы и перчатки. В декабре сорок первого морозы в России были ниже сорока градусов. В автоматах застывала смазка, разлагался синтетический бензин на составные несгораемые части. Замерзали паровозы. Солдаты умирали от холода. В ставку прилетел генерал Гудериан, умолял дать приказ об отступлении. Адольф послушался, но выводов не сделал. Заявил, что мороз – это его дело, стал колдовать, как африканский шаман.
– Карл, а почему все-таки отступили в сорок первом? Разве надо было отступать? – спросил вполне трезвый Рикки, малыш Рикки, сокурсник Карла, единственный, с кем можно было поспорить почти на равных. – Польшу победили за восемнадцать дней, Францию за месяц. Мы дошли до Москвы. Зачем же было отступать?
– Затем, Рикки, что Россия – не Польша и не Франция. Адольф погубил армию Гудериана, Рейнгарда и Гопнера. Он орал, что мороз – это его дело. Он был неисправимым романтиком, это его и погубило в конечном счете.
– Если бы не мистика и романтика, за ним не пошло бы столько немцев, – возразил Рикки, – все было так красиво: факельные шествия, парады, идеальные шеренги, блестящие сапоги… Это была магия единства нации.
– Правильно, – кивнул Карл, – но пропаганда – это одно, а театр военных действий – совсем другое. Тактику и стратегию нельзя основывать на магии. Войну нельзя выиграть с помощью шаманских заклинаний и лысых тибетских клоунов. Войне нужны профессионалы. А он тупо уничтожал профессионалов вермахта накануне войны. Как, кстати, и его приятель Сталин, который тоже расстреливал умных красных полководцев. Наш старик Адольф боялся, что кто-то окажется умней его самого, и верил лишь бреду шаманских заклинаний.
– Но были не только шаманские заклинания. Была сильная армия, – не унимался Рикки. – Ты говоришь, он уничтожал профессионалов? Нет, он избавлялся от стариков, от слабаков, зараженных гнилой христианской моралью. Им на смену пришли новые, крепкие парни. У нас были танковые дивизии, железная дисциплина, нас вел вперед дух древних викингов. А магия давала веру в победу.
– Нужна была победа, а не только вера в нее.
– Но мы побеждали! Мы завоевали полмира! – тоненько выкрикнул Рикки и залпом выпил рюмку шнапса. – Мы создали великий «Черный орден», элитные войска СС, прообраз нового человека, настоящего, чистопородного, без примесей, и если бы… – Рикки поперхнулся и растерянно уставился на Карла, который заливался хохотом, прямо за живот держался, так ему было весело.
– «Черный орден»… – повторял Карл, заикаясь от смеха. – «Союз специально отобранных нордических немцев»… Крошка Гиммлер закончил сельскохозяйственный техникум и был птицеводом. – Он перестал смеяться и заговорил шепотом, склонившись к розовому оттопыренному уху Рикки: – Гиммлер был агрономом-недоучкой. Он выводил элитную породу новых немцев, как бройлерных цыплят. Он создал племенной завод для немцев, огромный курятник, который красиво назвал «лебенсборн», источник жизни. Офицеров СС там скрещивали с отборными девками, и родившихся детей воспитывало государство по специально разработанной программе.
– Ну и правильно, – энергично кивнул Рикки, – так и надо!
– Ни фига, – покачал головой Карл, – рождались дебилы. Ублюдки рождались от этих элитных экспериментов. Пять тысяч детей великого рейха. Из них каждый пятый – умственно отсталый.
– Это неправда, Карл, – Рикки даже покраснел, – это сионистская пропаганда, еврейско-славянская брехня! От офицеров СС, от чистокровных арийцев и ариек не могли рождаться ублюдки!
– Это факт, Рикки.
– В таком случае его надо скрыть, этот факт.
– От тебя тоже? – хитро прищурился Карл. – Ты, Рикки, такой слабенький, нежный? Ты будешь плакать из-за чужих ошибок?
– Я – нет. Но другие…
– Вот другим ты можешь рассказывать сказки. А себе не надо.
Карл и Рикки говорили очень тихо. Никому, кроме них двоих, этот сложный разговор уже не был интересен.
– За Адольфа! Адольф был гений! – завопил пьяный Отто Штраус. – Он сумел создать образ врага. Ты сам говорил, Карл, что обязательно нужен враг.
– Да, Адольф был гений, – спокойно кивнул Карл и, громко чокнувшись своей кружкой с остальными, опять заговорил только с Рикки, быстрым полушепотом: – Адольфу не хватало здорового цинизма. Он не мог самому себе просто и честно сказать: все дерьмо, и главное в этом дебильном мире – стать победителем. Без всяких там мистических теорий, заклинаний, без курятников для лучших представителей нации. Мифы хороши для толпы. Но это только часть победы. Адольф умел накачивать толпу, его речи были как мощный наркотик. Но он сам стал наркоманом идеи. Вместо того чтобы хорошо подготовиться к следующей зиме, он приказал водрузить на Эльбрусе знамя со свастикой, освященное по ритуалу «Черного ордена». Трое лучших альпинистов СС вскарабкались на кавказскую вершину. Адольф считал, что с грядущими русскими морозами сумел таким образом договориться. И что случилось потом, следующей зимой? Сталинград! Жуткий, позорный разгром.
– Карл, но ты всегда говорил, что Гитлер был прав. – Красный, потный Вилли, самый юный из всей компании, уловил несколько фраз из разговора. – Ты говорил, что Гитлер был прав, а сейчас, в такой день, вспоминаешь всякую фигню. Объясни мне, Карл. Я не понимаю.
– Конечно, он был прав, Вилли. Во многом, но не во всем. Нельзя закрывать глаза на ошибки великого человека. Это унижает его память. Нельзя бояться правды. Главная его ошибка заключалась даже не в мистике. Собственная правота ему казалась важнее объективной реальности, важнее победы. А без победы нет правоты. Он и из сталинградского разгрома не извлек никаких уроков. Знаете, чем он занялся весной сорок второго? Послал научную экспедицию на остров Рюген со всякими дорогими радарными установками. А потом было объявлено: фюрер имеет основания считать, что так называемая земная поверхность, на которой мы живем, на самом деле не выпукла, а вогнута. И мы живем внутри, как мухи в колбе. Надо было воевать, а он занимался глупостями. Он тратил огромные деньги, чтобы доказать теорию полой земли. А надо было тратить деньги на войну с Россией и на создание атомной бомбы.
– Ну и чего, разве не воевали? – вяло возразил огромный, красный, как окорок, Отто Штраус. – Не-е, Карл, Гитлер был гений, я люблю фюрера. Германия для немцев. Разве не правильно? Весь мир для немцев. Мы – великая нация. Вот это я понимаю. А всякие там теории – фигня.
– Молодец, Отто, ты все правильно понимаешь, – усмехнулся Карл, – выпьем еще за нашего дорогого Адольфа. Он и правда был гений.
Компания за столом грохнула пивными кружками.
– Карл, мне не нравится этот ублюдок, – процедил сквозь зубы Отто, чокаясь кружкой и показывая глазами в дальний угол пивного зала, где у лакированного бочонка сидел за маленьким отдельным столом неприметный человек лет сорока в темно-синей джинсовой куртке.
– Брось, Отто, – поморщился Карл, – не напрягайся. Сегодня праздник.
– Он слушает. Он легавый. – Отто слегка дернул головой. – Он только делает вид, что читает газету.
– Ну и что? – Карл приобнял Ингу, погладил ее худенькое плечо. – Что нам легавые? Мы отдыхаем. Правда, Инга?
– Карл, он здесь уже в третий раз, – тихо произнесла Инга, – мне он тоже не нравится.
– Давай я с ним поговорю, – предложил Отто. – Ну чего он здесь ошивается? Непорядок это, Карл. Во всем должен быть порядок.
– А если и правда легавый? – прошептала Инга. – Может, лучше не трогать его? Просто ты говори чуть потише, Карл. Вдруг он записывает тебя на магнитофон? А потом сообщит в университет. У тебя могут быть неприятности.
– Неприятности, говоришь? – засмеялся Карл. – А вот мы сейчас поглядим, у кого будут неприятности. И чтобы больше я от тебя, Инга, не слышал этой ерунды. Отто прав, во всем должен быть порядок. Побеседуй с этим старым пердуном, Отто. Только вежливо.
Отто тяжело перелез через дубовую лавку и расхлябанной, неспешной походкой направился к угловому столику. Вся компания оживилась. Все с интересом глядели в угол. Там и правда происходило нечто интересное.
Сначала между незнакомцем и поддатым Штраусом завязалась тихая непринужденная беседа. Слов слышно не было, но незнакомец улыбался. А Отто наливался густой бурой краской.
– Сейчас он ему даст, – сладко зажмурился малыш Рикки, – а то приперся сюда, старый хрен, будто его приглашали.
Отто быстро вскинул пудовую ножищу, выбивая табурет из-под мужчины. Что-то грохнуло, тонко взвизгнуло, и малыш Рикки начал было весело аплодировать, но через секунду его ладони замерли. Грохнул на пол и взвизгнул от боли вовсе не сорокалетний, хилый на вид незнакомец, а здоровяк Отто.
На глазах у всех непобедимый Отто Штраус корчился на полу, в свежей пивной луже, и пиво из опрокинутой кружки капало на его красный подбритый затылок. А незнакомец спокойно поднял табуретку, уселся на место, не спеша закурил.
Повисла тишина. Все, кто был в кабачке, молча, выжидательно смотрели на Карла Майнхоффа. Только толстая старуха судомойка, сердито ворча себе под нос, прошла в угол с тряпкой вытирать пивную лужу.
– Давай вставай, – она потрясла Отто за плечо, – напился, здоровый боров. Что ты здесь разлегся? Мешаешь. Не видишь, вытираю пол? Сейчас хозяин позвонит в полицию.
Отто, пыхтя, отдуваясь, поднялся на ноги, с ревом кинулся на незнакомца, но тут же опять свалился. На этот раз, вероятно, надолго. А незнакомец сел, развернул газету, бросил в рот маленький соленый кренделек.
Карл перепрыгнул через лавку. Вслед за ним к столику направились Вилли и Клаус. Хозяин погребка взялся за телефон, но тут в грозовой тишине послышался мирный голос незнакомца:
– Не надо, Штефан. Мы разберемся без полиции.
Первым скорчился Клаус. Он получил быстрый удар ниже пояса, упасть не упал, но согнулся вдвое. Вилли свалился, опрокинув здоровенную дубовую лавку. Карл не успел опомниться, а незнакомец уже сгреб его за грудки, притянул к себе вплотную и тихо, ласково спросил:
– Ну что, Карл, вмазать тебе на глазах у твоей кодлы или поговорим?
Ткань тонкой фланелевой ковбойки, накрученная на кулак, затрещала. У незнакомца были светло-серые, без блеска, глаза, аккуратные усы, как у Карла, только темнее, седоватые короткие волосы, глубокие залысины над покатым лбом.
– Что молчишь? Авторитет – вещь хрупкая. Вон как твоя кодла внимательно на тебя смотрит, ждет. Ну, поговорим? В последний раз спрашиваю.
Карл открыл было рот, чтобы ответить, мол, да, конечно, почему бы и не поговорить, ежели вам так хочется, но в этот момент незнакомец почему-то вдруг ослабил хватку, резко развернулся, послышался грохот и отчаянный тоненький визг.
Инга извивалась и вопила, пытаясь вырваться, вцепиться зубами, ногтями, но незнакомец держал ее мертвой хваткой. Секунду назад он успел перехватить ее руку. Тяжелая пивная кружка, которой Инга намеревалась огреть его сзади по голове, валялась на полу.
– Я не люблю делать больно таким юным, таким милым фрейлейн, – вздохнул незнакомец, – честное слово, ужасно не люблю. Успокой свою красавицу, Карл, скажи, чтобы она не нервничала.
– Инга, успокойся. Все в порядке. Этот человек просто хочет поговорить со мной.
Все это продолжалось не больше трех минут. Отто и Вилли даже не успели встать на ноги, Клаус еще не опомнился от дикой боли в паху.
– Ладно, ребята, продолжайте веселиться. – Незнакомец отпустил Ингу, уселся за свой столик и кивнул хозяину: – Принеси-ка нам кофейку, Штефан. А ты присаживайся, Карл. Будем знакомы. Меня зовут Бруно.
Он улыбнулся, протянул руку. Карл ответил на рукопожатие и спокойно уселся напротив. Инга, холодно сверкнув глазами, ушла в другой конец зала. Остальные, поднявшись наконец на ноги, понуро побрели за ней.
– Я давно присматриваюсь к тебе, Карл, – тихо и задумчиво произнес Бруно, когда они остались вдвоем, – ты хороший парень, умный, крепкий. Мне нравится все, что ты говоришь. Ну, почти все. Но дело даже не в том, что ты говоришь, а в том – как. Тебя слушают, тебе верят. Это главное. Нам нужны такие ребята, как ты.
– Кому это вам? – мрачно поинтересовался Карл.
– Немцам. Сильным, честным немцам, патриотам Германии, – улыбнулся Бруно, – представь, такие еще остались.
– Где это, интересно?
– А ты подумай. Ты же умный, вот и подумай.
– Вы из полиции?
– Почти угадал.
Хозяин принес две чашки кофе и тут же удалился.
– Штази?1 – еле слышно спросил Карл.
– Молодец, – кивнул Бруно, – я не сомневаюсь, мы не просто договоримся с тобой, Карл. Мы подружимся.
– А конкретней можно? – Карл сидел насупившись и старался не смотреть Бруно в глаза. – Если вы хотите, чтобы я…
– Нет, – Бруно весело рассмеялся, – тебя никто не собирается вербовать в стукачи. Это не твое призвание. Мы практикуем индивидуальный подход к людям, особенно к молодежи. Сотрудничество у нас будет долгим и серьезным. Твой дедушка Фриц когда-то служил в абвере, но в конце войны стал работать на русских. На самом деле он был не двойным, а тройным агентом. Внутри абвера существовала тайная структура, связанная с теми силами в СС, которые еще в сорок втором поняли, что интересы фюрера и интересы великой немецкой нации необязательно совпадают. Вожди приходят и уходят, нация остается. У нас будет еще много времени и много разговоров, но важно, чтобы ты понял главное. Ты станешь продолжать то, что делал твой дедушка Фриц. Я даже не спрашиваю, согласен ли ты. Вижу по глазам, что согласен.
Глава 9
Пустыня Негев (Израиль), январь 1998 года
Натан Ефимович Бренер чувствовал себя настолько скверно, что даже глаза не хотел открывать. Он не ожидал увидеть ничего хорошего. Во рту пересохло, ломило все мышцы и кости. Он понял, что лежит в неестественной, неудобной позе на чем-то жестком.
Пахло свалявшимся войлоком, горячей пылью и верблюжьей мочой. Где-то совсем близко блеяли овцы. Бренер облизал пересохшие губы и очень медленно открыл глаза. Взгляд его уперся в брезентовый рваный потолок. Сквозь мелкие прорехи в ткани сочился ярко-розовый свет. Похоже, закат. Солнце садится около четырех. Значит, прошло не меньше суток? И все это время он был без сознания?
Бренер попытался повернуть голову. Каждое движение причиняло ноющую боль. Он сумел разглядеть стены, если можно назвать стенами куски фанеры, кое-как скрепленные проволокой. На полу были навалены полосатые грязные циновки.
«Бедуины, – подумал Бренер, – как же я попал к ним?»
Превозмогая боль, он попробовал сесть и обнаружил, что руки у него связаны. Вот почему так ноет тело. Он вспомнил убитого охранника и существо с рифленым хоботом, которое принял за инопланетянина.
– Попить бы кто принес, – громко проговорил профессор по-русски, не надеясь, что кто-нибудь его услышит и поймет.
Но услышали и поняли. Через минуту в палатку, пригнувшись, вошла женщина в длинной бедуинской одежде. Лицо ее было почти полностью закрыто черным платком. В руке она держала бутылку минеральной воды, на которую сверху был надет пластиковый стакан.
– Как вы себя чувствуете, профессор? – спросила она по-английски с сильным немецким акцентом.
– Прекрасно, – усмехнулся Бренер, – развяжите мне руки, иначе их скоро придется ампутировать.
– Очень сожалею, – ответила женщина, – но я не имею права вас развязывать.
Она поднесла к его губам полный пластиковый стакан. Бренер жадно, залпом выпил всю воду, судорожно сглотнул и попросил еще. Женщина опять наполнила стакан. Он заметил, что глаза у нее светло-голубые, руки белые, ухоженные, с аккуратным маникюром.
– Что за маскарад, фрейлейн, и почему вы не имеете права меня развязать, мать вашу?
Вопрос он задал по-немецки, но последние слова произнес по-русски, добавив еще пару смачных матерных выражений.
– Вы хотите что-нибудь поесть? – спокойно осведомилась она, тоже переходя на немецкий.
– Черной икры, французских трюфелей, запеченных в сливках, в горшочке, а также авокадо с креветками. И не забудьте персиковое мороженое на десерт. Но перед этим я бы хотел принять душ. И еще – мне надо в туалет.
Женщина молча кивнула, помогла ему подняться, придерживая за локоть, вывела из палатки. Вокруг была пустыня Негев. Даже ярко-розовые лучи заходящего солнца не красили мертвый ландшафт. Серый, с бурым отливом песок, спрессованный в бесформенные глыбы. Несколько бедуинских палаток. Безобразные помоечные шалаши, наспех собранные из фанерных ящиков, обтянутых драным брезентом. Пара верблюдов с ковровыми седлами, десяток овец вдалеке, на холме. Полная, низенькая женщина в черной хламиде, с закрытым лицом, развешивала какое-то тряпье на веревке, натянутой между косыми столбами. У одной из палаток пятеро мужчин в бедуинских одеждах сидели в непринужденных позах, курили и о чем-то негромко, лениво переговаривались по-арабски. Приглядевшись, профессор заметил, что все пятеро вооружены.
Натан Ефимович еле держался на ногах. Голова кружилась, во рту был мерзкий металлический привкус. Он чувствовал тошнотворную, дрожащую слабость во всем теле. Они отошли довольно далеко от лагеря, за невысокий холм.
– Что вы мне кололи? – спросил он.
– Барбамил.
– О Господи… Сколько?
– Вам было сделано четыре инъекции по десять миллиграмм пятипроцентного раствора. Вы проспали сутки. У вас был нормальный пульс. Не волнуйтесь, профессор, у меня среднее медицинское образование. Я держала вас под контролем.
– Ах ты засранка, – пробормотал Бренер по-русски, – сопля голубоглазая! Под контролем она меня держала! Образование у нее! Может, вы все-таки развяжете мне руки? Или сами будете расстегивать мне штаны, а, фрейлейн? – спросил он по-немецки.
Она молча развязала веревку и откуда-то из складок своего бедуинского тряпья извлекла пистолет.
– Фрейлейн, вы идиотка, – тихо сказал профессор, глядя в ясные, молодые, очень красивые и совершенно ледяные глаза. – Ну как я могу убежать? Здесь пустыня.
– Вы не можете убежать, господин Бренер, – кивнула девушка, – хорошо, что вы это понимаете. Но я обязана соблюдать необходимые меры предосторожности.
Она не стала опять связывать ему руки, но продолжала держать под прицелом, пока вела назад к палатке. Когда они вернулись, там находились трое мужчин в таких же бедуинских хламидах, как все в этом лагере. На полу стояли картонные коробки с эмблемами придорожного кафе «Фаст фуд».
– Добро пожаловать, господин Бренер, – произнес один из них на хорошем английском.
У него было загорелое, обветренное лицо, светлые, аккуратные усы, светло-карие глаза. «Немец, – догадался профессор, – как и девка. Вероятно, этот усатый здесь главный. Остальные арабы… Плохо твое дело, Натанчик…»
– Ну и зачем вам старый больной еврей, которого сейчас ищет вся израильская полиция и служба безопасности? Зачем вам, господа бандиты, эта головная боль? – Натан Ефимович вздохнул и уселся на циновку, продолжая массировать затекшие руки. – Вы думаете, кто-то заплатит за меня хороший выкуп?
– Не нервничайте, профессор, расслабьтесь, – улыбнувшись, произнес немец по-русски, – чувствуйте себя как дома. Угощайтесь. – Он придвинул Бренеру одну из картонных коробок.
Там оказался огромный бутерброд с салатом, сыром и майонезом, кокосовое пирожное и банка обезжиренного йогурта.
– Это похоже на завтрак в самолете, когда летишь «Люфтганзой», экономическим классом, – заметил Бренер, принимаясь за еду.
Есть ему действительно хотелось, и голодовку он пока объявлять не собирался. Остальные уже жевали точно такие же бутерброды.
– К сожалению, ничего другого предложить вам не мажем, – сказал немец, – условия, как вы понимаете, походные. Но обещаю, это ненадолго. Как только мы переправим вас к заказчику, вам будут предоставлены совсем другие условия и другое меню. Потерпеть придется не больше трех дней. А вообще, все зависит от вас.
– Вы яснее не могли бы выражаться? – спокойно спросил профессор. – Кто вы такие и что вам от меня надо? Какой, к черту, заказчик? Я что, тонна говядины или партия оружия?
Немец весело рассмеялся:
– Скорее второе. Кто мы такие, вам знать необязательно. Мы выступаем только в роли посредников. Вашими исследованиями заинтересовались очень серьезные и влиятельные люди. Нам поручено переправить вас к ним в целости и сохранности.
– Глупости. – Бренер нервно усмехнулся. – Я один, без лаборатории, ничего не значу. Я ноль без палочки. У меня память дрянная и нервы никуда. А главное, работа у меня творческая. Если меня посадят в бункер и заставят думать под дулом автомата, я буду всего лишь тупым испуганным животным, а не ученым. Идеи, особенно гениальные, в неволе не размножаются. Все мои записи…
– Не волнуйтесь, – перебил немец, – мы прихватили ваш «ноутбук».
– Вы что, и дома у меня успели побывать? – Бренер судорожно сглотнул.
– Ну а как же? Разумеется. А что вы так испугались? Вы живете один, Мария Даниловна умерла три года назад. Кстати, очень жаль. Вы так любили свою жену. С сыном Сергеем, с внуками, Андрюшей и Катенькой, у вас прохладные отношения. Или я ошибаюсь? Впрочем, все равно родная кровь. Вы же не захотите, чтобы, к примеру, в один прекрасный день взорвался дом семнадцать по Каплан-стрит в Тель-Авиве? Ну в самом деле, обидно, если что-то случится с этим милым процветающим семейством. Даже мне будет обидно. Дети замечательные. Эндрю и Кетти. Или вы предпочитаете называть их на русский манер?
– Прекратите. Можете не утруждать себя подробностями, – произнес Бренер спокойно, но очень медленно, почти по слогам. – Я только не понимаю – зачем? Чтобы я работал на кого-то насильно? Таинственный придурок хочет завоевать мир с помощью моих профессорских мозгов? Это же фантастический боевик образца шестидесятых, мать вашу. Вы слишком взрослый человек, чтобы играть в Фантомаса.
– Правильно, – улыбнулся немец, – ученых воруют лишь в боевиках. В реальной жизни воруют информацию. Носителей информации убивают. Зачем и кому вы понадобились, узнаете чуть позже. Не мое дело вам это объяснять.
– Стало быть, вы собираетесь меня тайно вывезти из страны. Или мы уже в Египте?
– Нет. Мы еще в Израиле.
– И куда же, интересно, мы отсюда направимся? В Берлин? В Вену? Или в Ирак, к этому шизофренику Саддамке?
– Профессор, не стоит оскорблять моих друзей, – мягко улыбнулся немец, – хорошо, что только я здесь понимаю по-русски. Нет, вы отправитесь не в Германию, не в Австрию и тем более не в Ирак.
– Куда же? На тот свет что ли? – усмехнулся Натан Ефимович.
– Почти. – Немец выдержал эффектную паузу и, насмешливо глядя Бренеру в глаза, тихо произнес: – В Россию.
В половине одиннадцатого вечера в тихих московских переулках неподалеку от Белорусского вокзала светился лиловым огнем купол огромного торгового центра. Подсвеченный мощными прожекторами, припорошенный чистым сверкающим снегом, он был похож на гигантскую елочную игрушку в окружении жемчужных гирлянд – круглых фонарей автостоянки.
С трудом верилось, что всего пару лет назад на месте этого торгового чуда копошилась грязная барахолка, старейший московский блошиный рынок.
За облезлым бревенчатым забором раскладывала свой товар прямо на асфальте, на газетках, вежливая московская нищета. Бабушки в траченных молью шляпках торговали пуговицами, споротыми с собственной одежды, кусочками рваных кружев, мотками бельевой резинки, треснутой посудой. Дядьки с синими носами продавали ржавые гвозди, гайки, лампочки, свинченные в собственных подъездах.
Когда-то место это считалось одним из самых воровских в столице. Во время и после войны здесь устраивались колоссальные облавы, власть беспощадно громила темную барахолку, но торжище возрождалось из пепла, дышало здоровым перегаром, бурлило, воняло, воровало. Его таинственные, не поддающиеся внешней логике законы были сильней любого режима.
Здесь торговали краденым и своим последним барахлом. Алкаши и нищие старушки сбывали за копейки исподнее. Но можно было купить пистолет, ручную гранату, офицерскую форму – советскую, немецкую и даже американскую. Попавший сюда имел шанс быть обобранным до нитки, но мог и одеться с ног до головы за полтинник.
К концу семидесятых блошиный рынок умудрился стать модным эстетским местом, чем-то вроде бутика под открытым небом для надменных знатоков.
Молодые снобы бродили в поисках «ретро прикида», драповых и габардиновых пальто образца сороковых, штанов-галифе из довоенной диагонали, блузочек из креп-жоржета, комиссарских потертых кожанок, круглых очочков с зелеными стеклами, изящных ботиночек на кнопках, со скошенными фигурными каблучками. За тот же полтинник можно было одеться с ног до головы, как сорок лет назад, причем в те же самые вещи.
В начале девяностых московские бабушки со своим фильдеперсом и алкаши с гвоздями вынуждены были потесниться под натиском толпы крепких крикливых молодух в болоньевых телогрейках и пушистых мохеровых рейтузах. Вместо старушечьих пуговок и кружев молодухи вываливали на застланный газетами асфальт ломти сырого мяса, горы творога, сырные головы в шелушащемся желтом воске, рядом высились розово-зеленые стопки женских трико, трепались на ветру фланелевые халаты в немыслимых лиловых розах, вздымались белыми флагами ночные рубахи слонопотамских размеров.
Молодух называли «белорусами». Они заполонили не только пространство барахолки и площадь вокруг, но потихоньку просачивались со своими носками-рубахами и мясо-молочными продуктами во все окрестные дворы.
И опять можно было одеться с ног до головы все за тот же полтинник, а наесться до отвала – еще дешевле.
Неизменным оставалось только сердце барахолки. Крытый колхозный рынок, состоящий из двух деревянных павильонов, с вечными орехами, гранатами и мандаринами. Там хозяйничали кавказцы-перекупщики. Они были элитой, белой костью грязного торжища.
Каждое утро вдоль прилавков элитных кавказских павильонов прохаживался невысокий, сутулый человек. Длинный смуглый нос, спортивные трикотажные штаны с лампасами, дешевая кожанка. Завсегдатаи крытого рынка знали его в лицо. Он никогда ничем не торговал. Он прохаживался, фланировал, иногда останавливался поговорить с торговцами. Если кто-то отвечал ему невежливо, то на следующий день исчезал с рынка. Сутулый не терпел грубости. Он был человеком чувствительным, добрым, легкоранимым. И очень любил детей. Если при нем у прилавка останавливался покупатель с маленьким ребенком, сутулый выбирал лучшее яблоко или мандарин и с улыбкой протягивал малышу.
Звали сутулого Азамат Мирзоев. Откуда он взялся, когда поселился в Москве, сколько ему лет, не знали даже его приятели-перекупщики. Имя Азамата редко поминалось в рыночной суете. Милиционеры из местного отделения здоровались с ним за руку. Он был душой рынка, стержнем, вокруг которого вертелось это шальное торжище многие годы.
К середине девяностых площадь внезапно опустела. Окрестные жители сначала вздохнули с облегчением. Стало тихо и чисто. Потом загрустили – по бабушкам с пуговками, по дядькам с гвоздями, по белорусам с мясом и панталонами и даже по кавказцам-перекупщикам с их дорогущими мандаринами. Но вскоре грусть сменилась удивлением.
На площади развернулась колоссальная стройка, и уже через полгода возникло чудо – торговый центр из стекла и вишневого камня, с автостоянкой, выложенной светлыми, отшлифованными до блеска плитами. Внутри был целый мир, играла музыка, прохаживались воспитанные охранники в униформе.
Вокруг стеклянного супермаркета расположились сверкающие кафельные прилавки для кавказцев-перекупщиков. Торговцы надели хрустящие белоснежные халаты, почти не орали зычными голосами, старались говорить тихо и вежливо, научились улыбаться покупателям и укладывать свои гранаты-мандарины в бесплатные пакетики.
На втором и на третьем этажах пестрели маленькие бутики мужской и дамской одежды, мебельные и ювелирные салоны, несколько кафе и ресторанов, филиал известного банка «Галатея», бильярдная, французский косметический салон, американская химчистка.
Теперь здесь можно было одеться с ног до головы за тысячу долларов.
Бабушки с кошелками из окрестных переулков теряли сознание, попадая в оглушительную красоту супермаркета. Возмущение мешалось с восторгом. Поход за солью, подсолнечным маслом и спичками оборачивался для одряхлевших коммунальных золушек чем-то вроде запоздалого бала.
Москвичи помоложе, успевшие побывать за границей, удивленно мигали, шествуя с тележками вдоль прилавков, ибо чувствовали себя не дома, а где-нибудь в Париже или Нью-Йорке.
Автостоянка заполнялась иномарками. Вежливые охранники в униформе помогали дамочкам в норках и соболях подвозить корзины с продуктами прямо к машинам.
Торговцы все так же вытягивались по стойке «смирно», когда появлялся сутулый худой Азамат Мирзоев в неизменных трикотажных спортивных штанах с лампасами. Давно никто не сомневался, что лампасы эти – даже не генеральские. Маршальские.
Охранники распахивали перед ним двери, молоденькие длинноногие девочки в бутиках ласково щебетали, томно закатывали глазки. Со стороны это выглядело довольно дико. Но Азамату Мирзоеву было совершенно все равно, как он выглядит со стороны.
В половине одиннадцатого торговый центр затих. Внутри было пусто. Продавцы, охранники, повара и официанты нескольких кафе бесцельно бродили по залам, дремали на стульях, негромко переговаривались, и голоса гулко разносило ленивое вечернее эхо.
Из ярко освещенной бильярдной был слышен глуховатый стук шаров. Играли двое. Тощий кавказец в приспущенных трикотажных штанах с лампасами казался бедным неопрятным стариком рядом со своим крепким широкоплечим партнером, впаянным в тугие кожаные джинсы и черную водолазку.
Еще несколько штрихов – и кавказец со своей жалкой внешностью мог бы запросто пополнить ряды нищих в каком-нибудь подземном переходе. А его партнер, если чуть припудрить и добавить рокового блеска зеленоватым глазам, вполне украсил бы своей мужественной физиономией пластиковый щит с рекламой «Мальборо» над тем же переходом.
На самом деле они были почти ровесники. Обоим около пятидесяти. Роскошный торговый центр с его мебельными, антикварными и ювелирными салонами, с его бутиками от всяких кутюрье, с автостоянкой, с накачанными охранниками в полувоенной униформе принадлежал неопрятному, небритому лицу кавказской национальности, вечному всемогущему Азамату Мирзоеву. Молодящийся плейбой, в общем, тоже принадлежал ему, правда, сам еще не догадывался об этом.
Игра не очень их занимала, хотя оба были людьми азартными, заядлыми бильярдистами. Шары они катали с равнодушной ленцой, то и дело забывая вести счет. Разговор был куда интересней затянувшейся партии.
– А почему ты не знаешь, как там дела? Ты зачем сюда ко мне пришел? Денег просить? – Азамат медленно водил кием в ложбинке между большим и указательным пальцами, щурился и на своего собеседника поглядывал искоса, с явной насмешкой.
– Я ведь не прошу сразу все, – скромно опуская глаза, произнес плейбой, – но хотя бы часть, аванс.
– Ты уже получил свой аванс, – покачал головой кавказец, – неужели успел потратить?
– Не в этом дело. – Плейбой поморщился. – Мне деньги нужны сейчас. Очень срочно. Я рассчитывал…
– Деньги всегда нужны сейчас, очень срочно, дорогой. Когда дело будет сделано, тогда получишь.
– Но я свою работу выполнил. Остальное от меня не зависит. – Плейбой стал нервно постукивать кончиком кия по своему тяжелому ботинку. – Я встретился, передал просьбу. Операция проведена, тебе же рассказали в новостях. Ты что, новостям ОРТ не веришь? Газетам не веришь?
– На ОРТ и в газетах работают такие же хитрые мальчики, как ты. Все хотят денег. Вот когда доставят профессора по назначению, тогда я с тобой расплачусь, как обещал.
– Но послушай, Азамат, я не могу отвечать за Карла.
– Как же не можешь? Ты же говорил, он твой друг. Я, например, отвечаю за своих друзей, – усмехнулся Азамат.
– Мало ли какие у него там, в Израиле, проблемы? – Плейбой так сильно надавил острым концом кия на носок своего ботинка, что чуть не прорвал толстую свиную кожу. – Ты пойми, у меня такая ситуация…
– Знаю, какая у тебя ситуация, – криво усмехнулся Азамат, – пятнадцать лет твоей ситуации. В девятом классе учится. Как всегда, глазки голубые, ножки длинные.
Плейбой побледнел и выразительно задвигал желваками. Азамат не менее выразительно зевнул и загасил окурок.
– Скучно с тобой играть, Гарик. Спокойной ночи, дорогой. – Азамат положил кий и, не оборачиваясь, вышел из бильярдной.
Оставшись один, плейбой Гарик ожесточенно шарахнул кулаком по зеленому сукну бильярдного стола. Шары с глухим грохотом раскатились.
В соседнем помещении, в бутике изысканной дачной мебели, дремал, вытянув ноги, охранник. Он сидел в уголке, в низком плетеном кресле. Глаза его были закрыты, рот приоткрыт. Со стороны казалось, что человек крепко спит, раскинувшись, припав головой к стене. Даже подойдя близко к охраннику, невозможно было заметить, что между его ухом и тонкой стенкой находился маленький импровизированный резонатор.
Плоская коньячная рюмка из чистого хрусталя, размером с детскую ладошку, была вжата краями в пластиковую стенку, а ухо охранника прижималось к донышку. Твердый пластик и хрусталь отлично резонировали звук в огромном пустом пространстве торгового центра. Охранник отчетливо, без всяких усилий, слышал каждое слово, произнесенное в бильярдной.
Дождавшись закрытия торгового комплекса, охранник попрощался с коллегами и не спеша направился к метро, нырнул в один проходной двор, потом в другой. Оглядевшись, достал из кармана сотовый телефон, набрал номер.
– Привет, Валера, – произнес он в трубку, – прихвати меня где-нибудь у Пресни. Только скорей. Холодно.
– Давай у зоопарка через двадцать минут, – ответили в трубке.
Ровно через двадцать минут на небольшой площадке у запертых ворот зоопарка притормозил лиловый «Ауди» Валерия Павловича Харитонова. Охранник, поеживаясь, нырнул в теплый салон на переднее сиденье.
Эйлат, январь 1998 года
В уютном французском ресторане на набережной было почти пусто. Посреди круглого стола подрагивал язычок свечи. Лицо Денниса опять казалось жестким, неприятным. Обычно приглушенное освещение смягчает черты, а у американца наоборот. При беспощадном дневном свете он выглядел значительно симпатичней. Или он просто переставал играть в полумраке? Или это неверный огонек свечи играл с его мужественной физиономией дурные шутки?
Они уже все съели. Официант убрал тарелки. Максимка клевал носом над каким-то сложным многослойным десертом из желе и сливок, потом занялся своей электронной игрушкой.
Деннис был напряжен и старался изо всех сил скрыть это, с лица его не сходила улыбка, иногда казавшаяся застывшей гримасой. Напряжение висело в воздухе, неприятно давило, вырывалось наружу в виде долгих неловких пауз. Куда, интересно, подевалась хваленая американская раскомплексованность? Впрочем, какая разница? Возможно, дело в том, что им без посредничества Максимки не о чем говорить.
– Почему вы так расстроились из-за этих фотографий, Алиса?
– Разве? – Она тряхнула головой. – Я уже забыла о них.
– Странно, почему тот, кто их забрал, не вернулся, чтобы поменять на свои.
– Странно, – легко согласилась Алиса.
– Может, вы так понравились этому мужчине, что он решил оставить снимки себе?
– Вряд ли. Я плохо выхожу на фотографиях.
– Как бы вы ни выходили, все равно сразу видно, какая вы красивая. Я это серьезно говорю, не в качестве комплимента. Вы, конечно, и так знаете, но лишний раз не мешает напомнить. Я прав?
– Об этом стоит напоминать любой женщине. Всегда и при любых обстоятельствах.
– У нас в Америке не принято. Скажешь какой-нибудь коллеге женского пола, что ей к лицу новое платье, а она тебя обзовет шовинистической свиньей.
– Бедные вы, несчастные, – вздохнула Алиса. – Знаете, мне эти ваши социально-половые забавы напоминают унылый юмор советских времен накануне женского дня Восьмое марта. Затюканный идиот муж, который решил раз в году пожарить яичницу к завтраку, и деловитая фурия, мать семейства, которая потом целый день отдраивает обгоревшую сковороду.
– Забавы? Что вы, у нас это очень серьезно. Это влияет на политику, на бизнес. Между прочим, на обвинениях в сексуальных домогательствах у нас делают большие деньги.
Деннис стал рассказывать всякие забавные истории о дамах, которые подают в суд на миллиардеров, крупных государственных чиновников и на президента, требуя денежной компенсации за былые нежности, реальные, а чаще мифические. Потом вся Америка всерьез обсуждает, сама «истец» десять лет назад снимала колготки или «ответчик» оказал ей в этом некоторое содействие. Ну а как же не обсуждать всерьез, если эти колготки могут стоить «ответчику» пары миллионов долларов и политической карьеры?
Алиса рассеянно слушала, кивала, улыбалась, прихлебывая горьковатый вишневый ликер. Она то и дело косилась на экран телевизора у стойки бара. Шла программа новостей. Бармен и несколько официантов смотрели на экран не отрываясь. Алиса не понимала ни слова на иврите, только разобрала название города Беэр-Шева, которое то и дело повторял ведущий. Это совсем близко, между Эйлатом и Иерусалимом. По мелькавшим кадрам было ясно, что произошел какой-то взрыв. Вероятно, в этом самом Беэр-Шеве…
– Наверное, пресловутые «новые русские», для которых вы строите особняки, ужасно привередливая публика, – произнес Деннис. – Трудно с ними работать?
– Трудно без конца слышать выражение «новые русские», – откликнулась Алиса. – У нас без него не обходится ни одна телепередача, ни один анекдот. Честно говоря, я не вижу в этом словосочетании никакого смысла. Люди, озабоченные исключительно проблемой денег, всегда одинаковы, во все времена одинаково скучные, пошлые и злые.
Новости кончились. Бармен переключил на Си-эн-эн. Там выступал политический комментатор. Официанты оторвались от экрана.
– Насколько я знаю, в советские времена такой проблемы в России практически не существовало, – заметил Деннис, – я имею в виду деньги.
– Ну, во-первых, при коммунистах никто денег не отменял. А во-вторых, было другое – привилегии, чины, знакомства. Но в конечном счете все сводилось к той же древней страсти добыть для себя мамонта пожирней. Если необходимо при этом кончить соседа-охотника, – запросто. Если в пещере тухнет уже тонна мяса, все равно надо еще.
– Ну хорошо, а русское купечество до революции? Честность, благородство, верность традициям, меценатство, наконец.
– Миф. Сколько благородных купеческих детей швыряло семейные капиталы бандитам-большевикам…
– Да, я читал что-то. Савва Морозов…
Алиса ничего не ответила. Теперь она не отрываясь смотрела на экран и даже поморщилась, оттого что Деннис все продолжал говорить и мешал ей слушать голос комментатора, который как раз рассказывал про взрыв в городе Беэр-Шева.
– Взрывное устройство было установлено в туалетной комнате управления полиции… – тараторил комментатор. – Компетентные источники утверждают, что чудовищный взрыв был всего лишь отвлекающим маневром. Настоящей целью террористов являлся известный биохимик Натан Бренер, похищенный из своей лаборатории через десять минут после взрыва. Пока ни одна из экстремистских организаций не взяла на себя ответственности за этот исключительный по дерзости и жестокости террористический акт, никто не выдвинул своих условий правительству Израиля и родственникам Бренера.
На экране появилась цветная фотография человека лет шестидесяти с крупным, тяжеловатым лицом и буйной седой шевелюрой.
– О Господи… Натан Ефимович, – прошептала Алиса и прижала ладонь ко рту.
– Мам, ты чего? – встрепенулся Максимка.
– Алиса, что случилось? – подался вперед Деннис.
– Натан Ефимович Бренер, – она перешла на русский и обращалась только к сыну, забыв о Деннисе, – наш сосед по коммуналке. Ну, помнишь, я тебе рассказывала про Трифоновку? Дядя Натан и тетя Маня. У них был сын Сережа, мой ровесник. Мы с ним ходили в один детский сад и учились в одном классе. Они уехали в семьдесят восьмом в Израиль.
– Я помню, – кивнул Максимка, – ты рассказывала про Сережу, как вы на чердак залезали, как вас на катке поколотила малюшинская шпана…
– Простите, Алиса, Максим, – перебил Деннис, – я не понимаю, что случилось?
– Мама знает этого человека, про которого говорят в новостях, – с гордостью сообщил ему Максим.
– Алиса, вы знаете профессора Бренера? – Деннис уставился на нее так, словно услышал, будто она знакома с Папой Римским.
– Да, наши семьи жили в одной квартире в Москве. Я выросла вместе с его сыном, мы ровесники. Они уехали в Израиль, когда нам было по пятнадцать лет. С тех пор я про Бренеров ничего не слышала, и вот… Оказывается, Натан стал здесь профессором и его похитили террористы.
– Как это – в одной квартире?
– В общей. В Москве было много общих квартир.
– О, да, я слышал. Коммунистические квартиры, вроде общежитий. Наверное, такие квартиры были только в центре, в старых домах? – Деннис улыбнулся одними губами, глаза при этом оставались неприятно напряженными.
– Да. В новостройках только отдельные.
– Значит, вы родились и выросли в центре Москвы? А где именно? Дело в том, что я бывал в Москве семь лет назад, много бродил по центру.
– Район проспекта Мира. Трифоновская улица, – рассеянно ответила Алиса, – только тот дом уже давно снесли.
Глава 10
Гамбург, июль 1979 года
Не чувствуя усталости, Карл пять часов подряд бродил по улицам шумного, яркого портового города, вглядывался в лица людей, подолгу останавливался у витрин дорогих магазинов. Он впервые в жизни попал «за стену», в другую Германию.
Все сверкало и переливалось, кипело огнями немыслимых реклам. Великанская бутылка кока-колы опрокидывалась над проспектом, из нее изливалась электрическая пенная лава. Настоящий белый дым поднимался в черное небо от гигантской сигареты электрического ковбоя. Ковбой курил и улыбался. Тысячи лампочек вспыхивали, меняя рисунок.
Над счастливым бессонным городом бесконечно прокручивались однообразные рекламные сюжеты. Чудовищный бело-голубой неоновый червяк выползал из тюбика зубной пасты на щетину великанской зубной щетки. Переливающийся огненный «Мерседес» несся по ночному небу. Внизу, в дорожной пробке, жалобно выли его разноцветные братья, казавшиеся игрушечными по сравнению с рекламным красавцем.
Карл вдруг почувствовал, что весь этот город под огненными картинками тоже ничтожный, игрушечный. Стоит зажмуриться, и он исчезнет, растворится в черноте приморской влажной ночи. Мир бюргеров, мясников и прачек, жадный, жалкий, ненастоящий. Декорация дешевого, бездарного спектакля, в котором играют не актеры, а марионетки. Автор пьесы давно сгнил в могиле, режиссер спился, валяется под забором на нищей окраине, кукловоды сошли с ума, и куклы дергаются в бессмысленном безобразном танце, словно больны пляской святого Витта.
Только сейчас Карл по-настоящему осознал, что имел в виду дедушка Фриц, когда говорил о торжестве прачек и мясников. Тусклый, благопристойный немецкий социализм кажется логичней и совершенней, чем этот свободный, яркий, наглый капитализм с его хаосом и неоновой иллюминацией. При социализме плебейская серая масса знает свое место, подвластна порядку, воле хозяина, пусть тупого, недостойного, но хозяина. А здесь прачки и мясники сами себе хозяева. Это их мир. Это торжество их вульгарных, тошнотворно-пошлых идеалов.
Сложные чувства, философские размышления, навеянные огнями беспечного ночного Гамбурга, вовсе не расслабляли, не отвлекали Карла от основной цели его долгой прогулки. Наоборот, заряжали спокойной бодрой ненавистью и помогали сосредоточиться.
Блуждая с полудня до глубокой ночи по улицам, по ярким бессонным проспектам и тихим переулкам, вспоминая дедушку Фрица, презирая вместе с ним жалкий хаос бюргерского мира, Карл тщательно проверился на предмет «хвоста», основательно изучил расположение домов в тех кварталах, по которым потом ему придется уходить от полиции.
Мимо главного пункта предстоящей операции он прошел всего один раз неспешной походкой праздного туриста. Панель под ногами пересекала пушистая ковровая дорожка, этакий ровный синтетический лужок, протянутый из холла шикарного пятизвездочного «Принц-отеля» по мраморным ступенькам на улицу. Два швейцара в красно-зеленых ливреях и блестящих цилиндрах застыли навытяжку, как манекены, у стеклянных дверей. Чуть поодаль прохаживались полицейские, в начале и в конце квартала стояли патрульные машины.
Карл свернул на параллельную улицу. Там было пусто и тихо. Старинный квартал реставрировался, несколько домов были обтянуты сеткой поверх строительных лесов. Оглядевшись, Карл вскочил в подвесную люльку, вытащил из кармана куртки тонкие кожаные перчатки, натянул на руки.
Окна нижних этажей были заделаны пластиковыми щитами. Наверху зияли пустые провалы. Карл быстро вскарабкался вверх по стальному тросу, юркнул в черную оконную дыру.
Через полчаса у подъезда «Принц-отеля» остановился белый «Линкольн», из него выскочил сначала крепкий молодой охранник в штатском, распахнул дверцу. На пушистую ковровую дорожку ступила пухлая короткая нога в лакированном ботинке. Белая брючина задралась, обнажая желтоватую безволосую голень. Потом вывалился маленький безобразно толстый человечек. Лысая голова, гладкая, блестящая, как у китайского фарфорового болванчика. Сразу вслед за человечком выскочил еще один охранник.
Толстячок смешно семенил короткими ножками между двумя плечистыми верзилами. Пройти надо было всего пять метров по ковровой дорожке, от машины до стеклянных дверей отеля. Охранник, который шел впереди, уже поднялся на ступеньку, и в этот момент негромко шлепнул выстрел.
Лысая голова разлетелась вдребезги, словно и вправду это была голова фарфоровой куклы.
В черном оконном провале, в верхнем этаже пустого дома, метнулась черная тень. Снайпер бросился к приставной лестнице, ведущей на нижний этаж, и тут же упал, даже не успев понять, что произошло.
На долю секунды во мраке вспыхнул огонек зажигалки. Карл вложил свой пистолет в левую руку убитого снайпера. Внизу взвыли полицейские сирены.
Через пять минут квартал был оцеплен. Но Карл уже спокойно шел по оживленному проспекту.
В первых утренних новостях все телеканалы взахлеб сообщали, что сегодня, в два часа ночи, у подъезда знаменитого, самого дорогого в Гамбурге «Принц-отеля» убит глава крупного международного синдиката, мафиози, дважды судимый Антонио Селдоротти. Убийца, член экстремистской палестинской группировки «Эль-ислами» Мустафа Саллах по прозвищу Левша, обнаружен мертвым на месте преступления. По предварительной версии гамбургской полиции, Саллах покончил с собой сразу после выстрела.
Компетентные источники сообщают, что в последнее время Селдоротти поставлял крупные партии оружия арабским странам, снабжал ракетами и противопехотными минами американского производства ряд группировок, враждующих с «Эль-ислами».
Германия – маленькая страна, от Гамбурга до Западного Берлина чуть больше часа на самолете. А из Западного Берлина в Восточный многие ездят на велосипедах. Именно на велосипеде и пересек Карл границу, Бранденбургские ворота остались за спиной вместе с блеском и мишурой свободного мира, с торжеством бюргерских идеалов, с трупом крупного мафиози на ковровой дорожке и трупом снайпера, палестинца, на верхнем этаже пустого дома.
Тело ломило от усталости, но это была приятная усталость. Первое задание, такое сложное, такое рискованное, он выполнил отлично, как настоящий профессионал. Лежа на матраце рядом с Ингой в своей чердачной «студии», Карл, прежде чем уснуть, включил телевизор.
Да, Селдоротти действительно поставлял арабам оружие, качественное и недорогое, причем всем арабам без разбора, в том числе и тем, с которыми у крупной экстремистской группировки «Эль-ислами» были натянутые отношения.
Палестинец Мустафа-Левша не сомневался, что убивает Селдоротти именно за это. Однако суть была в другом.
Никому не известные, но весьма влиятельные люди в штази скупали по дешевке оружие у офицеров Западной группы советских войск на территории ГДР и продавали задорого тем же арабам. В последнее время деятельность итальянского мафиози развернулась слишком уж широко и возникла неприятная конкуренция. Американское оружие ничуть не хуже советского. Итальянец сбивал цены и нарушал законы рынка.
Мустафа-Левша и его коллеги-террористы проходили подготовку на секретных базах, расположенных на территории ГДР. Скромный агент штази Карл Майнхофф легко сходился с людьми и довольно быстро завоевал доверие боевиков «Эль-ислами». Именно он и сообщил по секрету арабским товарищам, что коварный итальяшка снабжает отличным новейшим оружием всех без разбора, в том числе и непримиримых врагов «Эль-ислами». Принципиальные боевики сочли это предательством и приговорили Селдоротти к смерти.
Торговцы оружием из штази могли бы успокоиться на этом. Убрать конкурента чужими руками удобно и безопасно. Однако необходимо было подстраховаться. У полиции не должно возникнуть и тени сомнения, кто и почему застрелил итальянского мафиози.
Левша мог исчезнуть с места преступления, и тогда началось бы долгое, нудное расследование. Гамбургская полиция известна своей дотошностью. Но было бы еще неприятней, если бы Мустафа не успел исчезнуть и попал в руки полиции или в руки друзей убитого да начал бы, чего доброго, давать показания.
Умные люди из штази рассудили, что в этой ситуации будет удобней, если труп убийцы останется на месте преступления.
А почему застрелился Мустафа – это уже вопрос чисто психологический. Кто его разберет, сумасшедшего фанатика-террориста?
Карл потянулся с хрустом, зевнул, выключил телевизор. Только сейчас он понял, почему ему так хорошо. Он нашел наконец то, что для него интересней, забавней всего на свете. То, чем ему нравится заниматься в этой жизни. Мустафа-Левша был настоящим кровавым монстром, как из страшной детской сказки. Он думал, что бессмертен. За каждого убитого «неверного» Аллах скидывал ему с небес очередную пригоршню вечности. Левша был лучшим снайпером «Эль-ислами». Оружие в его левой руке обретало магическую силу, всегда стреляло раньше, чем оружие противника, и всегда точно в цель, с любой, самой невероятной позиции.
Убить вооруженного Мустафу считалось делом совершенно безнадежным. Никто не верил в успех операции, хотя в ее целесообразности сомнений не возникало.
Именно Карлу пришла в голову идея – оставить на месте преступления труп убийцы. Он просек сложность ситуации, продумал все до мелочей. Умные люди из штази, завербовавшие болтуна-студента чуть больше года назад, выслушали его оригинальное предложение, сначала удивились, потом засомневались:
– Все это остроумно, Карл, однако где ты найдешь исполнителя? Ведь это самоубийство, формальный человек не согласится ни за какие деньги, а сумасшедший не справится.
– Я сам попробую, – скромно предложил Карл.
– Ну валяй, может, и получится, – ответили ему.
Он попробовал, и все получилось. Теперь он точно знал, чем будет заниматься в ближайшие лет десять–пятнадцать, и уснул крепким, здоровым сном человека, который нашел свое место в жизни.
Эйлат, январь 1998 года
– Алиса Воротынцева, тридцать пять лет. Родилась и живет в Москве. По специальности архитектор. Последние два года работает в российско-австрийской строительной компании «Сатурн». Не замужем. Сын Максим Воротынцев десяти лет. Пока все.
– Спасибо, сэр. Это я уже и так знаю.
– Я мог узнать значительно больше, если бы обратился за помощью к моим людям в МОССАД. Слушай, а может, нам сочинить какую-нибудь легенду про эту твою Алису? Было бы разумней сначала выяснить о ней как можно больше, а потом уж…
– Нет, сэр. Ни в коем случае.
– Почему? Мне кажется, это неплохая идея. Ты не хочешь, чтобы МОССАД заинтересовался ею в связи с Майнхоффом. Ты нащупал эту связь и не хочешь, чтобы кто-то перехватил инициативу. О’кей, я могу сочинить нечто совсем невинное.
– Нет.
– Это твое дурацкое упрямство? Или есть конкретные причины?
– Она знакома с Бренером.
– Что?!
– Я узнал об этом два часа назад. В ресторане. Там работал телевизор, по новостям Си-эн-эн показали фотографию, назвали имя. Она прямо подпрыгнула на стуле. Потом сказала, что знала его в детстве. Они были соседями.
– Ну, ты опять все усложняешь. Это может оказаться простым совпадением. Бренер уехал из России в семьдесят восьмом. Ей было тогда пятнадцать лет. Хотя, конечно, если сейчас об этом узнают израильтяне, они могут ухватиться. Они, разумеется, сразу выяснят, что ты живешь в соседнем номере, играешь в мячик с ее сыном, и такая заварится каша… Не дай Бог. Уж они-то не поверят в совпадение и станут копать.
– Я тоже не верю в такие совпадения. Здесь что-то другое.
– Просто ты боишься, что рассыплется вся твоя версия с русской.
– Почему рассыплется?
– Да потому что, если бы ее знакомство с Бренером было каким-то косвенным образом связано с похищением, она бы не стала болтать об этом.
– А может, она придумала такой ход, чтобы проверить меня? Посмотреть реакцию?
– Если она все-таки агент, то ход слишком прямой, глупый и опасный. По-моему, она вообще ни при чем, эта Алиса, поверь мне на слово. Ты идешь по ложному следу. Я живу на свете уже шестьдесят восемь лет и сорок пять из них работаю в разведке. На моем веку было столько невероятных, многозначительных совпадений, которые на поверку оказывались нелепой случайностью… Мой первый шеф, легенда ЦРУ Грегори Нэт, говорил: «В нашей игре блефуют все, в том числе и господин Случай. Но, в отличие от прочих игроков, его невозможно поймать за руку».
– Сегодня днем она преспокойно отдает проявить пленку, на которой заснят Майнхофф, в первый попавшийся ларек «Кодак». Потом по дороге с пляжа заходит за снимками. Заметьте, со мной вместе. И тут оказывается, что готовые снимки уже кто-то забрал.
– То есть?
– Некий мужчина потерял квитанцию, стал искать среди конвертов и по ошибке забрал именно ее конверт. Алиса, узнав об этом, бледнеет, пугается, начинает расспрашивать, как он выглядел.
– И как он выглядел?
– Это был Майнхофф. Я потом подошел к ларьку с его фотографией. Что, тоже совпадение? Блеф господина Случая?
– Нет… вот это уже не похоже на блеф. Подожди, ты сказал, она опять испугалась, как тогда, в кафе?
– Да, это было не удивление, не огорчение, а именно испуг. Паника в глазах.
– Она боится Майнхоффа… Ты прощупывал ее потом насчет фотографий?
– Разумеется. Я спросил, когда мы сидели в ресторане, почему она так расстроилась. Она ответила, что уже забыла о них, и мягко переменила тему. Мы говорили о чем угодно – о феминизме, о «новых русских». Ну а потом по телевизору показали сюжет про теракт в Беэр-Шеве, и она сильно разволновалась, сказала, что Бренеры были их соседями. Честно говоря, у меня голова идет кругом. Не верю в простое совпадение.
– Пожалуй, я сегодня же свяжусь с нашим сотрудником в Москве. Адрес, по которому жил Бренер, можно выяснить через голландское посольство. Бренер уехал в семьдесят восьмом, тогда все выездные визы в Израиль оформлялись через голландское посольство. У них в архивах должен быть его московский адрес. А вот про твою красавицу будет сложней получить информацию. Попробуй сам осторожно расспросить ее, пусть скажет, хотя бы приблизительно, где она жила в детстве.
– Район проспекта Мира, Трифоновская улица. Разумеется, почтовый адрес я не спросил. Она сказала, дом давно снесли.
– Ну что ж, это уже немало.
Алиса погасила бра над Максимкиной кроватью, поправила одеяло и вдруг застыла, вслушиваясь в мягкую ночную тишину. Совсем близко, у стеклянной двери, что-то сухо, быстро прошуршало. Потом – легкий глухой щелчок.
Можно сойти сума, если вздрагивать от каждого звука. Это пальмы шуршат. И чайник выключился. Алиса налила себе чаю, достала банку вишневого джема и шоколадное печенье. Хорошо выпить горячего чайку ночью, на улице, под раскидистой пальмой. А потом выкурить сигаретку, почистить зубы, лечь спать, свернуться калачиком под теплым гостиничным одеялом и вообще ни о чем не думать…
Да, теперь уж ясно, Карл Майнхофф жив и находится здесь, в Израиле. Он сидел в забегаловке у рыночной площади. Он взял фотографии. Господи, ну почему ей пришла в голову эта идиотская идея – заснять его? Теперь он точно ее узнал и понял, что она его узнала. «Здравствуй, Карлуша. Давно не виделись».
Алиса поежилась, накинула куртку, тихонько приоткрыла стеклянную дверь. Внутренний двор гостиницы освещали яркие фонари, отлично просматривался каждый уголок, только под широкими пальмовыми ветками оставались куски глухой черноты.
«Ну что ты дергаешься? Зачем ты ему нужна?» Алиса усмехнулась, сунула руки в рукава куртки, вынесла во двор чашку, джем, вазочку с печеньем, сигареты, уселась в пластиковое кресло.
«То, что произошло в Беэр-Шеве, скорее всего, его работа. – Она съела ложку джема, отхлебнула чаю. – Ему сейчас не до тебя. У него очередной теракт. Он занят по горло».
Она изо всех сил старалась успокоиться, она заставляла себя думать о чем угодно, только не о Карле Майнхоффе.
Чай был крепкий, с привкусом ежевики. Джем густой и прозрачный. Отличный джем. Жаль, что Максимке не нравится. Он вообще из всех сладостей любит только шоколад и мороженое. Алиса тоже в детстве не любила всякие джемы и варенья, зато мороженого могла съесть полкило сразу, не переводя дыхания…
Она пыталась самой себе заговорить зубы. Довольно глупое занятие. Но очень уж было страшно. Она думала о Натане Ефимовиче Бренере и вспоминала детство, коммуналку на Трифоновке.
Алиса знала это свое идиотское свойство – когда происходило что-то плохое, она начинала мысленно путешествовать по крошечному миру трифоновской коммуналки. Лучшим лекарством от всяких депрессий, обид, неприятностей были теплые мелочи из прошлой, почти инопланетной жизни.
Это был ее личный, тайный маленький рай, пахнущий жареным луком, кипяченым бельем, наполненный звуками бравых радиопесен. Черный пластмассовый динамик висел высоко над дверью, его забывали выключать, и многие годы каждое утро сквозь сладкий, густой туман детского сна прорывались одни и те же слова: «Доброе утро, товарищи. Начинаем утреннюю гимнастику. Встаньте прямо. Руки в стороны. Ноги на ширину плеч…»
В маленькой темной кладовке прятались на летнюю спячку зимние вещи, громоздились старые чемоданы, облезлый сундук, поломанная мебель. Хрустели под ногами сухие апельсиновые корки, которыми перекладывали жалкие советские меха мама и тетя Маня Бренер. Но ни корки, ни нафталин не спасали от моли.
Как-то Алиса налетела в темноте на собственные фигурные коньки, висевшие на гвоздике у двери. До сих пор под левой бровью остался тонкий незаметный шрам.
Однажды они с Сережкой сожрали вдвоем килограммовый торт-мороженое в темной кладовке. Бренеры купили торт для гостей, а Сережка стащил из холодильника, и они уничтожили его наперегонки, большими ложками, минут за пять, наверное. Испачкали мамину шубу и зимнее пальто дяди Натана. А потом оба заболели ангиной и перестукивались через стенку.
Интересно, каким стал Сережа? В детстве он был пухлый, курносый, голубоглазый. По дороге из школы они заходили в булочную, покупали длинный батон за двадцать две копейки. Алиса съедала обе горбушки, а Сережа все остальное.
В пятом классе их обоих исключили из пионеров. Они остались после уроков делать стенгазету к 7 Ноября, Алиса выводила гуашью заголовки, Сережа наклеивал картинки. Это было довольно скучное занятие, они часто отвлекались, чтобы поупражняться в стрельбе из трубочки комочками жеваной бумаги.
Строго говоря, это была не стрельба, а плевание. Они никак не могли решить, кто более меткий плевальщик, и устроили соревнование. Лучшей мишенью оказался портрет Ленина, висевший над доской. Они так увлеклись подсчетом попаданий и промахов, что не заметили застывшего в дверях старшего пионервожатого, который зашел посмотреть, как дела с праздничной стенгазетой.
На следующий день на собрании совета дружины с них торжественно, под барабанную дробь, сняли галстуки. Назад в пионеры потом не приняли, но к восьмому классу история забылась сама собой, и в комсомол приняли, как всех, для статистики.
Все это было в другом веке, на другой планете. Дом на Трифоновке давно снесли. От маленькой коммуналки, в которой жили всего две семьи, Воротынцевы и Бренеры, не осталось даже легкой пыли. Надо быть инфантильной идиоткой, чтобы прятаться от реальной опасности в свой тихий детский рай, забиваться, словно в темную кладовку, на донышко собственной души.
«Ну хорошо. Я не буду инфантильной идиоткой. Я попробую спокойно, разумно разобраться, чем конкретно для нас с Максимкой сейчас опасен Карл. За свою бурную бандитскую жизнь он встречался с сотнями людей, и по теории вероятностей десятки из них могли где-то случайно узнавать его, через многие годы, при самых неподходящих обстоятельствах. Он же не может каждого сразу убивать! А после такого теракта ему надо быстро сматываться из страны, его разыскивает вся израильская полиция. Он уже в Египте или в Иордании…»
– Стоп. Фотографии он забрал сегодня. Значит, он еще здесь и следил за нами. А может, заявить в полицию, что я видела Майнхоффа? Нет, у меня определенно едет крыша. Я ведь не знаю никакого Карла Майнхоффа. Я с ним нигде никогда не встречалась. Никогда… – Алиса произнесла это вслух, громким шепотом.
И тут же замерла, перестала дышать. Прямо у нее за спиной, у толстого ствола огромной пальмы, кто-то стоял не двигаясь и смотрел ей в затылок. Она не слышала ничего, кроме шороха пальмовых листьев. Дерево было подсвечено фонарем, четкая тень ложилась на газон перед бассейном. У дерева стоял человек. Было видно, что он чуть прислонился плечом к стволу.
Алиса окаменела, во рту пересохло, столбик пепла упал на пластиковый стол рядом с пепельницей. Тень отделилась от ствола, и рука легла Алисе на плечо. Она вздрогнула так сильно, что опрокинулась чашка с недопитым теплым чаем.
– Алиса, простите, я напугал вас. Вы, конечно, не спите. Добрый вечер. Зря вы отказались прогуляться со мной до пирса.
– Деннис, вы подошли так тихо… простите. – Она быстро встала, зашла в номер и тут же вернулась, принялась вытирать бумажным полотенцем чайную лужу на столе.
– Можно, я посижу с вами? – спросил он уютным шепотом и тут же уселся в кресло, не дожидаясь ответа. – Жаль, я не знаю русского. Вы как будто думали вслух.
– Серьезно? Я говорила сама с собой?
– Да. У меня такое тоже бывает, когда устаю или нервничаю. Хотите выпить?
– Хочу.
Он скрылся в своем номере на несколько минут, вернулся с маленькой плоской бутылкой и двумя гостиничными стаканами.
– Это коньяк. Ваше здоровье, Алиса.
Они тихо чокнулись. Коньяк был сейчас действительно кстати. И если честно, Деннис тоже.
Ветер усилился, пальмы тяжело раскачивались, отбрасывая тревожные причудливые тени. Матерчатый зонт над столом вывернулся наизнанку.
– Сейчас пойдет дождь, – тихо сказал Деннис, – может, посидим немного в моем номере?
– Спасибо, нет. Поздно уже, пора спать.
– Можно было бы и у вас, но мы разбудим Максима. И потом, вы меня не приглашаете. Я вам здорово надоел?
– Нет еще, – она усмехнулась, – вы простите, Деннис, я веду себя по-хамски. Я бы с удовольствием посидела у вас в номере, но лучше все-таки на воздухе.
– Это я веду себя как приставучий хам, – он кашлянул, – вам неловко встать и уйти. Холод, ветер, вы мерзнете из вежливости. Неужели вы думаете, что в номере я наброшусь на вас, как тигр? Неужели я произвожу такое скверное впечатление?
– Перестаньте, Деннис. Я ничего такого не думаю. И мерзну вовсе не из вежливости. Просто я лучше засыпаю, если перед сном подышу воздухом.
– Вы больше курите, чем дышите… – Он налил еще коньяку. – Знаете, я хочу выпить за вашего бывшего соседа, профессора Бренера. За его здоровье. Вы хорошо его помните?
– Конечно. Мы пятнадцать лет жили в одной квартире. Только он тогда не был профессором. Как вы думаете, зачем он понадобился террористам?
– Здесь все время кого-то похищают. И без конца что-то взрывается. А Бренера, скорее всего, взяли в заложники. Будут требовать, чтобы выпустили из тюрьмы очередную порцию бандитов.
– Ну, вы преувеличиваете, Деннис. Такие теракты, как этот, случаются не часто. А если бандитов не выпустят?
– Не знаю. Все зависит от террористов. Но я бы не хотел оказаться на месте профессора Бренера. Вы волнуетесь за вашего бывшего соседа?
– Разумеется, волнуюсь. У меня остались о нем самые добрые воспоминания. Мы не виделись двадцать лет, но столько всего связано, практически все детство…
Деннис ничего не ответил. Он сидел так, что на его лицо падала тень пальмы. Алиса опять чувствовала его странный, напряженный взгляд. Это было неприятно. Она встала.
– Вот теперь я действительно замерзла. И глаза закрываются. Спокойной ночи, Деннис. Спасибо за коньяк.
Глава 11
Торжественное собрание партии «Русская победа» проходило в помещении Дома культуры имени Александра Матросова, на окраине Москвы.
Актовый зал был украшен алыми знаменами со свастикой. Раскоряченный четырехлапый паук, жирный, черный, обведенный тонкой кровавой рамкой по контуру, в белом круге, красовался на огромном алом транспаранте над сценой, на рукавах аккуратной, с иголочки, униформы членов партии, на блестящих партийных значках, приколотых к груди.
Черные гимнастерки, туго перетянутые портупеей, черные береты, лихо надвинутые на бровь, начищенные до зеркального блеска сапоги, строгие прямые юбки у женщин, казачьи галифе у мужчин.
Основную массу, полторы сотни униформистов, составляли юноши и девушки от пятнадцати до двадцати двух лет. Чистые, ясные лица, строгие прически. Никаких косметических излишеств у девушек, никаких хвостиков и серег у молодых людей. Сдержанные голоса, здоровые белозубые улыбки. Ни одного нецензурного слова в гуле общих разговоров.
Они нравились самим себе в этой форме, на этом серьезном, взрослом мероприятии. Они были причастны к важному, таинственному делу – к спасению отечества и всей планеты от дурной, неправильной крови, от ошибок развития Земли и цивилизации, от оплошностей самого Господа Бога. Они чувствовали себя людьми будущего, элитой, на плечах которой взойдет новое, здоровое, чистокровное человечество.
Что бы они ни делали, они были правы изначально, потому что у них правильная, чистая кровь. Приятно чувствовать себя человеком, правильным во всех отношениях. Молодые сильные русские арийцы. Последняя надежда нации.
Красивую толпу несколько портили люди среднего и пожилого возраста. Сочувствующие. Неопрятные, нечесаные тетки в перекрученных колготках. Дядьки с небрежно закрашенной сединой. Представители простого обиженного народа.
Вечная каста народных мстителей, городские сумасшедшие с разными формами параноидального бреда и истерической психопатии. В спокойные времена они тешат свое безумие склоками в очередях и в общественном транспорте, доносами на соседей, оглушительными, с летящей слюной, воплями на детей во дворе. Но нет благотворней стихии для них, чем смута государственного масштаба. Они оживляются необычайно, они бодры и полны юношеского задора, они с восторгом вливаются в ряды всяких экстремистских партий, суть коих – все тот же параноидальный, слюнявый, завистливый бес разрушения.
Толпа дисциплинированно рассаживалась. В первых рядах молодые униформисты. Сочувствующие – сзади. В проходах между рядами и у дверей – вооруженная охрана в черной форме. Настоящие пистолеты в кобурах. Финки в ножнах. Широко расставленные ноги в сверкающих сапогах. На рукавах свастика. Бритые затылки. Внимательные взгляды исподлобья.
Наконец ударил гонг. На сцену, в президиум, поднялось несколько человек. Мужчины средних лет с суровыми лицами. В одном можно было узнать изрядно располневшего, известного когда-то киноактера, в другом – писателя, автора пары книжонок про мировой жидо-масонский заговор. Был еще депутат Думы от фракции коммунистов, рядом – отставной полковник ВВС, за ним – колдун-экстрасенс, не слезавший с телеэкрана в конце восьмидесятых. Замыкал шествие широкоплечий плейбой по имени Гарик, который прошлым вечером так неудачно поиграл в бильярд с кавказским авторитетом Азаматом Мирзоевым.
Все, кроме актера и экстрасенса, были одеты в черную униформу. Почетный караул по бокам сцены, у знамен со свастикой, отборные, самые красивые девочки и мальчики вытянулись по струнке. Зал поднялся. Две сотни рук вскинулись в фашистском приветствии.
В радиорубке что-то затрещало, из динамиков шарахнул бравурный немецкий марш времен Второй мировой в исполнении духового оркестра.
- Русские люди, сомкнемся рядами
- за чистоту нашей крови святой!
- Звездная свастика реет над нами,
- нашей победы орел золотой!
Плейбой Гарик, он же Авангард Цитрус, слушал, стоя на сцене вместе с прочими членами почетного президиума, как хор в две сотни голосов поет гимн, сочиненный им, Авангардом Цитрусом, на музыку нацистского марша пятнадцать лет назад после долгой унылой пьянки и болезненной гомосексуальной любви в заплеванном, провонявшем окурками и мочой крошечном номере дешевой гостиницы в Бронксе. Он снимал ту поганую комнатенку за триста долларов в месяц вместе со своим черным жирным любовником Джимми.
Если бы тогда, в грязном, пьяном, нищем восемьдесят третьем году, кто-нибудь показал ему, безымянному поэту, несчастному эмигранту из России, кадры вот такого красивого светлого будущего, он бы решил, что это глюки, похмельные галлюцинации. Ничего этого не было и быть не могло. Он дурачился, сочиняя на музыку нацистского марша идиотские стишки.
