Создание атомной бомбы
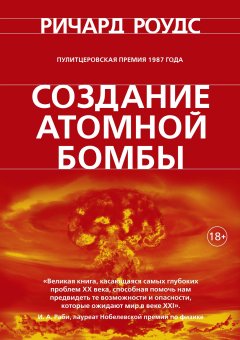
Richard Rhodes
THE MAKING OF THE ATOMIC BOMB
На английском языке впервые опубликовано издательством SIMON & SCHUSTER Inc.
Перевод с английского Дмитрия Прокофьева
© 1986 by Rhodes & Rhodes
© 2012 by Rhodes & Rhodes, предисловие
© Прокофьев Д. А., перевод на русский язык, 2020
© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2020
КоЛибри ®
Посвящается памяти Джона Кушмана (1926–1984)
Автор признателен Фондам Форда и Альфреда П. Слоуна за поддержку во время подготовки и написания этой книги.
Русский перевод посвящается памяти Александра Николаевича Прокофьева (1932–2018), связавшего свою жизнь с ядерной физикой
`
Предисловие к юбилейному изданию в честь 25-летия книги
За семь с лишним десятилетий, прошедших с момента его зарождения перед надвигавшимся штормовым фронтом Второй мировой войны, Манхэттенский проект постепенно превратился в бледный миф. Огромные производственные реакторы и установки для очистки плутония в Хэнфорде, штат Вашингтон, почти километровой длины фабрика по обогащению урана в Ок-Ридже, штат Теннесси, несколько сот тысяч сотрудников, строивших и эксплуатировавших это гигантское оборудование, умудряясь при этом хранить в тайне его назначение, – все это исчезло из виду. Остался лишь голый костяк легенды: секретная лаборатория на плато в Нью-Мексико, харизматичный директор лаборатории, американский физик Роберт Оппенгеймер, бывший после войны видным международным деятелем, пока его положение не подорвали недоброжелатели, одинокий бомбардировщик с нелепым именем «Энола Гей», доставшимся ему от матери летчика, да стертый с лица земли город Хиросима – причем о бедствиях разрушенного Нагасаки почти забыли.
Едва ли не мифическим кажется и само оружие – кроме тех случаев, когда его пытаются заполучить враги. Нас предупреждают, что появление новых ядерных держав опасно; старые ядерные державы охраняют мир. Молодая исследовательница Энн Харрингтон де Сантана установила, что ядерное оружие приобрело статус фетиша. Наши блестящие боеголовки стали выражением могущества страны подобно тому, как национальная валюта является выражением товаров: «Если доступ к богатству, выраженному в виде денег, определяет возможности индивидуума и его место в социальной иерархии, доступ к могуществу, выраженному в виде ядерного оружия, точно так же определяет возможности государства и его место в международном устройстве». Поэтому большинство промышленно развитых стран в какой-то момент после 1945 года рассматривали возможность приобретения ядерного оружия, и ни одна из них так и не осмелилась его применить. Будь бомбы на самом деле использованы, это обрушило бы всю систему.
Опасность применения ядерного оружия была одной из причин, по которым я решил в 1978 году написать историю разработки первых атомных бомб (другой причиной было обнародование основной массы бывшей до тех пор засекреченной документации Манхэттенского проекта: это позволяло писать, опираясь на документы). В то время ядерная война казалась гораздо более близкой, чем сейчас. В конце 1970-х и начале 1980-х годов, когда я собирал материалы для этой книги и писал ее, создавалось впечатление, что гонка ядерных вооружений между Соединенными Штатами и Советским Союзом ускоряется. Меня, как и многих других, тревожило, что какая-нибудь случайность, небрежность или недоразумение может привести к катастрофе.
Советский Союз воевал в Афганистане и, как считал президент Джимми Картер, наступал в направлении Аравийского моря и богатого нефтью Ближнего Востока. Картер поклялся, что Соединенные Штаты не допустят такой экспансии, даже если для этого придется вести ядерную войну. Советы твердо намеревались нарастить свой ядерный арсенал до размеров американского: решение об этом было принято после Карибского кризиса 1962 года, в котором президенту Джону Ф. Кеннеди удалось заставить их отступить перед угрозой ядерной войны. Чем ближе они подходили к состоянию паритета, тем воинственнее требовали крови американские правые. Рональд Рейган, избранный президентом в 1980 году, не только увеличил оборонный бюджет США более чем в два раза, но и отзывался о второй ядерной сверхдержаве в весьма вызывающих выражениях: он называл ее «империей зла» и «средоточием зла в современном мире». Советский Союз сбил отклонившийся от курса корейский авиалайнер, попавший в воздушное пространство СССР, причем все, кто был на его борту, погибли. Проведенные в 1983 году с участием глав государств – членов НАТО учения под названием Able Archer[1], в сценарий которых входили события, непосредственно предшествующие ядерной войне, настолько испугали советское руководство во главе с тяжело больным Юрием Андроповым, что оно чуть не нанесло первый ядерный удар.
Какими бы тревожными ни были эти события, мне было трудно поверить, что такой умный и гибкий биологический вид, как наш, добровольно уничтожит сам себя, хотя он добровольно создал средства, позволяющие это сделать. Я хотел узнать, не существовало ли в самом начале, еще до того, как первые бомбы испепелили два японских города и кардинально изменили природу войны, альтернативных путей развития, отличных от того, по которому шли теперь и мы, и Советы. Зачем мы накопили в общей сложности семьдесят тысяч единиц ядерного оружия, когда всего нескольких штук было бы более чем достаточно для взаимного уничтожения? Почему вся холодная война была в первую очередь военным противостоянием, если существование ядерного оружия делало любое прямое военное столкновение между сверхдержавами самоубийством? Почему, с другой стороны, несмотря на всю риторику и демонстрации силы, после Нагасаки не был взорван в бою ни один ядерный заряд? Мне казалось, что вернувшись к началу – и даже ко времени, предшествовавшему этому началу, когда высвобождение колоссальной энергии, скрытой в атомных ядрах, было просто интересной и трудной физической задачей, – я, возможно, смогу заново открыть забытые пути, которые, если к ним снова привлечь внимание, могли бы привести к чему-то отличному от нависающей угрозы ядерного апокалипсиса.
Такие альтернативные пути действительно существовали. Я, как и многие другие до меня, выяснил, что они были спрятаны на самом видном месте. Поместив их в центр своей книги, я попытался заново привлечь к ним внимание. «Создание атомной бомбы» стало общепризнанным пособием по предыстории и истории Манхэттенского проекта. Книга была переведена на дюжину разных языков и издавалась по всему миру. Я достаточно общался с государственными деятелями, как в США, так и за границей, чтобы знать, что ее широко читали в пентагонах и белых домах. Благодаря этому она внесла свой вклад в распространение понимания парадокса ядерного оружия. Я говорю не о парадоксе сдерживания, который питается тем самым фетишистским наваждением, которое описывает Харрингтон де Сантана. Я имею в виду тот парадокс, который первым сформулировал великий датский физик Нильс Бор: хотя ядерное оружие является собственностью конкретных национальных государств, которые притязают на право владеть им и использовать его для защиты своего национального суверенитета, его тотальная разрушительность делает его общей опасностью для всех, подобной эпидемическому заболеванию, и потому, как и эпидемическое заболевание, оно выходит за пределы государственных границ, споров и идеологий.
Я включил в эту книгу такую долгую предысторию Манхэттенского проекта – историю ядерной физики от открытия радиоактивности в кон-це XIX века до открытия деления ядра в нацистской Германии в конце 1938 года – отчасти потому, что считал: понять, чем именно были революционны атомные бомбы, я смогу, только понимая их физику, насколько ее вообще может понять неспециалист, и предполагал, что читатель также захочет ее понять. В университете у меня был лишь краткий курс физики, но из него я узнал, что ядерная физика – наука почти полностью экспериментальная. А это означает, что открытия, которые привели к созданию бомб, были следствием физических манипуляций с предметами в лаборатории: возьмем эту металлическую коробку, установим в нее радиоактивный источник, вставим образец, проведем измерения таким-то прибором, получим такой-то результат и так далее. Когда я освоил профессиональный жаргон, я смог прочесть классические работы в этой области, представить себе эксперименты и понять открытия – хотя бы постольку, поскольку они касались создания бомб.
Впоследствии я понял, что обзор истории ядерной физики послужил и еще одной цели: он позволил опровергнуть наивное верование, что, когда было открыто деление ядра, физики могли собраться (это в нацистской-то Германии!) и договориться сохранить это открытие в тайне, тем самым избавив человечество от ядерного бремени. Нет. Учитывая развитие ядерной физики до 1938 года, которому способствовали физики всего мира, не имевшие ни малейшего намерения изобрести новое оружие массового уничтожения, – лишь один из них, замечательный американский физик венгерского происхождения Лео Сцилард, всерьез рассматривал такую возможность, – открытие деления ядра было неизбежно. Чтобы предотвратить его, нужно было прекратить заниматься физикой. Если бы немецкие ученые не сделали этого открытия тогда, когда они его сделали, вместо них то же явление открыли бы ученые британские, французские, американские, русские, итальянские или датские, причем почти несомненно всего через несколько дней или недель. Все они работали на одних и тех же передовых рубежах, пытаясь понять странные результаты простого эксперимента с бомбардировкой урана нейтронами.
Речь вовсе не шла о сделке с дьяволом, какие бы глубокомысленные выводы до сих пор ни извлекали из этого образа кинорежиссеры и другие дилетанты. Речь не шла о неких губительных механизмах, которые благородные ученые могли бы спрятать от политиков и военных. Напротив, речь шла о новом понимании устройства мира, об энергетической реакции более древней, чем сама Земля, реакции, которую наука смогла выманить на свет, наконец-то разработав необходимые для этого приборы и методы. «Представляйте их неизбежными», – советовал Луи Пастер своим ученикам, когда они готовились описывать свои открытия. Но это открытие и было неизбежным. Мечтать, чтобы оно было оставлено без внимания или замолчано, – варварство. «Знание, – заметил однажды Нильс Бор, – само по себе является основой цивилизации». Второй не бывает без первого; вторая зависит от первого. При этом знание не может быть только благодетельным; научный метод не отбирает по благодетельности. Знание порождает последствия – не всегда намеренные, не всегда приятные, не всегда желательные. Земля обращается вокруг Солнца, а не Солнце вокруг Земли. «Выдающиеся научные открытия, – говорил Роберт Оппенгеймер, – делаются не потому, что они полезны, а потому, что они оказались возможными, – это глубокая и неоспоримая истина».
Первые атомные бомбы, изготовленные вручную на плато в штате Нью-Мексико, упали на ошарашенный доядерный мир. Позднее – когда Советский Союз взорвал копию плутониевой бомбы «Толстяк», построенную по планам, которые предоставили ему Клаус Фукс и Тед Холл, а затем стал наращивать свой собственный разносторонний арсенал, не уступающий американскому; когда водородная бомба увеличила и без того гибельную разрушительную силу ядерного оружия на несколько порядков; когда ядерное оружие появилось у Британии, Франции, Китая, Израиля и других стран – достиг зрелости новый и странный ядерный мир. Бор предположил как-то, что цель науки – вовсе не абсолютное знание. Вместо этого он представил науке более скромную, но требующую неустанных трудов цель «постепенного искоренения предрассудков». Открытие того факта, что Земля обращается вокруг Солнца, постепенно искоренило предрассудок, что Земля является центром Вселенной. Открытие микробов постепенно искоренило предрассудок, что болезни – кара божия. Открытие эволюции постепенно искоренило предрассудок, что Homo sapiens – отдельное от прочих и особое создание.
Последние дни Второй мировой войны стали такого же рода переломной точкой в истории человечества, моментом вступления в новую эру, в которой человечество впервые получило в свое распоряжение средства своего собственного уничтожения. Открытие возможности высвобождения ядерной энергии и ее использования для создания оружия массового уничтожения постепенно искоренило предрассудок, на котором основана тотальная война: безосновательное убеждение, что в мире существует ограниченное количество энергии, которую можно сосредоточить во взрывчатых веществах, и что такой энергии можно накопить больше, чем ее накопит враг, и благодаря этому одержать военную победу. Ядерное оружие в конце концов стало настолько дешевым, настолько портативным и настолько гибельным, что даже такие воинственные национальные государства, как Советский Союз и Соединенные Штаты предпочли уступку части своего национального суверенитета – отказ от возможности вести тотальную войну – перспективе быть уничтоженными собственной яростью. Меньшие войны продолжаются и будут продолжаться, пока мировое сообщество не осознает их разрушительную бессмысленность настолько, чтобы создать новые средства защиты и новые формы гражданства. Но по меньшей мере стало ясно, что войны мировые – явление историческое, а не вечное, проявление разрушительных технологий ограниченного масштаба. На фоне долгой истории человеческой бойни это не такое уж незаметное достижение.
В середине своей жизни я прожил несколько лет на земельном участке площадью около 1,5 га в штате Коннектикут, на поляне, окруженной со всех сторон лесистым заповедником. На ней так и кишели дикие животные: олени, белки, еноты, семейство сурков, индейки, певчие птицы, вороны, черноголовый ястреб, даже пара койотов. За исключением ястреба, все эти животные непрерывно и боязливо оглядывались, чтобы их не поймали, не разодрали на части и не съели заживо. С их точки зрения, моя райская поляна была зоной боевых действий. Животное, живущее в естественных условиях в дикой природе, очень редко доживает до старости.
До недавнего времени мир человека мало чем отличался от мира этих животных. Поскольку мы – хищники, то есть находимся на вершине пищевой пирамиды, нашими злейшими природными врагами всегда были микробы. Природа – в виде эпидемических заболеваний – непрерывно собирала обильную дань человеческих жизней, и очень немногие представители рода человеческого проживали весь естественный для них срок. Напротив, смертность рукотворная – то есть смертность от войны и лишений, связанных с войной, – оставалась на протяжении всей истории человечества на низком и сравнительно постоянном уровне. Ее было трудно отличить от фонового шума естественной смертности.
Появившееся в XIX веке общественное здравоохранение и произошедшее в XIX и XX веках внедрение технологий в военное дело привели к возникновению в промышленно развитом мире прямо обратной картины. Профилактические методы общественного здравоохранения снизили естественную смертность – эпидемические заболевания – до низких и контролируемых уровней. В то же время смертность рукотворная начала быстрый, болезненный рост, ужасающими вершинами которого стали две мировых войны XX века. В этом веке, самом жестоком из всех веков истории человечества, рукотворной смертью погибло не менее 200 миллионов человек. Шотландский писатель Гил Элиот дает этому числу яркое название «народа мертвых».
Эпидемия рукотворной смертности резко спала после Второй мировой войны. Уровень потерь стремительно упал до значений, характерных для первых межвоенных годов. С тех пор очаги узаконенных убийств продолжают тлеть, вспыхивая в партизанских конфликтах и войнах с применением обычного оружия на периферии ядерного мира. В среднем их жертвами становятся более полутора миллионов человек в год – эта цифра, несомненно, ужасна, но до 1945 года средний уровень был на целый миллион выше, а в пике, в 1943 году, он составлял 15 миллионов.
В XX веке рукотворная смерть приобрела эпидемический характер, потому что все более действенные технологии убийства довели крайние формы выражения национального суверенитета до уровня патологии. Вполне очевидно, что именно открытие возможности высвобождения ядерной энергии и ее использования в ядерном оружии снизило вирулентность этого патогена. В некотором глубоком и даже численно измеримом смысле оружие, принуждавшее в течение последних семи десятилетий к осмотрительности в глубоком страхе ядерной войны, служило контейнером, не позволявшим вырваться на свободу тем смертям, которые оно могло породить, подобно вакцине, изготовленной из ослабленной разновидности самого же патогена. Чтобы убить одного гражданина Германии во время Второй мировой войны, союзникам нужно было израсходовать три тонны бомб. Исходя из этой численной мерки, стратегические арсеналы Соединенных Штатов и Советского Союза содержали в разгар холодной войны около трех миллиардов потенциальных смертей. Это число хорошо соответствует полученной Всемирной организацией здравоохранения по другой методике в 1984 году оценке числа жертв полномасштабной ядерной войны.
Концентрация смерти в ядерном оружии сделала смерть видимой. Отрезвляющие арсеналы стали символом смерти, недвусмысленным напоминанием о нашей коллективной смертности. Раньше в неразберихе боя, в воздушных или морских сражениях можно было отрицать или не замечать ужасающую стоимость стремления к абсолютному суверенитету, выраженную в человеческих жизнях. Ядерное оружие, абсолютное вместилище рукотворной смерти, впервые в истории человечества показало последствия суверенного насилия с разительной очевидностью. Поскольку надежной защиты от такого оружия не было, последствия эти не подлежали сомнению. Новая каста стратегов от вооружений судорожно пыталась изобрести способы его применения, но любая стратегия разбивалась о неоспоримые расчеты эскалации конфликта. «Любая великая и глубокая проблема несет в себе свое собственное решение», – объяснял Нильс Бор ученым Лос-Аламоса в 1943 году, когда, приехав туда, обнаружил их в смятенном состоянии духа. Ядерное оружие, заключающее в себе потенциальное человеческое насилие в самом тотальном и экстремальном виде, парадоксальным образом демонстрирует доведение до абсурда рукотворной смерти. Годы, прошедшие после 1945-го, были годами опасного, но неизбежного обучения. Как я слышал, мы чуть было не сошли с верного пути не только во время Карибского кризиса и едва не случившейся катастрофы с учениями Able Archer 1983 года, но и во многих других случаях.
Мы еще столкнемся с такой опасностью, и пусть нам так же повезет в следующий раз – и в следующий после него. А может быть, катастрофа разразится в каком-нибудь другом полушарии, и миллионы, которые погибнут, падут под другим флагом. Чтобы события коснулись всех нас, будь мы даже в десятке тысяч миль от них, нужно совсем немногое. В 2008 году некоторые из ученых, участвовавших в 1983-м в моделировании исходного сценария ядерной зимы, исследовали вероятные результаты теоретической региональной ядерной войны между Индией и Пакистаном. Они рассмотрели вариант такой войны с применением всего 100 ядерных боезарядов уровня Хиросимы, суммарной мощностью всего полторы мегатонны – что не превышает мощности некоторых отдельных боеголовок в арсеналах США и России. К своему потрясению они выяснили, что, поскольку это оружие неизбежно будет направлено на города, полные горючих материалов, образовавшиеся огненные смерчи выбросят в верхние слои атмосферы огромное количество черного дыма, который распространится по всему миру и вызовет охлаждение земли настолько долгое и сильное, что оно приведет ко всемирному краху сельского хозяйства. По оценке Алана Робока и Оуэна Брайана Туна, двадцать миллионов человек погибнут сразу же от ударной волны, огня и радиации, а еще миллиард – в течение следующих месяцев от массового голода. И все это в результате локальной 1,5-мегатонной ядерной войны.
В 1996 году Канберрская комиссия по уничтожению ядерного оружия выявила фундаментальный принцип, названный аксиомой распространения. В самом лаконичном варианте аксиома распространения гласит, что, пока у какого-либо государства ядерное оружие, другие государства будут стремиться его приобрести. Один из членов этой комиссии, специальный представитель Австралии по ядерному разоружению Ричард Батлер, сказал мне: «Основной довод, на котором строится это утверждение, состоит в том, что справедливость, которую большинство людей понимает, в сущности, как равенство возможностей, является чрезвычайно важной концепцией для людей во всем мире. В сочетании с аксиомой распространения это ясно показывает, что многолетние попытки тех, у кого есть ядерное оружие, доказать, что их безопасность оправдывает владение этим ядерным оружием, а безопасность других его не оправдывает, потерпели полную неудачу».
Развивая свою мысль на выступлении в Сиднее в 2002 году, Батлер сказал: «Я проработал над Договором о нераспространении ядерных вооружений всю свою взрослую жизнь… Проблема имеющих ядерное оружие и не имеющих его – проблема центральная, непреходящая». С 1997 по 1999 год Батлер был последним председателем ЮНСКОМ, Специальной комиссии ООН по разоружению Ирака. «Один из самых трудных моментов, которые я пережил в Багдаде, – сказал он в Сиднее, – был, когда иракцы потребовали объяснить, почему их преследуют за оружие массового поражения, а расположенный совсем рядом Израиль – нет, хотя у него, как известно, есть около 200 единиц ядерного оружия. Признаюсь также, – продолжал Батлер, – что меня коробит, когда я слышу, как американцы, британцы и французы гневно осуждают оружие массового поражения, не обращая внимания на тот факт, что сами они – счастливые обладатели огромных запасов такого оружия, и беззастенчиво утверждая, что оно необходимо для их национальной безопасности и останется таковым и в будущем».
«Принцип, который я вывел бы из всего этого, – заключил Батлер, – состоит в том, что явная несправедливость, двойные стандарты, какая бы сила ни поддерживала их в каждый конкретный момент, создают ситуацию, фундаментально, неустранимо неустойчивую. Это связано с тем, что человек не может смириться с такой несправедливостью. Этот принцип также верен, как фундаментальные законы физики».
Позднее и в другом месте Батлер говорил об особенном нежелании американцев признавать свои двойные стандарты. «Мои попытки вовлечь американцев в обсуждение двойных стандартов, – сказал он, – были абсолютно провальными – даже с высоко образованными и заинтересованными людьми. Иногда мне казалось, что я говорю с ними по-марсиански, настолько глубока была их неспособность понять меня. Американцы совершенно не могут понять, что их оружие массового уничтожения является ничуть не меньшей проблемой, чем иракское». Или иранское, или северокорейское – или принадлежащее любой другой ядерной державе или державе, стремящейся ею стать.
Разумеется, Канберрская комиссия обращалась напрямую к первым ядерным державам, пяти странам, для которых статус государств, владеющих ядерным оружием, был, по сути, узаконен Договором о нераспространении 1968 года. В 2009 году президент Барак Обама выдвинул, выступая в Праге, пугающее следствие к аксиоме распространения. «Кое-кто утверждает, что распространение этого оружия нельзя остановить, нельзя ограничить, – сказал он, – что мы обречены жить в мире, в котором все больше стран и все больше людей владеют средствами абсолютного уничтожения. Такой фатализм – смертельно опасный противник, потому что если мы верим, что распространение ядерного оружия неизбежно, то мы в некотором смысле смиряемся с мыслью, что неизбежно и применение ядерного оружия».
А если нас постигнет такое бедствие, будем ли мы по-прежнему верить, что оружие обеспечивает нашу безопасность? Увидим ли мы тогда в обладании им то, чем оно является и сейчас, – преступление против человечества? Пожалеем ли мы, что не приложили достаточно усилий, чтобы объявить его вне закона во всем мире?
Я изучаю ядерную историю и пишу о ней более тридцати лет. Из этого долгого предприятия я выношу в первую очередь чувство благоговения перед глубиной и могуществом природного мира, а также очарование хитросплетениями и парадоксами непрерывного взаимодействия нашего биологического вида с технологиями. Несмотря ни на что, за последние семь десятилетий – продолжительность почти всей моей жизни – мы сумели заполучить в свои неуклюжие руки новый, неограниченный источник энергии, удержать его, рассмотреть, повертеть так и сяк, взвесить и приспособить к делу, причем пока что не взорвав самих себя. Когда мы наконец доберемся до противоположного берега – когда все ядерное оружие будет демонтировано, а его активные материалы переплавлены на реакторное топливо, – мы обнаружим, что сталкиваемся приблизительно с теми же политическими опасностями, что и сейчас. Бомбы их не устранили, не устранит их и отказ от бомб. Правда, мир станет местом более открытым, но информационные технологии и так ведут его в этом направлении. Разница, как заметил Джонатан Шелл, будет состоять в том, что сдерживание будет обеспечивать угроза перевооружения, а не угроза ядерной войны.
Для меня мир без ядерного оружия – не утопическая мечта, а просто мир, в котором подлетное время намеренно увеличено до нескольких месяцев или даже лет, и соответственно удлинены промежуточные периоды, в которые можно урегулировать споры, не прибегая к войне. В таком мире, если переговоры не дадут результата, если даже стычки с использованием обычного оружия не дадут результата, если обе стороны снова возьмутся за вооружение ядерным оружием, – даже в этом худшем случае мы всего лишь вернемся на край той же самой пропасти, у которой все мы стоим сейчас.
Открытие способа высвобождения ядерной энергии, как и все фундаментальные научные открытия, изменило структуру дел человеческих – причем навечно.
О том, как это случилось, и намерена рассказать эта книга.
Ричард РоудсХаф-Мун-БэйФевраль 2012 г.
Часть I
Глубокая и неоспоримая истина
Выдающиеся научные открытия делаются не потому, что они полезны, а потому, что они оказались возможными, – это глубокая и неоспоримая истина.
Роберт Оппенгеймер
Я не перестаю удивляться тому, как несколько небрежных записей, нацарапанных на доске или листе бумаги, могут изменить весь ход человеческих дел[2].
Станислав Улам
1
Лунные миражи
Однажды серым утром во времена Великой депрессии Лео Сцилард[3] нетерпеливо ждал зеленого света на углу Саутгемптон-роу и Рассел-сквер в лондонском районе Блумсбери, напротив Британского музея. Ночью прошел небольшой дождь; утро вторника 12 сентября 1933 года[4][5] было холодным, сырым и унылым. Позже, вскоре после полудня, снова начало моросить. Рассказывая об этом впоследствии, Сцилард никогда не уточнял, куда именно он направлялся этим утром. Возможно, у него не было никакой конкретной цели; он часто ходил гулять, просто чтобы подумать. Как бы то ни было, его планам суждено было измениться. На светофоре зажегся зеленый. Сцилард шагнул с тротуара. В тот момент, когда он переходил через дорогу, время раскололось перед его взором, и он увидел путь в будущее, которое смерть принесет и все невзгоды наши в этот мир[6]; ему открылся облик грядущего.
Венгерский физик-теоретик еврейского происхождения Лео Сцилард родился в Будапеште 11 февраля 1898 года; в 1933-м ему исполнилось тридцать пять. Его рост был всего 168 сантиметров – немного даже для того времени. Однако тогда он еще не стал тем «невысоким толстяком», круглолицым и пузатым, «с глазами, светящимися умом и остроумием» и «раздающим свои идеи так же щедро, как вождь маори – своих жен»[7], с которым познакомился годом позже французский биолог Жан Моно. В это время Сцилард находился в процессе превращения из подтянутого юноши в грузного мужчину средних лет; у него были густые курчавые темные волосы и живое лицо с полными губами, плоскими скулами и темно-карими глазами. На фотографиях этого периода он принимает довольно томный вид. Это не случайно: главным его устремлением, даже более сильным, чем страсть к науке, было спасение мира.
1 сентября в газете Times появилась полная покровительственной благожелательности рецензия на только что вышедший новый роман Г. Дж. Уэллса «Облик грядущего». Рецензент Times довольно невнятно хвалил книгу, утверждая, что «последний “сон о будущем” мистера Уэллса служит сам себе блестящим обоснованием»[8]. Прозорливый английский романист входил в круг влиятельных знакомых Сциларда, который тот сформировал, энергично и красноречиво демонстрируя свои блестящие интеллектуальные способности[9].
В 1928 году, будучи приват-доцентом в Берлине, Сцилард, близко друживший с Эйнштейном и работавший вместе с ним над практическими изобретениями, прочитал трактат Уэллса «Легальный заговор» (The Open Conspiracy)[10]. Легальным заговором Уэллс называл совместные действия научно мыслящих промышленников и финансистов, направленные на установление всемирной республики. То есть на спасение мира. Сцилард позаимствовал у Уэллса этот термин и время от времени использовал его до конца своей жизни. Что еще важнее, в 1929 году он приехал в Лондон[11], чтобы встретиться с Уэллсом и попытаться получить у него права на издание его книг в Центральной Европе[12]. Учитывая грандиозные устремления Сциларда, можно с уверенностью предположить, что он обсуждал с Уэллсом не только авторские права. Однако эта встреча не привела к возникновению между ними какой-либо связи. В то время Сцилард еще не был знаком с самым интересным из подобных пестрой толпе диккенсовских сироток произведений Уэллса.
Прошлое Сциларда хорошо подготовило его к тому откровению, которое он пережил на Саутгемптон-роу. У него, сына гражданского инженера, была любящая мать и вполне обеспеченное детство. «Я знал иностранные языки, потому что у нас дома были гувернантки: первая – чтобы учить немецкому, а вторая – французскому». Для своих одноклассников по знаменитой гимназии «Минта» при Будапештском университете он был «чем-то вроде талисмана»[13]. «В молодости, – рассказывал он на одном из своих выступлений, – у меня были две главные страсти. Одна из них – физика, а вторая – политика»[14]. Он вспоминал, как в начале Первой мировой войны, когда ему было шестнадцать, поразил своих одноклассников рассказом о том, как именно сложатся судьбы народов, основанным на прозорливой не по возрасту оценке сравнительной политической силы воюющих сторон:
Я сказал им тогда, что, конечно, не знаю, кто победит в этой войне, но знаю, чем она должна закончиться. Она должна закончиться поражением Центральных держав – то есть Австро-Венгрии и Германии, – а также поражением России. Я сказал, что не вполне представляю себе, как это может произойти, поскольку эти страны воюют друг против друга, но именно так и должно случиться. Задним числом мне трудно понять, как я мог сделать такое заявление, в возрасте всего шестнадцати лет, не имея никаких собственных знаний о каких бы то ни было странах, кроме Венгрии[15].
Основные черты его характера, по-видимому, сложились к шестнадцати годам. Он считал, что именно в этом возрасте он обладал наибольшей ясностью суждений, и в дальнейшем она не увеличивалась; «возможно, она даже спадала»[16].
Шестнадцатый год его жизни был первым годом войны, разрушившей политические и юридические установления целой эпохи. Уже одного такого совпадения – или такого катализатора – могло хватить, чтобы внушить юноше мессианские идеи. Вплоть до самого конца своей жизни он смущал людей недалеких и раздражал самодовольных.
В 1916 году, окончив «Минту» и получив премию Этвёша[17] – венгерскую национальную премию по математике, – он задумался о продолжении образования. Его интересовала физика, но «сделать карьеру в физике в Венгрии было невозможно»[18]. Если бы он стал учиться физике, то в лучшем случае мог бы стать университетским преподавателем. Он подумал было об изучении химии, которое могло пригодиться ему в дальнейшем, когда он перешел бы к занятиям физикой, но в этой области тоже трудно было заработать себе на жизнь. В конце концов он остановился на электротехнике. Возможно, тут сыграли свою роль не только экономические соображения. Один из его друзей, учившийся вместе с ним в Берлине, уже в 1922 году заметил, что Сцилард, несмотря на свою премию Этвёша, «считал, что не может тягаться со своими коллегами по части математического мастерства»[19]. С другой стороны, из венгров, добившихся впоследствии выдающихся результатов в физике, не он один предпочел не связываться с отсталым уровнем преподавания точных наук, характерным для венгерских университетов того времени.
Он начал учиться на инженера в Королевском техническом университете имени Иосифа в Будапеште, а затем был призван в австро-венгерскую армию. Поскольку у него было гимназическое образование, его сразу же отправили на кавалерийские офицерские курсы. Его жизнь почти несомненно спас вовремя полученный отпуск[20]. Он взял его якобы для того, чтобы оказать родителям моральную поддержку в связи с серьезной операцией, которую должен был перенести его брат. На самом деле Сцилард был болен. Он думал, что заболел воспалением легких, и хотел лечиться не в военном госпитале на границе, а в Будапеште, рядом с родителями. Своего командира, который должен был принять у него прошение об отпуске, он ждал, стоя по стойке «смирно» с температурой около 39°. Капитан не хотел его отпускать, но Сцилард проявил свойственную ему настойчивость и все-таки получил свой отпуск. Четверо друзей проводили его до поезда, в Вену он приехал с упавшей температурой, но сильным кашлем; наконец он добрался до Будапешта и попал в приличную больницу. У него нашли испанский грипп – это был один из первых случаев «испанки» в Австро-Венгрии. Война подходила к концу. Спустя несколько недель, задействовав «семейные связи»[21], он смог добиться комиссования. «Вскоре после этого я услышал, что мой собственный полк», который был отправлен на фронт, «подвергся яростной атаке, и все мои товарищи погибли»[22].
Летом 1919 года, когда венгерский ставленник Ленина Бела Кун и возглавляемые им коммунисты и социал-демократы установили в хаосе, наступившем после поражения Австро-Венгрии, недолговечную Венгерскую советскую республику, Сцилард решил, что ему пора продолжить образование за границей. Ему был двадцать один год. Не успел он оформить паспорт, как в начале августа того же года режим Белы Куна рухнул. Сциларду удалось получить новый паспорт у пришедшего к власти правого режима адмирала Миклоша Хорти, и где-то около Рождества он покинул Венгрию[23].
Все еще собираясь, хотя и неохотно, учиться на инженера, Сцилард записался в Берлинскую высшую техническую школу. Но то, что в Венгрии представлялось необходимостью, в Германии оказалось всего лишь одной из вполне реальных возможностей. На физическом факультете Берлинского университета работали первоклассные теоретики, нобелевские лауреаты Альберт Эйнштейн, Макс Планк и Макс фон Лауэ. В Далеме, фешенебельном пригороде Берлина, находились Институты кайзера Вильгельма, финансировавшиеся государством и промышленными компаниями. Там работал Фриц Габер, изобретатель метода выделения азота из воздуха для получения нитратов, используемых в производстве пороха, который спас Германию от поражения еще в начале Первой мировой войны, и многие другие выдающиеся химики и физики. Возможности для научной деятельности в Берлине настолько отличались от положения в Будапеште, что у Сциларда не оставалось физической возможности посещать лекции по инженерному делу. «В итоге, как обычно и бывает, подсознательное оказалось сильнее сознательного и не позволило мне продолжать обучение на инженера. Самолюбие в конце концов пошло на уступки, и примерно в середине двадцать первого года я ушел из Высшей технической школы и продолжил свое образование в университете»[24].
В то время студенты-физики странствовали по всей Европе в поисках выдающихся наставников – почти так же, как их предшественники, молодые ученые и ремесленники, делали еще со времен Средневековья. Университеты Германии были государственными учреждениями; профессор был чиновником с постоянным жалованьем и получал в дополнение к нему гонорары, которые платили прямо ему студенты, слушавшие тот курс, который он решил читать. Приват-доцентом, напротив, называли не состоящего в штате ученого, имеющего право на преподавание: он не получал никакого жалованья, но мог брать гонорары. Если курс, который вас интересовал, читали в Мюнхене, вы ехали учиться в Мюнхен, если в Гёттингене – то в Гёттинген. Во всяком случае, организация естественных наук развилась из традиций ремесленных гильдий; в течение первой трети XX века в ней еще сохранялась – и до некоторой степени сохраняется до сих пор – неформальная система взаимодействий между наставником и учеником, на которую наложилась более новая система аспирантуры европейского типа. Такая неформальная общинность отчасти объясняет распространенное среди ученых поколения Сциларда чувство принадлежности к привилегированной группе, почти что некой обособленной гильдии, международных масштабов, преследующей глобальные цели.
Близкий друг Сциларда – и тоже венгр – физик-теоретик Юджин Вигнер, учившийся на момент обращения Сциларда в Высшей технической школе на инженера-химика, был свидетелем того, как Сцилард взял штурмом Берлинский университет. «Как только Сциларду стало ясно, что на самом деле его интересует физика, он с характерной для него прямотой познакомился с Альбертом Эйнштейном»[25]. Эйнштейн жил замкнуто – он мало преподавал, так как предпочитал повторению новизну, – но, как вспоминает Вигнер[26], Сцилард убедил его организовать семинар по статистической механике. Макс Планк, пожилой государственный муж, худощавый и лысеющий, проводил в свое время исследования излучения, испускаемого равномерно нагретой поверхностью (например, внутренностью доменной печи), которые привели его к открытию одной из универсальных постоянных природы. Следуя удобной традиции ведущих ученых, он брался учить лишь самых многообещающих студентов; Сциларду удалось привлечь к себе его внимание[27]. Красавец Макс фон Лауэ, директор университетского Института теоретической физики, основатель рентгеновской кристаллографии, который произвел громкую сенсацию, когда впервые сделал атомные решетки кристаллов видимыми при помощи ее методов, принял Сциларда на свой блистательный курс по теории относительности[28], а впоследствии стал и научным руководителем его диссертации.
Вся послевоенная Германия была больна отчаянием, цинизмом и яростью, но в Берлине это заболевание доходило до степени горячечных галлюцинаций. Из университета, расположенного в центре города между Доротеенштрассе и Унтер-ден-Линден, к востоку от Бранденбургских ворот, было удобно наблюдать за его причудливыми проявлениями. Сцилард не присутствовал при ноябрьской революции 1918 года, начавшейся с бунта моряков в Киле, быстро распространившейся на Берлин и приведшей к бегству кайзера в Голландию, заключению перемирия и в конце концов – после кровавых волнений – образованию шаткой Веймарской республики. К моменту его прибытия в Берлин в конце 1919 года военное положение, длившееся более восьми месяцев, было отменено, и город, оставшийся сперва в голоде и мраке, быстро вернулся к опьяняюще энергичной жизни.
«На земле лежал снег, – вспоминает о своем первом взгляде на послевоенный Берлин один англичанин, – и эта смесь снега, неонового света и огромных, тяжеловесных зданий производила впечатление неземное. Ясно было, что я попал в какое-то очень странное место»[29]. Один немец, работавший в берлинском театре в 1920-х годах, отмечал: «Воздух все время был резким, будто приперченным, как в Нью-Йорке поздней осенью: сна требовалось мало, и мне казалось, что я никогда не устаю. Нигде больше неудачи не переносились так легко, нигде больше нельзя было получить столько ударов подряд и все же не выходить из игры»[30]. Германская аристократия сошла со сцены, и ее место заняли интеллектуалы, кинозвезды и журналисты; главным светским мероприятием города с его опустевшим императорским дворцом стал ежегодный Бал прессы, который устраивал Берлинский пресс-клуб: на него собиралось целых шесть тысяч гостей[31].
Именно в послевоенном Берлине Людвиг Мис ван дер Роэ спроектировал свой первый стеклянный небоскреб[32]. Дебют музыкального вундеркинда Иегуди Менухина прошел под овации слушателей, в числе которых был и Эйнштейн[33]. Георг Гросс выбрал некоторые из плодов своих многочисленных беспорядочных наблюдений за жизнью широких берлинских бульваров и опубликовал их в книге «Се человек» (Ecce Homo)[34]. Там же был и Владимир Набоков, наблюдавший, как «пожилая, румяная нищая с отрезанными до таза ногами, приставленная, как бюст, к низу стены, торговала парадоксальными шнурками»[35][36]. Был там и Федор Винберг, один из эмигрировавших офицеров царской армии, выпускавший низкопробную газету, которая пропагандировала «Протоколы сионских мудрецов»[37], лично им же и привезенные в Германию из России, – свежее немецкое издание этой псевдомакиавеллиевской и откровенно лживой фантазии о завоевании мира разошлось тиражом более 100 000 экземпляров – и публично призывавший к жестокому истреблению евреев[38]. Гитлер появился там лишь под самый конец, потому что после выхода из тюрьмы в 1924 году ему был запрещен въезд в северную часть Германии. Однако он послал вместо себя злобного карлика Йозефа Геббельса, и Геббельс учился проламывать противникам головы и привлекать сторонников беззастенчивой пропагандой в этом открытом, сладострастном, пьяном от джаза городе, который он неприязненно называл в своем дневнике «мрачной и таинственной загадкой»[39].
Летом 1922 года обменный курс достиг 400 немецких марок за доллар. В начале января 1923-го, поистине ужасного года он упал до 7000 марок за доллар. В июле – до 160 000. В августе – до миллиона. К 23 ноября 1923 года, когда наконец началась коррекция курса, он достиг 4,2 триллиона марок за доллар. Банки приглашали на работу бухгалтеров, хорошо умеющих считать нули, и выдавали наличные на вес. Антикварные магазины были до потолка забиты заложенными сокровищами разорившегося среднего класса. Билет в театр отдавали за куриное яйцо. Только те, у кого была твердая валюта, – в основном иностранцы – процветали в то время, когда за сущие гроши можно было проехать по всей Германии в железнодорожном вагоне первого класса; однако этим они заслужили враждебное отношение голодающих немцев. «Нет, никакой вины мы не чувствовали, – хвастается заезжий англичанин, – все это казалось совершенно нормальным, этаким подарком судьбы»[40].
Немецкий физик Вальтер Эльзассер, эмигрировавший впоследствии в Соединенные Штаты, работал в Берлине в 1923 году, в перерыве своей университетской учебы. Отец согласился оплачивать его личные расходы. Он не был иностранцем, но благодаря финансовой помощи из-за границы мог жить как иностранец:
Чтобы я не зависел от [инфляции], отец попросил своего друга Кауфмана, банкира из Базеля, открыть мне в одном крупном банке счет в американских долларах… Раз в неделю я брал отгул на полдня и ехал на метро за своим пособием, которое я забирал в марках; разумеется, с каждым разом оно становилось все больше. Вернувшись в свою съемную комнату, я сразу закупал основной еды на неделю вперед, потому что уже через три дня все цены заметно поднимались, скажем процентов на пятнадцать, и моего пособия не хватило бы на такие развлечения, как воскресные поездки в Потсдам или на озера… Я был слишком молод, слишком эгоистичен и слишком неопытен, чтобы понимать, что́ на самом деле должна означать такая стремительная инфляция для людей, живших на пенсии или другие фиксированные доходы, и даже для наемных работников, особенно с детьми, зарплата которых не поспевала за инфляцией, – а для них она означала реальный голод и нищету[41].
Так, должно быть, жил и Сцилард, хотя никто не помнит, чтобы его когда-либо видели за приготовлением еды; он предпочитал питаться в кулинарных магазинах и кафе. Он должен был понимать, что такое инфляция, и сознавать некоторые из причин столь необузданных ее темпов. Но, хотя Сцилард был человеком сверхъестественно наблюдательным – «За всю мою долгую жизнь среди ученых, – пишет Вигнер, – я не встречал человека более оригинального и творческого, обладавшего большей независимостью мыслей и суждений»[42], – ни в его воспоминаниях, ни в его статьях от этих берлинских дней не осталось почти ничего. Сцилард уделяет главному городу Германии, находившемуся тогда на пике послевоенных социальных, политических и интеллектуальных потрясений, ровно одно предложение: «Берлин переживал в то время расцвет физики»[43]. Это говорит о том, какое значение имела для него физика, именно в 1920-х годах породившая необычайную, всеобщую современную науку.
Перед началом работы над диссертацией немецкий студент должен был учиться четыре года. Затем, с одобрения своего научного руководителя, студент решал какую-либо задачу, по своему выбору или предложенную профессором. «Чтобы работу приняли к рассмотрению, – говорит Сцилард, – в ней должны были содержаться действительно оригинальные исследования»[44]. Если диссертацию принимали благосклонно, студент должен был выдержать устный экзамен и, если это ему удавалось, получал докторскую степень.
Сцилард уже потратил год своей жизни на военную службу и еще два – на инженерное дело. В изучении физики он времени не терял. Летом 1921 года он пришел к Максу фон Лауэ и попросил дать ему тему для диссертации. Фон Лауэ, по-видимому, решил дать Сциларду работу посложнее – то ли искренне считая, что она будет ему по плечу, то ли чтобы поставить его на место, – и предложил ему довольно неясную задачу из теории относительности. «Я ничего не мог с ней сделать. Собственно говоря, я даже не был уверен, можно ли вообще решить эту задачу». Сцилард работал над ней шесть месяцев, до самых рождественских каникул, «и тут я решил, что Рождество – время не для работы, а для безделья, так что я буду думать обо всем, что придет мне в голову»[45].
В результате за следующие три недели он придумал, как разрешить одно загадочное несоответствие в термодинамике, области физики, которая изучает взаимосвязи между теплотой и другими формами энергии. Существуют две термодинамические теории, и обе они чрезвычайно успешно предсказывают тепловые явления. Одна из них, феноменологическая, является более абстрактной и общей (и потому более полезной на практике); вторая, статистическая, основана на атомной модели и более точно соответствует физической реальности. В частности, статистическая теория описывает тепловое равновесие как состояние случайного движения атомов. Так, Эйнштейн показал в своих фундаментальных статьях 1905 года, что броуновское движение – непрерывное случайное движение частиц, например частиц пыльцы, находящихся в объеме жидкости, – представляет собой именно такое состояние[46][47]. Но более полезная феноменологическая теория рассматривает тепловое равновесие как статическое состояние, в котором не происходит никаких изменений. В этом и заключалось противоречие между ними.
Сцилард подолгу гулял – по холодному и серому Берлину; впрочем, иногда серость сменялась ослепительно-солнечными днями – «и придумывал что-нибудь посреди прогулки; вернувшись домой, я записывал то, что придумал. На следующее утро я просыпался с новой мыслью и снова шел гулять. На прогулке эта мысль оформлялась в моей голове, и вечером я ее записывал». Он считал, что этот период был самым продуктивным в его жизни. «В течение трех недель я закончил рукопись действительно совершенно оригинальной работы. Но я не смел показать ее фон Лауэ, потому что это было совсем не то, что он мне задал»[48].
Вместо этого он подошел к Эйнштейну после семинара и сказал, что хотел бы показать ему одну вещь, над которой работал.
– И над чем же вы там работали? – спросил, как вспоминает Сцилард, Эйнштейн.
Сцилард рассказал ему о своей «совершенно оригинальной» идее.
– Это невозможно, – сказал Эйнштейн. – Этого сделать нельзя.
– Ну да, но я это сделал.
– Как же вы это сделали?
Сцилард пустился в объяснения. По его словам, «минут пять или десять спустя» Эйнштейн все понял. Проучившись физике в университете всего год, Сцилард разработал строгое математическое доказательство возможности включения случайного движения теплового равновесия в рамки феноменологической теории в ее исходном, классическом виде, без использования ограничивающей атомной модели – «и [Эйнштейну] это очень понравилось»[49].
Ободренный этим, Сцилард отнес свою работу – озаглавленную «О проявлениях термодинамических флуктуаций» (Über die thermodynamischen Schwankungserscheinungen) – фон Лауэ, который принял ее с некоторой иронией и взял домой. «А на следующий день – с самого утра – зазвонил телефон. Это был фон Лауэ. Он сказал: “Ваша рукопись принята в качестве диссертации на степень доктора философии”»[50].
Шесть месяцев спустя[51] Сцилард написал еще одну статью по термодинамике. Она называлась «Об уменьшении энтропии в термодинамической системе путем вмешательства разумных существ» (Über die Entropieverminderung in einem thermodynamischen System bei Eingriffen intelligenter Wesen) и впоследствии была признана одной из важных основополагающих работ современной теории информации. К тому времени он уже получил свою ученую степень – теперь его следовало называть «доктор Лео Сцилард». До 1925 года он работал в Химическом институте кайзера Вильгельма в Далеме в той же области, которой занимался фон Лауэ, – экспериментировал с воздействием рентгеновского излучения на кристаллы. Затем Берлинский университет принял его работу по энтропии в качестве Habilitationsschrift[52], диссертации, дающей право вести самостоятельную преподавательскую работу, после чего он получил там должность приват-доцента, на которой и оставался вплоть до отъезда в Англию в 1933 году.
Одним из побочных занятий Сциларда и тогда, и позже было изобретательство. Между 1924 и 1934 годами он подал в патентное ведомство Германии двадцать девять патентных заявок, в одиночку или в соавторстве с Альбертом Эйнштейном[53]. Их совместные патенты в основном касались бытовой холодильной техники. «Однажды утром внимание Эйнштейна и Сциларда… привлекла одна трагическая история, о которой написали в прессе, – пишет один из американских протеже Сциларда более позднего времени. – В берлинской газете сообщалось, что целое семейство, в том числе несколько маленьких детей, было найдено задохнувшимся в своей квартире в результате вдыхания ядовитых испарений [химического вещества], которое использовалось в их примитивном холодильнике в качестве хладагента и протекло ночью через клапан неисправного насоса»[54]. После этого два физика разработали способ магнитной перекачки металлизированного хладагента, в котором не использовалось никаких движущихся частей (и, следовательно, никаких клапанов и прокладок, в которых могла возникнуть течь), кроме самого хладагента[55]. Компания AEG, крупнейший в Германии производитель электротехники, наняла Сциларда на должность платного консультанта и действительно построила один из холодильников Эйнштейна – Сциларда, но магнитный насос оказался даже более шумным, чем традиционные компрессоры, и так и не вышел за пределы инженерной лаборатории.
Было запатентовано и другое, странным образом сходное, изобретение, которое могло бы принести Сциларду всемирную славу, если бы он не ограничился его патентованием. Независимо от американского физика Эдварда О. Лоуренса и по меньшей мере на три месяца раньше его Сцилард разработал основополагающий принцип и общую конструкцию устройства, которое стало известно – как изобретение Лоуренса – под названием циклотрона, ускорителя заряженных частиц в магнитном поле, то есть своего рода ядерного насоса. Сцилард подал патентную заявку на этот прибор 5 января 1929 года[56]; Лоуренс впервые подумал о конструкции циклотрона около 1 апреля 1929 года[57], а годом позже изготовил его миниатюрную рабочую модель – за что и получил в 1939 году Нобелевскую премию по физике.
Оригинальность Сциларда не знала границ. Где-то на пути из 16-летних пророков, провидящих судьбы народов, в 31-летние легальные заговорщики, договаривающиеся с Г. Дж. Уэллсом о правах на издание его книг, он задумал свой собственный «легальный заговор». Сам он утверждал, что это изобретение в области общественных наук появилось у него «в Германии в середине двадцатых»[58]. Если это так, то в 1929 году он искал встречи с Уэллсом не только ради прозорливости английского писателя, но и под влиянием своего собственного видения. Английский физик и романист Ч. П. Сноу пишет, что у Сциларда был «редкий склад характера, возможно, чуть менее редкий среди крупных ученых. Он обладал мощным эго и неуязвимым эгоцентризмом, но всю энергию своей личности он излучал вовне, в форме доброжелательных намерений по отношению к другим людям. В этом отношении он был сродни Эйнштейну, хотя и в меньших масштабах»[59]. В данном случае благожелательные намерения вылились в проект создания новой организации под названием «Бунд» (Der Bund)[60], что означает орден, конфедерация или попросту союз.
Этот «Бунд», как писал Сцилард, должен был стать «тесно сплоченной группой людей, внутренние связи между которыми пропитаны религиозным и научным духом»[61]:
Если бы у нас было волшебное заклинание, позволяющее распознать «лучших» представителей нового поколения еще в раннем возрасте… то мы смогли бы научить их независимому мышлению и создать при помощи интенсивного образования класс тесно связанных между собой духовных лидеров, который затем обновлялся бы сам по себе[62].
Члены этого класса не получали бы ни богатств, ни личной славы. Напротив, им вменялось бы в обязанность брать на себя огромную ответственность, «бремя», чтобы «продемонстрировать свою приверженность делу». Сциларду казалось, что такая группа имела бы хорошие шансы влиять на общественные процессы, даже если у нее не было бы ни формальной структуры, ни юридического статуса. Однако существовала и возможность того, что она могла бы «оказывать более прямое влияние на жизнь общества в качестве части политической системы, вместе с правительством и парламентом или вместо правительства и парламента»[63].
«“Бунд”, – писал Сцилард в другом месте, – не должен был быть чем-то вроде политической партии… а скорее должен был представлять государство»[64]. Он предполагал, что представительская демократия каким-то образом зародится в ячейках по тридцать-сорок человек, которые образуют зрелую политическую структуру “Бунда”». «Благодаря методу отбора [и образования]… с большой вероятностью должна сложиться ситуация, в которой решения, принимаемые на высшем уровне, будут выражением воли адекватного большинства».
Сцилард не оставлял идеи своего «Бунда» в том или ином виде на протяжении всей своей жизни. Уже в 1961 году она, должным образом замаскированная, вновь возникает в его фантастическом рассказе «Голос дельфина»[65]: дельфины, живущие в бассейне «Венского института», начинают делиться с миром своими неоспоримо мудрыми мыслями при посредстве своих хранителей и переводчиков, американских и советских ученых. Рассказчик неявно дает понять, что эти мудрые мысли, возможно, и исходят от хранителей и переводчиков, которые играют на стремлении человечества получить спасение от сверхчеловеческих спасителей.
В бурном порыве оптимизма – или оппортунизма – Сцилард собрал в 1930 году группу своих знакомых, по большей части молодых физиков, чтобы начать работу по созданию такого союза[66]. В середине 1920-х он был убежден, что «парламентской форме демократии не суждена в Германии очень долгая жизнь», но считал, что «она все же может просуществовать на протяжении одного-двух поколений»[67]. Пять лет спустя его мнение изменилось. «Я пришел к выводу, что в Германии произойдет нечто неправильное… в 1930 году». В этом году президент германского Рейхсбанка Яльмар Шахт, встречавшийся в Париже с комиссией экономистов, которая должна была решить, в каком размере Германия может выплатить военные репарации, заявил, что Германия не сможет выплатить ничего, если ей не вернут прежние колонии, отторгнутые у нее после войны. «Это заявление было настолько поразительным, что привлекло мое внимание, и я решил, что, если Яльмар Шахт считает, что такое может сойти ему с рук, дело, видимо, действительно плохо. Это произвело на меня такое впечатление, что я написал письмо в свой банк и перевел все свои деньги до последнего гроша из Германии в Швейцарию»[68].
В это время к власти в Германии стремился другой, гораздо более организованный союз, со своей, более примитивной, программой спасения мира. Этой программе, бесцеремонно изложенной в автобиографической книге Гитлера «Майн кампф»[69], суждено было осуществиться в виде долгих и кровавых испытаний. Однако Сцилард и в последующие годы возглавлял усилия, направленные на создание своего рода «Бунда». Этот союз был скрыт от глаз общественности и работал над задачами более срочными и более приземленными, чем достижение утопии, но в конечном счете эта «тесно сплоченная группа людей» оказала на события в мире даже большее влияние, чем национал-социализм.
Где-то в 1920-х годах Сцилард обратил внимание на новую область исследований – ядерную физику, то есть изучение ядра атома, в котором сосредоточена бо́льшая часть его массы (и, следовательно, его энергии). Он был знаком с многочисленными выдающимися работами в области общей радиоактивности, которые выполнили немецкий химик Отто Ган и австрийский физик Лиза Мейтнер, плодотворно сотрудничавшие в Химическом институте кайзера Вильгельма. Несомненно, он, как обычно, ощущал и характерную напряженность, витавшую в воздухе на пороге важных открытий.
Ядра некоторых легких атомов можно разбить на части, обстреливая их частицами атомного происхождения; это обстоятельство уже продемонстрировал к тому времени великий английский физик-экспериментатор Эрнест Резерфорд. Резерфорд бомбардировал одни ядра другими, но, поскольку и те и другие ядра обладали положительным зарядом, ядра мишени отражали бо́льшую часть таких снарядов. Поэтому физики искали возможности разгона частиц до более высоких скоростей, что позволило бы им преодолеть электрический барьер ядра. Разработанная Сцилардом конструкция ускорителя элементарных частиц, родственного циклотрону, который мог бы быть использован для этой цели, свидетельствует о том, что он думал о ядерной физике еще в 1928 году.
До 1932 года он о ней только думал. У него была другая работа, а ядерная физика еще не интересовала его в достаточной степени. Но в 1932 году ее привлекательность стала неотразимой. В физике было сделано открытие, проложившее путь к новым возможностям, а литературные и утопические открытия, которые сделал сам Сцилард, навели его на мысли о новых подходах к делу спасения мира.
27 февраля 1932 года физик Джеймс Чедвик из Кавендишской лаборатории Кембриджского университета – лаборатории Эрнеста Резерфорда – высказал в письме в британский журнал Nature предположение о существовании нейтрона[70]. Четыре месяца спустя он подтвердил существование нейтрона в более подробной статье, опубликованной в «Трудах Королевского общества» (Proceedings of the Royal Society)[71], но уже в момент появления первого осторожного сообщения Чедвика Сцилард, видимо, сомневался в нем не больше, чем сам Чедвик. Подобно многим другим научным открытиям, как только этот факт был продемонстрирован, он стал казаться очевидным, и Сцилард мог, если бы захотел, повторить тот же опыт в Берлине. Нейтрон – частица, имеющая почти такую же массу, как положительно заряженный протон, который был до 1932 года единственным точно известным элементом атомного ядра, – не имеет электрического заряда, что означает, что он может пройти сквозь окружающий ядро электрический барьер и попасть внутрь ядра.
Тогда же, в 1932 году, Сциларду впервые встретилась – или впервые привлекла его внимание – та колоритная книга Герберта Уэллса, которой он не знал раньше, «Освобожденный мир»[72]. Несмотря на такое название, это был не трактат вроде «Легального заговора», а футуристический роман, опубликованный в 1914 году, еще до начала Первой мировой войны. Тридцать лет спустя Сцилард все еще точно помнил подробности «Освобожденного мира». По его словам, Уэллс описывает в этой книге
…масштабное высвобождение атомной энергии в промышленных целях, создание атомных бомб и мировую войну, в которой союз Англии, Франции и, возможно, Америки противостоит державам центральной части Европы – Германии и Австрии. У него эта война происходит в 1956 году и сопровождается разрушением крупнейших городов мира атомными бомбами[73].
В этом пророческом романе Уэллса Сцилард нашел новые откровения для себя лично – идеи, предвосхищавшие или повторявшие его собственные утопические планы, ответы, которыми он мог руководствоваться в будущем. Например, Уэллс пишет, что его герой-ученый «испытывал растерянность и даже страх, потому что очень ясно представлял себе колоссальные последствия своего открытия. В этот вечер он задумался о том, что, быть может, ему не следует сообщать о своем открытии, что оно преждевременно, что его следовало бы отдать какому-нибудь тайному обществу ученых, чтобы они хранили его из поколения в поколение, пока мир не созреет для его практического применения»[74].
Тем не менее «Освобожденный мир» повлиял на Сциларда меньше, чем можно было бы предположить, учитывая тему этого романа. «Эта книга произвела на меня огромное впечатление, но я считал ее чистой воды выдумкой. Она не заставила меня задуматься о том, могут ли подобные вещи произойти на самом деле. До этого времени я не занимался ядерной физикой»[75].
По словам самого Сциларда, смена направления его работы была вызвана другим, не столь громким разговором. В 1932 году его друг, познакомивший Сциларда с Гербертом Уэллсом, вернулся из Англии в континентальную Европу:
Я снова встретился с ним в Берлине, и между нами произошла примечательная беседа. Отто Мандль заявил, что, кажется, знает, что́ нужно, чтобы спасти человечество от череды бесконечно повторяющихся войн, грозящих ему уничтожением. Он сказал, что в человеке от природы заложена склонность к героизму. Человека не устраивает счастливая, идиллическая жизнь – ему необходимо бороться и сталкиваться с опасностями. Из этого он сделал вывод, что для спасения человечества ему необходимо взяться за предприятие, целью которого будет возможность покинуть Землю. Он полагал, что эта задача позволит сконцентрировать энергию человечества и удовлетворит его потребность в героизме. Я очень хорошо помню свою собственную реакцию. Я сказал ему, что эта идея для меня довольно нова, и я не вполне уверен, могу ли я с ним согласиться. Я мог утверждать только одно: что если бы я решил, что человечеству действительно нужно именно это, если бы я захотел внести свой вклад в спасение человечества, то я бы, вероятно, обратился к ядерной физике, потому что только освобождение энергии атома сможет дать нам средства, которые позволят человеку не только покинуть Землю, но и выйти за пределы Солнечной системы[76].
Видимо, именно к такому заключению Сцилард и пришел; в том же году он переехал в Гарнак-хаус – жилой корпус для приезжих ученых, работавших в Институтах кайзера Вильгельма при финансовой поддержке германской промышленности, своего рода клуб исследователей и преподавателей, – и начал обсуждать с Лизой Мейтнер возможности совместной с нею экспериментальной работы в области ядерной физики[77]. Ради спасения человечества.
Он всегда жил «на чемоданах», на съемных квартирах. В период жизни в Гарнак-хаусе он всюду носил с собой ключи от двух своих чемоданов, уже собранных. «Если бы ситуация изменилась к худшему, мне нужно было только повернуть ключ – и я был готов к отъезду»[78]. Ситуация действительно изменилась к худшему – настолько, что решение о начале совместной работы с Мейтнер пришлось отложить[79]. Как вспоминает Сцилард, его старший венгерский друг, химик Майкл Полани, тоже работавший в Институтах кайзера Вильгельма и обремененный семьей, подобно многим другим, жившим в то время в Германии, придерживался оптимистических взглядов на германские политические события. «Все они считали, что цивилизованные немцы не допустят, чтобы произошло что-нибудь действительно ужасное»[80]. Сцилард, видевший, насколько сами немцы охвачены пассивностью и цинизмом – которые были одним из самых отвратительных последствий поражения в крупной войне, – не разделял столь жизнерадостных взглядов.
30 января 1933 года Адольф Гитлер был назначен канцлером Германии. Ночью 27 февраля группа нацистов, направляемая главой берлинского подразделения СА, личной армии Гитлера, подожгла величественное здание Рейхстага. Здание было полностью разрушено. Гитлер обвинил в поджоге коммунистов и заставил ошеломленный рейхстаг предоставить ему чрезвычайные полномочия. Сцилард обнаружил, что Полани и после пожара не изменил своего мнения. «Он посмотрел на меня и сказал: “Неужели ты действительно хочешь сказать, что к этому делу причастен [министр внутренних дел Герман Геринг]?” – и я ответил: “Да, именно это я и хочу сказать”. Он просто смотрел на меня, не веря своим глазам»[81]. В конце марта адвокатам и судьям еврейского происхождения запретили работать в Пруссии и Баварии. В выходные, начавшиеся 1 апреля, Юлиус Штрейхер провел по всей стране бойкот еврейских фирм и магазинов; евреев избивали на улицах. «В один из дней около 1 апреля 1933 года я ехал на поезде из Берлина в Вену, – пишет Сцилард. – Поезд был пуст. На следующий день тот же поезд был переполнен; его остановили на границе, всем пассажирам приказали выйти, и всех допрашивали нацисты. Это говорит только о том, что, чтобы добиться в жизни успеха, не обязательно быть намного умнее других – нужно просто успевать на день раньше»[82].
7 апреля по всей Германии вступил в силу Закон о восстановлении профессионального чиновничества, и тысячи еврейских преподавателей и ученых потеряли свою работу в германских университетах. Сцилард, уехавший в начале мая в Англию, развернул бешеную деятельность, помогая им эмигрировать в Англию, Соединенные Штаты, Палестину, Индию, Китай и другие страны и найти там работу. Если он и не мог пока что спасти весь мир, он по меньшей мере мог спасти хотя бы какую-то его часть.
В сентябре он сделал небольшую передышку. К этому времени он жил в отеле «Империал» на Рассел-сквер; из Цюриха он перевел в свой лондонский банк 1595 фунтов[83]. Более половины этой суммы, 854 фунта, он хранил для своего брата Белы[84]; на остальное он должен был прожить год. Средства Сциларда складывались из авторских отчислений по патентам, гонораров за консультации по холодильной технике и заработков приват-доцента. Он был так занят поисками работы для других, что так и не удосужился найти работу самому себе. Правда, расходов у него было немного; неделя проживания в хорошей лондонской гостинице, включая трехразовое питание, стоила около пяти с половиной фунтов; почти всю свою жизнь он прожил холостяком, и потребности его были простыми.
«Я больше не думал ни о том разговоре [с Оттом Мандлем о космических полетах], ни о книге Уэллса, пока не оказался в Лондоне в дни [собрания] Британской ассоциации»[85]. Тут Сциларда подводит синтаксис: ключевое слово в этом предложении – пока. Происходившие события и благотворительная деятельность не оставляли ему возможности плодотворно размышлять о ядерной физике. Он даже подумывал о переходе в биологию – хотя подобная смена специализации была бы шагом весьма радикальным, его удалось сделать нескольким физикам, как до войны, так и позднее. Такое изменение очень значительно с психологической точки зрения, и Сцилард в конце концов совершил его в 1946 году. Но в сентябре 1933-го ему помешало в этом ежегодное собрание Британской научной ассоциации.
Если в пятницу 1 сентября, отдыхая в холле лондонского отеля «Империал», Сцилард прочитал напечатанную в Times рецензию на «Облик грядущего», он должен был обратить внимание на то, что, по мнению безымянного критика, Уэллс «и раньше пытался написать что-то в этом же роде – в частности, вспоминается его довольно сумбурное произведение “Освобожденный мир”, – но никогда прежде не изображал в таких многочисленных и реалистичных подробностях, с такой убедительной силой ужасающую вероятность некоторых близких катастрофических событий»[86]. Возможно, именно тут Сцилард снова задумался об атомных бомбах из более ранней работы Уэллса, о «легальном заговоре» Уэллса и заговоре своем собственном, о нацистской Германии и ее талантливых физиках, о разрушенных городах и всеобщей войне.
Сцилард несомненно читал Times от 12 сентября и видел броские заголовки этого номера:
БРИТАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯРАСЩЕПЛЕНИЕ АТОМАПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
Как сообщалось в Times, Эрнест Резерфорд изложил историю «последней четверти века в области атомных превращений», в число которых входили
НОВАТОРСКИЕ НЕЙТРОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Все это обеспокоило Сциларда. Рядом с ним шло собрание ведущих ученых Британии, а его там не было. Он находился в безопасности, у него имелись деньги в банке, но при этом он был всего лишь одним из множества безымянных беженцев-евреев, оказавшихся в Лондоне за бортом нормальной жизни; он праздно пил свой утренний кофе в гостиничном холле, не имея ни работы, ни известности.
Затем, в середине второй колонки напечатанного в Times отчета о выступлении Резерфорда, он нашел следующее:
НАДЕЖДА НА ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЛЮБЫХ АТОМОВКаковы же, – спросил в заключение лорд Резерфорд, – перспективы на ближайшие 20 или 30 лет?
Для ускорения бомбардирующих частиц, вероятно, не потребуется высоких напряжений порядка миллионов вольт. Преобразования могут быть получены при 30 или 70 тысячах вольт… Он полагает, что в конце концов мы сможем преобразовывать все химические элементы.
В этих процессах мы, возможно, получим гораздо больше энергии, чем дает протон, но в среднем мы не можем рассчитывать на такой способ получения энергии. Этот метод производства энергии чрезвычайно неудобен и непроизводителен, и всякий, кто ищет в превращениях атомов источник энергии, гоняется за лунными миражами.
Понимал ли Сцилард, что именно Резерфорд подразумевает под погоней за лунными миражами – «пустые или фантастические разговоры»? Не пришлось ли ему обратиться за справкой к швейцару, прежде чем он отбросил газету и выбежал на улицу? «Как сообщалось, лорд Резерфорд заявил, что любой, кто говорит о высвобождении атомной энергии в промышленных масштабах, гоняется за лунными миражами. Меня всегда раздражали заявления специалистов о том, что чего-то никак нельзя сделать»[87].
«Это в некотором роде навело меня на размышления во время моей прогулки по Лондону, и, помнится, остановившись на светофоре на углу Саутгемптон-роу[88]… я раздумывал, нельзя ли доказать, что лорд Резерфорд был не прав»[89].
«Мне пришло в голову, что нейтроны – в отличие от альфа-частиц – не ионизируют вещество, через которое они проходят [то есть не вступают с ним в электрическое взаимодействие].
Следовательно, нейтрон может не останавливаться, пока не попадет в ядро, с которым он сможет провзаимодействовать»[90].
То, что нейтрон может проникнуть за электрический барьер ядра, Сцилард понял не первым; другим физикам тоже приходила в голову эта идея. Но он первым придумал механизм, по которому при бомбардировке ядра нейтроном может быть высвобождено больше энергии, чем несет сам этот нейтрон.
Похожий процесс был известен в химии – его изучал Полани[91]. Сравнительно небольшое количество активных частиц – например атомов кислорода, – введенных в химически неустойчивую систему, действует наподобие закваски, которая запускает химическую реакцию при температурах гораздо более низких, чем данная реакция требует в нормальных условиях. Этот процесс называется цепной реакцией. Один центр химической реакции производит тысячи молекул конечного продукта. Иногда один из таких центров удачно встречается с реагентом и образует не один новый центр, а два или более, каждый из которых, в свою очередь, может обеспечить дальнейшее распространение цепочки реакции.
Химические цепные реакции самоограниченны[92]. Если бы такого ограничения не было, они развивались бы в геометрической прогрессии: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16 384, 32 768, 65 536, 131 072, 262 144, 524 288, 1 048 576, 2 097 152, 4 194 304, 8 388 608, 16 777 216, 33 554 432, 67 108 868, 134 217 736…
«Когда зажегся зеленый свет и я стал переходить через дорогу, – вспоминает Сцилард, – я… неожиданно понял, что если бы мы смогли найти элемент, расщепляемый нейтронами и испускающий два нейтрона при поглощении одного, то такой элемент, если собрать достаточно большую его массу, смог бы поддерживать ядерную цепную реакцию»[93].
«В тот момент я не понимал, как именно следует искать такой элемент или какие эксперименты нужно будет провести, но эта идея меня уже не покидала. В некоторых условиях может существовать возможность запуска ядерной цепной реакции, высвобождения энергии в промышленных масштабах и создания атомных бомб»[94].
Лео Сцилард поднялся на тротуар. За его спиной снова загорелся красный свет.
2
Атомы и пустота
Для атомной энергии нужен атом. До начала XX века никаких реальных атомов в физике не было. Идея же атома – как невидимого слоя вечной, основополагающей материи, скрытой под кажущимся миром, в котором все объединяется, кишит, растворяется и разлагается, – существует с глубокой древности. Эту концепцию выдвинул Левкипп, греческий философ V века до н. э., имя которого сохранилось благодаря упоминанию у Аристотеля; развил ее Демокрит, состоятельный и более известный фракиец того же времени. «Ибо лишь в общем мнении существует цвет, – цитирует одну из семидесяти двух утраченных книг Демокрита греческий врач Гален, – в мнении – сладкое, в мнении – горькое, в действительности же – атомы и пустота»[95][96]. Начиная с XVII века физики постулировали атомную модель мира всюду, где казалось, что это требуется для развития физической теории. Однако вопрос о том, существуют ли атомы на самом деле, оставался спорным.
Постепенно споры на эту тему свелись к обсуждению того, какие именно атомы необходимы и возможны. Исаак Ньютон представлял себе нечто вроде миниатюрных бильярдных шаров, которые соответствовали бы его механической вселенной движущихся масс. «Мне кажется вероятным, – писал он в 1704 году, – что Бог вначале дал материи форму твердых, массивных, непроницаемых, подвижных частиц таких размеров и фигур и с такими свойствами и пропорциями в отношении к пространству, которые более всего подходили бы к той цели, для которой он создал их»[97][98]. Шотландский ученый Джеймс Клерк Максвелл, которому мы обязаны созданием Кавендишской лаборатории, опубликовал в 1873 году основополагающий «Трактат об электричестве и магнетизме» (Treatise on Electricity and Magnetism), который изменил чисто механическую вселенную Ньютона с частицами, соударяющимися в пустоте, введя в нее концепцию электромагнитного поля. Это поле пронизывает пустоту; электрическая и магнитная энергия распространяется в ней со скоростью света; самый свет, как показал Максвелл, есть одна из форм электромагнитного излучения. Однако, несмотря на внесенные им же изменения, Максвелл – не в меньшей степени, чем Ньютон, – оставался приверженцем жестких, механических атомов:
Но если случались и вновь могут случиться катастрофы, если старые системы могут разрушаться и на их развалинах могут возникать новые системы, то [атомы], из которых эти системы построены, неразрушимы и неизменны – это краеугольные камни материальной Вселенной. Сейчас [они] так же неизменны по своему числу, по своим размерам и по весу, как и в то время, когда они были сотворены[99][100].
Макс Планк придерживался другого мнения. Он, как и многие его коллеги, сомневался, что атомы вообще существуют, – корпускулярная теория материи была изобретением скорее английским, чем континентальным, и ее несколько британский аромат был отвратителен носам немецких ксенофобов, – но, если атомы все же существуют, считал он, они не могут быть механическими. «Существенно важно… то, – признавал он в своей “Научной автобиографии” (Wissenschaftliche Selbstbiographie), – что внешний мир представляет собой нечто независимое от нас, абсолютное, чему противостоим мы, а поиски законов, относящихся к этому абсолютному, представляются мне самой прекрасной задачей в жизни ученого»[101][102]. Планк считал, что термодинамические законы наиболее фундаментальным из всех законов физики образом относятся к такому независимому «внешнему миру», которого требовало его стремление к абсолютному. Еще на ранних стадиях своей работы он увидел, что чисто механические атомы нарушали бы второе начало термодинамики. Его выбор был ясен.
Второе начало термодинамики гласит, что самопроизвольная передача тепла от более холодного тела более горячему невозможна без каких-либо изменений системы. Или, в обобщенной формулировке, которую сам Планк сформулировал в своей диссертации, которую он писал в Мюнхенском университете в 1879 году, «процесс передачи тепла не может быть полностью обращен какими бы то ни было средствами»[103]. Второе начало не только говорит о невозможности создания вечного двигателя, но и определяет понятие, которое предшественник Планка, профессор Рудольф Клаузиус, назвал энтропией: поскольку при выполнении любой работы происходит рассеяние энергии, выделяющейся в виде тепла, – и это тепло невозможно собрать в организованном, пригодном для использования виде, – Вселенная должна постепенно изменяться в направлении все более случайного состояния. Из этой концепции все более увеличивающегося беспорядка следует, что Вселенная развивается однонаправленным и необратимым образом; второе начало термодинамики есть физическое выражение того, что мы называем временем. Однако уравнения механики – в рамках науки, которая называется теперь классической физикой, – теоретически допускают развитие Вселенной в любом направлении, как вперед, так и назад. «Таким образом, – сетовал один видный немецкий химик, – в чисто механическом мире не может быть “до” и “после”, как в мире, где мы живем; иначе дерево могло бы превратиться в побег, а затем в семя, бабочка – в гусеницу, старик – в ребенка. Механистическая доктрина никак не объясняет тот факт, что на самом деле этого не происходит, да такое объяснение и не может быть дано ввиду некоторых фундаментальных свойств уравнений механики. Фактическая необратимость явлений природы доказывает, таким образом, наличие процессов, которые нельзя описать уравнениями механики. Тем самым выносится приговор научному материализму»[104][105]. За несколько лет до этого Планк, что было для него характерно, высказался более лаконично: «Последовательное применение второго закона [по Планку, признание роста энтропии в качестве абсолютного закона]… несовместимо с предположением о существовании атомов конечного размера»[106].
Значительная часть затруднений была связана с тем, что в то время атомы нельзя было прямо измерить в эксперименте. Они были концепцией, полезной в химии, в которой их использовали для объяснения того, почему некоторые вещества – элементы – соединяются друг с другом с образованием других веществ, но сами не могут быть разложены химическими методами. Атомы, по-видимому, объясняли, почему газы ведут себя именно так, а не иначе, – заполняют любой сосуд, в который их помещают, и оказывают равное давление на все стенки такого сосуда. Их использовали и для объяснения того поразительного открытия, что любой элемент, нагреваемый в пламени лабораторной горелки или испаряемый электрической дугой, окрашивает испускаемый свет, причем при разложении этого света призмой или дифракционной решеткой спектр неизменно разбивается на последовательность характерных ярких полос или линий. Однако еще в 1894 году, когда Роберт Сесил, третий маркиз Солсбери, канцлер Оксфордского университета и бывший[107] премьер-министр Англии, перечислял нерешенные задачи науки в своей председательской речи на заседании Британской ассоциации, вопрос о том, являются ли атомы реальными объектами или лишь удобной условностью и какова может быть их скрытая структура, по-прежнему оставался открытым:
Что есть атом каждого элемента, представляет ли он собою движение, предмет, вихрь или точку, обладающую инерцией, существуют ли пределы его делимости и, если они существуют, как налагаются такие пределы, окончателен ли длинный перечень элементов и имеют ли какие-либо из них сколько-нибудь общее происхождение, – все эти вопросы остаются так же окруженными мраком, как и прежде[108].
Именно так – выбирая между возможными вариантами – и работает физика; именно так работают все точные науки. Химик Майкл Полани, друг Лео Сциларда, исследовал методы работы науки в последние годы своего пребывания в Манчестерском университете и в Оксфорде. Он установил, что традиционная организация науки сильно отличается от представлений большинства не связанных с наукой людей. Он назвал ее «республикой науки»[109], сообществом свободно сотрудничающих мужчин и женщин, «чрезвычайно упрощенным примером свободного общества»[110]. Не все специалисты по философии науки – области, которой стал заниматься Полани, – были с ним согласны. Даже сам Полани иногда называл науку «ортодоксией». Но его республиканская модель науки сильна тем же, чем бывают сильны успешные научные модели: она объясняет взаимосвязи, которые не были понятны до нее.
Полани задавал прямые вопросы. Как избирают ученых? Какую присягу они принимают? Кто направляет их исследования – выбирает задачи, которые следует изучать, утверждает планы экспериментов, оценивает значение результатов? Кто решает, что́ соответствует научной «истине» при окончательном анализе этих результатов? Вооружившись этими вопросами, Полани отступил на шаг и рассмотрел науку извне.
За великой конструкцией, которая всего за три столетия начала преобразовывать весь мир человечества, лежала основополагающая приверженность натуралистическому взгляду на жизнь. В другие эпохи и в других местах господствовали иные воззрения – магические или мифологические. Дети обучались натуралистическому мировоззрению, когда учились говорить, когда учились читать, когда шли в школу. «Миллионы ежегодно расходуются на культивирование и распространение науки теми же самыми органами государственной власти, – написал однажды Полани, раздраженный теми, кто упорно не хотел понимать его идей, – которые не дадут ни гроша на развитие астрологии или колдовства. Другими словами, наша цивилизация глубоко привержена определенным представлениям о природе вещей; представлениям, отличным, например, от тех, которым были привержены древнеегипетская или ацтекская цивилизации»[111].
Большинство молодежи познает лишь ортодоксальные положения науки. Они выучивают «общепринятые доктрины, мертвые письмена»[112]. Некоторые, продолжающие образование в университетах, заходят дальше и познают начала научного метода. Они используют в повседневных исследованиях экспериментальные доказательства. Они открывают для себя «неопределенность и вечную временность»[113] положений науки. Они начинают вдыхать в нее жизнь.
Но это еще не значит стать ученым. Чтобы стать ученым, считал Полани, необходимо «полное посвящение»[114]. Такое посвящение дается «тесными личными связями с взглядами и практиками заслуженного наставника»[115]. Практика науки сама по себе не есть наука; это искусство, передаваемое от учителя к ученику, как передается искусство живописи или приемы и традиции юриспруденции или медицины. Познать право из одних лишь книг и лекций невозможно. Также нельзя познать и науку, потому что в науке никогда не бывает точных соответствий; никакой эксперимент не может быть окончательным доказательством; все всегда бывает упрощенным и приблизительным.
Американский физик-теоретик Ричард Фейнман как-то говорил о науке с подобным же пылом перед переполненной аудиторией студентов Калифорнийского технологического института. «Что значит “понять” что-либо?» – спросил Фейнман. Его ответ на этот вопрос полон ироническим сознанием ограниченности возможностей человека:
Представьте себе, что сложный строй движущихся объектов, который и есть «мир», – это что-то вроде гигантских шахмат, в которые играют боги, а мы следим за их игрой. В чем правила игры, мы не знаем; все, что нам разрешили, – это наблюдать за игрой. Конечно, если посмотреть подольше, то кое-какие правила можно ухватить. Под основными физическими воззрениями, под фундаментальной физикой мы понимаем правила игры. Но, даже зная все правила… лишь очень и очень редко нам удается действительно объяснить что-либо на их основе. Ведь почти все встречающиеся положения настолько сложны, что нет никакой возможности, заглядывая в правила, проследить за планом игры, а тем более предугадать очередной ход. Приходится поэтому ограничиваться самыми основными правилами. Когда мы разбираемся в них, то уже считаем, что «поняли» мир[116][117].
Научиться чувствовать доказательства; научиться рассуждать; научиться выбирать правильные интуитивные ощущения; научиться видеть, какие из сложнейших вычислений стоит повторить и каким из экспериментальных результатов не стоит доверять – эти умения дают билет на трибуны шахматной партии богов, и их обретение требует прежде всего обучения у настоящего мастера.
Полани обнаружил еще один необходимый элемент полноценного посвящения в науку – веру. Хотя точные науки стали ортодоксальной идеологией западной цивилизации, каждый волен соглашаться или не соглашаться с ними, частично или целиком: число верующих в астрологию, марксизм или непорочное зачатие по-прежнему остается огромным. Однако «никто не может быть ученым, не предполагая, что научная доктрина и научный метод фундаментально верны и что их основополагающие предпосылки могут быть приняты безоговорочно»[118].
Стать ученым можно, лишь искренне и глубоко приняв научную систему и научное мировоззрение. «Любое описание науки, прямо не называющее ее предметом веры, по сути дела, неполно и обманчиво. Оно эквивалентно утверждению о том, что наука, по сути дела, отличается от всех человеческих верований, не сводящихся к научным утверждениям, и в чем-то превосходит их, – что неверно»[119]. Вера есть та присяга, которую приносят ученые.
Так происходит отбор ученых и их принятие в этот орден. Они составляют республику образованных верующих, обучающихся в системе связей между наставниками и учениками осторожно оценивать скользкие места своей работы.
Кто же направляет эту работу? Этот вопрос на самом деле разбивается на два: кто решает, какие задачи следует изучать, какие эксперименты следует ставить? И кто оценивает значение и достоверность результатов?
Полани предложил одну аналогию[120]. Представим себе, сказал он, группу работников, которым поручили собрать очень большую, очень сложную мозаичную картинку – пазл. Как они могут организовать свою работу, чтобы выполнить ее максимально эффективно?
Каждый из работников может взять какие-то элементы пазла и попытаться совместить их. Этот метод был бы эффективным, если бы собирание пазла было сродни шелушению гороха. Но это не так. Элементы пазла не изолированы. Они были частью единого целого. И вероятность того, что один из работников случайно наберет себе элементы, подходящие друг к другу, мала. Даже если такая группа изготовит достаточно экземпляров всех элементов, чтобы в распоряжении каждого работника был весь пазл, ни один из них в одиночку не сделает столько, сколько могла бы сделать группа, если бы нашла метод совместной работы.
Наиболее эффективное решение, по словам Полани, заключается в том, чтобы позволить каждому из работников следить за тем, что делают все остальные. «Пусть они работают над пазлом вместе, видя друг друга, чтобы каждый раз, когда один из [работников] ставит какую-либо часть мозаики на место, все остальные сразу начинали искать следующий шаг, который становится возможным благодаря этому»[121]. В таком случае, даже если каждый из работников действует по собственной инициативе, его действия способствуют прогрессу всей группы. Члены группы работают вместе независимым образом; пазл собирается самым действенным способом.
Полани считал, что наука познает неизвестное, проходя через последовательность этапов, которые он называл «точками роста»[122], причем каждая из таких точек представляет собой место, в котором делаются наиболее продуктивные открытия. Узнавая о новых достижениях из сети научных изданий и личных связей с коллегами, – благодаря полной открытости обмена информацией, абсолютной и жизненно важной свободе слова – ученые немедленно начинают работать именно в тех точках, в которых личные таланты каждого из них обеспечивают максимальный положительный эффект, эмоциональный и интеллектуальный, от вложения сил и размышлений.
Тогда становится ясно, кто именно в научной среде оценивает значение результатов исследований: это делают все члены группы, как на собрании общины квакеров. «Авторитетность научного мнения остается преимущественно взаимной; она формируется среди ученых, а не над ними»[123]. Бывают ведущие ученые, ученые, которые работают в точках роста своих дисциплин необыкновенно плодотворно; но в науке нет верховных правителей. Ею управляет коллективное согласие.
Не всякий ученый способен оценить любой вклад. Сетевая структура устраняет и это затруднение. Предположим, ученый М объявляет о новом результате. Он знает свой чрезвычайно специализированный предмет лучше всех на свете; кто же в таком случае может обладать компетенцией, необходимой, чтобы оценить его работу? Но рядом с ученым М работают ученые L и N. Поскольку предметы их исследований частично пересекаются с областью работы М, они достаточно хорошо понимают его работу, чтобы судить о ее качестве и достоверности, а также понять, как она соотносится с общей научной картиной. Кроме L и N есть еще и другие ученые, K и O, а также J и P, которые достаточно хорошо знают L и N, чтобы решить, можно ли доверять их суждению о работе М. И эта цепочка продолжается дальше и дальше, вплоть до ученых A и Z, которые работают в области, почти совершенно отличной от сферы интересов М.
«Эта сеть и есть вместилище научного мнения, – подчеркивал Полани, – мнения, не присущего разуму какого-то отдельного человека, но разделенного на тысячи разных фрагментов, мнения, которого придерживаются множественные индивидуумы, каждый из которых поддерживает мнение другого опосредованно, полагаясь на согласованные цепочки, которые связывают его со всеми остальными через последовательность пересекающихся сообществ»[124]. Наука, подразумевал Полани, работает как гигантский мозг, образованный связанными между собою индивидуальными разумами. Это и есть источник ее кумулятивной и, по-видимому, непреодолимой силы. Но сила эта, как тщательно подчеркивают и Полани, и Фейнман, достается ценой добровольного самоограничения. Науке удается решать трудную задачу поддержания сети политических связей между людьми разного происхождения и разных взглядов и даже еще более трудную задачу определения правил шахматной игры, в которую играют боги, благодаря жестким ограничениям области своей деятельности. «Физика, – как однажды напомнил группе своих коллег Юджин Вигнер, – даже не пытается дать нам полную информацию о событиях, которые происходят вокруг нас: она дает нам информацию о корреляциях между этими событиями»[125].
Что по-прежнему оставляет открытым вопрос о том, на какие стандарты ориентируются ученые, когда выносят оценку работе своих коллег. Хорошая наука, оригинальная работа всегда выходят за пределы общепринятых мнений, всегда содержат элемент несогласия с ортодоксальными взглядами. Как же в таком случае выразители ортодоксальных взглядов могут оценить их по достоинству?
Полани предположил, что науку защищает от окостенения существующая в ней структура учителей и учеников. Учитель прививает ученику высокие стандарты суждений. В то же время ученик обучается доверять своему собственному суждению: он узнает о возможности и необходимости несогласия. Из книг и лекций можно узнать правила; учителя обучают осознанному бунту, хотя бы на примере своей собственной оригинальной – и, следовательно, бунтовщической в этом смысле – работы.
Ученики познают три общих критерия научного суждения[126]. Первый из этих критериев – правдоподобие. Он позволяет отсеять безумцев и жуликов. Он также может приводить (и иногда приводил) к отбрасыванию идей, слишком оригинальных, чтобы ортодоксальное мышление могло осознать их, – но чтобы наука вообще могла работать, с этой опасностью приходится мириться. Второй критерий – научная ценность, составная величина, содержащая в равных долях точность, важность для всей системы науки или той ее ветви, к которой относится данная идея, и степень интереса, который порождает сущность работы. Третий критерий – оригинальность. Патентные эксперты оценивают оригинальность изобретения по тому, насколько неожиданным оно оказывается для специалиста, знакомого с соответствующей областью. Ученые оценивают новые теории и новые открытия подобным же образом. Правдоподобие и научная ценность позволяют оценить качество идеи по стандартам ортодоксальной точки зрения; оригинальность определяет степень ее отклонения от ортодоксальности.
Предложенная Полани модель открытой научной республики, в которой каждый из ученых судит о работе своих коллег по общепризнанным и поддерживаемым всеми критериям, объясняет, почему идея атома обладала столь неустойчивым статусом в физике XIX века. Она была правдоподобна; она обладала значительной научной ценностью, особенно с системной точки зрения; однако никаких неожиданных открытий, касающихся атома, еще никому не удалось совершить. По крайней мере, таких открытий, которые были бы достаточно убедительными для сети из всего лишь приблизительно тысячи мужчин и женщин всего мира, которые в 1895 году называли себя физиками[127], – а также для более многочисленной сети химиков, связанной с первой.
Время атома было на подходе. В XIX веке самые неожиданные открытия в фундаментальной науке делались в химии. В первой половине века XX источником великих неожиданностей в фундаментальной науке стала физика.
В 1895 году, когда юный Эрнест Резерфорд приехал с другого конца света в Кавендишскую лабораторию, чтобы изучать физику в надежде составить себе имя в этой области, Новая Зеландия, которую он покинул, была еще территорией малоосвоенной. Инакомыслящие британские ремесленники и крестьяне, а также некоторые искатели приключений из дворян заселили этот суровый вулканический архипелаг в 1840-х годах, потеснив приплывших из Полинезии маори, которые открыли его за пять столетий до этого. Серьезное сопротивление маори, вылившееся в несколько десятилетий кровавых стычек, закончилось лишь в 1871 году, в котором и родился Резерфорд. Он учился в недавно созданных школах, гонял коров на дойку, ездил верхом в буш охотиться на диких голубей, сидящих на покрытых ягодами ветвях деревьев миро[128], помогал на льнопрядильной фабрике своего отца в Брайтуотере, на которой дикий лен, собранный в местных болотах, замачивали, мяли и трепали, получая из него льняные нити и очески. Два младших брата Резерфорда утонули; вся семья в течение нескольких месяцев искала их на берегах Тихого океана вокруг фермы.
Его детство было трудным и здоровым. Резерфорд увенчал его стипендиями на обучение – сначала в скромном колледже имени Нельсона в близлежащем городе Нельсоне на Южном острове, затем в Университете Новой Зеландии, в котором он в возрасте двадцати двух лет получил магистерскую степень сразу по двум специализациям, математике и физике. Он был человеком крепким, энергичным и сообразительным, и все эти качества потребовались ему на пути из новозеландской сельской глуши к руководству британской наукой. Еще одно, более тонкое качество – проницательность деревенского парня в сочетании с характерной для далеких от цивилизации мест глубокой неиспорченностью – сыграло важнейшую роль в тех беспрецедентных научных открытиях, которые он совершил в течение своей жизни. Как сказал его воспитанник Джеймс Чедвик, главной отличительной чертой Резерфорда был «его талант удивляться»[129]. Он сохранил это качество, несмотря на все свои успехи и несмотря на тщательно замаскированную, но иногда чрезвычайно болезненную неуверенность в себе[130], грубый шрам, оставленный его колониальным происхождением.
Первую возможность для проявления своих талантов Резерфорд нашел в Университете Новой Зеландии, в котором он получил в 1893 году степень бакалавра. «Электрические волны», открытые в 1887 году Генрихом Герцем, – сейчас мы называем их радиоволнами – произвели на Резерфорда, как и на других молодых людей по всему миру, сильнейшее впечатление. Для изучения этих волн он собрал в промозглом подвальном чулане так называемый вибратор Герца – электрически заряженные металлические шары, установленные с зазором, благодаря которому между металлическими пластинами проскакивают искры. Он искал задачу, которая могла бы стать темой его первого независимого исследования.
Такую задачу он нашел в общепринятом среди ученых – в число которых входил и сам Герц – мнении, что переменный ток высокой частоты, то есть такой, какой возникает в вибраторе Герца, когда между металлическими пластинами в обоих направлениях быстро пролетает искровое излучение, не вызывает намагничивания железа. Резерфорд предположил, что это не так, и нашел изобретательное доказательство своей правоты. За эту работу он получил стипендию Всемирной выставки 1851 года[131] на работу в Кембридже. Когда пришла телеграмма, Резерфорд копал картошку в домашнем огороде. Его мать прокричала новость с другого конца борозды; он рассмеялся, отбросил лопату и воскликнул, отмечая момент, торжественный и для сына, и для матери: «Я выкопал свою последнюю картофелину!»[132] Тридцать шесть лет спустя, когда ему был пожалован титул барона Резерфорда Нельсонского, его мать, в свою очередь, получила следующую телеграмму: «Теперь [я] лорд Резерфорд, и твоей заслуги в этом больше, чем моей»[133].
Работа под названием «Намагничивание железа высокочастотными разрядами»[134] сочетала в себе мастерские наблюдения и отважное инакомыслие. Проявив глубокую оригинальность, Резерфорд заметил слабую обратную реакцию, возникающую при намагничивании железных иголок током высокой частоты: при пропускании высокочастотного тока происходит частичное размагничивание иголок, уже намагниченных до насыщения. Здесь и сработал его талант удивляться. Он быстро понял, что радиоволны, принимаемые соответствующей антенной и подаваемые в проволочную обмотку, можно использовать для создания в пучке намагниченных иголок высокочастотного тока. Это вызовет частичное размагничивание иголок, и, если поместить рядом с ними компас, это изменение можно будет заметить по отклонению его стрелки.
К сентябрю 1895 года, когда Резерфорд добрался на одолженные деньги до Кембриджа, где он должен был начать работать под руководством прославленного директора Кавендишской лаборатории Дж. Дж. Томсона, он разработал на основе своих наблюдений устройство для улавливания радиоволн на расстоянии – по сути дела, первый, еще весьма несовершенный, радиоприемник. В это время Гульельмо Маркони еще доводил свою модель радиоприемника до совершенства в итальянском имении отца; в течение нескольких месяцев молодой новозеландец удерживал мировой рекорд по дальности приема радиопередач[135].
Опыты Резерфорда привели в восторг заслуженных британских ученых, узнавших о них от Томсона. Они быстро приняли Резерфорда в свою среду: однажды вечером его даже усадили на почетное место рядом с ректором за профессорским столом Кингс-колледжа. По его словам, он чувствовал себя там «как осел в львиной шкуре»[136], а некоторые снобы из числа сотрудников Кавендишской лаборатории просто позеленели от зависти. Благодаря великодушной помощи Томсона 18 июня 1896 года Резерфорд, нервничая, но внутренне ликуя, представил свою третью научную статью под названием «Магнитный детектор электрических волн и некоторые его применения»[137] на заседании лондонского Королевского общества, ведущей научной организации мира. Маркони догнал его лишь в сентябре[138].
Резерфорд был беден. Он был обручен с Мэри Ньютон, дочерью хозяйки квартиры, которую он снимал, когда учился в Университете Новой Зеландии, но свадьбу отложили до улучшения его материального положения. В то время, когда он трудился, чтобы добиться такого улучшения, он писал своей невесте: «Я занимаюсь темой [приема радиоволн] так интенсивно из-за ее практической важности… Если опыты, которые я буду проводить на следующей неделе, пройдут так, как я ожидаю, я вижу в будущем возможность быстрого заработка»[139].
Тут есть одна загадка, и загадка эта тянется вплоть до самой речи о «лунных миражах». Впоследствии Резерфорд был известен своим строгим отношением к бюджету исследовательской работы, нежеланием принимать финансирование от промышленных компаний или частных спонсоров, нежеланием даже запрашивать финансирование и убежденностью в том, что все можно сделать «при помощи сургуча и бечевки». Он терпеть не мог коммерциализации научных исследований и, например, когда его русскому ученику Петру Капице предложили работу консультанта в промышленной компании, сказал ему: «Нельзя одновременно служить Богу и Мамоне»[140]. Загадка эта касается того, что Ч. П. Сноу, знавший Резерфорда, назвал «единственным любопытным исключением» из «непогрешимости» его интуиции, добавив при этом, что «еще не было ученого, который допустил бы так мало ошибок»[141][142]. Это исключение – нежелание Резерфорда допустить возможность извлечения из атома полезной энергии, то самое нежелание, которое так раздражало в 1933 году Лео Сциларда. «Мне кажется, он боялся, что его любимую область ядерных исследований вот-вот захватят неверные, которые хотят разгромить ее ради коммерческой эксплуатации»[143], – рассуждает другой воспитанник Резерфорда, Марк Олифант. Однако в январе 1896 года сам Резерфорд активно стремился к коммерческой эксплуатации радио. Чем же была вызвана столь резкая перемена, определившая всю его дальнейшую жизнь?
Сохранившиеся сведения неоднозначны, но дают некоторое представление о произошедшем. В соответствии с исторической традицией английская наука была занятием благородным. Патенты на открытия, а также любые другие юридические и коммерческие ограничения, которые могли помешать свободному распространению научных результатов, как правило, считались в ней делом недостойным. На практике такая защита свободы науки могла выродиться в высокомерное презрение к «вульгарной меркантильности». Физик Эрнест Марсден, учившийся у Резерфорда и ставший его вдохновенным биографом, слышал, что «в начальный период его работы в Кембридже по меньшей мере некоторые говорили, что Резерфорд – человек неотесанный»[144]. Одной из составляющих таких сплетен могло быть презрение к его стремлению извлечь выгоду из работ, связанных с радио.
По-видимому, в дело вмешался Дж. Дж. Томсон. Внезапно открылось огромное новое поле деятельности. 8 ноября 1895 года, через месяц после прибытия Резерфорда в Кембридж, немецкий физик Вильгельм Рентген открыл «икс-лучи», исходящие из стенок катодной трубки, сделанных из флуоресцирующего стекла. В декабре Рентген сообщил о своем открытии и поверг в изумление весь мир. Это странное излучение стало новой точкой роста науки, и Томсон почти немедленно принялся за его изучение. Одновременно с этим он продолжал и свои опыты с катодными лучами, в завершение которых он обнаружил в 1897 году частицу, которую назвал «отрицательной корпускулой», – то есть электрон, первую из открытых составляющих атома. В этой работе ему неизбежно нужны были помощники. Кроме того, он не мог не понимать, какие необычайные возможности для проведения оригинальных исследований откроет это излучение перед молодым человеком, обладающим такими талантами экспериментатора, как Резерфорд.
Чтобы разрешить этот вопрос, Томсон написал патриарху британской науки лорду Кельвину, которому было тогда семьдесят два года, и спросил его мнение о коммерческих перспективах радио – как говорит Марсден, «прежде, чем попытаться соблазнить Резерфорда новой темой». В конце концов, как бы там ни обстояло дело с вульгарной меркантильностью, именно Кельвин спроектировал трансокеанский телеграфный кабель. «Великий человек ответил, что развитие [радио] может оправдать капитальные вложения в компанию стоимостью порядка 100 000 фунтов, но не более того»[145].
К 24 апреля Резерфорд прозрел. Он писал Мэри Ньютон: «Я надеюсь свести концы с концами, но в первый год мне, видимо, потребуется дополнительная помощь… Моя научная работа пока что продвигается медленно. В этом семестре я занимаюсь вместе с Профессором рентгеновскими лучами. Моя старая тема мне несколько надоела, и я рад сменить ее на что-то другое. Мне кажется, что мне будет полезно некоторое время поработать с Профессором. Я уже провел одно исследование и продемонстрировал, что могу работать самостоятельно»[146]. Письмо написано в смиренном и вовсе не уверенном тоне, как если бы через Резерфорда к его невесте по-отечески обращался призрак Дж. Дж. Томсона. Резерфорд еще не выступал перед Королевским обществом – по этому выступлению совершенно не казалось, что его тема ему «несколько надоела». Но его обращение уже свершилось. Отныне все устремления Резерфорда касались не коммерческого успеха, а научной славы.
Кажется вполне вероятным, что Дж. Дж. Томсон усадил молодого и пылкого Эрнеста Резерфорда в обитом темными панелями кабинете в неоготической Кавендишской лаборатории, которую основал Джеймс Клерк Максвелл, в том же университете, в котором Ньютон писал свои великие «Начала», и деликатно сказал ему, что нельзя одновременно служить Богу и Мамоне. Вполне вероятно, что известие о том, что заслуженный директор Кавендишской лаборатории написал небожителю лорду Кельвину о коммерческих устремлениях энергичного новозеландца, смертельно огорчило Резерфорда, и он вышел после этого разговора, чувствуя себя каким-то нелепым выскочкой. Он никогда больше не повторял этой ошибки, даже если его лаборатории оставались из-за этого без финансирования, даже если это заставляло уходить лучших из его учеников – а так оно в конце концов и случалось. Даже если это означало, что получение энергии из его любимого атома было всего лишь миражом. Но, отказавшись от коммерческой выгоды ради святой науки, Резерфорд получил взамен сам атом. Он открыл составляющие его части и дал им названия. При помощи сургуча и бечевки он сделал атом реальным.
Сургуч был кроваво-красным, и именно из него состоял самый заметный вклад Банка Англии в развитие науки[147]. Британские экспериментаторы использовали банковский сургуч для герметизации стеклянных трубок. Первая работа Резерфорда по исследованию атома, как и работа Дж. Дж. Томсона с катодными лучами, возникла на основе проводившихся в XIX веке исследований поразительных эффектов, которые возникают, если из стеклянной трубки, к концам которой припаяны металлические пластины, откачать воздух, а затем подсоединить эти пластины к батарее или катушке индуктивности. Под действием электрического заряда пустота[148] внутри герметичной трубки начинает светиться. Это свечение исходит от отрицательно заряженной пластины – катода – и поглощается пластиной, заряженной положительно, – анодом. Если изготовить анод в форме цилиндра и поместить этот цилиндр в середину трубки, можно заставить пучок такого свечения – или катодных лучей – проходить сквозь цилиндр до конца трубки, противоположного катоду. Если энергия этого пучка достаточно высока, чтобы он смог достичь стеклянной стенки, он заставляет стекло флуоресцировать. Такая катодная трубка, должным образом видоизмененная – с уплощенным стеклянным концом, покрытым фосфором для усиления флуоресценции, – становится телевизионным кинескопом.
Весной 1897 года Томсон продемонстрировал, что пучок светящегося вещества в катодной трубке не состоит из световых волн, как (сухо писал он)«почти единодушно считают немецкие физики». На самом деле катодные лучи оказались отрицательно заряженными частицами, вылетающими с отрицательного катода и притягиваемыми положительным анодом. Эти частицы можно отклонить электрическим полем и направить по криволинейной траектории полем магнитным. Частицы эти гораздо легче атома водорода и одинаковы, «каким бы ни был газ, через который проходит разряд»[149], если такой газ ввести в трубку. Поскольку они легче, чем самый легкий из известных элементов материи и одинаковы независимо от того, из какого вещества они получаются, следовало заключить, что эти частицы представляют собой некую основополагающую составную часть материи, а раз они представляют собой часть, то должно существовать и некое целое. Из существования реального, физического электрона вытекало существование реального, физического атома: таким образом, корпускулярная теория вещества впервые была убедительно подтверждена физическим опытом. На ежегодном банкете Кавендишской лаборатории в честь этого достижения Дж. Дж. Томсона была исполнена песня:
- Рой корпускул благородный
- Улетел в полет свободный,
- Превратился в луч катодный[150].
Имея в своем распоряжении электрон и зная из других экспериментов, что после удаления электронов от атома остается гораздо более массивная часть с положительным зарядом, Томсон разрабатывал в течение следующего десятилетия модель атома, которую стали называть «пудинговой моделью». Атом по Томсону, состоящий из «нескольких отрицательно заряженных корпускул, заключенных в сферу, имеющую однородно распределенный положительный электрический заряд»[151], подобно изюму в пудинге, представлял собой гибрид, сочетание корпускулярных электронов и распределенной в пространстве остальной части. Эта модель была полезна тем, что позволяла показать математически, что электроны могут образовывать внутри атома устойчивые конфигурации и что такие устойчивые с математической точки зрения конфигурации могут объяснять сходства и различия, которые проявляют химические элементы периодической системы. Начинало проясняться, что именно электроны отвечают за сходные химические свойства разных элементов, что химия, по сути дела, сводится к электрическим процессам.
В 1894 году Томсон чуть было не открыл рентгеновские лучи[152]. Если верить легенде, ему все же не повезло не так сильно, как оксфордскому физику Фредерику Смиту, который обнаружил, что фотопластинки, которые хранились рядом с катодной трубкой, помутнели, и просто велел своему ассистенту переложить их в другое место[153]. Томсон заметил, что стеклянные трубки, находящиеся «на расстоянии нескольких футов от разрядной трубки»[154], флуоресцируют так же, как стенки самой катодной трубки, на которые падают катодные лучи, но он был слишком занят исследованием самих этих лучей и не стал исследовать причину этого явления. Рентген выделил этот эффект, закрыв катодную трубку черной бумагой. Когда оказалось, что установленный поблизости экран из флуоресцентного материала все равно продолжает светиться, Рентген понял: то, что вызывает свечение экрана, проходит сквозь бумагу и окружающий экран воздух. Когда он помещал свою руку между закрытой бумагой трубкой и экраном, это несколько ослабляло свечение экрана, но зато в появляющейся на экране темной тени он видел свои кости.
Открытие Рентгена заинтересовало не только Дж. Дж. Томсона и Резерфорда, но и других физиков. Француз Анри Беккерель был физиком в третьем поколении: вслед за своим дедом и отцом он возглавлял кафедру физики в парижском Музее естественной истории. Также подобно отцу и деду он был специалистом по фосфоресценции и флуоресценции – причем лично он специализировался на свечении урана. Отчет о работе Рентгена он прослушал на еженедельном заседании Академии наук 20 января 1896 года. Узнав, что рентгеновские лучи испускаются флуоресцентным стеклом, он немедленно решил проверить разные флуоресцентные материалы, чтобы узнать, не испускают ли и они также рентгеновские лучи. Проработав над этим вопросом в течение десяти дней, он не получил никаких положительных результатов, а 30 января прочитал статью по рентгеновским лучам, которая вдохновила его на продолжение исследований и навела на мысль попробовать одну из солей урана, двойной сульфат уранила и калия[155].
Первый его опыт прошел успешно – он обнаружил, что соль урана испускает излучение, – но привел его к ошибочным выводам. Он запечатал фотографическую пластинку в черную бумагу, нанес на бумагу слой соли урана и «выдержал все вместе на солнце в течение нескольких часов». Проявив фотопластинку, он «увидел на негативе черный силуэт фосфоресцирующего вещества»[156]. Беккерель ошибочно решил, что это явление было активировано солнечным светом, подобно тому, как катодные лучи вызывают испускание рентгеновского излучения из стекла.
История удачливости Беккереля, проявившейся после этого, стала легендарной. Когда он попытался повторить свой опыт, 26, а затем 27 февраля, в Париже было пасмурно. Он убрал завернутую фотопластинку, по-прежнему с нанесенной на нее урановой солью, в темный ящик. 1 марта он решил все-таки проявить пластинку, «ожидая, что изображение получится очень блеклым. Напротив, силуэты проявились с высокой интенсивностью. Я сразу подумал, что этот процесс, возможно, способен продолжаться и в темноте»[157]. Высокоэнергетическое, проницающее излучение инертной материи, возникающее без стимуляции солнечными лучами: теперь у Резерфорда появилась тема для исследований, а Пьер и Мария Кюри смогли взяться за свою изнурительную работу по поиску чистого излучающего элемента.
Между 1898 годом, когда Резерфорд впервые обратил внимание на это явление, открытое Анри Беккерелем и названное Марией Кюри радиоактивностью, и 1911 годом, в котором он совершил самое важное в своей жизни открытие, молодой новозеландский физик систематически трудился над расщеплением атома.
Он изучал виды излучения, испускаемого ураном и торием, и дал названия двум из них: «Эти опыты показывают, что излучение урана неоднородно по составу – в нем присутствуют по крайней мере два излучения различного типа. Одно очень сильно поглощается, назовем его для удобства α-излучением, а другое имеет бо́льшую проникающую способность, назовем его ß-излучением»[158][159]. Впоследствии француз П. У. Виллар открыл третий тип радиации, отличный от остальных, вид высокоэнергетических рентгеновских лучей, названный в соответствии со схемой Резерфорда гамма-излучением[160]. Эта работа была выполнена в Кавендишской лаборатории, но ко времени ее публикации в 1899 году Резерфорд, которому было тогда двадцать семь лет, перебрался в Монреаль и стал профессором физики в Университете Макгилла. Один канадский торговец табаком пожертвовал университету средства на строительство физической лаборатории и финансирование нескольких профессорских кафедр, в том числе и той, которую занял Резерфорд[161]. «Университет Макгилла пользуется хорошей репутацией, – писал Резерфорд матери. – 500 фунтов – совсем не плохое жалованье, а поскольку физическая лаборатория в нем лучшая в мире в своем роде, жаловаться мне не приходится»[16
