Дом свиданий
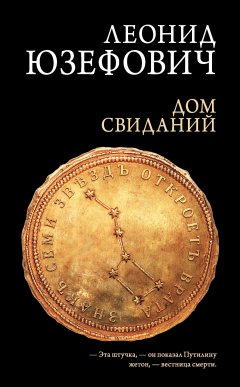
© Юзефович Л. А.
© ООО «Издательство АСТ»
От автора
Первый роман о сыщике Иване Дмитриевиче Путилине я закончил в 1985 году. Поначалу он назывался «Ситуация на Балканах», потом – «Триумф Венеры», теперь – «Костюм Арлекина». Названия менялись не по моему желанию, а потому что издатели, перед которыми я тогда был абсолютно бесправен, хотели сделать вид, будто это издание – первое.
Написанному семью годами позднее второму роману из этой серии повезло больше: он сменил название всего однажды – был «Знак семи звезд», стал «Дом свиданий». Я считаю его лучшим из моих романов о Путилине, хотя он написан не по зову души, а по заказу владельца фирмы, торговавшей импортным женским бельем, – параллельно со своим основным бизнесом этот оптовик решил заняться книгоизданием. Легенда о баснословной прибыльности издательского дела в то время еще не померкла и поддерживалась воспоминаниями о недавнем книжном дефиците, когда томик какого-нибудь болгарского или венгерского детектива на черном рынке ценился раз в десять дороже, чем значилось у него на задней стороне обложки. В писательской среде была популярна байка о некоем американском издателе, который спросил своих советских коллег: «Почему вы не допечатываете тираж книги, если она пользуется спросом?» – «Потому что не хватает бумаги», – ответили ему. «Не хватает бумаги печатать деньги?» – удивился американец. Казалось, теперь все должны признать безупречность этой логики, но после 1991 года она почему-то перестала действовать.
Я был автором нескольких приключенческих повестей, и к торговцу бельем меня направил товарищ по ремеслу. В СССР сочинители детективов считались низшей кастой литературного мира и, как все отверженные, привыкли помогать друг другу. Звездный час королей и, особенно, королев этого жанра был впереди. На троне сидел Борис Николаевич Ельцин, однажды, забыв про Бориса Годунова, в шутку назвавший себя Борисом Первым, но я, сорокапятилетний оболтус, до сих пор считавшийся молодым писателем, еще не расстался с иллюзией, что в прекрасном новом мире смогу зарабатывать на жизнь пером.
Будущий издатель лучился доброжелательством, говорил о своей любви к литературе и рассказал мне притчу о том, как кто-то спускается в колодец, чтобы на дне найти истину, но кому-то приходится стоять наверху и держать веревку, страхуя храбреца. Первому достаются аплодисменты публики, второй скромно остается в тени. Под искателем истины подразумевался я, под страховщиком – он.
Его секретарша тут же составила договор. Аванса мне не полагалось, зато за готовый роман я должен был получить 2000 долларов – сумасшедшие по тем временам деньги. Ничего иного, кроме как довериться этому обещанию, мне не оставалось. Я уже перестал быть школьным учителем истории, а зарплата моей жены Наташи, преподававшей в музыкальной школе, при тогдашней инфляции стремилась к нулю.
Ни одна из моих книг не писалась так быстро, как эта, хотя я тогда работал не на компьютере, а на машинке. Я настучал роман за три летних месяца 1992 года.
Действие романа происходило в конце 1860-х, но время, когда я трудился над ним, просочилось на его страницы. Только тогда, ностальгически оглядываясь на прошлое, мой герой мог сказать, например, следующее: «Эпоха подобна женщине, с которой живешь: чтобы оценить ее по достоинству, нужно расстаться с ней навеки».
В договоре указывался точный срок представления рукописи – 1 сентября, и оговаривались серьезные штрафные санкции за каждый просроченный день, но к концу августа, когда я поставил последнюю точку, держатель веревки перестал отвечать на мои звонки. Разыскать его в обезлюдевшем НИИ на Войковской, где он арендовал под офис и склад три заставленные картонными коробками комнаты, мне тоже не удалось. Он навсегда исчез из моей жизни вместе с бюстгальтерами, колготками, трусиками и кружевными шелковыми комбинациями, которые в то время были уже не обязательным, но еще вполне обыкновенным элементом интимного женского костюма.
А роман – остался.
Пролог
На следующий день оба не могли вспомнить, с чего началось, но после ужина почему-то заговорили о женщинах.
– В годы моей юности, – сказал Иван Дмитриевич, привычно заплетая в косицу правую бакенбарду, – женская хитрость вовсе не считалась пороком. Некоторые даже относили ее к числу свойственных прекрасному полу добродетелей. В конце концов, что есть добродетель, как не следование законам естества? Представьте себе, что лиса оставит в покое зайчишек и станет питаться ивовой корой; сможем ли мы тогда назвать ее добродетельной? По-моему, грешно изменять собственной природе. Не знаю, как сейчас, но в мое время это понимали. Помню, один приятель рассказывал мне про свою жену. Задолго до свадьбы утратив невинность, она утаила потерю от жениха и устроила так, что их первая брачная ночь совпала с первым днем ее месячных очищений. А приятель мой в таких делах был сущий младенец. Кровь пролилась, гордый супруг счел невесту девственницей, однако позднее каким-то образом обман раскрылся. И что думаете? Думаете, муж был оскорблен, возмущен, ударился в запой, выгнал жену из дому? Да ничего подобного! После разоблачения он проникся к обманщице таким искренним уважением, что смело доверял ей все финансовые дела семьи и вообще видел в ней чуть ли не Одиссея в юбке. Вам кажется, это недостойно мужчины? Помилуйте, когда я был в вашем возрасте, никто из настоящих мужчин не почитал позором для себя быть обманутым женщиной. Только ребенок не знает, что огонь жжется, а собаки кусаются. Мужчина вступает в поединок со стихией, отлично понимая, что можно ее победить, можно заставить служить себе, но изменить нельзя.
– Вы женофоб? – спросил Ивана Дмитриевича его собеседник.
– Ну что вы! Я лишь принимаю женщин такими, какими их создал Господь Бог, и не сомневаюсь ни в целесообразности Его замысла, ни в качестве исполнения. А вы, нынешние молодые люди, в Бога не веруете, потому и сотворили себе кумира из женщины. Все вы, конечно, прогрессисты, ниспровергатели, в церковь не ходите, но ведь и к проституткам тоже. Под красный фонарь ни ногой! Ваше поколение запугано статьями о последствиях венерических болезней, содержанки вам не по карману, а если изредка спите с какой-нибудь курсисткой, то, разумеется, видите в ней прежде всего личность. Какие уж тут экстазы! Немного воздержания при избытке воображения и недостатке религиозности – и дамская юбка уже кажется священным покровом, скрывающим под собой божественные бездны. Атеизм, страх сифилиса и поклонение женщине всегда идут рука об руку.
Собеседником Ивана Дмитриевича Путилина – недавно вышедшего в отставку легендарного начальника петербургской сыскной полиции – был второразрядный столичный литератор Сафронов. Лысоватый блондин, вежливый и аккуратный, он пребывал в том возрасте, который только человеку, одной ногой стоящему в могиле, может показаться возрастом ниспровержения основ.
– Но Ева была создана не из глины, как Адам, а из его ребра, – возразил Сафронов. – То есть из материи уже очищенной. Не обязательно быть атеистом, чтобы признавать венцом творения именно женщину.
Иван Дмитриевич улыбнулся:
– Оставим этот спор богословам. Лучше я расскажу вам одну историю.
На столе перед Сафроновым лежала тетрадь, он тут же раскрыл ее и приготовился записывать, спросив:
– В каком году это было?
– На что вам?
– Но вы же сами просили, чтобы в книге я разместил все ваши истории не в том порядке, в каком вы их мне рассказываете, а в хронологическом, – ответил Сафронов не без раздражения, поскольку вопрос о датировке того или иного преступления вставал уже не однажды и всякий раз возникала какая-то путаница.
Он приехал к Ивану Дмитриевичу, чтобы по его рассказам и от его имени написать книгу воспоминаний. Сошлись на следующих условиях: герою – две трети будущего гонорара, автору – треть. Поначалу заикнувшись о равных долях, Сафронов сразу же уступил, едва ему было сказано, что в таком случае найдется перо и подешевле.
Незадолго перед тем выйдя в отставку, Иван Дмитриевич с берегов Невы переселился на берег Волхова. Двумя или тремя годами раньше, потратив все свои сбережения, он купил в Новгородской губернии старый помещичий дом, деревянный, построенный еще при Аракчееве и с тех пор не ремонтированный, зато с верандой и чудесным яблоневым садом. Здесь Иван Дмитриевич доживал последние месяцы, отпущенные ему судьбой. Сафронов прожил с ним три недели.
Нравы в поместье царили спартанские. Гостю постелили простыни с клопиными пятнами, от недоваренной рыбы он страдал резями в желудке, от речной сырости мучился астмой, зато впоследствии ни разу не пожалел, что приехал, хотя эти три недели принес, как жертву на алтарь семейного благополучия. Денег не было, и жена заставила поехать. Литератору пришлось с болью в сердце оторваться от работы над собственным романом – аллегорическим повествованием из жизни обитателей кукольного городка, завоеванного сбежавшими от бродячего фокусника чудовищными дрессированными блохами. Этому роману Сафронов отдавал всю душу, впрочем, он так никогда и не был закончен, подобно всем прочим произведениям литератора объемом свыше двух печатных листов. Единственным исключением стали мемуары Ивана Дмитриевича. Сафронов рассчитывал, что воспоминания знаменитого сыщика будут пользоваться успехом, и не ошибся. Треть гонорара обернулась немалыми суммами, книжка выдержала несколько изданий, но сам Иван Дмитриевич умер раньше, чем вышло первое из них.
– Так в каком же году это случилось? – повторил Сафронов свой вопрос.
– Точно не скажу, но во времена моей молодости. Мне было примерно столько лет, сколько вам сейчас. Мой сын Ванечка уже умел читать, и у нас жил тогда ручной щегол Фомка. Забавнейшая была тварь…
За две недели Сафронов успел привыкнуть к тому, что, прежде чем начать рассказ о каком-нибудь особенно загадочном и кровавом преступлении, Иван Дмитриевич всегда предавался нежнейшим воспоминаниям о покойнице жене или обожаемом сыне.
– Если я дома что-нибудь писал, Фомка садился на бумагу и норовил склюнуть буковки, выходившие из-под моего пера. Перо, должно быть, казалось ему клювом какой-то птицы, которая чем-то лакомится с листа. Бедный Фомка тоже хотел поживиться ее добычей.
Помню, когда его задрала кошка, я впервые, может быть, открылся перед сыном не самой лучшей стороной моего характера… Вам интересно?
– Еще бы! – деликатно подтвердил Сафронов.
Он уже знал, что за вечерним чаем на веранде Иван Дмитриевич становился слезлив, сентиментален и даже зачем-то рассказывал о таких преступлениях, которые не сумел раскрыть. Всё это для мемуаров было совершенно лишним, но Сафронов понимал: хотя лирическая влага разжижает сюжет, ее можно отжать из текста лишь вместе с кровью героя. Заметим в скобках, что так он в итоге и поступил.
– Знаете, я вбежал в комнату, увидел Ванечку с мертвым щеглом на руках и закричал: «Вот сволочь! Где она?» Он поднял на меня заплаканные, непонимающие глазенки: «Кто, папенька?» – «Кошка! Сейчас я ей».
Стыдно говорить, но так оно и было. Мой сын страдал, я же первым делом подумал о мести. Сначала я должен был покарать кошку, а уж после мог пожалеть плачущего Ванечку. Увы, – не без кокетства заключил Иван Дмитриевич, – мстительность присуща моей натуре… Что же вы не записываете?
– Это не пригодится, – сказал Сафронов. – К чему вам признаваться в собственной слабости?
– В слабости? Почему – в слабости? – оскорбился Иван Дмитриевич.
Он забыл, что сам только что подвергал критике эту черту своего характера.
– Вернее будет сказать, в бессилии.
– Еще того лучше!
– Но, Иван Дмитриевич, вы же состояли на государственной службе. Причем службе особого рода, призванной поддерживать справедливость в обществе.
– Состоял. Ну так и что?
– А то, что мстительность свойственна людям, которые не верят в силу закона. Кровная месть процветает на Кавказе, но не в Англии.
– Эк вас куда занесло от моего щегла, – сказал Иван Дмитриевич, откусывая сухарик всё еще крепкими зубами, а не размачивая его в стакане с чаем, как Сафронов.
– Я жду обещанной истории, – напомнил тот, – но хорошо, если бы вы несколькими чертами обрисовали эпоху, когда всё это случилось. Исторический фон, если позволите, раз уж я не смогу назвать точной даты.
– Фон роскошный, вы себе даже представить не можете, – вздохнул Иван Дмитриевич. – В то время под словом «политика» имелись в виду исключительно события вроде войны Мехмет-султана турецкого с Мехмет-пашой египетским, все газеты были одного направления, а о евреях вспоминали только в тех случаях, когда требовалось занять денег. О, – продолжал он, – это было чудесное время! В ваших летах вы еще не знаете, что эпоха подобна женщине, с которой живешь: чтобы оценить ее по достоинству, нужно расстаться с ней навеки.
Стояла ранняя осень 1893 года. За раскрытым окном веранды на деревьях уже поредела листва, и с речного обрыва открывалась такая даль, что от простора щемило сердце. Теплый воздух был тих и прозрачен. Время закатной старческой неги, утоленных желаний и последней в жизни безумной надежды на то, что этот покой продлится теперь до самой смерти.
– Я тогда был не начальником всей сыскной полиции, – мечтательно сказал Иван Дмитриевич, – а квартальным надзирателем Спасской части…
Глава 1. Исчезновение
В тот давнишний вечер они с сыном Ванечкой после ужина сидели на полу и забавлялись игрой, которую Иван Дмитриевич сам придумал и сам же, с помощью акварельных красок на меду, воплотил в реальность бумажного листа. Этой игре он придавал большое значение в деле воспитания сына. Через лист, извиваясь, как змея в предсмертных судорогах, тянулась дорога, во всю ее длину расчерченная нумерованными квадратами. В своих немыслимых изгибах она проходила между различными соблазнами, подстерегающими на жизненном пути всякого человека, в особенности молодого. За первым поворотом путнику грозило НЕПОСЛУШАНИЕ СТАРШИХ, далее в определенной последовательности на него готовы были наброситься НЕВЕЖЕСТВО, ЛЕНЬ, МОТОВСТВО, ПЬЯНСТВО, СРЕБРОЛЮБИЕ и прочие пороки. Все они были нарисованы Иваном Дмитриевичем в виде гнусных субъектов преимущественно мужского пола, хотя попадались и женщины, и препакостные уродцы не то двуполые, не то вовсе бесполые.
Они с Ванечкой по очереди выкидывали кости, затем передвигали свои фишки на столько шагов, сколько выпало зерен. Путь был опасен. Если фишка вставала на квадратик, отмеченный тенью какого-либо из пороков, то, смотря по его тяжести, приходилось пропускать ход или два, или даже возвращаться назад, чтобы искупить грех под сенью соответствующей добродетели. Они также встречались вдоль этой тернистой тропы, правда, не в таком изобилии, как соблазны. Их было меньше отчасти по соображениям воспитательного порядка, отчасти просто потому, что Ивану Дмитриевичу плохо удавались положительные персонажи. Как у многих авторов, отрицательные выходили у него гораздо выразительнее.
В конце пути победителя ждал нарисованный женой ангел. В руках он держал перевязанную лентой коробку, какие много лет спустя террористы приспособились кидать под кареты императоров, губернаторов, министров и обер-прокуроров Святейшего Синода. Что лежало внутри коробки, Иван Дмитриевич предпочитал не уточнять. Ее содержимое оставалось для Ванечки загадкой – лучшей гарантией от неизбежного при любом ответе разочарования.
Ванечка бросил кости и дрожащей ручонкой взялся за фишку. От огорчения у него отвисла губа. Он уже мысленно сосчитал ходы и предвидел, что ему теперь придется пропустить три хода. Его фишка должна была остановиться на желтом, как билет проститутки, квадратике, возле которого Иван Дмитриевич изобразил мерзкую патлатую бабищу – и написал огненными буквами: СЛАСТОЛЮБИЕ. Это, пожалуй, было самое опасное препятствие на пути к ангелу с бонбоньеркой. Почему так, Ванечка не в силах был понять. Лохматая толстая тетя в детской пелеринке казалась ему олицетворением преступной любви к шоколаду и малиновому варенью – страсти, конечно, роковой, но не настолько же, чтобы пропускать целых три хода.
Он еще сильнее отвесил нижнюю губу, потом в ярости смахнул с листа обе фишки и заревел.
В этот момент позвонили у дверей. Жена пошла открывать и вернулась вместе с Евлампием, доверенным лакеем купца Куколева, нанимавшего квартиру в том же доме и в том же подъезде. Иван Дмитриевич жил на третьем этаже, а Куколев на первом.
– Яков Семенович покорнейше просят вас пожаловать к нему по важному делу, – сказал Евлампий.
Ванечка горько рыдал на груди у матери, метавшей на Ивана Дмитриевича холодные молнии из-под соболиных бровей, так что он даже и обрадовался возможности улизнуть из дому. В другое время Иван Дмитриевич не преминул бы соблюсти достоинство и попросить уважаемого Якова Семеновича самому пожаловать в гости.
На площадке, поворачивая ключ в замке, стоял Гнеточкин, гравер Академии художеств, тоже сосед. Иван Дмитриевич квартировал с ним дверь в дверь.
– Прогуляться? – спросил Гнеточкин. – Надо, надо по такой погоде. Благодать! Последние деньки лета. Чем-чем, а теплом нас Господь в этом году не обделил.
Ниже попались навстречу другие соседи: акцизный чиновник Зайцев с супругой и двумя дочерьми на выданье, унылыми девицами, чего никак нельзя было сказать об их матери. Это была пухлая болтливая дамочка лет под сорок. Она постоянно строила Ивану Дмитриевичу глазки, на лестнице норовила зацепить турнюром, а с его женой разговаривала, как с прислугой.
– Погодка-то, а? – сказал Зайцев. – Прямо шепчет.
– Что шепчет? – спросил Иван Дмитриевич.
– Кому что, – загадочно улыбнулась мадам Зайцева. – Каждому по его годам.
Когда спустились на первый этаж, Иван Дмитриевич поинтересовался:
– Что у вас там стряслось?
– Про то вам Яков Семенович сами доложат, – отвечал Евлампий. – Нам не велено.
– А если я тебе двугривенный дам?
Вопрос был задан почти машинально. После нескольких лет службы в полицейских агентах Иван Дмитриевич приобрел привычку на всякий случай испытывать, насколько преданы хозяину его слуги, можно ли из них что-либо вытянуть.
– Нам не велено говорить, что старая барыня пропала, – тут же и раскололся верный Евлампий.
– Марфа Никитична?
– Она… Двугривенный-то у вас при себе? Или ворочаться будем?
Теперь Ивану Дмитриевичу стало жаль денег. Тайна того не стоила. Чего, спрашивается, не утерпел? Через пять минут и так бы узнал, бесплатно.
– Двугривенный? – удивился он.
– Обещали дать, ежели скажу.
– А-а! Молодец, что напомнил. Вот жалованье получу, тогда и дам.
Евлампий надулся, но промолчал. Он открыл дверь, Иван Дмитриевич вошел уверенно, как званый и желанный гость, но вопреки ожиданиям Куколев встретил его не в прихожей, а в гостиной, причем и там-то не у порога. Правда, на ногах, не сидя, что в данной ситуации было бы хамством уже совершенно непростительным.
– Присаживайтесь куда хотите, – предложил он, быстрым жестом предоставляя на выбор кресло, диван и два ряда стульев у противоположных стен, справа и слева от себя.
Во время этого жеста Иван Дмитриевич обратил внимание, что правая кисть у него забинтована, из-под повязки торчат лишь кончики пальцев.
– Кипятком обварился, – отвечал Куколев на вопрос, что у него с рукой.
– Хорошо еще, что кипятком, а не бульоном или кипящим маслом, – утешил его Иван Дмитриевич. – Масло страшней всего. Жена у меня в прошлом году…
– Садитесь, садитесь, – нетерпеливо перебил Куколев.
Иван Дмитриевич секунду помедлил, выбирая между диваном и двумя шеренгами стульев, и сел на стул. Попутно он успел оглядеться, отметив бронзу, хрусталь, дорогие обои, гравюры на стенах, чей-то портрет в богатой раме. О том, что хозяин происходит из династии заволжских староверов, свидетельствовало разве что отсутствие пепельниц на столах и столиках. В ранней юности отрекшись от веры предков, Куколев унаследовал от них ненависть к табачному зелью.
– Я к вам по-соседски, – сказал он. – Выручайте, голубчик, а то прямо не знаю, что и делать. Пропала моя родительница. Вчера после обеда вышла подышать воздухом – и с той поры не возвращалась.
– Марфа Никитична? – уточнил Иван Дмитриевич.
– У меня одна мать.
– И вы всё еще не обратились в полицию?
– В этом нет нужды. Я думаю, мы с вами столкуемся по-соседски. По правде говоря, я не боюсь, что моя мать стала жертвой грабителей. Кому нужна старуха на седьмом десятке! Драгоценностей она не носит, если не считать обручального кольца, и одевается, сами знаете, как простая мещанка. Моя дочь стесняется ходить рядом с бабушкой по улице. Носит всякое старье, а заставить ее надеть приличную вещь совершенно невозможно. И в комнате у нее одна рухлядь. А попробуй выброси! Крик, скандал.
– У меня с тещей та же история, – кивнул Иван Дмитриевич.
– Значит, вы меня понимаете. А то вон Зайцева всем рассказывает, будто я свою мать держу в черном теле.
– Что ее слушать! Известное колоколо.
– Так вот, после исчезновения Марфы Никитичны я обнаружил, что она зачем-то взяла с собой пуховый платок и надела теплый салоп, который я подарил ей два года назад. Заметьте, все эти годы она его ни разу не надевала, донашивала старый. Этот был презираем за какие-то еретические пуговицы и лежал у нее в сундуке, как в могиле. А вчера вдруг понадобился! Кроме того, она прихватила из моего бюро бумажник с деньгами.
– И много там было денег?
– Много не много, а рублей сто пятьдесят было.
– Иными словами, вы думаете, что Марфа Никитична не пропала, а сбежала. Я вас правильно понял?
– Абсолютно! Видите ли, у меня есть старший брат Семен. Он, как и я, после смерти отца перешел в православие, окончил Демидовский лицей и служит сейчас по Министерству финансов. Но дело в том, что мы с ним не поддерживаем никаких отношений. Почему так случилось, история длинная и, поверьте, скучная. Однако Марфа Никитична частенько бывала у него, я этому не препятствовал. А теперь она, видимо, назло мне решила поехать к старшему сыну.
– Почему вдруг?
– Вообще-то у моей матери всё и всегда – вдруг. Но на днях у нее вышло недоразумение с Шарлоттой Генриховной.
Это была жена Куколева, тощая экзальтированная особа годков этак под тридцать пять. Разница в возрасте между супругами составляла добрый десяток лет, но оба казались ровесниками. Шарлотта Генриховна была женщиной непредсказуемой. Встречая жену Ивана Дмитриевича, она то надменно смотрела мимо и неделями даже не раскланивалась, то в один прекрасный день налетала на нее с объятиями, поцелуями, предложениями, чтобы ее Оленька непременно дружила с Ванечкой, он чудесный мальчик, чудесный. Впрочем, единственной настоящей ровней себе во всём доме она признавала только барона и баронессу Нейгардт, живших в соседнем подъезде.
– Они с Марфой Никитичной нередко ссорились из-за разных домашних пустяков, – пояснил Куколев. – На сей раз причиной послужила новая скатерть. Одна хотела застелить ею один стол, другая – другой. Кто за какой стоял, я так и не разобрался.
– И что же вы от меня хотите? – спросил Иван Дмитриевич.
– В это время года, пока еще тепло, мой брат обычно живет с семьей на даче за Охтинской заставой. Где в точности, не скажу, я у него там никогда не бывал. Но мать рассказывала, так что примерно представляю. Проезжаете заставу… Нет, надежнее будет нарисовать планчик. Посидите, я принесу бумагу и карандаш.
Слегка припадая на правую ногу (он был хром от рождения), Куколев пересек гостиную и вышел в коридор, откуда донеслось шипение Шарлотты Генриховны:
– Почему ты не сказал этому сыщику, что твоя мать кидалась на меня с горячим утюгом?
– Тише! Лотточка, я тебя прошу…
Двойной шепот передвинулся куда-то в глубину квартиры. Иван Дмитриевич прошелся по комнате, перебрал стопку книг на маленьком столике у окна. Всё это были сочинения по коммерции. От нечего делать он взял одно из них, томик под названием «Таможенные пошлины во Франции при Людовике XVIII», небрежно полистал и ахнул: в конце книжки имелись вклеенные страницы с дамочками в непристойных позах.
Кровь быстрее побежала по жилам. Воровато поглядывая на дверь и прислушиваясь, не идет ли Куколев, Иван Дмитриевич начал рассматривать картинки. Одна дамочка опускала с плеча лямку бюстгальтера, другая игриво поднимала край пеньюара, третья натягивала чулок, четвертая, в спущенных, как у дитяти, чулочках, нежно баюкала у груди собственные подвязки. Пятая, шестая… Все были пухленькие, чернявенькие, как мадам Зайцева.
Иван Дмитриевич с некоторым сожалением отметил, что позиции, в которых за ними подсмотрел художник, еще достаточно невинны, словно это не развратные женщины, не куртизанки, а всего лишь девицы, донельзя истомленные своим целомудрием и страстно мечтающие от него избавиться. Казалось, они не перед мужчиной раздеваются, а репетируют, чтобы впоследствии не оплошать, перед зеркалом в девичьей спаленке. Да и то под такой обложкой им можно было позволить себе несравненно большие вольности.
Иван Дмитриевич положил книжку на место и обратился к тем картинкам, что украшали стены.
С большого и единственного здесь портрета взирал писанный маслом по грудь калмыковатый старик с пронзительными глазами, с каменной лепкой скул и губ, упрямо проступающих сквозь жидкую азиатскую растительность. Он висел в красном углу, почти вровень с иконами, из чего Иван Дмитриевич заключил, что перед ним супруг Марфы Никитичны, он же отец Якова Семеновича и дед Оленьки, умерший задолго до ее рождения. Художник запечатлел его во всей красе древнего благочестия – при бороде, в кафтане времен стрелецких казней, с кожаными раскольничьими четками в руках, чье название Иван Дмитриевич вспомнил лишь на следующий день: лестовка.
Фоном для портрета этого праведника с капиталом в десятки тысяч рублей служил дивный град, сплошь утыканный пожарными каланчами, осененный одновременно солнцем и луной, сияющий золотом и киноварью. Нетрудно было догадаться, что это Иерусалим. Все соседи не по одному разу слышали от Марфы Никитичны, что ее покойный муж совершил паломничество в Святую землю и привез ей оттуда иорданской воды. С той поры началось его коммерческое процветание.
Что касается гравюр, их можно было разнести по двум классам: на одних изображены были руины, на других – кораблекрушения. Независимо от класса каждая гравюра имела в углу скромный росчерк Гнеточкина, оптом, видимо, сбывшего свои изделия богатому соседу.
Отдельно висели две картинки: литография и акварель. Первая, исполненная в народном духе, изображала ватагу чертей, которые ворвались в трактир, зацепили пожарными крючьями пропившегося догола человека и тащат его к подполу с откинутой крышкой, откуда, надо полагать, подземный ход вел прямо к котлам с кипящей смолой. Поодаль, с нательным крестом в руке, полученным, как понял Иван Дмитриевич, от голого уже пьяницы в уплату за последнюю чарку водки, стоял трактирщик. С двумя крестами, своим собственным и благоприобретенным, он чувствовал себя в полной безопасности и наблюдал происходящее с таким видом, словно не знал за собой никакой вины.
Подобные картинки вывешивались обычно в тех заведениях, где посетителям не подают крепких напитков. Иван Дмитриевич давно заметил, что чем нравоучительнее полотно, тем меньше видна в нем забота о подражании природе. Здесь эта закономерность проявила себя в полной мере: руки у бедного пьяницы росли локтями вперед, одна нога была короче другой, а число пальцев на каждой из верхних и нижних конечностей колебалось вокруг цифры «пять», ни разу в точности с ней не совпадая. Черти, включая самого главного, который руководил этой лихой вылазкой, тоже имели различные изъяны, но тут художника можно было извинить отсутствием у них общепринятой анатомической нормы. Лишь взятые ими на вооружение пожарные крючья были списаны с натуры.
Акварель висела рядом с литографией, однако принадлежала совсем иному направлению в искусстве. Народностью здесь и не пахло: местом действия художник избрал не дешевый трактир, а вестибюль парадного подъезда в очень хорошем доме. Ковровая дорожка спускалась по ступеням, на тумбе возвышалась мраморная ваза с рельефом. Бронзовая наяда, потупившись, держала в поднятой руке светильник, только что, вероятно, потухший. Над ним еще курилась тонкая струйка дыма.
На переднем плане стояли двое: явившийся с улицы громадный рыцарь в доспехах от шеи до пят, в шлеме с опущенным забралом, и сошедший ему навстречу по лестнице средних лет господин в котелке, в модном длиннополом пальто, какое жена мечтала увидеть на Иване Дмитриевиче. Оба стояли на площадке вестибюля между нижними ступенями лестницы и открытыми дверями парадного, их ладони уже встретились, рукопожатие вступило в ту фазу, когда взаимное пожимание рук вот-вот перейдет в легкое их потрясывание, после чего они будут расцеплены. Лицо рыцаря скрыто было под забралом, а на отвернутой немного вбок физиономии господина в котелке застыла вымученная, почти страдальческая улыбка. В то же время чувствовалось, что всего мгновение назад он улыбался вполне радушно, а мгновение спустя эта улыбка превратится в искажающую черты гримасу ужаса и невыразимой муки. Невозможно было понять, каким приемом или суммой приемов достигалось это впечатление, достаточно, кстати, неприятное. В итоге Иван Дмитриевич счел его не заслугой мастера, а случайностью своего собственного настроения. Увы, впоследствии пришлось убедиться, что настроение тут ни при чем: именно на такой эффект художник и рассчитывал.
Странный сюжет! По несовместимости фигур, относящихся к разным эпохам, расстояние между которыми составляло три или четыре столетия, рисунок мог сойти за карикатуру, но тяжелый колорит с преобладанием серого и черного, на контурах размытого потусторонней призрачной синевой, и отсутствие пояснительных надписей говорили о том, что едва ли рисовальщик ставил перед собой задачу откликнуться на какую-нибудь злобу дня. К тому же карикатуры не вставляют в рамки и не вешают в гостиных.
Иван Дмитриевич разглядывал эту акварель минуты две, тем не менее позже все-таки не мог вспомнить, тогда ли он отметил или уже задним числом восстановил в памяти, что за спиной рыцаря в доспехах двери дома распахнуты в ночь, в мрачное небо с грозно полыхающими созвездиями, среди которых бросались в глаза семь звезд Большой Медведицы.
– Извините, что так долго, – входя и помахивая уже готовым планчиком, сказал Куколев. – Правая рука, сами видите, по болезни в отпуску, рисовал левой, а она у меня с детства бесталанная, даже ногти на правой руке остричь не умеет. Приходится просить жену.
В ответ Иван Дмитриевич указал на литографию с чертями:
– По-моему, такие картинки вешают в чайных. Зачем вы ее здесь держите?
– Мать подарила.
– Вам?
– Мне. Что вас удивляет?
– Чертяки эти. С какой стати вздумалось ей дарить сыну этих шишиг?
– С намеком, – объяснил Куколев. – Мол, вон оно что с людьми делает, вино-то!
– Вы разве пьете?
– Нет, но раньше бывало.
– А это что? – перешел Иван Дмитриевич от литографии к акварели.
– Это? А-а, пустяки.
– Тоже чей-то подарок?
– Да, одного приятеля.
– И тоже с намеком?
– Сейчас не время. Давайте к делу, – сказал Куколев. – Подсаживайтесь поближе, сейчас я вам всё покажу.
Он, ясное дело, торопился, и все-таки уже тогда возникло смутное подозрение, что говорить об этой акварели ему не только некогда, но и не хочется.
Здоровой рукой Куколев разложил на столе свой планчик, сели его изучать.
– Сделайте одолжение, – попросил он, покончив с маршрутом, – поезжайте к моему брату в качестве официального лица, как-нибудь припугните его полицией и узнайте, там ли Марфа Никитична. Еще лучше, если вы сумеете вернуть ее домой. Может быть, вам это и удастся. Братец у меня всегда был трусоват, а вы, насколько мне известно, человек находчивый… Заранее благодарен.
С этими словами Куколев достал из кармана и положил поверх планчика десятирублевую ассигнацию.
– Что, – не прикасаясь к ней, спросил Иван Дмитриевич, – прямо сейчас?
– Да, голубчик.
– Отчего такая срочность, если вашей матушке ничто не угрожает?
– Моя Оленька сегодня весь день проплакала. Она без бабушки жить не может.
– Извините, Яков Семенович, но за десять рублей я в это поверить не могу.
– А за сколько можете?
– По крайней мере, за половину той суммы, которую унесла Марфа Никитична.
– Хорошо, – вздохнул Куколев, – призна́юсь вам честно. В бумажнике вместе с деньгами лежала одна вещица, не предназначенная для посторонних глаз.
– Что же это такое?
– Для вас не имеет значения. Для нее, впрочем, тоже. Я не хочу, чтобы вещица попала в руки моего брата.
Такая секретность подействовала на Ивана Дмитриевича едва ли не сильнее, чем соблазнительно красневшая на столике десятка. Наряду с мстительностью, любопытство лежало в основе его характера, как замко́вый камень.
– Ладно, – сдался он. – Еще одну красненькую накиньте, и я к вашим услугам.
Просьба исполнена была немедленно: поверх десятирублевой ассигнации легла вторая такая же.
– И на извозчика, – велел Иван Дмитриевич.
– Прошу.
Куколев добавил к двадцати рублям еще полтинник, два двугривенных и гривенник.
– Ой, хватит ли? Ваньки обнаглели, дерут, ироды.
– Не сомневайтесь. Достанет два раза туда и обратно съездить.
– Верю, верю. Давайте еще пять рублей, и я готов ехать.
– Не многовато? Пять рублей-то на что?
– Так. Для ровного счета.
– Десять, десять, рубль мелочью и пять, – сосчитал Куколев. – Получается двадцать шесть рублей. По-вашему, это круглая сумма? Тогда уж давайте мелочь назад. Или нет, возвращайте мне всё, а я вам выдам четвертную, и дело с концом.
– Нет, оставим как есть, – твердо сказал Иван Дмитриевич. – Мне приносят удачу те числа, что делятся на тринадцать.
В прихожей он незаметно сунул двугривенный Евлампию, исполнив тем самым свое обещание, и вышел.
Жена терпеть не могла, когда Иван Дмитриевич по вечерам отлучался из дому. Даже пятнадцать рублей не смягчили ее сердце и не вырвали у нее прощальный поцелуй. Десятку он утаил, оставив себе на расходы. Всё равно она ничего не изменила бы. Жена была из тех женщин, чью любовь и прощение нельзя купить ни за какие деньги.
Иван Дмитриевич сошел на улицу, дошагал до людного перекрестка, там кликнул извозчика и часов около девяти, сверившись по планчику, уже стучал под воротами опрятного деревянного домика за Охтинской заставой. Не открывали долго. Наконец неласковый женский голос спросил из-за ограды:
– Кто?
– Полиция, – традиционно ответил Иван Дмитриевич.
Калитка отворилась, он увидел высокую, статную даму в домашнем капоте. Возраст ее в глубоких сумерках определить было трудно.
– У вас что, прислуги нет? – поинтересовался он, предъявляя свой жетон полицейского агента.
– Сегодня суббота. В субботние вечера наша прислуга пользуется полной свободой.
Сказано было тем тоном, каким высказываются заветные политические убеждения, не вполне согласные с линией правительства.
– Ваша фамилия, мадам? Или, простите, мадемуазель?
– Мадам Куколева. Как же так? Стучитесь в дом и не знаете фамилии хозяев?
– Какая приятная неожиданность! – воскликнул Иван Дмитриевич. – Неужели вы супруга Семена Семеновича Куколева?
– Да…
– Того самого?
– Вы знакомы с моим мужем?
– Лично – нет, но весьма наслышан. Он ведь служит по Министерству финансов?
– Да.
– В наше время вопросы государственной экономии касаются всех. Надеюсь, вы не думаете, что в полиции служат сплошь невежды?
– Вот уж не знала, что мой муж пользуется такой известностью среди полицейских.
Иван Дмитриевич кивнул в сторону освещенных окон:
– И он сейчас там?
– Где же ему быть? Час поздний.
– А кто с вами еще?
– Больше никого.
– Деток не имеете?
– Они с горничной на городской квартире.
– Да-а, худо дело.
– А что, собственно, случилось? Что вам нужно?
Иван Дмитриевич понизил голос:
– По нашим сведениям, где-то неподалеку скрывается бежавший из-под караула арестант. Убийца! Страшное, потерявшее человеческий облик существо.
– Господи! – ужаснулась Куколева.
– Мы проверяем все дома вблизи Охтинской заставы, а у вас, я вижу, ни собаки, ни прислуги. Он мог перелезть через забор и спрятаться в вашем саду или в погребе.
– Входите, входите. Я позову мужа.
Через минуту появился Куколев-старший. Это была копия младшего брата, но уменьшенная и как бы усушенная. В руке он держал зажженный фонарь. Иван Дмитриевич двинулся вперед, супруги за ним. Пошарили в кустах сирени у забора, заглянули в надворную кухоньку, в погреб. При этом Семен Семенович старался держаться поближе к дому и время от времени говорил:
– Эх вы, полиция! Взятки берете, а разбойники у вас бегают. Пропьянствовали небось!
Жена его, надо отдать ей должное, вела себя с несравненно большей отвагой.
– Ч-черт! – хлопнул Иван Дмитриевич себя по макушке. – Как же я не предусмотрел!
– Что такое? – забеспокоился Куколев.
– Пока мы тут возимся, этот человек в темноте мог проникнуть в дом. Дверь открыта…
Сказал и понял, что малость переусердствовал: мадам взглянула на него с подозрением. Очевидно, версия о беглом каторжнике, который засел в ее собственном доме, не показалась ей убедительной.
Тем не менее дачку следовало бы осмотреть изнутри. Может быть, Марфа Никитична увидела его из окна, догадалась, кем он послан, и прячется, а супруги по какой-то причине скрывают ее присутствие. Чутье подсказывало, что этой мадам не стоит верить на слово, а Иван Дмитриевич привык честно исполнять взятые на себя обязательства. Тем более если заплачено… Он стремительно взлетел на крыльцо. Одна комната, другая, третья. Пусто.
Хозяйка побежала за ним, но остановить его не успела.
– Фу-у! – как бы с облегчением сказал ей Иван Дмитриевич. – Слава богу, никого.
– Я прочитала на жетоне вашу фамилию, – ответила она, – и завтра наведу справки о вас, господин Путилин, а заодно и о сбежавшем арестанте, если он вообще существует. Кто послал вас ловить его в моем доме?
– Сударыня! Ради вашей же безопасности…
– У меня достаточно связей, чтобы завтра всё выяснить у вашего начальства.
– Завтра воскресенье.
– Ну так послезавтра. Боюсь, мы с вами еще встретимся.
– Буду счастлив, – ответил Иван Дмитриевич, отступая за ворота.
Извозчику он велел ждать за углом и всю обратную дорогу запоздало корил себя за излишнюю старательность. Полученные от Куколева-младшего деньги грозили обернуться не прибылью, а серьезными убытками. За такие дела запросто и со службы полететь.
На звонок вышел сам Яков Семенович.
– Вероятно, – сказал он, выслушав доклад, – Марфа Никитична поехала к ним на городскую квартиру.
– От меня еще что-то требуется?
– Нет, спасибо. Туда я могу и сам съездить, коли мой брат с женой на даче. Спокойной ночи.
Глава 2. Знак семи звезд
На следующий день, в воскресенье, Иван Дмитриевич проснулся в мрачном расположении духа. Спал он отдельно от жены, не спустившей ему вчерашней отлучки, и на одиноком ложе его сильнее мучила мысль об ожидающих служебных неприятностях. И чего так-то старался?
Одевшись, он прошел в детскую, где и подоконник, и стол, и постель сына – всё было загажено вольно порхающим по комнате щеглом. Ванечка повадился открывать клетку, чтобы не лишать Фомку свободы. Назвать это новостью для себя Иван Дмитриевич не мог, но поскольку настроение было как с похмелья, птичье безобразие привело его в бешенство. Он ловко накинул на щегла платок, схватил бедную птицу и понес к окну. Сей же момент вышвырнуть ее вон из квартиры! Ванечка, проснувшись, завыл, кинулся к отцу. Прибежала жена, которая, видимо, за ночь отчасти осознала свою вину, поэтому против обыкновения встала на сторону мужа.
Напрасно Ванечка в одной рубашонке падал на колени, рыдал, хватал родителей за руки. Ни мать, ни отец не поддались на его мольбы, слёзы и клятвенные заверения никогда-никогда не выпускать щегла из клетки. Пакостник Фомка присужден был к изгнанию. Правда, сжалившись над сыном, Иван Дмитриевич уступил ему в одном: согласился отпустить Фомку не в городе, а в его родной стихии.
После невеселого завтрака они взяли клетку с щеглом и на извозчике отправились в пригородный лесок. Ванечка успокоился, но еще икал от недавних рыданий. Наконец добрались до места, где и решено было даровать Фомке вольную. Лес тут был негустой, дачный. Никаких коршунов, о которых тревожился Ванечка, зато червяки наверняка есть. К тому же стояла такая теплынь, что снова повылазили из каких-то щелей комары и бабочки. В ближайшее время голодная смерть Фомке не угрожала. Когда открыли клетку, он бодро выпорхнул из нее, что-то пропищал напоследок, что Ванечка истолковал как обещание вечной памяти и любви, и растворился в прозрачном воздухе последнего летнего дня.
Вскоре сын утешился найденным грибом. Он было оставил его белочкам, заготовляющим себе припасы на зиму, но, увидев затем еще один, этот гриб уже сорвал и вернулся к первому. Класть их было некуда, кроме как в клетку. Через полчаса в ней лежало несколько трухлявых груздей, две сыроежки и подосиновик. Ванечка не мог на них налюбоваться, но потом он ушиб ногу, устал, закапризничал, и в наказание ему все эти сокровища были безжалостно вытряхнуты на землю у дороги.
– Вот тебе, вот тебе, раз не умеешь себя вести! – приговаривал Иван Дмитриевич, высыпая из клетки остатки грибной трухи. – Домой немедленно!
Он схватил за руку остолбеневшего от горя Ванечку и поволок его за собой. Тот лишь тихо всхлипывал – а Иван Дмитриевич, поостыв, начал сомневаться в правомерности столь жестокой кары.
– Почему ты так себя ведешь? – говорил он всё неувереннее. – Не стыдно, что вывел меня из себя? Тебе должно быть стыдно так себя вести.
Ванечка помалкивал, а Иван Дмитриевич одну за другой сдавал свои позиции:
– Мне, например, стыдно, что я не сдержался и вышел из себя. Я сознаю, что виноват. А ты? Тебе не стыдно? Ты меня вывел из себя своим поведением, мне стыдно, а тебе, выходит, не стыдно? Нет, брат, мы оба должны признать…
Шагов через полсотни он увидел на опушке две фигуры, мужскую и женскую: эта парочка что-то искала в траве. Женщина, видимо, не сильно была огорчена потерей, она лениво тыкала перед собой зонтиком, зато мужчина, присев на корточки, старательно утюжил землю ладонями. Не без удивления Иван Дмитриевич узнал в нем Куколева-младшего, который сейчас должен был бы искать не упавший кошелек или дамский платочек, а пропавшую матушку.
– Э-эй! – издали окликнул он соседа. – Яков Семенович!
Женщина стояла к нему спиной, полузаслоненная деревом, и он ее разглядеть не успел. При звуке его голоса она почему-то проворно юркнула в кусты.
– Что вы тут потеряли? – подходя ближе, спросил Иван Дмитриевич.
– Пустяки. Полтинничек обронил.
– Тоже деньги. Помочь вам?
– Не надо. – Куколев подозрительно сощурился. – И давно вы за мной наблюдаете?
– Только что подошел. Ну как, нашлась Марфа Никитична?
– Пока нет.
– Но вы были у брата на городской квартире?
– Послушайте, почему вас так это интересует?
– Странный вопрос, Яков Семенович.
– Не более странный, чем наша с вами встреча. Как вы здесь очутились?
– А что вас удивляет? Гуляю с сыном. День воскресный, решили насобирать грибов.
– Куда же вы собираетесь их класть? Я не вижу корзины.
– Да хоть сюда можно, – помахал Иван Дмитриевич бывшим Фомкиным узилищем.
– Вы всегда ходите по грибы с птичьей клеткой?
– Спросите еще, не ношу ли я воду в решете. В клетке сидел щегол.
– И где он теперь?
– Мы его выпустили.
– Чтобы освободить место для грибов?
– Получается, так. Хотя, конечно…
– А грибов не нашли?
– Нет, нашли, – покосился Иван Дмитриевич на Ванечку. – Нашли хорошие грибочки.
– Тогда, простите, где же они?
– Я их выбросил.
– Нашли, говорите, хорошие грибочки и выбросили?
– Да, пришлось.
– Чтобы вместо них опять посадить щегла, за которым вы в настоящий момент и охотитесь. Понимаю, – кивнул Куколев. – Вот теперь наконец вы мне всё очень доступно объяснили. В логике вам не откажешь. Каждый ваш последующий поступок легко и естественно вытекает из предыдущего, а взятые вместе, они просто поражают своей целесообразностью.
– Вы не верите мне? – растерялся Иван Дмитриевич.
– А вы на моем месте поверили бы?
– Но зачем я врать-то стану?
– Кто вас знает. Помнится, вчера вы мне и за красненькую поверить не захотели.
Иван Дмитриевич улыбнулся:
– У вас не было свидетелей.
– А у вас есть?
– Пожалуйста, сын подтвердит… Ванечка, скажи дяде Яше.
Но тот опустил головку и мстительно молчал, ни в чем не желая помогать своему обидчику. Недаром считалось, что характером Ванечка пошел в отца.
– Не учите ребенка говорить неправду, – усмехнулся Куколев. – Лучше скажите честно, кто поручил вам шпионить за мной.
– Чего-о?
– Скажите, и я даю слово: это останется между нами.
– Яков Семенович, дорогой…
– Не скажете, – предупредил Куколев, – я всё равно узнаю. Вам только хуже будет.
– Вы с ума сошли! – рассвирепел Иван Дмитриевич.
Вдруг его осенило:
– Шагов полста всего, Яков Семенович, – там они и лежат.
– Кто «они»? – встрепенулся Куколев.
– Кто-кто! Грибы, что я выбросил.
– А-а…
– Пойдемте, если не верите, я их вам покажу.
Куколев охотно принял предложение:
– Что ж, пойдемте.
Он и прежде-то вел себя, как перепелка, заманивающая лисицу в сторону от своего гнезда: за разговором настойчиво, хотя и незаметно, пытался отвести Ивана Дмитриевича подальше от того места, где засела в кустах женщина с красным зонтиком. Всё это время она не подавала признаков жизни.
– Пойдемте, пойдемте.
Дошагали до старой придорожной березы с вывернутым корневищем, возле которой, как точно помнил Иван Дмитриевич, они вывалили эти злополучные грибы, – но их там почему-то не оказалось. Кое-где жалко серела разлетевшаяся по ветру грибная труха, однако на нее Куколев даже смотреть не захотел. Действительно, эту пыль трудно было признать за доказательство.
– Что за черт! – расстроился Иван Дмитриевич, ощущая себя полным идиотом.
– Ну-ну, – хмыкнул Куколев.
– Наверное, кто-нибудь из дачников поживился. Сегодня воскресенье, их здесь полон лес.
Догадка имела смысл: неподалеку мелькали на поляне шляпы с лентами, слышался детский смех, но Куколев ничего этого замечать не хотел.
– Значит, грибов нет, а щегла вашего нам и подавно не сыскать, – сказал он.
– Ей-богу, тут они лежали. Ванечка, скажи, мальчик, – льстивым голосом попросил Иван Дмитриевич.
Сын молчал, глазенки злобно посверкивали из-под материнских бровей. Мстительностью он пошел в отца, упрямством – в мать.
– Вот что, господин Путилин, – спокойно сказал Куколев. – Скажите, кто вас послал следить за мной и сколько вам заплатили. Я вам дам вдвое больше.
Он достал бумажник.
– Тьфу! – Иван Дмитриевич в сердцах сплюнул и схватил Ванечку за руку.
– Смотрите, – крикнул Куколев, – пожалеете!
Иван Дмитриевич остановился и, подбоченясь, отвечал:
– Ха! Что вы мне сделаете!
Куколев пощелкал ногтем по бумажнику:
– Ваше начальство может оказаться не столь принципиальным. Вас ждут неприятности.
И этот туда же! Ну и семейка. Усилием воли Иван Дмитриевич заставил себя успокоиться.
– На полицию в чем только не клевещут, – задушевно сказал он. – И взяточники-то мы, и пьяницы, и лентяи. Еще поговаривают, будто мы с уголовными связаны, имеем друзей между ворами и убийцами. Или даже сами по ночам в воровские притоны захаживаем, в картишки там балуемся. Ну какой разумный человек вроде вас поверит в такую ересь! И если, к примеру, склад с вашими товарами случайно сгорит или ночью в спальне у вас появится какой-нибудь Каин с ножичком, чтобы перерезать вам горло, вам же в голову не придет обвинять в этом полицию. Так ведь, Яков Семенович? Тем более при чем тут скромный полицейский агент, всецело зависящий от расположения начальства?
Сказал – и вздрогнул. Показалось, что на лице Куколева как отражение этих обидой вырванных слов проступила вдруг печать смерти. Мелькнула на мгновение, неуловимо искажая и заостряя черты, и тут же растаяла в солнечном блеске.
Вообще при свете дня судьбоносные знаки трудно прочесть даже тем, кому дано понимать эту тайнопись. Господь таит их от смертных. Зато владыка ночи – тот, само собой, способствует.
Что почувствовал в ту минуту его собеседник и сосед, Иван Дмитриевич так никогда и не узнал.
– Я пошутил, Яков Семенович, – примирительно сказал он.
Куколев не ответил. Молча повернувшись, он пошел обратно к кустам, за которыми пряталась его пугливая подруга. Там, в желтизне и зелени, чуть сквозило белое платье и алел зонтик. Узенькая полоса красного шелка, Иван Дмитриевич хорошо ее запомнил.
Они с Ванечкой двинулись по направлению к дому. Ругать сына не хотелось, читать ему нотацию – еще того меньше. Его поведение можно было истолковать и как предательство, и, напротив, как доказательство недетской силы характера. Не зная, какой вариант предпочесть, Иван Дмитриевич решил оставить себе время для раздумий.
– Дома поговорим, – сказал он.
Как все чуткие дети, Ванечка трепетал перед отложенным разбирательством, но сейчас эта угроза не произвела на него никакого впечатления. Он вприпрыжку скакал по дороге, его бледное личико лучилось счастьем. Иван Дмитриевич даже испугался: неужели мальчик настолько испорчен, что способен так истово, забыв обо всём, наслаждаться радостью отмщения за щегла, за выброшенные грибы? Но вскоре он заметил, что правый кулачок Ванечка держит крепко сжатым и порой, отвернувшись, что-то в нем украдкой разглядывает. Там, в маленьком грязном кулачке, скрывалась какая-то драгоценность; оттуда исходило счастье, озарявшее лицо сына.
– Что у тебя в руке? – спросил Иван Дмитриевич.
Ванечка еще крепче стиснул пальцы. Он весь сжался, притих и затравленно смотрел на отца. Судьба Фомки и найденных грибов опять обрисовалась перед ним во всём своем ужасе.
– Что, я спрашиваю?
– Я не крал, папенька! Я нашел.
– Покажи.
– А вы не отберете?
– Не отберу. Показывай.
– Перекреститесь, папенька, – сказал сын скорбным от нахлынувших воспоминаний голосом.
– Даю слово дворянина, – торжественно пообещал Иван Дмитриевич, но креститься не стал.
Эта клятва несколько опережала события, поскольку дворянское звание он должен был получить лишь со следующим чином, до которого еще служить и служить.
Потрясенный такой присягой, Ванечка развел пальцы. На ладошке лежал небольшой, размером и толщиной с полтинник, блестящий круглый жетон из какого-то желтоватого металла.
Иван Дмитриевич взял его, попробовал на зуб. Металл не поддался, хотя зубы у него были хорошие.
– Золото? – с надеждой спросил Ванечка.
Промолчав, чтобы не разочаровать сына, Иван Дмитриевич начал изучать свой трофей. С одной стороны жетон был совершенно гладкий, с другой имел недурной выделки чеканку: семь звездочек, образующих ковш Большой Медведицы. Вдоль обода, как на монете или медали, шла круговая надпись: ЗНАК СЕМИ ЗВЕЗД ОТКРОЕТ ВРАТА.
– Ну и где ты его нашел?
– Где вы с дядей Яшей разговаривали.
– А говоришь, нашел.
– Честное слово, папенька! Я нашел!
– Нет, брат! Если найдешь то, что другой потерял, и знаешь кто, – это всё равно что украл.
– Отдайте, – железным голоском сказал Ванечка, – вы обещали.
– Так и быть, – сжалился Иван Дмитриевич, возвращая сыну его находку. – Поиграй пока, а как наиграешься, отнеси хозяину. Идет?
– Ага, – кивнул Ванечка.
В его распоряжении была целая вечность. Он и представить себе не мог, что такая чудесная вещь когда-нибудь ему прискучит.
– Отнесешь дяде Яше, – ханжеским тоном добавил Иван Дмитриевич, – и он, глядишь, за находку нас с тобой полтинничком пожалует.
А сам с удовольствием подумал, что, пожалуй, цацка обойдется Куколеву подороже, чем в полтину. Ясно было, что вещица непростая, что судьба сдала на руки козырь в партии с Яковом Семеновичем и тот остережется интриговать против соседа, владеющего этой тайной. Еще и от себя прибавит. ЗНАК СЕМИ ЗВЕЗД ОТКРОЕТ ВРАТА. Какие врата? Почему? Странная штучка.
Иван Дмитриевич заговорщицки подмигнул сыну:
– Смотри сам-то не потеряй!
Когда рассказ дошел до этого места, Сафронов отчего-то начал нервничать, что не укрылось от внимания Ивана Дмитриевича.
– Я чувствую, – сказал он, – вы хотите меня о чем-то спросить.
Зная вспыльчивость своего собеседника, Сафронов на всякий случай решил подстраховаться:
– Сердиться не станете?
– Нет-нет, спрашивайте.
– Помнится, вы говорили, что щегла Фомку задрала кошка…
– Увы, не повезло бедняге.
– Простите, но…
– А что вас смущает?
– Вы, значит, выпустили его в лесу, а он оттуда нашел дорогу обратно к вам на квартиру?
– Помилуйте, это ведь щегол, а не кошка!
– Тогда извольте устранить противоречие. Я-то не сомневаюсь в вашей правдивости, но читатели могут оказаться не столь доверчивы.
– Я разве не говорил, – с улыбкой отвечал Иван Дмитриевич, – что у нас в доме всегда жили разные птицы? Да, и все были Фомки, так уж повелось. Семейная традиция. Попугай, кенар, скворец, два щегла – и все Фомки. Одного щегла мы с Ванечкой отпустили на свободу, а другого действительно задрала кошка.
– И второе, – жестко сказал Сафронов. – По ходу рассказа об убийстве австрийского военного атташе в Петербурге, князя фон Аренсберга, вы неоднократно упоминали своего трехлетнего сына Ванечку.
– Упоминал. И что?
– Людвиг фон Аренсберг был убит в 1871 году. Верно?
– Совершенно верно.
– А история, которую вы сейчас мне рассказываете, произошла раньше лет этак на двенадцать. Где-то вскоре после Крымской войны, как я понимаю. В то время вы еще даже личного дворянства не выслужили.
– Ну не на двенадцать, это вы, пожалуй, лишку хватили, но годиков на семь-восемь пораньше. Да, – признал Иван Дмитриевич.
– Пускай на семь. И вашему Ванечке, судя по его поведению в лесу и дома, было тогда лет шесть. Так ведь?
– Около того. Позднее характер у него стал гораздо более мягкий.
– Значит, – коварно ухмыльнулся Сафронов, – плюсуем шесть к семи, и получается, что в 1871 году ему должно было исполниться по меньшей мере тринадцать. А не три! Или у вас несколько сыновей? И все они, как щеглы, звались одинаково?
– К несчастью, у меня один ребенок. Остальные умерли в младенчестве.
– В таком случае придется нам как-то привести всё к общему знаменателю. Если в момент убийства фон Аренсберга вашему единственному сыну было три года, следовательно, в этой истории он появиться не может. Его еще нет в природе.
– Нет-нет, – запротестовал Иван Дмитриевич, – здесь он играет активнейшую роль, обойтись без него мы просто не в состоянии. Давайте в той истории вычеркнем, что ему три года. Напишем без уточнений: сын Ванечка. Все истории в нашей книге разместятся в хронологическом порядке, при желании читатели сами смогут приблизительно подсчитать, сколько лет было моему сыну в 1871 году.
– Подсчитают и будут очень удивлены.
– Почему?
– Потому что в той истории, – напомнил Сафронов, – он у вас, как маньяк, постоянно катает по квартире игрушечную жестяную бабочку на палке. Странное развлечение для мальчика в тринадцать лет. Вызывает, знаете ли, вопросы.
– Что делать? Вычеркнем и про бабочку, хотя, сказать по правде, не хочется. Жалко. Хочется, чтобы на протяжении всей книги мой сын оставался ребенком.
– Ну, бабочку-то мы свободно можем перетянуть из той истории в эту.
– Поздно, – вздохнул Иван Дмитриевич. – Здесь Ванечке шесть лет, в этом возрасте он уже читал Виктора Гюго. Жена его заставляла. Это был ее любимый писатель.
Дом, в котором жил тогда Иван Дмитриевич с женой и сыном, стоял в стороне от шумных проспектов, хотя и не на самой окраине. Обычный доходный дом в четыре этажа, с двумя подъездами, он был построен лет, наверное, пятнадцать назад, в те времена, когда подобной высоты здания в столице были еще не то что редкими, но, во всяком случае, заметными. Теперь, в годы начинавшейся строительной лихорадки, дом сильно потускнел в смысле монументальности. К тому же он был непропорционально плоским, как поставленная на попа конфетная коробка, и квартиры в нем не имели той глубины и ветвящегося объема, какие богатым людям представляются житейской необходимостью. Коридоры были узкие, комнаты тесные, зато печи непомерно велики, так что жильцы побогаче постоянно переселялись отсюда в новые места. Из прежних оставались двое: Куколев и барон Нейгардт. Оба – удачливые коммерсанты, они жили здесь давно и уезжать не хотели, жертвуя удобствами ради воспоминаний молодости. Обоим было далеко за сорок, а в этом возрасте воспоминания и привычки трудно отделить друг от друга. Вдобавок на фоне остальных обитателей дома Куколев и Нейгардт чувствовали себя королями, что в этом возрасте тоже не последнее дело. Куколев, правда, и не прочь был переехать, но восставала Марфа Никитична.
Остальные были чиновничья мелкота вроде Зайцева или самого Ивана Дмитриевича. Он поселился здесь два года назад и считал свое жилище просто роскошным. Жена – та даже всплакнула от счастья, впервые переступая порог этой квартиры, которая в довершение ко всему позволяла ежемесячно экономить четыре рубля из причитавшихся Ивану Дмитриевичу по службе квартирных денег. Впрочем, осенью и зимой бо́льшая часть сэкономленной таким образом суммы съедалась платой за дрова: печи, надо признать, были плохие.
Дом построили в те годы, когда по всей Европе, от Гибралтара до Петербурга, ощущались веяния близких перемен. Уже начали шататься троны, а вместе с ними – стихотворные размеры и архитектурные стили. Укорачивались дамские платья, сокращались расстояния, с корабельных мачт облетали паруса, уголь поднимался в цене, а пенька падала, и поэты слышали рифму там, где раньше самое чуткое ухо не улавливало ни малейшего созвучия. Именно тогда этот дом, приютивший Ивана Дмитриевича с семьей, и вознесся в свои четыре этажа.
Очевидно, архитектор был человеком средних лет. В эпоху смены художественных стилей всё новое, должно быть, казалось ему пошлым, всё старое – помпезным и скучным, поэтому он плюнул и обошелся без какого бы то ни было стиля вообще. Да и заказчик, по всей видимости, не ставил задачей прославить свое имя архитектурным шедевром. Он лишь хотел насовать сюда побольше жильцов – и предпочел потратиться не на украшения, а на четвертый этаж.
В итоге фасад у дома вышел плоский, крыша – ординарная, без башенок. Нигде никаких эркеров, барельефов, львиных морд с кольцами в ноздрях, головок с миртовыми венчиками. Некоторая прихотливость наблюдалась разве что в прорисовке чердачных окон. Да еще над обоими подъездами всажено было в стену нечто лепное, алебастровое, с лепесточками.
Дом принадлежал одному ревельскому промышленнику, который сдавал его в аренду московскому купцу Жигунову, а тот, в свою очередь, – петербургскому дельцу южных кровей по фамилии Караев-Бек, чьи законные интересы представлял какой-то еврей, крестившийся ради права проживания в столицах. Ни того, ни другого, ни третьего, ни четвертого Иван Дмитриевич в глаза не видывал. Это были фигуры почти мифические. Впрочем, ходили слухи, что и на еврее дело не кончалось – и у него были свои доверенные лица. Да и над промышленником из Ревеля тоже еще кто-то был. Дом вроде бы принадлежал ему только на бумаге, настоящим же хозяином являлся его кредитор, некий британский подданный, уехавший в Индию и чуть ли не оттуда спускавший по всем ступеням подробные указания относительно дворницкого жалованья.
Словом, оба конца этой лестницы безнадежно терялись в тумане, из которого раз в месяц выходил шустрый молодец чисто рязанского обличья и требовал деньги за квартиру. Он был суров, но охотно давал отсрочку из расчета десяти процентов помесячно в пользу всех бесчисленных домовладельцев и еще десяти – в его собственную. Лишь Нейгардт и Куколев дел с ним не имели. Эти двое выкупили свои квартиры в незапамятные времена.
Неудивительно, что при таком сложном способе владения дом понемногу приходил в ветхость: ржавели и крошились водосточные трубы, засорялись дымоходы, с крыши текло прямо на фасад, и по стенам змеились безобразные разводы. Местами начала отслаиваться штукатурка. Дом давно требовал ремонта, но, как видно, из Индии никаких распоряжений не поступало, а может, они терялись где-то по дороге.
Иван Дмитриевич в очередной раз подумал об этом, когда воскресная прогулка в лесу благополучно завершилась и они с Ванечкой на извозчике подкатили к родному подъезду. По дороге Ванечка заснул, его с трудом удалось поставить на ноги. Теперь он был сонный, теплый и послушный. Иван Дмитриевич велел ему бежать к маменьке, а сам вошел в соседний подъезд, поднялся на четвертый этаж и позвонил. Здесь проживал латинист женской гимназии Зеленский, знаток всех мертвых языков и всех написанных на этих языках священных книг. Однажды он уже помог соседу: перевел с древнееврейского переписку двух фальшивомонетчиков, которые наречие своих пращуров использовали как недоступную полиции тайнопись.
Открыла кухарка, сказавшая, что барина нет дома. Иван Дмитриевич попросил у нее листок бумаги и оставил Зеленскому записку такого содержания:
Многоуважаемый Сергей Богданович!
Покорнейше прошу как возможно скорее найти случай известить меня, имеется ли в книгах Священного Писания, в Ветхом или в Новом Завете, нижеследующая фраза: ЗНАК СЕМИ ЗВЕЗД ОТКРОЕТ ВРАТА, и если да, то указать книгу, из коей она взята, главу и номер стиха.
При сем остаюсь Ваш преданный слуга и сосед
Путилин Иван Дмитриевич.
Глава 3. Дом свиданий
Едва лишь утром в понедельник Иван Дмитриевич явился на службу, как к нему подошел Федя Шитковский, тоже полицейский агент, причем из лучших. Одно время они соперничали за славу самого лучшего, но Шитковский не совладал. Против Ивана Дмитриевича кишка у него оказалась тонка. Года два он продержался на вторых ролях, а теперь, как бывает после неудачи с людьми самолюбивыми, всё дальше уходил в тень безвестности и чуть ли не отшельничества, если это можно сказать о полицейском агенте. В то же время Иван Дмитриевич знал, что Шитковский ревниво следит за его успехами и при случае не упустит возможности подгадить счастливому сопернику.
– Спишь долго, Ваня, – сказал тот. – Начальство тебя ищет.
– Ничего, обождут, – отвечал Иван Дмитриевич, гадая, кто первым успел ему напакостить: сам Яков Семенович или его сноха.
– Слух пошел, богатое дельце для тебя припасли. Не возьмешь меня в напарники? По старой дружбе. А, Ваня?
Скажи это кто-нибудь другой, Иван Дмитриевич отнесся бы к произнесенным словам как к чему-то само собой разумеющемуся, – но от Шитковского ничего хорошего ждать не приходилось. Издевается, не иначе.
– Шел бы ты! – сказал Иван Дмитриевич.
Тут подскочил другой агент, Гайпель, и с тем же известием: ищут, мол.
Это был заполошный молодой человек из бывших студентов, тощий и бестолковый. В полицию его пристроили родственники. Они помогли с маху перескочить нижние ступени служебной лестницы, так что, прослужив без году неделя, он по рангу стоял вровень с Иваном Дмитриевичем, которому никто никогда не помогал.
Правда, сам Гайпель признавал эту несправедливость. Он почитал Ивана Дмитриевича за старшего, не стеснялся принародно обратиться к нему за советом и всегда при нем подчеркивал, даже преувеличивал свою неопытность и плохое знание жизни. В его обязанности входило наблюдение за проститутками. Преступления, где замешаны были девицы, промышляющие горизонтальным ремеслом, поступали на дознание к Гайпелю, и действительно, в этой сфере помощь Ивана Дмитриевича не имела цены. Тут он неизменно руководствовался древним правилом: когда мужчина стреляет, женщина заряжает ему ружье. Это правило допускало различные толкования, от скабрезного до буквального.
– Идите, идите, – торопил Гайпель. – Уж за вами на квартиру посылали.
– А в чем дело, не слыхал? – спросил Иван Дмитриевич, отведя его подальше от Шитковского.
– Купца какого-то в гостинице отравили.
Иван Дмитриевич разом повеселел:
– И всего-то?
– Отравили купчину, – в тон ему весело подтвердил Гайпель.
– А ты чего радуешься?
– Меня тоже искали, – сказал Гайпель, которого начальство редко баловало своим вниманием.
– Ты-то им на что?
– Гостиница, Иван Дмитриевич, известная – «Аркадия». Это ведь даже не гостиница, а дом свиданий. Вроде как по моей части.
Прежде чем вкрадчиво, с нарочитой церемонностью профессионала, знающего себе цену, постучать в дверь высокого кабинета, Иван Дмитриевич спросил:
– Фамилию купца говорили?
Пока шли по коридору, догадка уже холодила душу, и, когда прозвучала эта фамилия, он ничуть не удивился. ЗНАК СЕМИ ЗВЕЗД ОТКРОЕТ ВРАТА. Врата смерти? Распахнулись, пропустили Якова Семеновича и вновь закрылись.
Через час вдвоем с Гайпелем, которого приставили помощником к Ивану Дмитриевичу, они с шиком, на казенных лошадях подкатили к подъезду гостиницы «Аркадия».
Вошли в вестибюль, хозяин возник – сюда извольте. Он указывал вверх, там ковровая дорожка, у основания ступеней прижатая надраенными медными прутьями, тянулась по лестнице, втягивалась в коридор второго этажа под лепным порталом, возле которого зеленели пальмы в кадках. Что-то бесстыдное чудилось в сочетании волосатых кургузых стволов с нежными стеблями. Над ними вьюн, плющ, какая-то ползучая южная дрянь с лианами. Кругом тихо. Вымерший, завоеванный джунглями дворец свергнутого магараджи, где в развалинах гаремов, у высохших фонтанов с кошачьими воплями совокупляются обезьяны.
Иван Дмитриевич не знал, какую именно веру исповедовали магараджи и как у них обстояло дело с многоженством, но понять, что обстановка и назначение гостиницы не соответствуют ее названию, на это ему эрудиции хватило. В нем жило смутное представление об Аркадии как стране дубовых рощ и хрустальных источников, из которых нежные нимфы омывают ноги усталым путникам. Обитель тихого покоя, чистых нег, непритязательного пастушеского счастья.
В этой «Аркадии» веяло духом совсем иных наслаждений. Всюду фальшивое золото, алебастровая лепнина, драпировки из плюша, выдававшего себя за бархат. Роскошь была та еще, тем не менее Иван Дмитриевич отметил, что вряд ли сюда вольно захаживают всякие мокрохвостки с Апраксина рынка.
– Нет, брат, не по твоей части, – шепнул он Гайпелю.
– Не отсылайте меня! – взмолился тот. – Всё буду делать, что вы скажете!
Гостиница была небольшая, в два этажа. Номеров на пятнадцать.
– Я даже городового сначала звать не стал, – пока поднимались по лестнице, говорил хозяин. – Сразу к вам, в часть. И вы уж сделайте милость, без шуму. Для моей репутации ничего хуже быть не может.
Он уже определил в Иване Дмитриевиче старшего и, не переставая говорить, ловко вложил ему в руку целковый, принятый спокойно, без благодарности и каких бы то ни было заверений или обещаний.
Остановились возле номера в дальнем конце коридора. Хозяин вставил в скважину ключ, но Иван Дмитриевич удержал его:
– Посмотреть успеем. Сперва я хотел бы вас послушать.
– Что ж, спрашивайте.
– Лучше сами расскажите по порядку.
– Не знаю, с чего и начать.
– Начните с конца, – предложил Иван Дмитриевич.
– Шутить изволите?
– Вовсе нет. Как вы обнаружили, что Куколев мертв?
– Горничная увидела.
– Когда?
– Утром. Ровно в девять.
– Что, сразу на часы поглядели?
– Нет, здесь вот какая штука. Яков-то Семенович у меня ведь не первый раз ночует.
– Не первый?
– И не второй, и не третий. И всегда, это у него накрепко заведено, с утра подается ему в номер яичко всмятку. Ровно к девяти, минута в минуту. Пить-то он пил, а опохмеляться – ни-ни. С утра ему яичко. Да еще не абы как сваренное. У меня и повар знает, что́ требуется, Яков Семенович его сам научил. Положить в холодную воду, поставить на огонь, а как вода закипит, два раза прочесть «Отче наш» и сразу вынимать. Ни раньше, ни, упаси бог, позже. Тогда аккурат что ему надо. Не то скорлупу вскроет, наморщится и скажет: «Частишь, негодяй? “Аминь” глотаешь?» Значит, кондиция не та, жидковато. Или наоборот…
– А покороче если? – спросил Иван Дмитриевич.
– Слушаюсь… Ну, сварили сегодня, положили на поднос, ложечку, рюмочку, салфеткой прикрыли. Он это яичко без соли съедал. Горничная понесла в номер. Ей тоже известно, чтобы к девяти часам – как из пушки. Часы пробили, она уже под дверями. Стучит, никто не открывает. Раньше-то никогда такого не было, чтобы в девять часов он спал. Она за мной, я – сюда. Дверь открыл своим ключом и… Дальше чего рассказывать! Сами увидите.
– Доктор был? – спросил Иван Дмитриевич.
– Так от вас уже приезжал, из Спасской части. Мертв, говорит.
– Крамер ездил, – вставил Гайпель.
– Ага, – кивнул хозяин. – Его с постели подняли, пошел завтракать.
– Когда Яков Семенович заказал номер? Вчера?
– Позавчера. В субботу.
– А приехал вчера вечером?
– Да, часу в одиннадцатом.
– Один был?
– Одному-то и у себя дома хорошо выспаться можно.
– Я спрашиваю: дама к нему после пришла, ждала его в номере или они вместе приехали?
– Она вначале.
– Яков Семенович раньше с ней у вас бывал?
– Не могу сказать.
– Как так – не можете?
– Я не видел, как она входила.
– А кто видел? Швейцар? Горничная?
– В чем и дело, что никто.
– Как это может быть?
– Ни одна душа, – виновато сказал хозяин.
– В таком случае, милейший, придется нам потолковать в другом месте.
– Пожалуйста, я хоть где то же самое скажу, хоть под присягой. Как наверх прошла, никто не заметил. Яков Семенович ключ от номера взял еще в субботу и, видать, ей передал. А как она исхитрилась мимо швейцара проскочить – тайна сия велика есть.
Был призван швейцар, но и он поклялся, что пассию Якова Семеновича не видел. С господами проходили дамочки, а чтобы одна, без кавалера, – такого не было.
– А выходила одна?
Выяснилось, что и выходили все тоже с кавалерами.
– Никак в шапке-невидимке была, – сказал Гайпель.
– А с чего вы взяли, – обратился Иван Дмитриевич к хозяину, – что ночью Куколев был с женщиной?
– Горничная слышала ее голос.
Кликнули горничную, которая сказала, что да, где-то уже за полночь слышала в номере два голоса, мужской и женский.
– Под дверью подслушивала? – спросил Иван Дмитриевич.
– Еще чего! У нас в каморке из этого номера по дымоходу слыхать. О чем говорят, не разберешь, а мужчина или женщина, понять можно.
– А видеть, значит, не видела?
– Нет. Ни как входила, ни как выходила!
– Что за чертовщина! Куда же она делась?
– Я уж и сама думаю, – поддакнула горничная. – Отвод глаз, что ли, случился?
– Ладно, – сдался Иван Дмитриевич, оставляя эту загадку на потом. – Открывайте дверь.
Когда из гардеробной вошли в спальню, Гайпель, поскользнувшись на чем-то жидком и вязком, в ужасе отдернул ногу и едва не упал. Он подумал, что ступил в лужу крови, – но это было содержимое яичка всмятку. Увидев утром покойника, горничная уронила поднос, яйцо разбилось, желток растекся на полу.
Иван Дмитриевич снял цилиндр и перекрестился, остальные сделали то же самое. Гайпель прошел к окну, открыл его, прикинул расстояние до земли и сказал:
– Не спрыгнешь, высоко. Для дамы тем более.
Окно выходило на улицу, над которой, как и вчера, безмятежно синело небо.
Сюртук висел на вешалке в углу, кремовый шелковый жилет был перекинут через спинку кресел, прочая одежда, в которой покойный сюда явился, оставалась на нем вплоть до носков, подтяжек и галстука, ослабленного, впрочем, до такой степени, что его можно было снять через ноги. На ногах красовались штиблеты с аккуратно завязанными шнурками.
Яков Семенович лежал на животе затылком вверх, лицо зарыто в истерзанную подушку с обильными потеками слюны и единственным пятнышком засохшей рвоты на наволочке. Ничего более он извергнуть из себя не сумел, иначе, возможно, и не помер бы. Глядя на его ноги, широко разбросанные поверх смятого покрывала, никто бы не сказал, что одна из них короче другой, как у голого пьяницы на литографии с чертями. Одна брючина задралась до середины голени, одна рука по-неживому вывернута в локте, другая свесилась почти до пола. Эх, сосед, сосед!
– Перевернуть его на спину? – вызвался Гайпель.
– Не нужно, – ответил Иван Дмитриевич, подходя к стоявшему возле кровати столику.
На нем разложены были фрукты, конфеты, пирожные, зеленели две бутылки – с коньяком и хересом. Еще были тарелочки, ножички, розы в тонкогорлом вазоне, из какого в самый раз журавлю было бы потчевать лису, рюмки с алмазной искрой, два бокала. Сервировали на две персоны, причем одной из них, безусловно, предполагалась женщина.
– Это всё когда в номер подали? – спросил Иван Дмитриевич.
– С вечера, – отвечал хозяин. – Яков Семенович всегда приказывал, чтобы до его прихода всё было готово.
Как и у него дома, пепельниц тут не наблюдалось. Единственный яблочный огрызок, уже почерневший, сиротливо лежал на тарелке. Вообще заметно было, что за трапезой любовники просидели недолго. Чьи-то пальчики лениво покрошили пирожное, отщипнули дольку мандарина, развернули и оставили недоеденной конфету с пьяной вишней внутри, – вот и всё пиршество. Собирались, видимо, подкрепить силы позднее, после трудов праведных, но похоже, что к трудам этим так и не приступали, иначе Куколев снял бы с себя не только сюртук и жилет. Сомнительно, чтобы он пылал такой страстью, что не стал даже развязывать шнурки на штиблетах.
Бутылки тоже были хотя и открыты, но почти полнешеньки. Из коньячной выпили всего ничего, из второй – поболее. На донцах обоих бокалов загустели золотистые опивки. Иван Дмитриевич понюхал один бокал – херес, понюхал другой – и вместе с благородным винным духом уловил еще какой-то иной, неуместный, потаенный и преступный.
– Вот-вот, – сказал хозяин.
– Яд? – спросил Гайпель, пьянея от собственной прозорливости. – В вино ему подсыпала?
– Голова! – похвалил Иван Дмитриевич.
– Эта дамочка, – сказал хозяин, – откуда-то пришла, куда-то ушла…
– Он, поди, кричал перед смертью. Как же вы не услышали?
– Э-э, господин сыщик, у нас тут и кричат, и визжат, и стоном стонут, и хрюкают. Мы уж на то внимания не обращаем, привыкли.
Гайпель тем временем уважительно разглядывал кровать, на которой лежал покойник. В самом деле, тут было на что посмотреть. Просторная, на массивных ножках, кровать напоминала гигантский короб без крышки. Его зеркальные стенки вершков на тридцать возвышались над уровнем постели, чтобы человек, оплативший эту роскошь, мог получить дополнительное удовольствие, при соитии наблюдая себя и свою даму из любой позиции. Три из четырех стенок были подняты, а четвертая, боковая, обращенная к столику с вином и фруктами, висела зеркалом наружу, крепежными скобами вниз. В ней отражались ноги Гайпеля в нечищеных сапогах, яичные потеки на полу. Поднять и закрепить ее Куколев, очевидно, собирался после того, как вместе со своей подругой окажется внутри этого ящика.
– Хороша коечка, – оценил Иван Дмитриевич.
– Так и стоит не дешево, – отозвался хозяин, на всякий случай оставаясь у порога.
Созданная для любовных утех, эта кровать стала для Якова Семеновича смертным ложем. Он покоился на нем среди зеркал, как в хрустальном гробу.
За годы службы Иван Дмитриевич перевидал десятки трупов, но по возможности старался до них не дотрагиваться, тем более голыми руками. Он присел на корточки рядом с Куколевым, пытаясь разглядеть его лицо, наполовину зарытое в подушку. Видны были только спутанные волосы на виске, один закрытый глаз и одна ноздря.
Иван Дмитриевич машинально отметил, что с кровати свешивается правая рука, на которой, казалось, чего-то не хватает. Чего? Обручального кольца? Нет. Вдруг он понял: повязка! Не было повязки – Куколев говорил, что обварился кипятком, но на тылье правой ладони отсутствовали всякие признаки ожога: кожа чистая, явно старая, а не та розовато-нежная, младенческая, которая вылезает из-под лопнувших волдырей.
Чтобы поберечь свой носовой платок с вышитыми женой инициалами, Иван Дмитриевич оттянул краешек простыни, сквозь простыню взял покойника за свесившуюся с кровати правую кисть, вывернул ее ладонью к себе – и увидел, что позавчера Яков Семенович сказал ему правду, хотя и не всю. Ожог был, и относительно недавний, но только не от кипятка. Никакая иная кипящая жидкость тоже не могла бы оставить таких следов.
Две почти ровные красные линии, кое-где обозначенные кровавыми корочками на месте полопавшейся кожи, тянулись поперек ладони от края до края. Одна пересекала основание большого пальца в области так называемого бугра Венеры, другая проходила по второй фаланге на среднем и безымянном пальцах, а на мизинце и указательном, соответственно, по третьей. По первому впечатлению линии шли параллельно друг другу, но при более внимательном взгляде становилось заметно, что расстояние между ними плавно сокращается по направлению от большого пальца к мизинцу. Похоже было, будто Куколев схватился за полосу раскаленного железа.
Тут же всплыла в памяти висевшая у него в гостиной акварель с рыцарем и господином в котелке, напоминавшим, кстати, самого Якова Семеновича. Он, значит, ни о чем не подозревая, протянул руку своему закованному в доспехи гостю, но едва взялся за железную рукавицу, как ощутил ее невыносимый жар. В эту секунду его и запечатлел художник. С вымученной улыбкой Куколев еще силился сохранить достоинство и вытерпеть адскую боль, а уж потом, за пределами изображенного на рисунке момента, его лицо должна была исказить гримаса ужаса и нестерпимой муки. Та самая, с какой он лежал теперь в своем зеркальном капкане.
Тьфу! Иван Дмитриевич потряс головой, рассеивая эту чертовщину.
Он зашел с другой стороны кровати. Внезапно рядом с мертвецом в глаза бросилось нечто такое, от чего сердце заколотилось и подскочило к горлу. Господи, и этой штукенцией играет Ванечка? Отобрать сегодня же, чтоб духу не было! Осторожно, с едва ли не суеверной брезгливостью Иван Дмитриевич снял с постели знакомый желтый кружочек. Подброшенный и пойманный на ладонь, жетон явил то, что и ожидалось: Большую Медведицу, а вокруг нее слова, звучащие как заклинание. Они вспыхнули в мозгу раньше, чем Иван Дмитриевич прочел их глазами: ЗНАК СЕМИ ЗВЕЗД ОТКРОЕТ ВРАТА.
Опять вспомнился этот рыцарь, распахнутые за его спиной двери подъезда и те же семь звезд, грозно полыхающие в ночном небе. Иван Дмитриевич с такой силой сжал кулак, что ногти впились в кожу, как давеча у Ванечки.
Гайпель, однако, успел заглянуть через плечо.
– Догадываетесь, – тихо спросил он, – что это?
– Нет. А ты знаешь?
– Это масонский знак.
– Что ты мне обещал? – так же тихо напомнил Иван Дмитриевич.
– Что?
– Делать всё, что я скажу.
– И что надо? – вскинулся Гайпель.
– Помалкивать.
Вышли обратно в коридор.
– У вас книга есть, куда постояльцев записывают? – спросил Иван Дмитриевич.
Хозяин смутился:
– Есть-то есть…
Швейцар приволок толстую книгу казенного образца за шнуром и печатью. Раз в месяц ее проверял квартальный надзиратель Будягин, что и было засвидетельствовано его подписью на каждой тридцатой странице. Но не составляло труда понять, что эти подписи обходились хозяину «Аркадии» не только в рюмку водки. Дело в том, что почти все постояльцы, проводившие ночи на аркадском лоне, фигурировали здесь под псевдонимами. Резвясь в зеркальных коробках, они, вероятно, проявляли немалую фантазию, но что касается фамилий, под которыми они это проделывали, – тут прихотливое воображение им, как правило, изменяло. Многостраничный реестр был удручающе однообразен.
– М-да, – хмыкнул Иван Дмитриевич, добравшись до последней страницы.
На вчерашний вечер из четырнадцати номеров были заняты восемь. Фамилии проставлены следующие: четыре Ивановых, Петров, Энский, Энэнский и князь Никтодзе.
– Вы этих людей знаете? – спросил Иван Дмитриевич.
– Иных знаю, – подобострастно отвечал хозяин, – иных, сами понимаете-с, неприличным счел спрашивать. Вот, к примеру, Яков Семенович, – ткнул пальцем хозяин в нижнего из Ивановых.
Относительно троих его однофамильцев, один из которых занимал к тому же соседний номер, ничего путного он не сообщил: никаких особых примет, люди как люди.
– А Петрова знаете по фамилии?
– Так он и есть Петров, на морской таможне служит. Черт ему не брат, всегда прямо так и пишет: Петров.
– А Энский? Энэнский?
– Этих двоих вчера первый раз увидел. Раньше-то не живали у меня. Но оба солидные господа.
– А князь Никтодзе?
Хозяин помялся, но наконец произнес твердо и не без гордости за свое заведение, где бывают такие гости:
– Это большой человек.
– Кто именно?
– Я бы, господин сыщик, вам не советовал…
– Ну, живо! – потребовал Иван Дмитриевич.
– Нет, я не могу. Мне стыдно обмануть его доверие.
– В таком случае собирайтесь, поедем в часть. Когда вы скажете моему начальнику, что совесть не позволяет вам раскрывать имена постояльцев, он будет восхищен вашим благородством.
– Это… Это пензенский губернатор, князь Панчулидзев, – упавшим голосом сообщил хозяин.
– Тонкого юмора человек, – оценил Иван Дмитриевич. – И все были с женщинами?
– Все, кроме Якова Семеновича.
– Не заметили у кого-то из дам красного зонтика?
– Наталья! – крикнул хозяин мелькнувшей в конце коридора горничной. – Какая-нибудь была вчера с красным зонтиком?
– Не помню, – отвечала она, к большому разочарованию Гайпеля.
Тот уже приготовился, что этим невесть откуда взявшимся зонтиком Иван Дмитриевич прямо у него на глазах раздвинет завесу тайны.
– А что за дама была с князем Панчулидзевым?
– По всему видать, важная, – ответил хозяин, – но лица не разглядел. Вуаль на шляпке чернущая, ячея мелкая. Ничего не разглядишь, как у персиянки.
– А с Петровым?
– С ним-то Ксенька была. Шалава портовая, клейма ставить некуда. Я ее вначале и пускать не хотел, да Петров за нее горой. Разорался на весь этаж: не обижайте, мол, его заиньку! Она, мол, святая душа, чахоточному папаше на кумыс зарабатывает.
Про остальных заинек ничего путного сказано не было. Все прятались под вуалетками, рта не раскрывали и быстро проходили в номера.
– Ладно, – распорядился Иван Дмитриевич. – Айда к князю.
– Он съехал, – сказал хозяин.
– Вы его предупредили?
– Он мой старый клиент. Я должен был сообщить ему, что скоро будет полиция.
– Тогда к Петрову.
– Его я тоже предупредил, – покаялся хозяин.
– А Ивановы? Энский? Энэнский?
– Они на месте. Спят еще небось.
Сунулись в один номер, в другой – никого. Спустились на первый этаж, заглянули еще в чьи-то апартаменты. Пусто, но даже Гайпелю ума хватило определить, что отовсюду бежали второпях, недолюбив или недоспав.
Хозяин выскочил в коридор:
– Наталья! Куда они все подевались?
– Собрались и ушли, пока вы князю за извозчиком бегали.
– Одиннадцати нет! Чего так рано?
– Ушли, – повторила горничная, невинно лупая глазками.
Тут наконец хозяин сообразил, кто в его отсутствие сыграл постояльцам тревогу.
– Ах ты, курва! – страшным шепотом сказал он, подступая к изменнице. – Или я тебе мало плачу? То-то, смотрю, у тебя третья титька выросла. Чего ты туда насовала? Деньги? За сигнал взяла, курва?
– Не подходите ко мне, – спокойно отвечала горничная. – Эта титька не про вас. Те две, пожалуйста, щупайте на здоровье, а эту не трожьте.
– Змея! Сей момент рассчитаю!
– Вы рассчитайте сперва, что́ я в полиции про вас рассказать могу. Потом уж рассчитывайте.
Иван Дмитриевич тронул Гайпеля за локоть:
– Пойдем. Пусть их.
Итак, «Аркадия» была пуста. Один Иванов лежал мертвый, остальные трое, Энский и Энэнский, упрежденные коварной Натальей, исчезли вместе со своими дамами, растаяли в утренней синеве, растворились в толпе на улицах великого города. Призраки с деревянными фамилиями, с безымянными возлюбленными, где их теперь найдешь! Можно было, разумеется, разыскать таможенника Петрова и грузинского князя на пензенском престоле, но стоит ли? Сердце подсказывало, что это ложный путь.
– Панчулидзева с Петровым – долой, – сказал Иван Дмитриевич, – остаются пятеро. С кем-то из них эта дамочка сюда и пришла. Назначила свидание Куколеву, а пришла с другим.
– У меня была такая мысль, – вставил Гайпель, который жадно ловил всякий случай показать, что его не напрасно взяли в помощники. – Нет, думаю, что-то здесь не то, должен у нее быть сообщник.
– По крайней мере, с шапкой-невидимкой мы, кажется, разобрались.
– Честное слово, – не унимался Гайпель, – я сам понял, что, кроме женщины, тут замешан и мужчина! Увидел этот медальончик и понял, но не решался высказать свое мнение из страха, что оно не совпадет с вашим. Вы все-таки сильно подавляете меня своим авторитетом. Я помалкивал, как мне было велено, тем не менее мысль продолжала работать. Я рассуждал следующим образом: вот нашли мы этот медальон…
– Мы нашли?
– Ну вы, вы. Неважно. Важно, откуда он там взялся? Кому принадлежал? Убийце или жертве? Если убийце, то был им потерян или нарочно оставлен около трупа? Если оставлен, то для кого? Для нас с вами или для кого-то, кто побывал там раньше нас? И с какой целью он там был оставлен? Если же, напротив, медальон принадлежал жертве, то знал про него убийца или не знал? Заметил его на кровати и оставил там лежать или попросту не заметил? Если заметил и оставил, то опять же…
– Да не стрекочи ты! – взмолился Иван Дмитриевич.
– Не успеваете следить за моими рассуждениями? – обрадовался Гайпель. – В общем, вопрос тут возникает за вопросом, и ответа на них у меня пока нет.
– Здрасьте! Чего тогда мне голову морочишь?
– Но в любом случае, судя по медальону, или Куколев, или его убийца, или, что вероятнее всего, оба они связаны с вольными каменщиками. Подобные знаки характерны для масонов, а женщин, как известно, в масонские ложи не принимают. Значит, за спиной отравительницы стоял какой-то мужчина.
– Ладно, – кивнул Иван Дмитриевич, – продолжай делать то, что я тебе велел.
– Что именно?
– Зря не квакать.
Они уже сошли на первый этаж. Здесь квартальный надзиратель Будягин, развалясь на диване, кушал чай со сливками и объяснял швейцару, как отличить настоящую десятирублевую ассигнацию от фальшивой, которую вчера подсунул очередной Иванов.
– Чаи гоняешь, а я тут по твоей милости до вечера, что ли, сидеть должен? – напустился на него Иван Дмитриевич. – Протокол кто за тебя писать будет? Дядя?
– Я думал, вы заодно и напишете, – невозмутимо отвечал Будягин, откусывая от дармового кренделя.
– Это ты мне говоришь?
– Тебе, Ваня.
– Ты? Мне?
– Чего ты так разнервничался? Вы там всё осмотрели, остается только записать. Зачем я-то туда пойду? Пускай твой помощник напишет, он человек грамотный, а мы с тобой после сочтемся.
– Нет, – отчеканил Иван Дмитриевич, – мы за тебя твою работу делать не намерены. У нас своей – во!
Сафронов отложил карандаш, потянулся, распрямляя затекшую спину, и сказал:
– По нынешним временам эта ваша «Аркадия» не пользовалась бы популярностью у чистой публики. Теперь на такого рода удобства смотрят с иной точки зрения.
– И с какой же? – полюбопытствовал Иван Дмитриевич.
– С точки зрения технической оснащенности. Вот недавно был я в Москве, пошли с приятелем в сад «Эрмитаж» позавтракать. Сидим в ресторане, приятель мне говорит: «Между прочим, владельцу этого ресторана принадлежит знаменитый на всю Москву дом свиданий. Можете заказать номер на час, на два, на три, до вечера или на целую ночь, на всё своя такса. Тут недалеко, на бульваре. С виду невзрачный двухэтажный домишко, что приносит хозяину колоссальный доход, больший, чем этот сад и ресторан вместе взятые. Внутри там всё оборудовано по последнему слову техники…» Оказалось, популярность этого дома покоится на особой системе сигнализации. Когда парочка входит, коридорный у себя на стойке нажимает специальную кнопку, и двери во всех номерах автоматически запираются, никто выйти не может, пока вновь прибывшая пара не займет свой номер. Вошли, подали сигнал коридорному, тот жмет на другую кнопку – двери отпираются. Когда им надо уходить, они опять сигналят на вахту, там нажатием кнопки снова закрывают все комнаты, и во время отбытия тоже никто их не видит. Дамам, естественно, – заключил Сафронов, – никаких вуалей не требуется.
– Да, прогресс, – покивал Иван Дмитриевич.
– Слушайте дальше. Сидим, значит, с приятелем, он показывает мне за соседним столиком человека в полицейской форме. «Это, – говорит, – пристав здешней части, тот дом свиданий находится на его территории. Заведение полулегальное, но он на него смотрит сквозь пальцы. Взяток не берет, зато каждый день приходит сюда завтракать. Для него всегда приготовлен столик. Кроме завтрака, ему подают свежей икры и бутылку коньяка, он добросовестно всё съедает, выпивает и просит счет. На счет он даже не глядит, дает официанту три рубля и говорит: принеси сдачу. Тот уже знает, что нужно делать. Идет к управляющему…» Тут приятель ткнул меня локтем в бок и шепчет: «Вот пошел, пошел… Смотрите, что сейчас будет!» Прошло минуты две. Смотрю, официант возвращается, проходит мимо нас, а на подносе у него счет и сдача с трех рублей в виде сторублевой бумажки. Ваш Будягин по сравнению с нынешними монстрами – почти святой.
– Естественно, – опять покивал Иван Дмитриевич. – Еще Жан Жак Руссо писал, что развитие науки и падение нравов идут рука об руку.
Глава 4. Два художника
Иван Дмитриевич еще минуты полторы впустую ругался с Будягиным, потом позвал хозяина «Аркадии», велел ему идти в тот номер, где убили Якова Семеновича, и там разговаривать с Натальей. Сам прошел в ее каморку, оттуда слушал их разговор через дымоход и убедился, что да, слов разобрать нельзя, только тембр голоса.
Попутно были допрошены два лакея, но и они о вчерашних постояльцах ничего нового не сообщили. Никто из гостей не имел ни шрама на лице, ни бородавок на щеках, никто, кроме покойного, не хромал, все говорили без акцента, платье имели приличное, были среднего телосложения и в летах тоже средних. Наконец, как жемчуг в куче навоза, сверкнуло одно ценное известие: один из Ивановых, занимавший номер как раз по соседству с Яковом Семеновичем, и его пассия бежали из «Аркадии» еще до того, как Наталья пришла предупредить их о скором визите полиции. Когда она к ним постучалась, номер уже был пуст. Правда, время их бегства так и осталось тайной: швейцар сознался, что под утро его бес одолел: уснул на посту, и они мимо прошмыгнули.
Жемчужина сверкнула, но сразу и погасла. Едва Иван Дмитриевич начал всех подряд расспрашивать об этой парочке из соседнего с Куколевым номера, потянулась всё та же бестолковщина: не хромые, не кривые, руки-ноги на месте, у дамы лицо под сеткой. Наталья несколько раз прибегала с горящими глазами и подробностями одна другой никчемнее. То вспомнит, что башмачки у любовницы этого Иванова были черные, то – что пуговицы на пальто серенькие, окантованы черненьким, в тон башмачкам, но цвет самого пальто, его покрой и материал, из которого оно было пошито, не задержались в ее девичьей памяти. Впрочем, даже эти скромные приметы вскоре подверглись ревизии: Наталья возвратилась, и серое быстренько поменялось на черное, черное – на коричневое, башмачки – на сапожки, а пуговицы заменила крючками. Среди ее наблюдений единственное, пожалуй, заслужило внимание, да и то психологическое. «Видать, – сказала Наталья, – что не она при нем, а он при ней».
Зашли в номер, где ночевали эти двое, но не обнаружили там никаких предметов, забытых ими при бегстве. Ни шпилечки оброненной! Кровать обыкновенная, без зеркал, и уже застелена покрывалом в ожидании новых гостей.
– Ночью они в постель-то ложились? Или до утра так просидели? – спросил Иван Дмитриевич.
– Ложились, – вспомнила Наталья. – Простыни были смяты.
Он задал ей еще несколько вопросов интимного свойства, касающихся, в частности, простыней. Хотелось выяснить, были эти двое любовниками или только сообщниками, но не получилось. Наталья за ними не подглядывала, а их простыни вперемешку с другими уже свезли в прачечную.
Тем временем доктор Крамер возился с телом покойного и составлял свои бумаги. Иван Дмитриевич при сем не присутствовал, поскольку с Крамером не разговаривал и руки ему не подавал после истории с купцом Зверевым. Наследники засадили купца в чулан и уморили голодом, а этот эскулап, глазом не моргнув, написал в заключении, будто старик умер от сужения пищевода. Разумеется, такой диагноз был щедро оплачен, однако доказать ничего не удалось, Крамер изображал из себя оскорбленную невинность, а Иван Дмитриевич остался в дураках.
– Скажи ему, сукину сыну, – велел он Гайпелю, – пусть заодно определит, какую отраву подсыпали в херес.
– Он ведь врач, а не фармацевт и не химик, – возразил Гайпель.
– Полицейский врач всё должен уметь. Сам не сумеет – пусть отдаст в лабораторию, в университет или еще куда-нибудь и мне доложит.
– Вы же с ним не разговариваете. Как он вам станет докладывать?
– В письменном виде, – сказал Иван Дмитриевич, направляясь к выходу.
– А я? – вдогонку жалобно спросил Гайпель. – Что мне-то делать?
– Ступай в часть. Я скоро приеду.
– И куда вы сейчас?
– Так, проветриться.
– Кажется, вы что-то от меня скрываете.
– Кажется – крестись, – через плечо бросил Иван Дмитриевич.
Экипаж, на котором они с Гайпелем сюда приехали, ждал на улице. Усевшись, он скомандовал кучеру:
– В Щукин двор.
Объяснений не последовало, и Сафронов, оторвавшись от тетради, сказал:
– Тут неплохо бы дать сносочку. Боюсь, не все читатели поймут, что это за Щукин двор. Я, например, понятия не имею.
– Был раньше в Петербурге такой рынок, назывался по имени купца Щукина. Те, кто постарше, должны помнить.
– И зачем вы туда поехали?
В ответ Иван Дмитриевич взял с окна какой-то том, заранее положенный туда перед началом рассказа, раскрыл его на закладке и прочел вслух:
– «Нигде не останавливалось столько народа, как перед картинною лавочкою на Щукином дворе. Эта лавочка представляла, точно, самое разнородное собрание диковинок: картины большею частью были писаны масляными красками, покрыты темно-зеленым лаком, в темно-желтых мишурных рамах. Зима с белыми деревьями, совершенно красный вечер, похожий на зарево пожара, фламандский мужик с трубкою и выломанною рукою, похожий более на индейского петуха в манжетах, нежели на человека, – вот их обыкновенные сюжеты. К этому нужно присовокупить несколько гравированных изображений: портрет Хозрева-Мирзы в бараньей шапке, портреты каких-то генералов в треугольных шляпах, с кривыми носами. Сверх того, двери такой лавочки обыкновенно бывают увешаны связками произведений, отпечатанных лубками на больших листах, которые свидетельствуют самородное дарованье русского человека. На одном была царевна Миликтриса Кирбитьевна, на другом – город Иерусалим, по домам и церквам которого без церемонии прокатилась красная краска, захватившая часть земли и двух молящихся русских мужиков в рукавицах». Особенно хороши здесь эти рукавицы. В Иерусалиме-то! – умилился Иван Дмитриевич и захлопнул книжку.
Затем, любовно оглаживая переплет, он спросил:
– Ну-с, господин писатель, откуда это?
– Гоголь, повесть «Портрет», – отрапортовал Сафронов.
– Правильно. У моей жены любимый автор был Гюго, а у меня Гоголь, вот я и решил ему довериться. Не всё ли равно, думаю, с какой картинной лавки начать? Почему не с этой, в Щукином?
– А-а, – сообразил Сафронов, – вы хотели что-то разузнать про ту акварель, которую видели у Куколева.
– Да, не продавалась ли где-нибудь, как название, кто художник. И главное – кем куплена.
– И что?
– Представьте себе, в другие лавки ехать не понадобилось. Там же, в Щукином, всё и узнал. Гоголь…
Иван Дмитриевич вышел с веранды в комнату, воткнул книжку на прежнее место в шкафу и, вернувшись, закончил:
– Гоголь – он писатель мистический.
У Гоголя владелец лавки суетился, хватал прохожих за руки, кричал: «Живопись-то какая! Просто глаз прошибет; только что получены с биржи, еще лак не высох». Теперь всё это было в прошлом. Хозяйничал здесь молодой человек в очках, в модном пиджаке, похожий на студента. Он возился в витрине, что-то там поправляя и переставляя, и не обращал на Ивана Дмитриевича внимания, пока тот не сказал:
– Я из полиции. Путилин.
Хозяин лавки оставил свое занятие и молча воззрился на неожиданного визитера.
– Я обхожу все картинные лавки, не волнуйтесь, – успокоил его Иван Дмитриевич. – Меня интересует один рисунок…
– Чей?
– Он принадлежал купцу Куколеву.
– Тогда у меня вам делать нечего, я краденым не торгую. Товар беру непосредственно у художников, можете проверить по книгам. Они у меня в полном ажуре.
– Я вас ни в чем не подозреваю, просто хочу знать, не здесь ли была куплена интересующая меня работа. Имя художника не знаю, но писано акварелью, размер приблизительно такой и такой, – ладонями показал Иван Дмитриевич высоту и ширину. – Там рыцарь в доспехах вошел в дом и пожимает руку…
– Знаю, знаю, – не дослушав, перебил хозяин лавки. – Рябинин рисовал.
– Никогда не слышал про такого художника.
– А про каких современных русских художников вы слышали?
– Брюллова знаю. Потом этого… Как его? Который Гоголя иллюстрирует.
– Агин, – подсказал хозяин, меняя тон на более уважительный. – Если слышали про Агина, через пять лет услышите и про Рябинина. Столько в среднем требуется времени, чтобы известность в кругу коллег и ценителей перешла в популярность у публики.
– Эта его акварель, – вернулся Иван Дмитриевич к прерванной теме, – вы ее видели где-то или она у вас же и продавалась?
– У меня.
– И кто ее купил?
– Никто. Полгода провисела, потом Рябинин сам ее и забрал.
– Адрес его у вас есть?
Хозяин принес книгу вроде бухгалтерской, отыскал нужную страницу и повел по ней пальцем, бормоча:
– Рябинин… Рябинин… Ага, вот! Таиров переулок, дом де Роберти, во втором этаже над типографией Жернакова.
Через полчаса Иван Дмитриевич был в Таировом переулке. Переулок этот, коленом соединяющий Сенную площадь с Большой Садовой улицей, был хорошо известен ему по обилию нижайшего разбора подвальных заведений с «прынцессами». Сейчас они отсыпались или варили щи у себя в норах, а вечером, он знал, вылезут из своих подземелий, чьи скособоченные двери выходили прямо на улицу, будут стоять кучками, переговариваться сиплыми голосами, иногда вдруг визгливо вскрикивать, изображая веселье, притопывая опухшими ногами в козловых башмаках.
Во втором этаже дома де Роберти находились меблированные комнаты. Узнав, какую из них занимает художник Рябинин, Иван Дмитриевич прошел по коридору и постучал. Никто не отозвался. Он постучал сильнее, затем, подергав дверь, убедился, что она заперта, и присел на корточки, чтобы посмотреть в замочную скважину. Увлекшись, он не сразу заметил, что из соседней комнаты выглянуло странное существо с длинным неуклюжим туловищем на коротеньких ножках, с вздернутыми плечами и надменно запрокинутой головой. Бледное личико придавлено было громадным покатым лбом.
– Что вы тут делаете? Кто вы такой? – спросило существо, пролезая в коридор.
Лишь тогда Иван Дмитриевич понял, что перед ним горбун, причем даже не с одним горбом, а с двумя.
– Я из полиции. А вы кто будете?
– Мы с ним, – кивнул горбун в сторону двери, возле которой он застукал Ивана Дмитриевича, – оба художники. Моя фамилия Гельфрейх.
– Случаем, не знаете, где ваш сосед?
– Он что-то натворил, что вы его ищете?
– Упаси боже! Просто интересуюсь одной его работой.
– Хотите купить?
– Она уже куплена. Хочу навести справки о покупателе.
– Где он, не знаю, – успокоившись, сказал Гельфрейх, – но, думаю, скоро появится. Когда он не ночует дома, то обычно приходит к этому времени, чтобы успеть вздремнуть, а вечером еще поработать. Если желаете, можете подождать у меня.
– Охотно, – обрадовался Иван Дмитриевич, отметив, что сегодня, значит, Рябинин провел ночь где-то в другом месте.
– Тогда милости прошу. У вас дома есть кошка?
– Кот есть. Почему вы спрашиваете?
– Проходите, проходите, – улыбнулся Гельфрейх.
Иван Дмитриевич переступил порог и увидел, что по всему периметру комната уставлена и увешана разной величины холстами с изображением этих животных, нарисованных с таким мастерством и таким удивительным жизнеподобием, что в первый момент захватило дух. Отовсюду смотрели золотистые, небесно-голубые, изумрудные, крапчатые, хищно суженные или сладко зажмуренные глазки. Полосатые и пятнистые, пушистые и гладкие, сибирские, ангорские и еще черт знает какие коты и кошки сидели в корзинках с выражением берущей за сердце тихой покорности на мордочках, катали клубки, умильно выглядывали из-под портьер или из кустов с жирными кондитерскими розами, охотились на птичек, лакали молоко, спали, спали и еще раз спали на диванах, турецких оттоманках, подушках, пуфиках, ковриках, располагаясь в тех неописуемо блаженных позах, принимать которые способны только эти создания. Здесь им не было равных. Они умели отдаваться сну с такой самозабвенной страстью, что одно это всегда вызывало у Ивана Дмитриевича уважение к ним, точно знающим, для чего их сотворил Господь Бог.
Большинство кисок изображено было в романтически-приподнятом ключе, но были и уступки входящему в моду реализму, и портреты в бюргерском стиле: один кот держал в лапе бокал вина, одна кошка вышивала на пяльцах. Кроме того, имелось пять или шесть одинаковых лукошек, где сидели целые выводки очаровательных котят с розовеющими на просвет ушами. Живым кошачьим духом в комнате, однако, не пахло.
– Все мы вынуждены выбирать какую-то одну узкую область и в ней совершенствоваться, иначе ничего не заработаешь, – говорил Гельфрейх. – Кто-то пишет море, кто-то – развалины, лошадей, войну, мужиков с граблями. Разумеется, тут есть свои минусы: лично я уже почти разучился рисовать всё остальное. Вот этот диванчик Рябинин мне написал, и эту подушечку, и этих птичек тоже. Само собой, при продаже я ему выплачиваю его долю.
– А вы уверены, что он сейчас придет? Я могу зайти попозже.
– Придет, придет, куда денется. Садитесь. Хотите рюмку водки?
– Не откажусь.
Сели за стол, выпили, закусили моченым яблоком. Размякнув, Гельфрейх разоткровенничался.
– Раньше я их обожал, видеть не мог без сердечного умиления, – рассказывал он, имея в виду прототипов своих персонажей, – а теперь ненавижу. В подворотне где-нибудь кошечку повстречаю, так и норовлю ей сапогом поддать. А всё деньги, деньги! Губят они нашего брата художника. Сколько, думаете, я беру за такую вот дрянь?
– Даже не представляю, – поглядев на указанное лукошко с котятами, ответил Иван Дмитриевич.
– Двадцать рублей, – похвалился Гельфрейх.
– Ого!
– В чем и дело! И заказов хоть отбавляй. К зиме найму приличную квартиру с мастерской и съеду из этого клоповника.
– А как же ваш сосед? Кто вам на новой квартире птичек рисовать будет?
– Там я это дело брошу, – сказал Гельфрейх, осушая уже четвертую рюмку, тогда как Иван Дмитриевич отказался и от второй. – Накоплю деньжат и напишу что-нибудь настоящее, для выставки. Есть у меня один сюжетец в русском духе. Представьте себе Грановитую палату…
Он стал подробно излагать свой сюжет с участием царя Алексея Михайловича, патриарха Никона и протопопа Аввакума. Эти трое должны были публично спорить друг с другом о вере, заодно выясняя вопрос о том, какая из властей выше – светская или духовная.
– За каждым есть своя правда, понимаете? Я хочу показать, что у каждого из них есть своя историческая и человеческая правда, – горячо говорил Гельфрейх, и его вздернутые плечи поднимались еще выше, слюна пузырилась в углах рта. – Я, горбун, жалкий инородец, маляр презренный, из глубины моего изгойства я покажу им всем, которые мнят себя истинными художниками, что у каждого из живущих на земле есть своя…
– А Рябинин? – с трудом удалось Ивану Дмитриевичу ввернуть словечко. – В какой узкой области он совершенствуется?
– Его область – это Пушкин.
– Александр Сергеевич?
– Да. Рябинин делает к нему иллюстрации, как Агин – к Гоголю. Изредка пишет маслом на сюжеты из его биографии. Из-за этого, кстати, он недавно имел неприятности с вашим братом.
– С полицией?
– С жандармами.
– Из-за чего?
– Нынче весной, на закрытие сезона, он выставил свою новую картину «Вступление Александра Пушкина в масонскую ложу в 1820 году». Провисела она три дня, на четвертый явились двое в голубых мундирах и приказали немедленно ее снять. Мол, это клевета, Пушкин масоном никогда не был. Рябинин начал доказывать, что был, есть свидетельства, – но этим господам ничего доказать невозможно.
– А с картиной что стало?
– Нашим торговцам она тут же всем разонравилась, критика сразу нашла в ней множество изъянов. Владелец картинной лавки в Щукином дворе, человек вроде прогрессивный, из осторожности вернул Рябинину все его прежние работы. Хорошо, что в Европе есть люди, готовые поддержать вольное русское искусство. Эту картину купил один француз.
– Масон?
– Вот уж не знаю.
– А сам Рябинин не состоит в какой-нибудь ложе?
На этом вопросе Гельфрейх мигом протрезвел, вспомнив, с кем он, собственно, разговаривает. Он выразительно побарабанил пальцами по столу, затем посмотрел в окно, за которым день еще был в полном разгаре, и сказал:
– Как рано стало смеркаться! Похоже, сегодня Рябинин уже не придет.
Иван Дмитриевич тут же перешел на официальный тон:
– Прошу вас, господин Гельфрейх, передайте господину Рябинину, пусть он завтра выберет время и зайдет в Спасскую часть, к Путилину. Это я… Если днем ему будет недосуг, вечером я могу принять его у себя на квартире.
Он вырвал из блокнота листок, черкнул на нем свою фамилию, служебный и домашний адрес, положил листочек перед поскучневшим Гельфрейхом и вышел.
Глава 5. Небо над Аркадией
Вторую половину дня Иван Дмитриевич провел в нескончаемых заботах на службе. Там он подчищал хвосты оставшихся за ним других дел и беседовал с начальством, от которого какое-то другое, несравненно более высокое начальство требовало, чтобы убийство купца Куколева было раскрыто как можно скорее. Причина такой поспешности почему-то держалась в секрете, равно как и сам интерес, проявленный в высших сферах к этому заурядному в общем-то преступлению.
В конце концов он взорвался, и тогда, по-прежнему ничего не объясняя, не называя никаких имен, ему дали понять, что происшествие в «Аркадии» затрагивает безопасность одной очень важной персоны.
Выяснить, кто она, эта персона, не удалось, велено было не задавать лишних вопросов. Иван Дмитриевич плюнул и поехал домой.
Когда он вылез из пролетки возле подъезда, его окликнули:
– Иван Дмитриевич!
Он устало оборотился и увидел Зеленского, латиниста из женской гимназии, жившего в соседнем подъезде. Они обменялись рукопожатиями, Зеленский сказал:
– Я как раз к вам направляюсь, а то вчера вернулся поздно и не решился вас беспокоить. Извольте, я готов ответить на ваш вчерашний вопрос.
– На мой вопрос? – переспросил Иван Дмитриевич, не сразу сообразив, о чем речь.
– Меня не было дома, и вы оставили мне записочку. Вас интересовал источник фразы о семи звездах, которые откроют врата.
– Ах да! Я совсем забыл.
Зеленский слегка подобиделся:
– Я вижу, вас это уже не занимает. Справились у кого-то другого?
– Напротив, Сергей Богданович, очень занимает! Просто на службе такая круговерть, что вылетело из головы.
– Тогда сообщаю вам, что в нашем, – голосом выделил Зеленский последнее слово, – Священном Писании, ни в Новом, ни в Ветхом Завете, такой фразы нет.
– В нашем нет, а в каком есть?
– Ни в каком из мне известных. Ее нет ни в Библии, ни в Талмуде, ни в Коране, равно как и в тех книгах, которые почитались священными у римлян и древних греков. Вообще не похоже, чтобы эта фраза была взята из какого-либо античного источника, но за индусов, египтян, персов или китайцев я ручаться не могу. За вавилонян, шумеров и ацтеков – тоже.
– А за масонов?
– За них в какой-то степени – да, могу. Насколько я знаю, в масонских текстах чаще фигурирует число «пять», а не «семь». Пять ран Иисуса Христа, пять оконечностей человеческого тела и пять тайных центров его силы. Отсюда знак пентаграммы. В музыке тоже предпочтение отдается квинте.
– А семерку, значит, масоны не уважают?
– Ну, категорически я не стал бы утверждать, но в принципе число «семь» указывает скорее на то, что интересующая вас фраза имеет исламское происхождение. Точнее, арабское. Турки и татары отдают первенство девятке. Впрочем, это всё сведения хрестоматийные.
– Я человек темный, – сказал Иван Дмитриевич. – На медные деньги учился.
– Не скромничайте. Ваша интуиция стоит магистерской степени по меньшей мере.
– Вашими бы устами, Сергей Богданович…
– Не буду скрывать, – признался Зеленский, – я весьма заинтригован. Это связано с каким-нибудь преступлением? Не удовлетворите мое любопытство? На улице говорить неудобно, а я, в отличие от вас, человек холостой, никто нам не помешает. Кухарка – и той сейчас нет. Поговорим спокойно, чайку попьем.
