Зимняя дорога. Генерал А. Н. Пепеляев и анархист И. Я. Строд в Якутии. 1922–1923
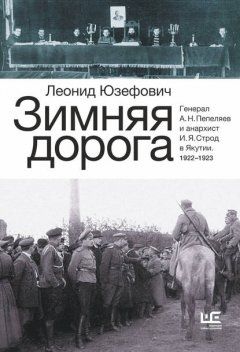
Благодарим за предоставленные фотографии и репродукции Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия), Музей краеведения в Лудзе (Латвия), Омский музей Кондратия Беляева и внука Анатолия Пепеляева – Виктора Лавровича Пепеляева.
Расставание
В августе 1996 года я сидел в здании Военной прокуратуры СибВО в Новосибирске, на Воинской, 5, читал девятитомное следственное дело белого генерала Анатолия Николаевича Пепеляева. За год до моего приезда оно было передано туда из ФСБ по заявлению его старшего сына, Всеволода Анатольевича, просившего о реабилитации отца[1]. Такие заявления поступали тогда тысячами, у работников прокуратуры просто руки не доходили рассматривать их в установленные сроки. Выдавать следственные дела посторонним не полагалось, но в те годы служебные инструкции легко нарушались не только ради корысти.
Начальство в лице двух полковников надо мной сжалилось, узнав, что только ради этого я и прилетел из Москвы.
Я сидел в проходной комнате, а за фанерной переборкой рядом с моим столом находился кабинет одного из следователей, не слишком молодого для своего звания капитана. Иногда к нему приходили посетители, и я хорошо слышал их разговоры. Однажды он беседовал с женой арестованного командира танкового полка. Сквозь оклеенную веселенькими обоями фанеру доносился его наигранно бесстрастный голос: «Итак, это было в тот год, когда вся страна стонала под игом Рыжего…». Имелся в виду Анатолий Чубайс, в 1995 году назначенный вице-премьером. В то время полковник списал и толкнул на сторону два танковых тягача. Следователь с мстительной методичностью излагал его жене обстоятельства сделки. Она плакала. На полях моей рабочей тетради их разговор, ее всхлипывания и металлический тон его речи отмечены как фон, на котором я переписывал в тетрадь одно из писем Пепеляева жене, Нине Ивановне: «Уже, кажется, десятое письмо пишу тебе со времени отъезда из Владивостока. Не так давно мы расстались – это было 28 августа – а сколько новых впечатлений, переживаний, сколько передумано тут, пережито тяжелого, но все утешаю себя, что дело наше правое, верю, что Господь сделал так, чтобы мы пошли сюда, что Он проведет и не бросит нас»[2].
Они простились 28 августа 1922 года во Владивостоке. Месяцем раньше Пепеляев прибыл сюда из Харбина, чтобы сформировать отряд добровольцев и отправиться с ним в Якутию – поддержать полыхавшее там антибольшевистское восстание. Поначалу, чтобы засекретить арену предстоящих военных действий, отряд назвали Милицией Татарского пролива, потом переименовали в Милицию Северного края, но в конце концов он стал Сибирской добровольческой дружиной. К исходу лета Пепеляев готов был отплыть с ней в порт Аян на Охотском побережье, а оттуда двинуться на запад, к Якутску.
Ему недавно исполнился тридцать один год, Нина Ивановна на год моложе. Они женаты десять лет. На фотографии, сделанной незадолго до венчания, Нина сидит с бумажным венком в пышных темных волосах, в польском или украинском платье с вышивкой, с лежащими на груди нитками длинных цыганских бус – вероятно, снялась после участия в каком-нибудь любительском спектакле или в костюме, который могла бы носить бабка по отцу. Через десять лет фотограф запечатлел ее в профиль над кроваткой с голеньким младенцем. Видно, что она высокого роста, сколотые на затылке волнистые волосы стали еще пышнее, как бывает после родов, но заметны и тяжелый подбородок, и длинный нос. Такой Нина Ивановна осталась в памяти мужа.
Все сохранившиеся в деле письма Пепеляева к жене написаны им в Якутии. Ни одно из них до нее не дошло. Судя по тому, что он перед ней постоянно оправдывался, ссылаясь то на пославшую его в этот поход высшую волю, то на долг перед народом, Нина Ивановна без восторга отнеслась к перспективе остаться на неопределенный срок одной с двумя маленькими детьми на руках и едва ли приняла это со смирением. Пепеляев уверял ее, что разлука продлится не больше года, но на год жизни смог оставить семье лишь скромную сумму в тысячу рублей. Это, надо думать, не прибавляло Нине Ивановне оптимизма. К тому же она видала кое-кого из тех, кто подбил ее мужа плыть в Якутию, и не могла не думать, что добром это не кончится.
Пепеляев чувствовал себя виноватым перед женой и накануне отъезда хотел подарками поднять ей настроение. На первых страничках вложенного в следственное дело блокнота, который скоро станет его дневником, а пока что служил для деловых заметок и учета денежных трат, под рубрикой «Собственные деньги», отчасти объясняющей, почему при огромных возможностях он всегда был беден, записано в столбик:
Нине сумочка – 10 р.
Надпись (видимо, на сумочке, памятная. – Л. Ю.) – 10 р.
Цепочка – 10 р.
Браслет – 15 р.
Здесь же перечислены другие расходы: на зубного врача (в ближайшие месяцы поставить пломбу ему будет негде), на продукты для матери (пуд сахара, десять фунтов масла, фунт кофе и пр.), на оплату квартиры, на дрова (за колку отдельно), наконец, на фотографа – 17 рублей. Немалая сумма говорит о том, что сделано было несколько снимков. Фотография самого Пепеляева предназначалась, должно быть, Нине Ивановне, а фото жены и сыновей он хотел взять с собой в Якутию. Старшему, Всеволоду, было без малого девять лет, Лавру – четыре месяца. Мальчику возле кроватки и младенцу в кроватке, над которым склонилась пышноволосая женщина, на вид примерно столько и есть, значит, это дубликат одного из тех самых снимков, но в следственном деле я их не нашел. Возможно, они не были отобраны и оставались у Пепеляева в тюрьме до и после судебного процесса 1924 года. Порядки в тогдашних советских домзаках и политизоляторах были еще довольно мягкими.
Незадолго до отплытия Нина Ивановна с Севой и Лавриком из Харбина приехала во Владивосток проститься с мужем. По сибирским масштабам дорога считалась недальней, семь-восемь часов на поезде. Погода стояла теплая, вода в море еще не остыла. В старости Всеволод Анатольевич вспомнит, как они всей семьей ходили купаться, отец плыл, а он сидел на плечах у отца.
28 августа или Нина Ивановна проводила мужа на пароход, или Пепеляев посадил ее с детьми на поезд до Харбина и расстался с ними на платформе. На следующий день минный транспорт «Защитник» и канонерская лодка «Батарея» с Сибирской дружиной на борту вышли из владивостокской гавани и взяли курс на север.
Вместе с Пепеляевым из Владивостока в Аян отплыл полковник Эдуард Кронье де Поль, военный инженер, варшавянин, ветрами Гражданской войны занесенный в Приморье. Он взял с собой новенькую записную книжку, которую через год у него изымут. Я нашел ее в том же следственном деле Пепеляева, объединенном с делами судимых вместе с ним офицеров.
Во время недельного плавания Кронье де Поль карандашом сделал в ней длинную запись: «Идея смерти должна быть наиболее совершенной и ясной из наших идей как самая упорная и неизбежная среди них, на деле же она остается наиболее неразвитой. Когда приходит смерть, мы хватаемся за две-три мысли о ней, ничего иного у нас нет. Всю жизнь мы отворачивались от нее, и эти две-три мысли, на которые мы думали опереться, ломятся как тростник под тяжестью последних минут.
Мы не можем понять эту силу, потому что не смотрим ей в лицо, и бежим от нее, потому что не понимаем и боимся. Смотри смело смерти в глаза и старайся понять ее, тогда она не покажется ужасной. Если Бог дал нам разум, Он не может требовать, чтобы мы не верили разуму, а брали все на веру. Мы, люди, не имеем силы большей, чем разум. Чувства и инстинкты – ничто перед ним…»
В преддверии боев и походов интеллигенту естественно было размышлять о смерти, но Кронье де Поль готовился к встрече с ней, как к столкновению с превосходящими силами неизвестного противника – хотел свести угрозу к нескольким вариантам, выбрать самый вероятный и принять необходимые меры. На победу рассчитывать не приходилось, но в этом случае можно было хотя бы погибнуть с честью.
«Смерть, – пишет он, – если судить о ней на основании разума, может принять четыре вида:
I полное уничтожение;
II продолжение жизни с нашим теперешним сознанием;
III продолжение жизни без всякого сознания;
IV продолжение жизни с новым сознанием, каким мы теперь не обладаем.
Рассмотрим их по отдельности.
Полное уничтожение невозможно, ибо мы – часть бесконечности, в которой ничто не погибает.
Теперешнее наше сознание сосредоточено вокруг нашего «я», а это возможно лишь при наличии тела, значит, после его исчезновения теперешнее наше сознание невозможно.
Самое простое предположение о смерти – бессмертие без сознания, однако и это невозможно, ибо если тело исчезнет, то и мысль, отделенная от своего источника, угаснет и растворится в безграничном мраке.
Остается последнее – продолжение жизни с новым сознанием. Это предполагает, что наше новое «я» зародится и разовьется в бесконечности. Мы не можем быть чуждыми вселенной, как сами не допускаем в себе чуждых нам частей. Наше мучительное непонимание смерти должно было возникнуть во вселенной раньше нас, и после нашей смерти оно вновь растворится в ее бесконечности»[3].
Я читал эти изысканные софизмы в полной уверенности, что они принадлежат владельцу книжки, но под последним из них обнаружилось указание на источник: «Метерлинк, т. V». Том из его собрания сочинений Кронье де Поль захватил с собой в Якутию, как кто-то брал учебник английского или руководство по перегонке древесины в скипидар и спирт.
После цитат из Метерлинка записей нет, лишь в самом конце пять-шесть листочков испещрены мастерскими карандашными рисунками лошадей и птиц. Между ними вложена фотография толстогубой девушки с глазами навыкате. На обороте надпись: «На память дорогому мужу. Пусть не забывает свою жену, которой дал имя Мимка».
16 сентября 1922 года, через десять дней после того, как Сибирская дружина Пепеляева высадилась в Аяне, на Иерусалимском кладбище в Иркутске с воинскими почестями опустили в могилу тело Нестора Каландаришвили – легендарного анархиста, воевавшего с белыми под черно-красным знаменем «матери порядка», но незадолго до смерти подавшего заявление о приеме в РКП (б). Чернобородый красавец с ниспадающими на плечи волосами, храбрец и оратор, что вместе встречается нечасто, он был актером в Кутаиси, боевиком в Батуми, командовал таежными партизанскими полками, пытался помешать Унгерну уйти в Монголию, создал Корейскую революционную армию и погиб за полгода до похорон, под Якутском. Шесть месяцев посмертного непокоя оставили на нем свой след. С весны тело держали на леднике, а на пароходе, везшем его вверх по Лене, имелась холодильная камера, и все-таки на лицо покойного лучше было не смотреть.
Пароход с замороженным телом приплыл с севера, а девятью месяцами раньше Каландаришвили, назначенный командующим всеми вооруженными силами Якутии, с Северным отрядом в триста бойцов по тракту вдоль той же Лены, тогда скованной льдом, из Иркутска выступил в обратном направлении – ему поручено было покончить с восстанием, которое теперь собирался поддержать Пепеляев.
Перед походом Каландаришвили говорил, что его цель – не «истребление несчастной горсточки белогвардейских офицеров», ставших военспецами у повстанцев, а помощь подпавшим под железную пяту военного коммунизма якутам и тунгусам. По его словам, «борьба наций еще в давние времена загнала их на Крайний Север из великой Чингисхании», сотни лет эти «бедные племена» страдали под гнетом суровой природы и царских чиновников, а ныне «революция докатилась до них в уродливых формах». В роли проконсула мятежной провинции Каландаришвили хотел не столько ее усмирить, сколько умиротворить, но 6 марта 1922 года, не доехав до Якутска тридцать верст, нарвался на засаду и погиб.
Из всей его группы уцелел только тяжело раненный и принятый нападавшими за мертвого начштаба Бухвалов, но и он скоро умер, ничего толком не успев рассказать. Ход событий восстановили по следам на снегу и положению трупов. Этим занялся командир головного эскадрона Иван Строд. В тот день он с авангардом отряда находился уже в Якутске, о случившемся узнал по телефону и на место гибели товарищей поспел лишь к вечеру.
«Мороз гулкими шагами делает свой ночной обход, трещит лед на Лене, – вспоминал Строд открывшуюся перед ним картину. – Черными, неподвижными, окоченевшими точками разбросаны по снегу те, кого здесь настигла смерть».
Отряд считался конным, исчислялся не в штыках, а в саблях и делился на эскадроны, но верховых лошадей должны были получить на месте. Двигались в санях и крытых кошевках. Каландаришвили со штабом, демонстрируя миролюбие и желая вызвать у якутов доверие к себе, ехал не таясь, без походных застав и разведки, и повстанцы об этом знали. Нападение произошло на льду Техтюрской протоки Лены. Узкая дорога вилась между островами, по сторонам ее поднимались обрывистые берега, поросшие тальником. Сидевшие в засаде якуты стреляли с такого близкого расстояния, что пыжи из ружей долетали до цели вместе со свинцом, их потом находили на телах убитых. Передние лошади были расстреляны в упор, задние налетали на них, пугались, заскакивали на соседние сани, ломая их и давя седоков. Повернуть назад было невозможно, люди спрыгивали на дорогу, пытались отстреливаться. Каландаришвили, раненный в бок, с маузером в руке побежал навстречу показавшимся наверху якутам, но пули перебили ему обе ноги, он упал. Когда Строд нашел любимого командира, его окостеневшая правая рука была поднесена к виску, где смерзлась кровь из четвертой, смертельной раны. Осталось неизвестным, убили его или он все-таки успел застрелиться из маузера, который потом забрали повстанцы.
Тех, кто не умер сразу, добили потом. Погибли все ехавшие с Каландаришвили сорок шесть бойцов и командиров, девять крестьян-возничих и жена отрядного адъютанта Нина Медвяцкая. Она лежала рядом с мужем, но тела еще двух женщин найдены не были. Это означало, что шифровальщицу Екатерину Гошадзе и возвращавшуюся домой из Иркутска студентку-рабфаковку Брайну Карпель, сестру служившего у Каландаришвили якутянина Исая Карпеля, повстанцы увели с собой. Сам Карпель остался жив, потому что с частью отряда задержался в селе Покровском из-за нехватки подменных лошадей. О дальнейшей судьбе сестры он узнает в конце лета. По легенде – не узнает никогда.
Тела привезли в Якутск, но с погребением решили не спешить. До весны было далеко, мороз надежно хранил мертвых от разложения, а тревожная обстановка в осажденном городе не позволяла похоронить их с должной торжественностью. Командование Северным отрядом принял Строд.
На фотографиях тех лет он или брит наголо, или волосы у него зачесаны набок, надо лбом – русый вихор. Колючие зрачки резко темнеют на фоне серой или бледно-голубой радужки. Лицо узкое, с ясно очерченными скулами, длинный нос, рот чувственный и в то же время твердый. В свои двадцать восемь лет Строд холост. В прошлой жизни его звали Ян или Ионс, его предки по отцу – крестьяне из Латгалии, отец – фельдшер, сам он – бывший прапорщик, выслужился из солдат, полный георгиевский кавалер. Старорежимных крестов, разумеется, не носит, но заслуженный в боях с Семеновым и Унгерном орден Красного Знамени заставляет чекистов сквозь пальцы смотреть на то, что по партийной принадлежности он – анархист.
Строд знает о Пепеляеве, тот о нем никогда не слышал. Они встретятся через год после гибели Каландаришвили, и для одного из них эта встреча станет звездным часом жизни, для другого – началом конца. Друг о друге они пока не думают и не подозревают, что их имена всегда будут произносить вместе.
Мужицким генерал
В анкетах, в графе о происхождении, Анатолий Николаевич Пепеляев указывал: «Из дворян», но дворянство было недавним, дед по отцу происходил из «солдатских детей». Внук родился 3 (15) июля 1891 года в Томске, в семье пехотного капитана (под конец жизни – генерал-майора) Николая Михайловича Пепеляева и купеческой дочери Клавдии Георгиевны, в девичестве Некрасовой. Из их двенадцати детей выжило семеро, Анатолий по старшинству – четвертый, а из пяти мальчиков – третий. Первенец Виктор, впоследствии известный кадет, депутат IV Государственной думы, последний председатель Совета министров Омского правительства, был расстрелян вместе с Колчаком. Юрист по образованию, в молодости он преподавал историю в женской гимназии, сестра Вера тоже стала учительницей, Екатерина – актрисой, Аркадий – врачом, Анатолий и Михаил пошли по стопам отца, а младший, Логгин, до своей гибели в бою с минусинскими партизанами в 1919 году нигде, кроме гимназии, поучиться не успел.
Анатолий Пепеляев окончил Омский кадетский корпус и Павловское пехотное училище в Петербурге, служил в 42-м Томском стрелковом полку под командой собственного отца. С 1914 года – на фронте, командовал полковой разведкой, батальоном, был ранен, награжден восемью орденами, включая Святого Георгия 4-й степени, дослужился до подполковника. Февральскую революцию встретил, по его словам, с надеждой, что она «сметет рутину бюрократизма, обновит государственный механизм и выведет Россию на путь культурного развития»[4].
Незадолго до начала Первой мировой войны его старший брат Виктор, выступая в Думе, сказал: «Только культурные народы выйдут целыми из европейской катастрофы, если истории суждено пройти через нее».
Россия – не вышла. Власть досталась большевикам, начались мирные переговоры с Германией, и Пепеляев вернулся в родной Томск. Охранял лагерь военнопленных, а когда их освободили, «жил частным заработком». Каким конкретно, он не уточнял. Однажды встретил в городе старого знакомого, полковника Сумарокова. Тот спросил: «Ты что, не в организации?» Получив недоуменный ответ, рассказал, что стоит во главе созданной под патронатом сибирских областников (сторонников автономии Сибири) подпольной офицерско-студенческой организации. Пепеляев стал ее членом, а после того, как Сумарокова «сместили за монархизм», и руководителем.
В мае 1918 года вспыхнул мятеж Чехословацкого корпуса. В Новониколаевске местный Совет был свергнут с помощью чехов, среди которых сразу выделился капитан Радола Гайда, он же Рудольф Гейдль, полунемец-полусерб, после окончания гимназии в Чехии обнаруживший в себе «чешское сердце». Попытка Пепеляева поднять восстание в Томске провалилась, но на следующий день большевики сами покинули город. «Для дальнейшей борьбы» Пепеляев собрал отряд из товарищей по подполью и объявил запись добровольцев. К концу лета его отряд превратился в Средне-Сибирский, поскольку формировался в Томской и Алтайской губерниях, стрелковый корпус численностью до пяти тысяч бойцов, из них больше половины – офицеры, служившие рядовыми, как в Добровольческой армии Корнилова. Остальные – интеллигенция, студенты. Их командир отличался крайней простотой обращения и на доступном ему уровне боролся с «рутиной бюрократизма»: сохранился его гневный приказ, воспрещающий начальникам уездных гарнизонов иметь штабы в составе более двух человек.
Корпус подчинялся Временному Сибирскому правительству, где тон задавали эсеры и областники. Погоны, символ старого режима, были заменены нарукавными шевронами, кокарды на фуражках – бело-зелеными, цветов сибирского флага, ленточками. При Колчаке погоны вернулись, но ленточки Пепеляев сумел отстоять, как и двуцветное корпусное знамя. Он верил, что в борьбе с деспотией большевиков «вольная Сибирь» принесет России свободу в обмен на собственную автономию.
Его добровольцы и легионеры Гайды за три месяца рассеяли отряды красногвардейцев, заняли Иркутск, Верхнеудинск, Читу. Другая группа чехов захватила Владивосток, атаман Калмыков – Хабаровск. Сибирских стрелков перебросили на Урал, и к концу 1918 года корпус Пепеляева, насчитывавший уже свыше пятнадцати тысяч штыков, оказался на острие удара, который Ставка Колчака направила на запад, на Пермь и Вятку, а в перспективе – на Москву.
В декабрьские морозы сибиряки, разгромив красную 3-ю армию, штурмом взяли Пермь. Пепеляеву досталось множество пленных и огромные трофеи. За этот успех он получил от Колчака орден Святого Георгия 3-й степени, а от главы союзнической миссии в Сибири генерала Жанена – французский Croix de Guerre[5] с серебряной пальмовой ветвью. В двадцать семь лет он стал генерал-лейтенантом, командующим Северной группой Сибирской армии (с июля 1919 года – 1-я Сибирская армия). Его слава была так велика, что когда Колчак заболел и неделю находился между жизнью и смертью, общественное мнение прочило Пепеляева на место Верховного правителя. Журналисты именовали его «любимым вождем», штатные виршеплеты из ОСВЕДАРМа[6], слагатели «солдатских песен», которые никто никогда не пел («Ой да полетели сокола, ой да со восточной стороны» – это о наступлении на Пермь), рифмовали «вражьи трупы» и «пепеляевской Северной группы». Лучший бронепоезд носил имя Пепеляева, корпусная газета «Пепеляевец» печатала стихи:
- Всем любо имя – Пепеляев,
- Идет в народе слух о нем.
- Русь от непрошеных хозяев
- Он очищает день за днем.
Или еще более оптимистичные:
- Будем скоро в Кремле,
- И по Русской земле Прогремит
- Пепеляева слава!
К созданию собственного культа он не приложил никаких усилий и палец о палец не ударил, чтобы его поддержать. Кого-то нужно было назначить героем на белом коне – назначили его. Колчаковская пресса всячески раздувала значение «пермского триумфа», его символический смысл усматривали даже в том, что город был взят 11 (24) декабря, в день, когда в 1790 году пал Измаил, и вместе с этой победой вырастала в масштабах фигура триумфатора – «сибирского Суворова». На пару месяцев к нему прилепился этот титул. Пепеляев идеально подходил на амплуа солдатского любимца, смелого, прямодушного и неприхотливого, как герой Измаила. «Простота» – первое, что корреспонденты пермских газет отметили в командире Средне-Сибирского корпуса. Сам его облик работал на миф о нем. Казалось, даже лихо заломленная на затылок фуражка (это видно на самом популярном из его снимков) говорит об отсутствии интеллигентских колебаний и сомнений, хотя скорее всего она ему просто мала. Для его громадной головы нелегко было подобрать фуражку нужного размера.
Поначалу он подчинялся Гайде, тоже произведенному Колчаком в генерал-лейтенанты и назначенному командующим Сибирской армией, а после его отставки стал фигурой номер один Восточного фронта. Этот фронт, проходивший по Уралу и Вятской губернии, для белых в Сибири являлся западным, однако назывался так же, как у красных, для которых он действительно был восточным. Правительство Колчака считало себя центральным, общероссийским, и вопреки географии смотрело на все происходящее не из Омска, а из Петрограда и Москвы. Идеал подчинил себе реальность, но в то время подобные отношения с пространством не казались экстравагантными. Пепеляев мог и не задумываться о смысле этого перевертыша.
Атлетически сложенный, с «серьезной русской внешностью», что немаловажно было в войне против III Интернационала, с открытым лицом человека, чуждого интригам и вообще какой-либо задней мысли, он вызывал доверие. На фотографии, где Пепеляев снят с Гайдой, Дитерихсом (тогда начальником штаба Чехословацкого корпуса), группой офицеров, русских и чешских, и представителями союзников, он – самый молодой, самый высокий, одет проще всех и держится скованнее, чем остальные. На Гайде – аккуратный френч, он стоит в расслабленной, свободной позе; Дитерихс картинно положил обе руки на набалдашник упертой в землю трости, а Пепеляев напряженно выпрямился и убрал руки за спину, словно не зная, куда их девать. Гимнастерка тесна ему в плечах и коротковата, вместо галифе – помятые форменные штаны, а на лице у него читается желание покончить с фотографированием как можно скорее.
Конечно, он быстро вжился в роль народного кумира и играл ее не без удовольствия, но если его именем называли бронепоезда, лазареты и штурмовые бригады, а его вензель красовался на погонах и на штандартах привилегированных частей, дело тут не в тщеславии юного командарма. То же самое творилось вокруг Каппеля, Семенова, других удачливых и харизматичных генералов и атаманов. Архаический культ военных вождей восполнял отсутствие у белых организующей общей идеи, но из всех этих разноликих и разновеликих фигур только Пепеляев сохранит любовь сослуживцев и после того, как сменит генеральский мундир на толстовку.
Генерал (тоже колчаковского производства) Константин Сахаров акцентировал заурядные или неприятные черты его внешности: «круглое простое лицо», «глаза, смотревшие без особо яркой мысли», «низкий» лоб, «грубый, низкий, сдавленный голос», «умышленно неряшливая одежда», но портрет не объективен – Сахаров ненавидел Пепеляева и за его левые убеждения, и по личным причинам.
Гайда носил на погонах придуманную им самим эмблему из трех поверженных революционной молнией орлов, двуглавых русского и габсбургского и одноглавого – венгерского королевского дома, ездил в салон-вагоне с роялем, с медвежьими и рысьими шкурами на полу, с «портретной галереей» на стенах, в том числе громадным собственным портретом. В поезде у него имелись вагон-гараж, вагон-конюшня, вагон для свиты, в которую входили «лакеи, денщики, машинистка, в глаза не видевшая пишушей машинки, сестра милосердия, просто сестра», а Пепеляев и в зените славы довольствовался необходимым. Он не был ни фанатичным аскетом, ни расчетливым честолюбцем, демагогически выставляющим напоказ свою житейскую непритязательность – он был военным интеллигентом с глубоко укоренившейся привычкой к скромному быту и простым искренним отношениям. «Неряшливая одежда» для него естественна, Пепеляев не придавал ей значения, как многие крупные и физически сильные люди. Штатский костюм будет выглядеть на нем точно так же.
В карательных экспедициях он не участвовал, после взятия Перми распустил по домам несколько тысяч пленных красноармейцев и не предал, как того требовала Ставка, военно-полевому суду служивших у большевиков офицеров. Пепеляев имел полное право исключить себя из нарисованной им картины разложения армии: «Начальство интриговало, свирепствовала разнузданная контрразведка, создавались роскошные штабы, офицерство пьянствовало».
Рассказывали, что при инспекционной поездке Колчака на фронт, во время смотров, целые полки шатались в строю. В уральских деревнях процветало самогоноварение, раздобыть «кумышку» не составляло труда, но Пепеляев с юности не переносил алкоголя. Его соратники в один голос утверждали, что даже в Якутии, на страшных морозах, их командир не выпил ни рюмки водки.
Весной 1919 года Пепеляев продолжил наступление: в июне Сибирская армия вступила в Вятскую губернию и после шестидневных боев заняла город Глазов. Реввоенсовет «Восточного фронта борьбы с мировой контрреволюцией» счел положение настолько угрожающим, что первый и последний раз за все время Гражданской войны, не считая позднейшей борьбы с повстанцами Антонова на Тамбовщине, решено было применить против белых отравляющие газы. В Вятку доставили иприт, но он так и остался запертым в железных бочках – Пепеляев отступил.
Сам он твердо стоял на том, что после взятия Глазова готовился нанести решающий удар красным и начал отходить не под натиском противника, а по приказу Ставки. На самом деле иного выхода у него не было – разгромленная Западная армия Сахарова, откатываясь на восток, обнажила его фланг. При этом Сахаров, виновный во многих поражениях и через год с позором изгнанный каппелевцами из армии, отзывался о Пепеляеве с оскорбительным высокомерием: «Природой он был предназначен командовать батальоном».
Все колчаковские стратеги до революции командовали в лучшем случае полками. Во главе армий и фронтов очутились не из-за своих военных талантов, а по причине кадрового голода на Востоке России. Пепеляев тоже не военный гений, но он трезво оценивал ситуацию, не боялся говорить правду и умел излагать свои мысли с впечатляющей яркостью, как, например, в рапорте, формально поданном Гайде, а по сути дела – Колчаку, после провала последней попытки Сибирских армий перейти в контрнаступление под Тобольском:
«Ставка легкомысленно пустила на убой десятки тысяч людей и теперь плетется в хвосте событий на фронте… Она не приняла во внимание, что победа в гражданской войне должна быть решительной и быстрой, но в то же время безусловной и действительной. Хождение взад-вперед в гражданской войне чревато большими опасностями».
«Я не буду говорить об оперативных ошибках подробно, т. к. это будет борьба идей и мнений, в которой прав тот, кто переспорит».
«Всякая армия держится офицерами. У нас на фронте их мало, в тылу – много… У армии не остается даже последнего ее резерва – офицеров, бегущих от красных, т. к. наши неудачи парализуют их стремление к переходу. Роковую роль сыграл в этом отношении приказ наштаверха № 189, в котором всех взятых (в плен. – Л. Ю.) офицеров приказано предавать суду».
«Еще хуже поставлен вопрос с обмундированием и снаряжением. Люди босы и голы, ходят в армяках и лаптях… Конные разведчики, как скифы ХХ века, ездят без седел».
Своим рапортом Пепеляев впервые вмешался в политику; он предложил «немедленно и торжественно объявить, что отныне по всей России земля будет принадлежать тому, кто лично трудится на ней, и отойдет крестьянам без всяких выкупов». Он потребовал изменить отношение к рабочим, выплачивать деньги семьям призванных в армию, ввести пенсии за убитых, пособия по ранениям, устранить цензы при производстве солдат в офицеры, сделать штаб главнокомандующего полевым, а не сидящим безвылазно в Омске.
«Этим, – вспоминал Пепеляев, – я вызвал к себе сильную вражду высшего командования, окрестившего меня эсером».
Членом партии социалистов-революционеров он никогда не был, но за народнические убеждения его презрительно называли «мужицким генералом».
В октябре 1919 года обескровленную непрерывными боями армию Пепеляева отвели в тыл, на линию Томск-Новониколаевск. В Ставке планировали остановить красных на этом рубеже, а неудобный для обороны Омск сдать без боя, но Колчак потребовал защищать столицу. Командующий Восточным фронтом Дитерихс, принципиально с этим не согласный, подал в отставку и был заменен покладистым Сахаровым. Тот обещал отстоять Омск, но ничего не сделал ни для его обороны, ни даже для эвакуации. Успокоив Колчака, Сахаров выехал в Новониколаевск, а на следующий день в город вступили авангарды 5-й армии Тухачевского. Деморализованный тридцатитысячный гарнизон капитулировал фактически без сопротивления; красноармейцы, заходя в правительственные учреждения, заставали на рабочих местах ни о чем не подозревающих чиновников.
Чуть раньше Пепеляев, давно не бывавший в тылу, прибыл на родину, в Томск, и увидел, что «генералитет не представляет ужасного положения на фронте, общество подавлено, единодушия никакого, власть адмирала вызывала лишь насмешки».
8 декабря на станции Тайга, где от Транссибирской магистрали отходит ветка на Томск, Пепеляев арестовал Сахарова, расценивая его поведение как «преступное», задержал поезд Верховного правителя и при поддержке брата Виктора вырвал у него обещание передать власть Земскому съезду. Он еще надеялся, что при «народовластии» красные признают автономию Сибири, можно будет договориться с ними о перемирии, но контакты с представителями большевистского подполья показали несбыточность этих надежд.
Из сорокатысячной армии Пепеляев привел в Томск пять-шесть тысяч бойцов, не желавших идти дальше. «Войска продолжали отход, – писал он, – но мои части, в большинстве сформированные из местностей Средней Сибири, оставались на местах, будучи скованы семейным положением». Последним приказом по армии он объявил о ее роспуске и покинул Томск с теми, кто решил продолжать борьбу – таких набралось около восьмисот человек. Они по-прежнему в него верили, хотя он признавал: «Мое имя было скомпрометировано, меня обвиняли в левизне, в предательстве».
На выезде из города Пепеляев едва не погиб: рабочие-сцепщики заложили бомбу между вагонами и взорвали ее, когда эшелон пошел на подъем. Взрывом отделило последние два вагона, в одном из которых находился командарм. Разгоняясь, они двинулись под уклон, чтобы, как рассчитывали подрывники, на большой скорости налететь на идущий сзади бронепоезд, но тот, к счастью, отстал, машинист сумел остановить паровоз всего в нескольких шагах от докатившихся до ровного места и потерявших инерцию хвостовых вагонов.
После падения Омска отступление превратилось в бегство. Фронт рухнул, в тридцатиградусные морозы войска и беженцы эвакуировались по забитой эшелонами Транссибирской магистрали. Не хватало паровозов, а для имевшихся не было угля, возникали растянувшиеся на десятки верст пробки. Составы сутками простаивали на запасных путях или на перегонах между станциями. Рассказывали жуткие истории о застывших в тайге, занесенных снегом поездах, набитых окоченелыми трупами пассажиров.
За Красноярском магистраль была в руках у красных, дальше пропускали только чехословацкие эшелоны. Остатки колчаковских армий уходили в Забайкалье пешком, но Пепеляев свалился в сыпном тифу и был оставлен на станции Клюквенная, где ему могли обеспечить хоть какой-то уход. Здесь метавшегося в бреду командарма подобрал и взял к себе в вагон незнакомый чешский офицер.
Через четыре года, на суде над участниками Якутской экспедиции, обвинитель спросит его, какие чувства он испытывал во время разгрома Колчака и отступления на восток. Не желая касаться этой больной темы, Пепеляев отделается одной фразой: «Трудно передать мои тогдашние ощущения».
В начале 1970-х я, лейтенант-двухгодичник, служил в полку, дислоцированном на станции Дивизионная, первой железнодорожной станции к западу от Улан-Удэ (бывший Верхнеудинск, родной город жены Пепеляева, Нины Ивановны). Здесь, в лесу на краю танкового полигона, в зоне, закрытой для гражданских лиц, я видел заброшенное кладбище легионеров Чехословацкого корпуса. Их товарищи воздвигли этот город мертвых в стороне от поселка Березовка и железной дороги, чтобы уберечь его от варварства живых. Вокруг не было ничего, кроме сосен и песка, до ближайшего жилья – километров пять, если не больше; тем сильнее впечатлял затерянный в забайкальской тайге, как постройки майя в джунглях, громадный некрополь с идеально прямыми улицами из высоких, в человеческий рост, плит красноватого здешнего известняка с высеченными на них славянскими, немецкими, еврейскими фамилиями. Здесь же – названия богемских, моравских, словацких городков, кресты с вкрапленными среди них могендовидами, номера воинских частей. Надписи кое-где сохранили остатки золотой краски, почти все надгробия были целы, но братские могилы, давно разрытые и разграбленные, зияли провалами. Тогда я думал, что в этих прошитых сосновыми корнями песчаных яминах лежат погибшие в боях с красными, а теперь знаю: большинство этих людей умерло от тифа.
Греческое слово тифос означает облако, туман, в переносном смысле – помрачение рассудка. В лихорадочном состоянии тифозные больные воспринимают окружающий мир как ирреальный, призрачный. Банально порожденный платяной вошью и скоплением сорванных с места людских масс, тиф сделался болезнью общества с размытой границей между бредом и явью. Черный флаг над тифозными бараками – типичная примета сибирского города в последние месяцы правления Колчака. Не щадя никого, настоящим бичом сыпняк становился для разгромленных, отступающих армий. Количество его жертв многократно превышало число погибших в боях, но Пепеляев выжил – потому, может быть, что в горячке чехи обертывали его ледяными простынями. Он сам рассказывал об этом жене.
Бывший министр Сибирского правительства Иван Серебренников записал другой его устный рассказ о путешествии в чешском эшелоне от Клюквенной до Верхнеудинска: «На одной из станций рабочие, прознав о моем присутствии в чехословацком поезде, окружили его и потребовали меня выдать. Комендант поезда не растерялся, вышел к толпе и сказал: “Да, это верно, мы везли с собой Пепеляева. Он был болен тифом, на одной из предыдущих станций ему стало совсем плохо, и мы оставили его там для помещения в госпиталь. Толпа поверила этому заявлению и мирно разошлась».
Когда эшелон шел через Иркутск, Пепеляев думать не думал, что здесь его Нину сняли с поезда, и сейчас она с сыном Всеволодом и Анной Тимиревой, гражданской женой Колчака, сидит в женском корпусе городской тюрьмы. Шестилетний Всеволод запомнил, как при аресте мать сунула ему в карман штанишек «золотой самородок величиной с фасолину». Деньги и ценности у нее отобрали при обыске, а самородок уцелел. Выйдя из тюрьмы, Нина при чьем-то посредничестве ухитрилась передать его Самуилу Чудновскому, организовавшему расстрел Колчака и ее деверя, Виктора Пепеляева, а взамен получила разрешение на выезд к родителям в Верхнеудинск. Об этом в старости писал Всеволод Анатольевич, хотя сбереженное у него в штанишках сокровище могло осесть в кармане любого из сотрудников иркутской ЧК. Новый владелец самородка должен был хранить в секрете имя своей подопечной, поэтому, может быть, выданный Нине Ивановне проездной документ выписан был на ее девичью фамилию. Впрочем, так могли поступить и в заботе о ней. Никакие печати и подписи не гарантировали безопасность жене известного всей Сибири белого генерала.
В Верхнеудинске, в родительском доме, она встретилась с мужем, еще слабым после тифа. Красные вот-вот должны были занять город, и Пепеляев отправил жену с сыном в Харбин, куда еще в декабре бежали из Томска его мать (отец умер в 1915 году) и сестры. Сам из остатков своей армии сформировал отряд, под Сретенском принял участие в бою с партизанами, но когда на помощь белым подошли японские части, ему, как он рассказывал, «стало стыдно вместе с японцами бороться против русского народа».
За попытку вступить в переговоры с партизанами атаман Семенов обвинил его в измене. После этого Пепеляев решил «встать в сторону» и в апреле 1920 года уехал из Забайкалья в Харбин, к семье.
Анархист из Люцина
Иван Яковлевич Строд тремя годами младше Пепеляева. Дата его рождения – 29 марта (10 апреля) 1894 года, место – уездный город Люцин Витебской губернии, ныне Лудза в Латвии. Мать – полька, отец – латыш, однако в анкетах сын никогда не указывал его национальность в качестве своей. Обычно он объявлял себя поляком, иногда – русским, но не из желания принадлежать к титульной нации. До тех времен, когда это станет важно, Строд не дожил, просто его отец Якуб был латгалец, а латгальцы с их особым языком (в современной Латвии считается диалектом латышского) не числили себя латышами. Лютеран среди них почти не было, соседи считали их поляками или русскими в зависимости от того, были они католиками или православными. Родители Строда относились к первым, но глава семьи, служивший фельдшером в армии, затем – в казенной городской больничке на десять коек, выстроил себе дом в русской части города. Он хорошо говорил по-русски, а для его детей это был язык улицы и школьной науки. В тех же анкетах родным языком Строд называл то русский, то материнский польский. Латышским он тоже владел свободно, мог наизусть прочесть Райниса, как, впрочем, и Мицкевича, и Пушкина.
Домик Стродов стоял в сотне шагов от большого дома, где родился герой Отечественной войны 1812 года генерал Яков Кульнев. За владениями его потомков лежали два озера, Большое и Малое, на холме над которыми поднимались башни старинного доминиканского костела Вознесения Святой Девы Марии и величественные руины построенного ливонскими рыцарями замка. Под его стенами появлялись армии Ивана Грозного, Стефана Батория, Густава Адольфа. История здесь была не книгой, как в Томске, а фоном жизни.
О детстве Пепеляева не известно ничего; к тому времени, когда о белом генерале можно стало говорить, все его ровесники давно умерли, но Строд в советской Лудзе входил в местный пантеон, краеведы нашли стариков, знавших его мальчиком, и записали их рассказы. Один из них вспоминал: «В то время на нашей улице было всего домов пять-шесть, а выше, на горе – пустырь. Днем там пасли свиней, и мальчишки, когда по вечерам играли в прятки, прятались в вырытых свиньями ямах. А весной, в ледоход, можно было покататься по озеру на льдине. Мы, малыши, с завистью смотрели, как старшие храбро взбирались на плывущую у берега льдину, отталкивались шестом, палкой и плыли от Малого озера до моста. Иногда катали и нас. Иван посмеивался над нашим страхом, но если мы, вымочив ноги или поскользнувшись, начинали хныкать, отсылал домой, и никто не смел ослушаться. Его лучшими друзьями были соседские мальчики Иван Паньков и Иван Анцев. Первый – сын бондаря, второй – сапожника. Все трое много читали. Заберутся на гору за Макашанами, за еврейским кладбищем, уединятся, а на другой день пересказывают нам прочитанное. Книги покупали в единственной на весь город книжной лавке Бунимовича».
Эльжбета Строд умерла, когда Ионс, он же Иван, старший из ее четырех детей, был подростком. Быстро появившаяся мачеха родила ему еще двоих братьев. Первенцу пришлось прервать учение и помогать семье. Он нанимался пахать огороды, подковывал лошадей, работал на мельнице, слесарил. Его образование – три класса городского училища, но написанная им книга «В якутской тайге» выдержит несколько изданий, белорусский писатель Василь Быков, тоже уроженец Витебской губернии, подростком будет зачитываться ею, как Строд в его возрасте – Буссенаром и Майн Ридом.
В 1914 году, на год раньше срока призыва, он добровольно ушел в армию. «Сделал это под воздействием патриотической пропаганды и для исхода кипучей энергии», – объяснял потом Строд, но без книжных примеров тоже, конечно, не обошлось. Он воевал на Западном фронте – в пехоте, потом в разведке, как Пепеляев. Дважды был тяжело ранен, контужен. При Керенском, вслед за четвертым солдатским Георгием, получил чин прапорщика. После Брестского мира вернулся в оккупированный немцами Люцин, но на тихой уездной родине ему совершенно нечего было делать, и весной 1918 года он очутился за тысячи верст от дома, в Иркутске.
Тот самый лудзенский старожил, которого Строд в детстве катал на льдине, уверял, что отважный сосед пошел добровольцем в Красную Армию, причем перед уходом в Россию доверительно поделился с ним планом сражаться за власть Советов. Все это не более чем фантазии, рожденные желанием быть причастным к судьбе героя. В сентябре 2014 года из тех же побуждений один лудзенец хвастал передо мной знакомством со старшим в группе троих здешних парней, уехавших в Донбасс воевать на стороне ополченцев. Я видел их фотографии в местной газете «Лудзенская земля», где они фигурировали под позывными Седой, Васек и Охотник, и хотя история повторяется, сын люцинского фельдшера оказался у красных случайно.
В 1960-х стараниями якутских историков, очень хотевших сделать Строда фигурой политически более весомой, чем было на самом деле, распространилась гипотеза, будто некие большевистские деятели с партийной проницательностью уже тогда разглядели в нем человека, способного выполнить любое ответственное поручение, и послали его из Петрограда в Иркутск с партией оружия для Центросибири[7]. Однако сам он говорил, что поехал в Москву искать какую-нибудь работу, не нашел, подался в Казань, но и там с работой было плохо. Кто-то посоветовал ему поискать ее в Сибири, а по дороге, тоже по чьей-то рекомендации, Строд решил добраться до Владивостока, чтобы оттуда эмигрировать в Америку. Дальше Иркутска его как бывшего офицера на восток не пропустили и, помотавшись по городу, он не нашел ничего лучшего, как вступить в Красную гвардию. Мятеж Чехословацкого корпуса поставил его в ряды защитников Центросибири.
На Байкале, в районе кругобайкальских тоннелей, добровольцам Пепеляева и чехам Гайды противостояли красные забайкальские казаки, черемховские шахтеры, «интернационалисты» (выпущенные из лагерей австрийские и немецкие военнопленные) и отряды анархистов. Одним из них командовал Нестор Каландаришвили. Образованностью и обликом благородного шиллеровского разбойника он выгодно отличался от вожаков других анархистских ватаг, вчерашних крестьян или хищных и эксцентричных полубандитов вроде Ефрема Пережогина.
Анархистом, точнее анархо-коммунистом, Строд стал под его влиянием, но остался им и после того, как Каландаришвили вступил в РКП (б). Строд – чистейший тип идеалиста, недаром при его заслугах и славе карьеры он так и не сделал.
Другое название анархо-коммунистов – хлебовольцы, от книги Петра Кропоткина «Хлеб и воля». При своей любви к чтению Строд должен был изучить этот труд, хотя вряд ли сумел бы последовательно изложить его содержание. Он не теоретик, не партийный публицист, но чтобы проникнуться духом библии анархо-коммунизма, достаточно было держать в памяти хотя бы несколько цитат:
«Всякий клочок земли, который мы обрабатываем в Европе, орошен потом многих поколений, каждая дорога имеет свою длинную историю барщинного труда, непосильной работы, народных страданий. Каждая верста железной дороги, каждый аршин туннеля получил свою долю человеческой крови».
«Миллионы человеческих существ потрудились для создания цивилизации, которой мы так гордимся… Даже мысль, даже гений изобретателя – явления коллективные. Искать долю каждого в современном производстве совершенно невозможно».
«По какому же праву может кто-нибудь присвоить себе хотя бы малейшую частицу этого огромного целого и сказать: это мое, а не ваше?»
Справедливость этих воззрений трудно оспорить, но опыт ХХ столетия заставляет скептически относиться к их житейской ценности. У Строда такого опыта не было.
К концу августа 1918 года, после недолгих, но небывало жестоких по отношению к пленным боев на Байкале, все было кончено – белые победили. Каландаришвили ушел на юг, к монгольской границе, а Строд, возглавивший охрану членов Центросибири, вместе с ними и группой красных командиров двинулся на север, в Якутию. У них, как он говорил, «была иллюзия, что там сохраняется советская власть».
Едва ли Строд знал, что дорогу, по которой их повели нанятые в Урульге проводники-тунгусы[8], полвека назад отыскал автор «Хлеба и воли», в ту пору офицер по особым поручениям при генерал-губернаторе Восточной Сибири. Нужно было найти путь к Олекминским золотым приискам, чтобы гонять туда мясной скот из Забайкалья, но все, кто пытался связать между собой два этих «зачаточных центра культурной жизни», бесславно возвращались назад, не сумев одолеть «каменную преграду» Муйского хребта с его «скалистыми вершинами гор, стремительностью потоков и абсолютной безлюдностью».
Предшественники Кропоткина шли с юга на север, а он, по Лене доплыв до Олекминска, с помощью проводника-якута и карты, которую какой-то тунгус ножом вырезал для него на куске бересты, пересек эту горную цепь в обратном направлении. Пройденный им маршрут стал скотопрогонной дорогой, по ней в сентябре 1918 года Строд с товарищами выступил в сторону Олекминска.
В ноябре до цели оставалось немного, но тут от охотника-тунгуса узнали, что в городе – белые, что о беглецах известно, их ищут. Чтобы уйти от преследования, разбились на три группы. Две из них скоро были обнаружены и уничтожены (одну расстреляли на ночлеге прямо сквозь ветви шалаша), однако для Строда конец пути по найденной Кропоткиным дороге не стал концом жизни. Третью группу, в которую он входил, спас от расправы местный фельдшер Селютин, настоявший, чтобы пленников отвели к коменданту Олекминска, эсеру Геллерту, принципиальному противнику смертной казни. Строд на всю жизнь остался благодарен Селютину, и когда через пятнадцать лет тот приедет в Москву учиться на каких-то курсах, на полгода поселит его у себя в квартире.
Больше года Строд просидел в олекминской тюрьме, с падением Колчака вышел на свободу, сам участвовал в охоте на ушедших в тайгу белых, потом вернулся в Иркутск, отыскал Каландаришвили и вновь поступил к нему на службу.
Весной 1920 года тот с двумя конными партизанскими полками, Таежным и Кавказским, воевал против атамана Семенова и японцев в составе Народно-Революционной армии «буферной» Дальневосточной республики (ДВР). Она была создана Москвой, чтобы избежать прямого военного конфликта с Японией. Строд попал в Кавказский полк и через пару месяцев командовал в нем головным эскадроном, как в Северном отряде два года спустя.
Преследуя Азиатскую дивизию Унгерна, партизаны вошли в дымящиеся развалины станицы Кулинга. «Грустно и больно было, – вспоминал Строд, – смотреть на это особенное кладбище, на котором вместо крестов и памятников возвышались почерневшие трубы печей, напоминавшие вместе с обугливающимися, догорающими бревнами, что здесь недавно стояли дома, жили люди».
Унгерн приказал сжечь Кулингу, узнав, что несколько казаков из нее ушли к партизанам. Семьи изменников сожгли вместе с домами. Двери подпирали кольями, и тех, кто пытался выбраться из окон, оглушали и зашвыривали обратно в огонь.
«Вот у одного дома, – продолжает Строд, – кучка казаков разбрасывает обгорелые бревна. Один нагнулся, что-то схватил руками, выпрямился со смертельно бледным лицом, полными ужаса и отчаяния глазами уставился в одну точку, мучительно застонал и, заскрежетав зубами, упал на горячую золу, прижимая к груди потрескавшийся череп ребенка… Возле другого дома казак нашел в погребе сгоревшую жену. Стоит над трупом, называет его самыми ласковыми, нежными словами: «Солнышко ты мое ясное, Авдотьюшка ты моя ненаглядная, лебедушка милая, никогда больше не увижу я тебя, не услышу твоего голоса», – а сам целует кости с кусками уцелевшего на них мяса».
Вскоре заняли родную станицу Семенова, Куранжу. Из окна отведенной ему квартиры Строд увидел «одноэтажный дом с садиком, пустой, с заколоченными окнами и покосившимся, поросшим травой крылечком – он резко бросался в глаза прохожему». Кто-то из партизан прибил к воротам кусок картона с надписью: «Здесь родился палач Забайкалья, атаман Семенов».
Дом, где Строд с товарищами встали на ночлег, находился через улицу. За ужином постояльцам показалось, что старик-хозяин их боится – «у него тряслись руки, на лице можно было прочесть загнанный внутрь и прорывающийся наружу страх». В тот же вечер от соседей узнали, в чем тут дело: старик оказался дядей Семенова, родным братом его отца. Наутро, уезжая, Строд сказал ему, что знает о его родстве с атаманом, и добавил: «Ты, дедушка, можешь спать спокойно, никто тебя не тронет. Твой племянник сам ответит за пролитую им кровь».
Как в Пепеляеве, ни мстительности, ни ожесточения в нем не было, но, в отличие от своего будущего противника, тяготившегося военной службой и не в ней видевшего свое призвание, Строд – человек войны. Он научился ездить верхом не хуже казаков, не раз участвовал в «настоящей кавалерийской рубке», умел подчинять себе людей, мог мгновенно обезоружить и арестовать партизана, который издевательски свистнул в ответ на его командирское приветствие перед строем, при этом к власти как таковой был равнодушен и ценил ее, кажется, прежде всего за то, что давала возможность потакать не чуждой ему слабости к франтовству. Высокий, астеничного сложения, на групповых фотографиях Строд выглядит элегантнее всех, кто сидит или стоит с ним рядом. Лицо спокойно, взгляд холоден, но это не более чем дань эстетике парадных снимков. Нервность, вспыльчивость – причина многих его бед.
В январе 1922 года Строд в составе Северного отряда последовал за Каландаришвили в Якутию и расстался с ним за три дня до его гибели на Техтюрской протоке Лены.
Эсер и корнет
11 июля 1905 года тридцатичетырехлетний дворянин, уроженец Новгородской губернии Петр Александрович Куликовский, бывший преподаватель Сергиевского училища в Санкт-Петербурге, ныне эсер, член Боевой организации, под видом просителя явился в приемную московского градоначальника Шувалова на Тверском бульваре и в упор убил его тремя выстрелами из револьвера. Убийцу приговорили к повешению, но после поданного на высочайшее имя прошения о помиловании смертную казнь заменили пятнадцатилетней каторгой. Шесть лет Куликовский провел в Акатуйской и Зерентуйской каторжных тюрьмах, в 1911 году по амнистии вышел на поселение в Якутскую область, служил в фирме иркутской купчихи Анны Громовой, меценатши и покровительницы ссыльных.
Принадлежавшие ей пароходы ходили по Лене, Алдану, Вилюю, Мае, на них Куликовский объездил всю Якутию. Его статьи появлялись в газетах, но кумиром интеллигентной молодежи он стал благодаря тому, что увлеченно ставил любительские спектакли с учениками реального училища и студентами учительской семинарии. Они собирались у него на квартире, пили чай, обсуждали прочитанное. Куликовский жил один, жена с двумя детьми осталась в Парголово под Петербургом. То ли она не захотела приехать к мужу, то ли он звал ее не слишком настойчиво. Юные актеры стали его семьей и паствой. Педагог по образованию и по призванию, Куликовский пользовался у них громадным авторитетом. Он жил общественными интересами, был красноречив, пылок, бескорыстен, если не считать корыстью пастырское желание власти над душами, и после Февральской революции не захотел уезжать из Якутска. Жена давно стала чужим человеком, дети выросли. В столице его никто не ждал, а здесь, когда большинство политических ссыльных вернулось в Россию, на оскудевшем интеллектуальном фоне Куликовский сделался заметной фигурой. В 1917 году он был избран депутатом Сибирской областной думы от Якутии.
Через пять лет один из его блудных духовных сыновей, Иван Редников, ставший членом ревтрибунала, написал бывшему наставнику письмо с призывом отказаться от борьбы с советской властью[9]. «Вы, – обращался к нему Редников, – уважаемый всей учащейся молодежью города Якутска…»
Отвечая, Куликовский отвлекся от темы и отдался воспоминаниям о чрезвычайно важных для него отношениях с молодыми людьми вроде автора письма. «Для меня было счастьем, – писал этот немолодой и одинокий энтузиаст, – наблюдать в среде учащейся молодежи тот момент их жизни, когда человек становится человеком. И, конечно, проникаешься уважением к молодежи, которой дано в этот период ярко проявлять священную суть жизни – свободомыслие. И я был счастлив, хотя случались моменты грусти, ведь и я был в таком же периоде, но жизненные тучи затуманили зарю молодости и не дали мне стать тем, чем хотелось бы быть», – проговаривался Куликовский о собственных несбывшихся надеждах.
«Душа болит, когда вспоминаешь, что некоторых из этих юношей, – продолжал он, имея в виду тех своих питомцев, кто пошел служить красным, – я знал и любил в них нарождающуюся интеллигентность. Теперь эти юноши без мысли и воли стали автоматами, потрошителями человеческого мяса, стали пустосвятами, твердящими, что только Ленин свят…»
В феврале 1921 года ЧК арестовала в Якутске свыше трех сотен участников «контрреволюционного заговора», из них около ста человек приговорили к исправительным работам, тридцать пять расстреляли. Для города с населением семь-восемь тысяч человек это были колоссальные цифры. Арестованных избивали шомполами, в сорокаградусные морозы держали в нетопленых помещениях, сажали на лед, водили на прогулку босыми. Дворницкий лом применялся как орудие пытки.
Куликовский тогда служил в торгово-закупочном кооперативе «Холбос». Он рад был переждать смутное время подальше от Якутска и принял предложение уехать в командировку за тысячу верст к востоку – руководить постройкой дороги от порта Аян на Охотском море, где скоро высадится Пепеляев, до села Нелькан на реке Мае. По Мае, Алдану и Лене пароходами доставляли в Якутск те грузы, что морем приходили в Аян, но от Аяна до Нелькана их вьючным способом везли на лошадях или оленях. Проложить здесь колесный тракт собирались давно, мешало то отсутствие денег, то война и революция, то разные мнения насчет того, по какому маршруту он должен пройти через Становой хребет. В конце концов за дело взялся «Холбос».
Куликовский обосновался в Нелькане, вел изыскательские работы и неожиданно для себя оказался в эпицентре потрясших Якутию событий – Нелькан стал колыбелью крупнейшего за всю ее историю восстания.
В августе 1921 года из Якутска бежала группа бывших офицеров, служивших в военкомате и других учреждениях. После побега один из советских начальников, по недостатку бдительности принявший их на службу, оправдывался тем, что стал жертвой своего рода оптического обмана: «Они (эти офицеры. – Л. Ю.) сумели завоевать доверие многих коммунистов, так как в дни реакции казались красными в кругу черных, в действительности оставшись теми же белыми».
Возглавил побег военрук Толстоухов. Офицеры направлялись к Охотскому побережью, рассчитывая на каком-нибудь американском или японском судне выбраться во Владивосток, чтобы там вступить в Белую армию или эмигрировать. Из города они выехали будто бы для заготовки фуража на зиму, поэтому погоню выслали с опозданием, и она ни с чем вернулась обратно.
На Алдане беглецы захватили пароходы «Киренск» и «Соболь», на них доплыли до Нелькана и здесь, на складах «Холбоса», нашли до тридцати тысяч пудов мануфактуры, муки и чая. Став обладателями таких богатств, бесценных для страдающей от «бестоварья» Якутии, офицеры решили к морю не идти, а с опорой на этот мощнейший ресурс выступить против большевиков прямо на месте. Куликовский присоединился к ним. Ему предложили возглавить гражданскую власть в Нельканском районе, и он согласился.
Толстоухов набрал в Нелькане пушнины, после чего отбыл с ней во Владивосток, пообещав привести на подмогу казаков. Пушнину он собирался продать, а на вырученные деньги снарядить экспедиционный отряд, но, надо полагать, нашел деньгам другое применение. Больше о нем ничего не было слышно, и советские агитаторы потом напоминали повстанцам эту историю – в том смысле, что офицеры обманут якутов, как Толстоухов обманул их самих.
После его отъезда на первый план выдвинулся самый юный из пришедших с ним офицеров – корнет Василий Коробейников. Красные пренебрежительно именовали его Васькой, но трудно понять, почему этот молодой человек со своим опереточным воинским званием стал командующим повстанческой армией, в лучшие времена насчитывавшей несколько тысяч бойцов. Из спутников Толстоухова он был младшим по чину и возрасту, но стал старшим по положению.
Ни одной фотографии Коробейникова не сохранилось. Никто из тех, кто был с ним знаком, не оставил ни описания его внешности, ни психологического портрета. Лишь один из спутников Пепеляева, мельком видевший его уже после разгрома восстания, не без симпатии отметил, что Коробейников показался ему «отчаянным мальчиком», а у другого мемуариста есть еще более лаконичная характеристика его облика: «невзрачный». Эти два высказывания противоречат одно другому только на первый взгляд. Поставленные рядом, они позволяют увидеть некрасивого, нервного, не уверенного в себе, но амбициозного юношу, пытавшегося доказать свою состоятельность расстрелом нельканских милиционеров.
Бывалые товарищи охотно уступили ему главную роль, надеясь, видимо, им управлять, а в случае нужды сделать его искупительной жертвой, но Коробейников вышел из-под их контроля и стал едва ли не единственным из русских офицеров, кому якуты-повстанцы полностью доверяли. Возможно, этому способствовала доля якутской крови в его жилах или знание им якутского языка.
Для начала Коробейников решил сколотить отряд из тунгусов, обитавших в тайге между Нельканом и Охотским морем. Столетия назад их оттеснили на восток пришедшие с юга тюрки-якуты. Оленеводы и охотники, тунгусы привыкли получать за пушнину все необходимое, но с недавних пор выменивать стало нечего и не у кого. Товары исчезли, купцы лишились права на торговлю, а советские уполномоченные обложили пушной промысел налогом, требовали регистрировать ружья, клеймить добытые меха и даже саму охоту разрешали только тем, кто покупал охотничье свидетельство. Для тунгусов, детей природы, это казалось абсолютно непостижимым, да и денег у них не было. Вдобавок ко всему представители новой власти не желали перед началом пушного сезона снабжать их порохом и другими товарами в долг, как испокон веку делали купцы.
Один из тунгусских предводителей косноязычно и оттого еще более выразительно объяснил, почему они взялись за оружие: «От советской власти очень обиделись, потому встали (восстали. – Л. Ю.). Советский власть приговору очень хорошо, а если попадет внутренность, то очень твердо ведет».
Иными словами, мягко стелет, да жестко спать.
Узнав о появлении офицеров, в Нелькан примчался купец Юсуп Галибаров, раньше торговавший с тунгусами. Он угощал их спиртом, делал щедрые подарки старейшинам и клятвенно обещал, что офицеры восстановят прежние порядки. Под воздействием этой агитации таежные охотники начали вступать в отряд. Жалованье, выплачиваемое чаем и мануфактурой, быстро довело их численность до двух сотен. Стрелки они были отменные. Лучшие, экономя свинец, умели пустить пулю таким образом, что она застревала у белки в черепе и годилась для нового выстрела.
Отбив не слишком настойчивые попытки красных подавить мятеж в зародыше, Коробейников со своим отрядом двинулся на запад, и его маленькое войско стало тем снежным комом, который обрушивает за собой лавину.
Военный коммунизм докатился до Якутии с опозданием и принял дикие формы. Якуты, составлявшие чуть ли не девяносто процентов от трехсоттысячного населения области, не в силах были понять, почему на них обрушились бесконечные поборы под названием «разверсток» или «натурналога». Из-за непрестанных вымогательств слово «коммунар» произносили как созвучное ему якутское хомуйар – жалкий бедняк, собирающий в тайге все, что годится в пищу. Неплательщиков избивали, истязали, а то и расстреливали. Другие повинности именовались «мобилизациями»: «конская мобилизация» означала реквизицию лошадей, «гужевая» – подвод и быков, «трудовая» – бесплатную работу, в том числе на золотых приисках, где якуты подвергались всяческим издевательствам. Их туда угоняли с двоякой целью: обеспечить золотодобычу даровой рабочей силой и создать туземный пролетариат, который в будущем станет опорой режима. Особой жестокостью отличались примкнувшие к красным уголовники («ссыльно-каторжный элемент»), относившиеся к якутам как к низшей расе. Современник писал об этих людях: «Раньше они убивали людей как кошек, а теперь им понадобилась кровь, чтобы отмыть руки от крови».
Аресты тойонов с их окружением дезорганизовали привычную жизнь наслегов и улусов и ударили по всему якутскому населению, включая хамначитов, в чьих интересах это якобы делалось[10]. Репрессии затронули и национальную интеллигенцию – учителей, фельдшеров, наслежных писарей, городских служащих. С началом террора многие из них перебрались из городов в улусы, а с появлением Коробейникова присоединились к повстанцам. Без них восстание 1921 года не слишком отличалось бы от якутских восстаний XVII века, но теперь оно приобрело характер национально-освободительного движения. Коробейников со штабом координировал действия отдельных отрядов, во главе которых стояли белые офицеры. Командирам-якутам присваивались офицерские звания. Сын амгинского тойона Афанасий Рязанский, произведенный Коробейниковым в прапорщики, скроил себе погоны из шитых золотом церковных риз.
Масла в огонь подлила борьба с шаманами. До революции их преследовали как еретиков, теперь – как служителей культа. Отбирали костюмы для камлания, бубны, символические изображения – эмэгэты. Железные и медные атрибуты предписывалось «отдавать на нужды общества», а бубны, былайяхи (колотушки) и деревянные фигурки – сжигать.
«Имеем дело с национальным народным движением, которое приняло очень широкие размеры», – докладывал в Иркутск один из тех, кто сам это движение спровоцировал, и панически заключал: справиться с ним можно «только при почти поголовном истреблении местного населения».
«Фактически, – констатировал якут-коммунист Исидор Барахов, – губбюро РКП (б) встало на этот путь».
Повстанцы были объявлены вне закона, приказывалось в плен их не брать и не расстреливать, а для экономии патронов рубить шашками. Их семьи подлежали аресту, имущество – конфискации. В тех наслегах, где они пользовались поддержкой населения, предписывалось казнить каждого пятого мужчину. Листовки с устрашающими приказами никак не подействовали на неграмотных якутов, зато развязали руки командирам карательных отрядов – началась охота за «шпионами», конфискации обернулись мародерством, женщин-заложниц насиловали. Арестовали такую массу людей, что держать их было негде, на повестку дня встал вопрос об организации концентрационного лагеря.
В результате таких мер восстание не только не пошло на убыль, но к зиме охватило все населенные якутами районы. По словам его участника и будущего противника Строда, учителя Михаила Артемьева, все тогда были «захвачены лихорадочным кошмаром мести друг другу». Повстанцы тоже практиковали террор, и так же, как у их врагов, убитые нередко оказывались жертвами доносчиков, сводивших с ними личные счеты или зарившихся на их имущество. При этом, как всегда в такие времена, с низкими страстями соседствовали самопожертвование и презрение к смерти.
В селе Петропавловском из молодежи создали самооборону. С появлением повстанцев отряд разбежался, один Федор Каменский отстреливался и был схвачен. Когда его вывели на берег Алдана, он, по рассказу односельчанки, сказал руководившему расстрелом купцу Галибарову: «Вы снимете с моего трупа одежду, ею подкупите темных якутов и тунгусов и угоните их на убой. Я не дам вам этого сделать, а лучше утону». Каменский побежал к реке, по нему стали стрелять, но в темноте не попали, а «лед был еще некрепкий, и он утонул».
Четыреста красноармейцев были заперты в селе Амга-слобода, остальные отступили в Якутск, тоже очутившийся в кольце блокады. Большинство учреждений не работало, коммунистов, комсомольцев, членов профсоюза мобилизовали для несения патрульной службы. С Иркутском сносились по радио, с прочими населенными пунктами связи вообще не было – повстанцы, как потом посчитали, спилили две тысячи телеграфных и телефонных столбов.
В марте 1922 года в селе Чурапча, на съезде представителей всех улусов и наслегов было создано повстанческое правительство – Временное Якутское областное народное управление (ВЯОНУ). Чуть раньше аналогичное собрание прошло в Нелькане. На обоих решили просить Приамурское правительство братьев Меркуловых о присылке оружия и военных инструкторов. В Чурапче эту миссию возложили на председателя ВЯОНУ Ефимова, в Нелькане – на Куликовского и якута Попова. Последние двое находились ближе к Охотскому побережью и до Владивостока добрались первыми.
Дух уповании
В Харбине, до приезда мужа, Нина Ивановна с сыном скиталась по чужим углам, Пепеляеву сразу пришлось искать какой-то заработок. Для человека его ранга это было делом не вполне обычным: на востоке России военная власть легко конвертировалась в валюту. Семенов имел счета в японских банках и заблаговременно перевел на них крупные суммы; об одном колчаковском генерале поговаривали, будто он на подставных лиц купил доходный дом в Харбине, о другом – что в порту Тяньцзина стоит принадлежащая ему паровая яхта, о третьем – что в ряде солидных фирм есть доля его капитала. Иногда такие обвинения сочинялись в редакциях просоветских газет, чтобы дискредитировать влиятельных в эмиграции людей, но о Пепеляеве подобных слухов никто не распускал – им бы просто не поверили.
«Сбережений», как эвфемистически называли вывезенные из России казенные деньги, он не имел и первое время разгружал дрова на пристани. «Любит физический труд», – отзывался Пепеляев об одном офицере, что в его устах было наивысшей похвалой, но любовь к такому труду как форме отдыха – одно, а необходимость содержать им семью – совсем другое. Осенью он подыскал место чертежника, потом купил в рассрочку двух лошадей и на пару с бывшим ординарцем, прапорщиком Емельяном Анановым, начал зарабатывать ломовым извозом.
Работа была тяжелая, часто грязная, но давала средства для скромной жизни. По заказам напарники ездили через день, в очередь. К ним присоединилась группа офицеров, возникла извозчичья артель, а для солдат Пепеляев организовал артели грузчиков и плотников. С той же целью он создал «Воинский союз», прообраз будущего РОВСа, но от должности председателя отказался, уступив ее другу, генералу Евгению Вишневскому.
В апреле 1922 года Нина Ивановна родила второго сына, Лавра. Жили не в центре Харбина, а в лежавшем за городской чертой поселке Модягоу, где квартиры были дешевле. Эмигрантских собраний Пепеляев не посещал, ни в каких политических обществах не состоял. Свободное время проводил с семьей, рыбачил, читал; чтение он называл среди занятий, которым хотел бы отдаться в мирной жизни. Познакомившийся с ним впоследствии краском Степан Вострецов говорил, что особенно хорошо Пепеляев знал «Жизнь Иисуса» Эрнеста Ренана. О других его любимых авторах ничего не известно. Ни одной литературной цитаты в его дневнике нет, кроме примененной к себе и товарищам по Якутскому походу фразы Горького о «безумстве храбрых».
Зато, начав вести дневник, он в первой же записи зафиксировал свои убеждения: «Я не партийный. Даже не знаю, правый или левый. Я хочу добра и счастья народу, хочу, чтобы русский народ был добрый, мирный, но сильный и могучий народ. Я верю в Бога. Верю в призвание России. Верю в святыни русские, в святых и угодников. Мне нравится величие русских царей и мощь России. Я ненавижу рутину, бюрократизм, крепостничество, помещиков и людей, примазавшихся к революции, либералов. Ненавижу штабы, генштабы, ревкомы. Не люблю веселье, легкомысленность, соединение служения делу с угодничеством лицам и с личными стремлениями. Не люблю буржуев. Какого политустройства хочу? Не знаю… Республика мне нравится, но не выношу господство буржуазии».
И дальше: «Меня гнетут неправда, ложь, неравенство. Хочется встать на защиту слабых, угнетенных».
Наконец последнее, что он счел необходимым написать о себе на первой странице дневника: «Противны месть, жестокость».
В середине 1990-х издатель и мемуарист Семен Самуилович Виленский, сидевший в лагере на Колыме вместе со старшим сыном Пепеляева, дал мне его адрес. Всеволод Анатольевич жил тогда в Черкесске. Мы с ним начали переписываться, и в одном из писем он прислал мне ветхий тетрадный листок с карандашным рисунком отца: поскотина из жердей за деревенской околицей, елки, месяц в ночном небе, глазастый зайчик с умильно воздетой передней лапкой. Вверху по-детски коряво выведено: «От папы. Вова (домашнее имя Всеволода, старшего сына. – Л. Ю.). 22 марта 1921 года».
На обороте – четверостишие, написанное взрослой рукой, но не рукой Пепеляева:
- Папа наш с открытым воротом,
- С утомленной головой,
- Ходит он с термометром,
- Думу думает все он.
Дату поставил Севочка, рисовал его отец (во время болезни, раз ходил с термометром), а стишок, должно быть, сама или вместе с сыном сочинила Нина Ивановна. Тогдашнее настроение мужа передано ею не без иронии, но со знанием дела: смешное слово «дума» применительно к Пепеляеву употребляла не она одна. Люди, знавшие его по Харбину, вспоминали «грузного, небрежно одетого человека в потасканных шароварах защитного цвета, в толстовке, в серой, надетой по-военному, немного набок, шляпе». По улицам он ходил «медленной развалистой походкой, и на лице у него словно бы застыла тяжелая, мучительная, неразрешимая дума».
«Душой я отошел от Белого движения, – писал Пепеляев об этом периоде своей жизни, – порвал с ним всякую связь, мучительно искал ответов на вопросы: в чем спасение Родины? Как примирить вражду русских? Что сделать, чтобы улеглись волны революционного моря?»
Популярного генерала стремились привлечь на свою сторону и белые, и красные. Друживший с ним колчаковский журналист Николай Устрялов объяснял это просто: «Все нуждались хоть в одном честном имени».
Из Благовещенска приезжал старый товарищ, полковник Буров, ныне командир краснопартизанского отряда, от имени правительства ДВР предлагал командную должность в Народно-Революционной армии. Пепеляев готов был сражаться с японцами и «японской болванкой» Семеновым, но Япония эвакуировала войска из Читы и Хабаровска, а воевать против бывших соратников не позволяли, по его словам, «моральные соображения».
Генерал Вержбицкий зазывал в Приморье, обещал крупный пост в Белоповстанческой армии. Пепеляев ответил: «Пока народ не возьмет знамя борьбы в свои руки, действия отдельных армий успеха иметь не будут… Тяжело сидеть в бездействии, но звать людей на дело, в успех которого не верю, я не могу».
В то время, когда он рисовал сыну зайчика, Западную Сибирь охватили крестьянские восстания. Недавно сибирские мужики боролись против Колчака, а теперь не признали и большевиков, из чего Пепеляев делал вывод, что ни белые, ни красные не способны постичь народный идеал жизнеустройства, поэтому его долг – «влиться в народ, понять его нужды, его чаяния и служить народу». Как он однажды выразился, им овладел «дух упований» – надежда, что из этих стихийных мятежей родится новый порядок русской жизни. «Настроения мои, – вспоминал Пепеляев, – были такими: я хочу мира, счастья Родине, хочу, чтобы люди стали братьями, но в Сибири борьба не прекращается – восстания в Ишиме, в Петропавловске. Приезжие говорили, что в Сибири голод, жестокость карательных отрядов, крестьяне разбегаются из деревень в леса. Власть только грабит и не может устроить нормальной жизни… Создавалась картина полной гибели Родины и народа».
И переходил к самому себе: «Считал неверным пользоваться личным благополучием, когда гибнет родная Сибирь, а может быть, и Россия».
Устрялов подтверждает: «Он все упорнее твердил, что если начнется народное движение против советской власти, не сочтет себя вправе стоять в стороне. “Друзья” же старались заставить его всякую ничтожную крестьянскую вспышку в Сибири принимать за начало широкого движения».
Под «друзьями» (кавычки выдают отношение к ним Устрялова) понимались областники из «Сибирского комитета», руководимого старым народником Анатолием Сазоновым. Пепеляев сблизился с ними в Харбине. Самыми заметными членами этого кружка были журналист Валериан Моравский, эсер и партизан (белый, красный, опять белый) Николай Калашников и японист Мстислав Головачев, в силу профессии ставший главой МИДа в полностью зависимом от японцев Приамурском правительстве братьев Меркуловых.
В 1917 году Сазонов и Моравский заседали в Сибирской думе, где Якутию представлял Куликовский, и теперь, явившись во Владивосток просить о военной помощи повстанцам, он обратился за содействием к старым знакомым. Тщеславный несмотря на возраст Сазонов решил, что судьба посылает ему шанс осуществить лелеемый им проект создания «буферной», вроде ДВР, но не просоветской, а прояпонской Сибирской республики с Якутией как временной опорой ее государственности и самим собой в роли не то премьер-министра, не то идеократического диктатора. Через Головачева он составил Куликовскому протекцию у Меркуловых и организовал его встречу с Пепеляевым, которого соответствующим образом настроил.
Встреча состоялась во Владивостоке. Куликовский сумел найти ключ к сердцу «мужицкого генерала», рассказав ему о страданиях якутов и напирая на то обстоятельство, что ВЯОНУ – орган демократический, представляющий большинство населения.
«Власть эта – народная, опирающаяся на весь народ, и вот народ зовет всех сочувствующих народу помочь ему спастись от уничтожения. Это меня увлекло», – рассказывал Пепеляев, какое впечатление на него произвел рассказ Куликовского. Он не замечал, что от слова «народ» здесь рябит в глазах.
Сазонов, хотя ему перевалило за семьдесят, объявил, что лично возглавит Якутскую экспедицию. В конце концов, он снизошел к просьбам соратников, милостиво согласившись поберечь себя для будущих свершений и остаться дома, но приставил к Пепеляеву двух своих комиссаров: теоретик кооперации Афанасий Соболев, о котором Устрялов отзывался как о «необыкновенно бестолковом и самодовольном доморощенном экономисте», стал начальником информационно-политического отдела Сибирской дружины, а «трудовик» Герасим Грачев – его единственным сотрудником.
15 июля 1922 года Пепеляеву исполнился тридцать один год. Незадолго до того он вернулся в Харбин после встречи с Куликовским, и в день рождения на квартире у него собрались близкие товарищи по Сибирской армии. Среди них – его бывший адъютант, поручик Малышев. Он лишь недавно перебрался в Харбин из Хайлара, где преподавал в русской школе при КВЖД.
В 1918 году Малышев добровольцем вступил в Средне-Сибирский корпус, участвовал в боях за Пермь. После взятия города в пермской газете «Освобождение России» появилось данное им объявление: «Буду весьма признателен тому, кто сможет одолжить мне на некоторое время “Критику чистого разума” Канта, которую по прочтении обязательно возвращу». И адрес, куда послать книгу: «Действующая армия, 3-й Барнаульский стрелковый полк, поручику Малышеву».
При таких интересах сын врача из Барнаула, юрист с дипломом Санкт-Петербургского университета и поэт Леонид Малышев за все время Гражданской войны не поднялся в чинах выше поручика, зато стал любимым адъютантом Пепеляева и, следовательно, желанным для него собеседником. Похоже, вторая из его ролей не вытекала из первой, а ей предшествовала. Они были ровесники, Пепеляев тоже писал стихи, и это, в числе прочего, могло их сблизить.
Через год, на допросе, Малышев показал: однажды вечером, за день или за два до своих именин, к нему на квартиру зашел Пепеляев и сказал, что решил принять предложение Куликовского помочь якутам, которые находятся «в кошмарном положении». Он не скрыл от друга «тяжелые моменты» предстоящей экспедиции и свои по этому поводу «переживания», но Малышев сразу, без малейших колебаний, вызвался отправиться с ним.
С той же целью Пепеляев нанес визиты еще кое-кому из бывших подчиненных (он предпочитал слово «сослуживцы»), а более широкий круг был посвящен в его замысел на именинах. За столом, «после чая», рассказывал Малышев, именинник объявил, что намерен собрать отряд в помощь Якутскому восстанию, скоро начнется запись добровольцев. Это стало сенсацией для всех, кроме самого Малышева, еще троих-четверых посвященных и хозяйки дома. Очевидно, к тому времени ее сопротивление было сломлено. Не присутствовать на дне рождения мужа она не могла, и если он сообщил о своем решении при ней, значит, Нина Ивановна была в курсе его намерений и с ними смирилась. Можно лишь догадываться, во что обошлось это им обоим.
Малышев не говорил, как были восприняты слова хозяина дома, но судя по тому, что и он, и остальные гости скоро окажутся в Якутии, новость встретили с воодушевлением. Однако сам Пепеляев настроен был не слишком оптимистично. Устрялов, видевший его незадолго до отъезда, не почувствовал в нем «горячей веры в успех», и все же он не отказал Куликовскому, как отказывал Бурову и Вержбицкому – при том, что ницшеанской страсти к войне не питал, в дневнике писал о ней как о «сплошном кошмарном ужасе» и признавался: «По совести скажу, не военный я человек, хотя всю жизнь в военной службе».
Его убедили во всенародном характере Якутского восстания, и он уже не мог не сделать того, о чем постоянно «твердил» и что считал своим долгом. Это, по Устрялову, было следствием присущей ему «чарующей цельности», но прав и Строд, менее возвышенно объяснявший, почему Пепеляев ввязался в эту авантюру: «Якутское восстание для Пепеляева – фиговый листок, под которым скрывалось желание еще раз помериться силой с Советами».
Впервые за два с лишним года перед ним открылась перспектива действовать абсолютно самостоятельно: подчинение Дитерихсу было формальным и, как негласно подразумевалось, временным. Сибирская дружина не равнялась по штатной численности даже полку, но поскольку ей предстояло стать костяком будущей армии, Пепеляев возглавил ее в ранге не командира, а командующего. Само это слово обещало больше, чем вслух говорилось о целях экспедиции.
Он, конечно, мечтал о реванше, но наверняка думал и о том, как воспримут его затею Дитерихс, Вержбицкий, Молчанов, другие бывшие генералы Восточного фронта. В случае успеха эти люди должны были признать его мужество и забыть, что в декабре 1919 года он отказался от борьбы, когда они еще продолжали сражаться; при неудаче все то же самое досталось бы ему ценой собственной жизни.
Для самооправдания, как и для его репутации, не было большой разницы между победой и смертью. Пепеляев старался не давать воли таким мыслям, но позднее, в Якутии, без рисовки напишет в дневнике о преследующем его болезненном чувстве, которое охарактеризует столь же неуклюже, как и точно: «Чувство желания пострадать». Разумеется, оно посещало его и раньше.
Все эти очень понятные и очень мужские желания и чувства обострялись мучительным для человека с его прошлым сознанием бесцельности существования, но, может быть, ему было бы не так «тяжело сидеть в бездействии», если бы отношения с женой сложились по-другому.
Нина
В якутском дневнике Пепеляева есть ностальгическая запись: «Снова таким счастьем повеяло от ранних весенних дней 1912 года, так отдался этому чувству…».
Речь идет о начале его романа с Ниной Гавронской.
Ее отец – сын ссыльного шляхтича, мать – сибирячка, урожденная Герасимова. В именах брата и сестер Нины Ивановны заметно желание родителей не ущемить ни одно из двух семейных начал: Африкан уравновешивался Конкордией, Августа – Зинаидой. Православная Нина никогда не забывала о своих польских предках и гордилась, что среди них числится князь Михаил Огинский, дипломат и композитор, автор знаменитого полонеза «Прощание с родиной».
С будущей женой Пепеляев познакомился в Томске. В «сибирских Афинах» было несколько учебных заведений для женщин, в том числе Высшие женские курсы. Возможно, после гимназии Нина в одном из них училась или только готовилась к поступлению, а он как раз в «ранние весенние дни 1912 года», точнее – со 2 марта по 23 мая, о чем есть запись в его послужном списке, служил библиотекарем в Офицерском собрании. Тот странный факт, что двадцатилетний подпоручик, еще в Павловском училище удостоенный званий «отличного стрелка из винтовки» и «отличного стрелка из револьвера», очутился на должности библиотекаря, поддается единственному объяснению: отец, тогда уже генерал-майор, начальник Томского гарнизона, пристроил сюда сына в ожидании подходящей вакансии в одной из гарнизонных частей.
За книгами приходили не только офицеры. Очень вероятно, что знакомство Пепеляева с Ниной произошло в библиотеке. Завязался роман, и, когда Нине почему-то пришлось уехать к родителям в Верхнеудинск, разлука обострила их чувства. Накал переписки между влюбленными достиг такого градуса, что решено было соединиться навеки, хотя ни он, ни она не получили родительского благословения на этот брак. В январе 1913 года Пепеляев приехал в Верхнеудинск, чтобы, как тогда говорили, венчаться «самокруткой», но ни в одной из городских церквей совершить задуманное не удалось.
Через десять лет, 1 февраля 1923 года, накануне штурма Амги-слободы, за которой открывался путь на Якутск, он не забыл отметить в дневнике юбилей их с Ниной совместной жизни: «Сегодня по старому стилю 18 января. Десять лет назад, 18 января 1913 года, я женился. Как сейчас помню поездку по Селенге от Верхнеудинска в село Бабнино за 30 верст. Как упрашивали священника, не хотевшего венчать нас, так как у меня не было разрешения от начальства. Мне исполнился всего 21 год! Венчались просто, в деревянной церкви, так все было убого, совсем не похоже на свадьбу, но радостно. Назад собрались. Нина все не ела (всю ночь шла), а я боялся, чтобы не простудилась она».
При венчании офицеру полагалось предъявить письменное разрешение начальства на брак. Пепеляев такого документа не имел, а поскольку служил он под началом собственного отца, тот, значит, не одобрял матримониальных планов сына.
«Мать происходила из семьи железнодорожника», – написал мне Всеволод Анатольевич в ответ на мой вопрос о происхождении и семье его матери. Я решил, что «железнодорожник» – это железнодорожный служащий, но позже, в читинской газете «Красный стрелок», органе политуправления 5-й армии, в статье, предварявшей начало судебного процесса Пепеляева и его соратников по Якутскому походу, прочел: «Генерала считали демократом. В Верхнеудинске он женился на дочери паровозного машиниста».
Это наводит на мысль, что Пепеляев-старший воспротивился браку сына с Ниной из-за ее пролетарского происхождения, а не только из-за крайней молодости жениха. В свою очередь супруги Гавронские не то были оскорблены, не то как люди маленькие убоялись генеральского гнева и запретили дочери выходить замуж за избранника или, по крайней мере, устранились от всякого участия в этой затее. В противном случае трудно понять, почему молодые люди, как герои пушкинской «Метели», венчались ночью, без родных и друзей, и не в Верхнеудинске, а в нищей сельской церкви.
Вдобавок ко всему они еще и не могли возвратиться в город на лошадях и должны были по забайкальскому январскому морозу тридцать верст шагать пешком. Соответственно не было ни подвенечного платья, ни приятных предсвадебных хлопот, ни самой свадьбы. Медовый месяц новобрачные провели на дешевой съемной квартире.
В той же дневниковой записи Пепеляева говорится: «На другой день поехали в Томск. Приехали ночью, часа в три, подыскали квартиру на окраине. Первые месяцы жизни. Переезд на другую квартиру. Пасха. Отъезд в Верхнеудинск. Осень, дожди. Обучение запасных. Поездка в Барнаул. Тоска по Нине. Новобранцы. На пристани получил телеграмму: 22 октября родила Севочку».
Нина не могла не страдать от незаслуженной отверженности, а при частых командировках мужа – и от одиночества. Готовясь к родам, на помощь свекрови она не рассчитывала и рожать уехала к родителям в Верхнеудинск.
Это типичный юношеский брак, когда поначалу оба уверены, что все знают о себе и друг о друге, а потом выясняется, что каждому еще предстояло измениться и стать новостью для другого – тем большей, чем дольше жили врозь. К началу Первой мировой войны они были женаты полтора года, но и в это время постоянно разлучались. Потом Пепеляев три с лишним года пробыл на фронте, вернулся в марте 1918-го, а уже в мае ушел на другую войну. Нина Ивановна опять осталась в Томске одна с маленьким Всеволодом.
В феврале 1919 года юная генеральша, оставив пятилетнего сына в Томске со свекровью, приехала в недавно взятую войсками ее мужа Пермь. Из жены безработного офицера, вынужденного перебиваться «частным заработком», детали которого он предпочитал не уточнять, поскольку гордиться тут, видимо, было нечем, Нина Ивановна в свои двадцать шесть лет превратилась в первую леди Восточного фронта.
В Перми ей отвели апартаменты в роскошном здании Волжско-Камского банка, приставили свиту из влиятельных в городе дам. Ее непритязательное замечание о том, что раненым тесно в городских больницах и неплохо бы устроить для них отдельный госпиталь, в прессе подается как блестящая свежая мысль. Подобострастно, словно она предложила нечто такое, до чего никто без нее додуматься не мог, сообщается: «Идею открытия дополнительных лечебных учреждений, высказанную г-жой Пепеляевой, подхватили местные общественные деятельницы».
Скоро городские газеты напечатали объявление: «В пятницу 28-го февраля 1919 года женой командира 1-го Средне-Сибирского корпуса Н. И. Пепеляевой устраивается музыкальный вечер. 75 % сбора от вечера поступит на устройство госпиталя для раненых и больных воинов, а 25 % – на приобретение необходимых для библиотеки Александровской гимназии книг».
Все хлопоты взяли на себя библиотекарши женской гимназии, за что и выторговали четвертую часть от суммы сбора. Организованный ими вечер с концертной программой и танцами состоялся в здании Благородного собрания и, по уверениям публики, оказался «лучшим из вечеров сезона». После года жизни при военном коммунизме пермяки жаждали развлечений, которые лишь маскировались под разного рода благотворительные акции.
Коммерческий успех вечера превзошел все ожидания. Нина Ивановна лично провела лотерею. В качестве призов разыгрывались пожертвованные будущему госпиталю вещи, довольно бессмысленные с точки зрения «пользы больных и раненых воинов»: два «тиковых чехла» непонятного назначения, дюжина пар дамских перчаток, пять мешков, двадцать одна диванная подушка, «дорожка на качалку» и т. п., но эти малособлазнительные лоты объявляла супруга «сибирского Суворова», так что лотерея дала неплохой результат.
Какие-то деньги в виде штрафов удалось получить с тех гостей, кто явился в обычном, а не в «национальном костюме», как требовала надпись на пригласительном билете. По сообщению газеты «Свободная Пермь», в национальных костюмах «не было почти никого», так что тут можно заподозрить хитрость устроительниц, на то и рассчитывавших. Наибольшая часть выручки поступила от продажи билетов, от буфета, лотков с папиросами и «сверхпрограммного выступления г-жи Борегар в монологе Мансфельда “Сон”, которое было куплено публикой за 2600 р. путем американского аукциона». Самым прибыльным оказался «аукцион бутылки шампанского» – ее купили за пятнадцать тысяч рублей, а общий сбор составил около пятидесяти тысяч.
Нина Ивановна царила на этом празднике жизни с шампанским и танцами, но мужа рядом с ней не было, хотя в тот вечер он находился не на позициях. Наутро ему предстояло провожать на фронт только что сформированную Пермскую дивизию, ночевал он в городе, но на праздник, где жена впервые в жизни была королевой бала, не пришел, и едва ли только по причине занятости. «Не люблю веселье, легкомысленность», – писал он с явной мыслью о том, что серьезность и нравственность – близкие понятия.
Правда, через десять дней супруги присутствовали на открытии в Мариинской женской гимназии «лазарета имени А. Н. и Н. И. Пепеляевых» (на госпиталь средств не хватило). Пепеляев произнес короткую речь об успехах на фронте, «произвел обход раненых», очень недолго посидел за завтраком и ушел, оставив Нину Ивановну допивать чай в компании местных «общественных деятельниц».
Это последнее, что можно узнать о ней из пермских газет. После открытия лазарета она вернулась в Томск и снова увидела мужа только в страшном для него ноябре 1919 года. Под Новый год опять расстались и, если не считать свидания в Верхнеудинске (она – после тюрьмы, он – после тифа), встретились уже в Харбине. Там и началась их настоящая семейная жизнь.
Они были женаты семь с лишним лет, а вместе прожили от силы два. Виделись урывками, и теперь каждый обнаружил, как сильно за эти годы изменился другой. Он привык повелевать, она – быть независимой. Он пережил взлет и славу, утрату надежд, поражение, бегство, гибель братьев, она – невеселые годы одиночества зрелой женщины. Он был опустошен, ей хотелось внимания к себе. Копились обиды. Вероятно, во время одной из ссор у Нины вырвалось признание, о котором Пепеляев вспомнит в письме к ней, написанном в Якутии, но попавшем не к жене, а в его следственное дело: «Сильную душевную драму пережил я, когда ты мне рассказала, что было у тебя в 18-м году в Томске. Много горьких сомнений зародилось в душе, не раз ночью плакал или надолго уходил куда-нибудь, чаще на кладбище, и думал, думал, но, слава Богу, любовь к тебе взяла верх».
В чем именно призналась ему Нина, можно только догадываться, зато место его одиноких ночных прогулок установить нетрудно – это кладбище Госпитального городка в Харбине. В годы русско-японской войны на нем хоронили умерших в двух здешних госпиталях солдат и офицеров. Отсюда недалеко было до Модягоу, где Пепеляев с семьей снимал квартиру.
Свое тогдашнее душевное состояние он потом одной фразой передаст в дневнике: «В прошлом году это ужасное известие навсегда убило во мне радость жизни».
Подразумевается признание Нины. Слово «навсегда», которое употребил Пепеляев, вспоминая убитую в нем «радость жизни», говорит лишь о том, что год спустя ему все еще было больно. Похоже, она того и добивалась, чтобы уязвить его и пробудить угасающий интерес к себе, но после расставания казнила себя за это и за все остальное, что омрачало их отношения в последние два года. Ее письмо с просьбой о прощении привезет в Якутию генерал Вишневский. Оно не сохранилось, но содержание можно восстановить по ответу Пепеляева: «Ты пишешь “прости меня за все”, прости меня и ты, родная, – во многом, во многом я был неправ, груб, недостаточно внимателен».
Он каялся в традиционных мужских грехах, однако в его прошлой жизни, в той ее части, что прошла отдельно от жены, смутно мелькает образ другой женщины.
В январе 1919 года, вскоре после того, как Средне-Сибирский корпус взял Пермь, поручик Малышев в той же газете «Освобождение России», где он недавно просил пермяков одолжить ему «Критику чистого разума» Канта, опубликовал свое стихотворение «Женщина и воин»:
- Целуй меня,
- Ты – женщина,
- Я – воин,
- Я шел к тебе средь пихты, гнилопня,
- Под пенье пуль, под гром орудий, с боем,
- И видел – Ночь садилась на коня
- И в снежных вихрях уносилась, воя.
- Синели нам уста слепого дня,
- Дышала ночь над мертвенным покоем.
- Я так устал.
- Нам хорошо обоим.
- Ты – женщина. Целуй меня.[11]
Может быть, и Пепеляев, «под пенье пуль» прошедший тем же путем от Екатеринбурга до Перми, в дни своего триумфа испытал нечто похожее. Во всяком случае, какая-то женщина приснится ему в самый тяжелый период Якутской экспедиции, во время отступления обратно к Охотскому побережью.
Ее полное имя не доверено даже дневнику, указана лишь первая буква: «Сегодня снилась К., счастливая, с чистым открытым лицом, с глазами, полными любви, такая нежная, но полная сил и жизни, в белом платье… Я все смотрел, смотрел, и сердце наполнялось любовью и радостью. Чем-то милым, каким-то давно забытым чувством повеяло, счастьем».
Если это сон о любимой женщине, то, учитывая, что приснился он тридцатилетнему мужчине на восьмом месяце воздержания, все очень целомудренно. Не исключено, что так все обстояло и наяву, но каковы бы ни были отношения Пепеляева с К., познакомились они скорее всего в Перми.
От притока войск с востока и беженцев с запада ее без того почти стотысячное население увеличилось тогда чуть ли не вдвое, как во всех губернских центрах Урала и Сибири. Пермь стала западным форпостом подвластных Омску территорий, как недавно была восточным рубежом Советской России. Раньше сюда бежали от большевиков, чтобы затем пробираться к Колчаку или в Китай, а теперь, после начала наступления Сибирской армии, здесь скапливались беженцы в надежде на скорое возвращение в Москву и Петроград. На этом оживленном перекрестке с университетом и несколькими газетами неожиданно встречали старых знакомых, а с новыми сходились легко, как в дороге. До того, как в июне 1919 года Сибирская армия оставила Пермь, город был прифронтовым, с характерной для таких мест лихорадочной атмосферой, в которой ценность каждого момента жизни возрастает пропорционально падению цены жизни как таковой.
Пепеляев бывал тут наездами, задерживаясь иногда на два-три дня. Ему было двадцать семь лет, из них последние четыре он провел на войне, и любая интеллигентная молодая женщина, особенно в белом платье, с легкостью могла взволновать его удачно имитируемым или натуральным сочетанием душевной чистоты и жизненной энергии. В предвоенные годы, когда он еще читал беллетристику, сплав этих двух качеств считался эталоном девической прелести.
23 марта 1919 года газета «Прибайкальская жизнь» напечатала отчет о состоявшемся в Верхнеудинске «литературном суде» над героем рассказа Леонида Андреева «Бездна» – студентом, изнасиловавшим свою же девушку после того, как над ней надругались встреченные в лесу бродяги.
Суд прошел в здании Народного собрания при переполненном актовом зале. В публике «преобладала интеллигенция, в основном учителя и учительницы». Роли подсудимого, обвинителя и защитника распределили заранее, а присяжных по ходу дела выбрали из числа зрителей. При обвинительном вердикте определять меру наказания не предполагалось, поэтому судья отсутствовал, заседание вел кто-то из устроителей этого действа. В ситуации, когда политика подчинила себе жизнь, театрализованные судебные процессы над историческими и литературными персонажами стали популярны у интеллигенции как способ публично заявить о превосходстве моральных принципов над государственными или классовыми.
Сначала со сцены зачитали сам рассказ. «С замиранием сердца, – пишет автор заметки, – слушали собравшиеся историю о том, как перед молодым человеком открылась бездна, обойти которую он не сумел. Черная бездна поглотила его, и он опустился до преступления, до оскорбления женщины».
Из вопросов, заданных подсудимому сторонами обвинения и защиты, выяснилось, в частности, что «из писателей на него наибольшее влияние оказал Ницше», как с самого начала и предполагал прозорливый обвинитель. Наконец на сцену поднялись присяжные, и защитник обратился к ним с речью, призывая их учесть, что «студенту не у кого было спросить объяснений, что хорошо и что плохо, так как мать постоянно была занята нарядами и концертами, а отец – службой и картами».
Последнее слово подсудимого было произнесено «сдавленным тихим голосом», носило «лирически-нервный характер» и завершилось восклицанием: «Вам не придумать казни мучительнее той, что в сердце ношу!»
В итоге присяжные вынесли вердикт: «Виновен, но заслуживает снисхождения».
Пепеляева с женой нетрудно представить среди публики на таком спектакле. Оба они – провинциальные интеллигенты, плоть от плоти этих людей, в разгар Гражданской войны бурно обсуждавших «падение» андреевского персонажа из рассказа почти двадцатилетней давности. В Пепеляеве есть наивность, плохо соотносимая с его биографией, зато в очередной раз доказывающая, что дух времени сильнее личного опыта. Участники «литературного суда» за последние годы тоже насмотрелись всякого и наверняка слышали или буквально на днях читали в той же «Прибайкальской жизни» о верхнеудинской гимназистке, которую двое семеновских солдат изнасиловали, задушили и, заметая следы, сожгли в топке бронепоезда. Вероятно, многие из сидевших в зале учителей и учительниц лично знали убитую девочку, но это не мешало им верить, что даже самое страшное преступление обусловлено воспитанием и средой, беспричинной жестокости не бывает, и преступник, особенно если он учился в университете, всегда раскаивается в совершенном злодеянии. Эти люди еще не поняли, в каком мире им предстоит жить.
Отплытие
Когда подготовка Якутской экспедиции шла полным ходом, всю военную и гражданскую власть в Приморье сосредоточил в своих руках генерал Дитерихс. Его брат Иосиф был секретарем Льва Толстого, сестра Анна – женой главного толстовца Черткова и моделью девушки на популярной у интеллигенции картине Николая Ярошенко «Курсистка», но сам Михаил Константинович придерживался правых убеждений: с тех пор, как Колчак назначил его руководить комиссией по расследованию убийства царской семьи в Екатеринбурге, залогом возрождения России он считал «утверждение национально-религиозного самодержавного строя».
Дитерихс давно хотел превратить борьбу с большевиками в войну за веру и еще в 1919 году организовал православные и мусульманские «дружины Святого Креста и Зеленого Полумесяца». Его религиозная экзальтированность вызывала насмешки («Жанна д’Арк в галифе»), но он остался верен себе и, став правителем Приамурского края, обратился к идеалу Святой Руси как к единственному, способному противостоять коммунистической идее. Целью своего правления Дитерихс объявил реставрацию Романовых, самого себя назначил Земским воеводой, Белоповстанческую армию переименовал в Земскую рать, полки – в дружины, устраивал пышные молебны и крестные ходы, являясь на них в костюме думного боярина времен царя Алексея Михайловича, для чего требовалось не только отсутствие чувства юмора. Эти переименования и переодевания – не верноподданнический спектакль, поставленный в горящем театре свихнувшимся режиссером, как изображали дело по ту сторону фронта, скорее – нечто вроде надеваемой перед смертью чистой рубахи. Комический эффект возникал от того, что приходилось надевать ее на грязное тело и делать вид, будто к ней не пристает никакая скверна.
«Стонали и охали публичные дома Корейской и Бородинской улиц, пожирая обмундирование и снаряжение Земской рати», – без кавычек цитировал Строд записки ротмистра Нудатова, которые он использовал в своей книге. Для него это было свидетельство очевидца о попытках «белогвардейцев» найти «забвение от надвигающейся грозы». Между тем Дитерихс, возводя свой град Китеж, обреченный скрыться под волнами революционного моря, сделал шаг, который одобрили бы его брат и сестра, правоверные толстовцы: он отменил смертную казнь даже для большевиков, заменив ее высылкой в ДВР.
Основной административной единицей при нем стали церковные приходы. Их руководство предписывалось избирать по жребию, то есть с учетом божественной воли, но сам Земский воевода целиком зависел от контролировавших Приморье японцев. В воззваниях Дитерихс писал, что «разложение евреями Египта – ничто по сравнению с разложением ими России», при этом активно сотрудничал с еврейскими коммерсантами. Он провозгласил себя наместником идеального православного монарха, но, принимая власть, подписал обязательство не затрагивать вопроса о выдаче концессий иностранным компаниям и не проверять финансовую отчетность по правительственным контрактам.
Его экзотические новшества с полным равнодушием встретили и горожане, и беженцы, и наводнившие город каппелевцы, семеновцы, моряки Тихоокеанской флотилии контр-адмирала Георгия Старка. Чтобы отрезать Владивосток от Красной Сибири, по приказу Дитерихса начали разбирать участок Транссибирской магистрали в районе Волочаевки и Спасска (рельсы продавали японцам на металлолом), но все понимали, что шансов остаться осколком былой России у Приморья еще меньше, чем было у Крыма при Врангеле.
Кто-то из тогдашних остроумцев заметил, что когда какой-нибудь город занимают красные, скоро в нем исчезают все продукты, кроме селедки и черного хлеба, но расцветают все искусства; когда приходят белые – продукты появляются, зато из искусств остается один канкан[12]. Владивосток был исключением из этого правила: в кафе «Балаганчик» собиралась богема, выступали поэты Николай Асеев, Давид Бурлюк, Арсений Несмелов. Возможно, там бывал и осмеливался читать что-то свое поручик Малышев, вновь ставший адъютантом Пепеляева, но его начальнику было не до стихов, да и жил он в шести верстах от города, на станции Вторая Речка. Через пятнадцать лет в здешнем пересыльном лагпункте умрет Осип Мандельштам.
В казармах и поставленных рядом палатках размещали будущих бойцов Сибирской добровольческой дружины. Для конспирации она пока именовалась Милицией Северного края, который можно было толковать и как Сахалин или Камчатку. Среди добровольцев кадровые военные составляли меньшинство, в прошлой жизни это люди мирных занятий – землемер, бухгалтер, губернский чиновник, юрист, в Харбине ставший «сторожем автостоянки», земские учителя, крестьяне, рабочие ижевских заводов, студенты университета и Технологического института в Томске, Политехнического института во Владивостоке.
Афанасий Соболев разделил их на четыре группы.
Первая – «пошедшие по глубокому убеждению в необходимости бороться за народ и Родину». Таких «относительно мало».
Вторая – те, кто «идет с целью вернуться домой». Они составляют «большинство».
Третья – авантюристы.
Четвертая – «неудачники, которым деваться было некуда и есть было нечего».
Во Владивостоке вербовкой занимался капитан Михайловский, однокашник Пепеляева по кадетскому корпусу, в Харбине – Малышев и второй близкий друг «командующего дружиной», полковник Шнапперман. Ажиотаж подогревался статьями Сазонова в харбинских и приморских газетах: он уверял, что «вся Сибирь уже восстала» и «добровольцы увидят скоро свои семьи».
Поначалу думали набрать не более трехсот человек, затем решили довести эту цифру до семисот, на ней с небольшим перебором и остановились. Поток желающих не иссякал, но опоздавшим отказывали. В итоге офицеров оказалось триста семьдесят два, чуть больше половины всего отряда, генералов двое – Ракитин и Вишневский.
Чтобы спаять добровольцев одушевляющим чувством равенства, Пепеляев хотел упразднить погоны, но возмутились офицеры, и ему пришлось отступить. Протест возглавил полковник Аркадий Сейфулин. Дворянин, он почему-то попал на германский фронт рядовым и, по словам Пепеляева, выслужил свой полковничий чин кровью двадцати семи ранений. Для таких, как Сейфулин, тяжело зарабатывавших себе на кусок хлеба в созданных Пепеляевым артелях, офицерские погоны оставались единственным наглядным подтверждением их жизненного успеха.
Финансовая история Якутского похода темна, как все подобные истории. В трибунале 5-й Армии очень ею интересовались, но главные денежные документы исчезли, а Куликовский к тому времени был мертв и все коммерческие тайны унес с собой в могилу. Ясно одно: экспедиция состоялась исключительно благодаря тому, что в Якутии водились лисы, куницы, песцы и белки.
Главным кредитором Сибирской дружины выступило акционерное общество «Олаф Свенсон», созданное уехавшим после революции в США якутским купцом Кушнаревым: он дал сто тысяч рублей под залог монопольного права скупки пушнины в Якутии. Это ему гарантировал Куликовский, при Меркуловых назначенный Временным управляющим Якутской областью, но от «Олаф Свенсон» он получил не все сто тысяч, а шестьдесят, и двадцать пять – от британской фирмы «Гудзон Бэй», тесно связанной с Кушнаревым и другими русскими коммерсантами на Дальнем Востоке. Недостающие пятнадцать тысяч были, очевидно, удержаны как процент по кредиту или осели в карманах посредников. На сделке такого масштаба погрели руки многие, однако Куликовский в их число не входил. Просто многолетняя служба в фирме Громовой и кооперативе «Холбос» приучила его соблюдать неписаные законы русской коммерции.
Приамурское правительство еще до Дитерихса выделило ему двадцать тысяч рублей золотом, но на руки он получил четверть этой суммы. Остальное вычли за фрахт пароходов для доставки Сибирской дружины в Аян, а в утешение выдали казначейские и гербовые знаки на сто тысяч рублей («бандероли, почтовые марки, вексельная и актовая бумага»).
«Тогда Куликовский, – рассказывает Строд о его не типичной для интеллигента предприимчивости, – решил спекульнуть шестью пудами ценных бумаг и пустил их в распродажу на 50 % дешевле номинальной стоимости. Около своеобразного государственного аукциона поднялась страшная свистопляска, которая не преминула отразиться на денежном курсе, и правительство, обеспокоенное падением рубля, поспешило отобрать у Куликовского эти бумаги. Тот, однако, успел заработать 16 000 золотых рублей».
Во Владивостоке он продал еще и двадцать тысяч вывезенных из Якутии беличьих шкурок, но Пепеляев об этом ничего не знал, как и о его договорах с Кушнаревым. Получив шестьдесят тысяч рублей, потом еще двадцать, он думал, что первую сумму собрали сами якуты, а вторую дал Дитерихс. «Получение Куликовским денег и ценных бумаг от торговых фирм мне совершенно неизвестно», – говорил Пепеляев. Не верить ему нет оснований.
Из наличных денег выплатили скромное пособие офицерам, «не могущим оставить семьи без средств к существованию», прочее пошло на закупку снаряжения, продовольствия и вооружения. Поставщиками выступили те же «Олаф Свенсон» и «Гудзон Бэй». Это означало, что чуть ли не большую часть кредита Кушнарев и его компаньоны выплатили не деньгами, а товарами, сократив свои фактические расходы.
Кое-что из закупленного Пепеляев потом перечислил на допросе: фуфайки, чайники, ведра, кальсоны, дратва, ножи канадские, керосин, ламповое стекло, цепи, порох, дробь, а в качестве «предметов роскоши» – неизвестно кому предназначенные (сам он не курил) «три английские курительные трубки».
Малышеву выдали деньги на приобретение «фотографического аппарата и принадлежностей». Он, видимо, умел обращаться с этими предметами, к тому же считал, что как адъютант Пепеляева всегда будет находиться в центре событий и лучше других сможет вести фотохронику похода.
В окружении Пепеляева служба у Семенова осуждалась как не достойная порядочного офицера. Когда Малышева в плену спросили, приходилось ли ему служить в семеновских частях, он ответил: «Я атаманам не служил». Легко представить, с какой интонацией это было сказано.
Семеновцев в дружину не брали, хотя в Харбине приняли нескольких бывших унгерновцев[13], а во Владивостоке в нее вступали исключительно каппелевцы. Они, по замечанию современника, «ухватились за Пепеляева, как за якорь спасения». Ему верили как никому другому из колчаковских генералов. Впоследствии груз этой веры тяжело ляжет на его совесть, но пока что она, как наркотик, заглушала все сомнения.
Разрешение принимать к себе офицеров и солдат из тогда еще не переименованной Белоповстанческой армии Пепеляев получил от братьев Меркуловых до того, как власть перешла к Дитерихсу. Теперь тому жаль было терять сплоченную боеспособную часть, и он предложил Пепеляеву вместе с его добровольцами перейти на службу в Земскую рать. Категорический отказ ухудшил без того прохладные отношения между ними. Пепеляев считал Дитерихса «старорежимцем», а тот не забыл, что три года назад «мужицкий генерал» распустил свою армию и пытался заставить Колчака отречься от власти. Он весьма скупо снабдил Сибирскую дружину оружием, «огнеприпасами» и обмундированием. Винтовки были самых разных и далеко не лучших систем, вплоть до мексиканских, вдобавок часть их оказалась неисправна. Патронов, как с горечью заметил Вишневский, «едва хватило бы на один хороший бой» и впоследствии пришлось добывать их у противника, пулеметов имелось всего два, орудий – ни одного. Продовольствием запаслись лишь на дорогу и на первый месяц после высадки, да и продукты выдали худшего качества, чем значилось по накладным: вместо муки «высшего сорта» подсунули такую, что из нее, как выяснилось в Якутии, невозможно было выпекать хлеб. Зимнее обмундирование получили на половину отряда, но Пепеляев рвался поскорее отплыть в Аян. Он рассчитывал захватить Якутск до наступления морозов.
В декабре 1919 года, в Томске, Пепеляев издал свой последний приказ по Сибирской армии – о ее роспуске. Все такие тексты он писал сам, не прибегая к услугам штатных публицистов, и этот не стал исключением.
Большевики для Пепеляева – душители революции в масках революционеров, и его прощальный приказ похож на завещание разбитого правительственными войсками народного вождя, которое тот ночью вывешивает на рыночной площади, прежде чем переодеться в крестьянское платье и затеряться в толпе: «Сибирская армия не погибла, а с нею вместе не погибло и дело освобождения Сибири от ига красных тиранов. Меч восстания не сломан, он только вложен в ножны. Сибирская армия распускается по домам для тайной работы – пока грозный час всенародного мщения не позовет ее вновь под бело-зеленое знамя. Я появлюсь в Сибири среди верных и храбрых войск, когда это время наступит, и я верю – оно придет».
Пепеляев надеялся, что те, к кому были обращены эти слова, их помнят. С ними перекликается его речь, произнесенная перед погрузкой Сибирской дружины на корабли: «Мы, старые соратники, послужили великому делу борьбы за свободу Родины. Всегда верил, что настанет момент, и вновь соберемся, и эта вера не обманула меня. Мы бросаем семьи, заработок, привычный труд и с верою в помощь Божью имеем перед собой одну цель – служить народу до Страшного суда».
Странно выглядит временной предел этого служения. В минуты душевного подъема человеку свойственно прибегать к выражениям, чья эмоциональная наполненность важнее их смысла, но эсхатологическая метафора здесь не случайна – Пепеляев, как многие в те годы, легко находил вокруг себя приметы близкого Апокалипсиса.
Не известно, впрочем, было ли все это произнесено вслух. Судить о содержании речи можно только по черновику. Пепеляев набросал его в блокноте, где месяц назад записывал траты на браслет и сумочку для Нины Ивановны, а в Якутии будет вести дневник.
До упоминания о Страшном суде некоторые слова зачеркнуты и заменены другими, но нарастающее возбуждение заставляет Пепеляева забыть о стиле. Дальше исправлений нет, буквы становятся крупнее, фразы укорачиваются, перемежаются отточиями: «А трудности будут, я говорил вам о них… Холод, голод, болезни, тяжелые переходы. Но вы готовы на все. Знаю… Не сам иду – выбирает меня судьба… Много жертв и крови впереди, много… Готовьтесь к великим лишениям… Но велика и цель наша. Народ ждет».
Кушнарев, кредитор экспедиции, тоже ждал от них победы, чтобы во всеоружии выйти на американский пушной рынок, но для Пепеляева главное – что обещанное сбылось, «меч восстания» извлечен из ножен, пропавший вождь явился среди «верных и храбрых войск». При всех сомнениях у него не могло не быть надежды повторить свой «пермский триумф» и еще раз пережить те минуты счастья, когда, как вспоминал свидетель его взошедшей в зенит славы, он «скакал на белом коне, под бело-зеленым флагом, в вихре ясного клубящегося снега по Сенной площади в Перми, вдоль огромного фронта только что сформированной для борьбы с красными Пермской дивизии, а за ним, под раскаты «ура», летел его конвой в шапках с малиновыми верхами».
После речи – молебен, затем выступили в порт. Отчалить должны были ночью, но задержались на сутки: Дитерихс обвинил Пепеляева в том, что он «сманивал» к себе солдат и офицеров из других частей, и приказал произвести на кораблях обыск. Никого не нашли, хотя дезертиры из Земской рати на борту были – они съехали в лодках на противоположный берег бухты, а когда опасность миновала, вернулись. Пепеляев не мог о них не знать, но выдавать не хотел.
В ночь с 29 на 30 августа 1922 года минный транспорт «Защитник» и канонерская лодка «Батарея» вышли в море. На них разместились пятьсот тридцать три добровольца с минимальным запасом снаряжения и продовольствия. Остальных людей и большую часть грузов должно было доставить в Аян гидрографическое судно «Охотск». Ему предстояло отправиться через несколько дней, но на нем взорвались котлы (подозревали диверсию большевиков), и прошло целых три недели, прежде чем оставшиеся сто восемьдесят семь человек под командой Вишневского отплыли по тому же маршруту на океанском пароходе «Томск». Обыск не проводили, Дитерихсу было не до дезертиров – Народно-Революционная армия ДВР уже начала наступление на Приморье. В конце октября она войдет во Владивосток, но отрезанный от всего мира Пепеляев узнает об этом лишь накануне нового, 1923 года.
В Аяне. Новости
На пароходе, по пути в Аян, полковник Кронье де Поль сделал еще одну выписку из взятого с собой Метерлинка: «Каждый может сказать смерти: я не знаю, кто ты, потому что если бы знал, то стал бы твоим господином. Зато каждый может сказать иначе: я знаю, чем ты не можешь быть, и этого достаточно, чтобы ты не стала моей повелительницей. Тогда не будет бессильных мук агонии, ужасных молитв умирающих – будет молитва, рожденная не в момент смерти, а на вершинах жизни».
Остальные вряд ли размышляли о подобных материях. Погода стояла тихая, солнечная, а для большинства, включая Пепеляева, это было первое в жизни морское путешествие. В приподнятой атмосфере, обычно сопутствующей началу плавания, на кораблях зачитали приказ о переименовании Милиции Северного края в Сибирскую добровольческую дружину. После этого кокарды на фуражках заменили бело-зелеными ленточками – старым отличительным знаком Сибирской армии.
Пепеляев со штабом плыл на «Защитнике», здесь же находился Куликовский. Ему было пятьдесят два года, но пепеляевским офицерам он казался патриархом. Вишневский, будучи ненамного младше, называет его «стариком 60–65 лет». В свою очередь красные уверяли, будто он «выжил из ума от старости», и в русле этой традиции якутский писатель Софрон Данилов, родившийся за год до гибели Куликовского, в романе «Красавица Амга» описал его как «высохшего старца с помутневшими голубыми глазами». Возможно, его внешняя изможденность – следствие того мало кому известного факта, что он был морфинист. Отсюда, может быть, и его фантастическая энергия, без которой Якутская экспедиция попросту не состоялась бы. Михаил Булгаков с опорой на собственный опыт утверждал, что после инъекции морфия человек переживает «необыкновенное прояснение мыслей и взрыв работоспособности».
Пепеляев видел в Куликовском «человека самоотверженного и бескорыстного», рассказывал, что тот «ругался с купцами, называя их хищниками, защищал от них якутов». Позднее он посвятит его памяти одно из своих стихотворений. Адресат этих стихов – борец «за счастье народное», томившийся «то в ссылке далекой, то в мрачной тюрьме». Основные вехи его жизненного пути Пепеляев знал, но весьма неточно – считал, например, что Куликовский попал на каторгу за участие в покушении на Александра III. Вообще имя его жертвы нередко путали, а сам он об этом эпизоде своей молодости вспоминать не любил и туманно писал о себе, что «долго боролся с произволом».
Куликовский появился во Владивостоке в конце июня или начале июля 1922 года. Перед отъездом из Нелькана до него успели дойти известия о гибели Каландаришвили и осаде Якутска, но о последних событиях они с Пепеляевым ничего толком не знали. Новости из Якутии доходили в Приморье с большим опозданием, и не напрямую, а через Камчатку, искаженные многократной передачей из уст в уста. Пепеляев надеялся узнать обстановку на месте, в Аяне.
Море было спокойно, на восьмой день плавания «Защитник» и «Батарея» подошли к скалистому мысу у входа в Аянскую бухту.
Сюда же в 1854 году, на шхуне «Восток», на которую он в устье Амура пересел с фрегата «Паллада», приплыл Иван Александрович Гончаров.
«Мы заметили, – писал он, – на горизонте не поля, не домы, а какую-то серую, неприступную, грозную стену. Это была куча громадных утесов. По мере нашего приближения они все казались страшнее, отвеснее и неприступнее… Кажется, на этих утесах и чайкам страшно сидеть. Пустота, голь и вышина, от которой дух занимается, да свист ветра – вот характер этого места. Здесь бы в старину хорошо поставить разбойничий замок, если б было кого грабить».
Генерал Вишневский, приплывший сюда через три недели после Пепеляева, рисует картину не столь зловещую: «Аян живописен, его правильно очерченная бухта окружена покрытыми зеленым кедровником горами, из которых небольшая гора Пирамида и особенно Ландор очень красивы. Берег отлогий, к морю – обрывистый, и среди скал есть много живописных, таинственных углублений и гротов. Вода Охотского моря – прозрачного красивого оттенка и летом обладает фосфоресценцией. Но все эти красоты так часто скрываются туманами, дождями и пургами, что покинуть их можно без сожаления».
Вишневскому удалось вернуться в Харбин, и он не без ностальгии вспоминал Аян как место последних в его жизни сильных чувств и больших надежд. Для тех, кому повезло меньше, этот полумертвый порт, где начался и закончился Якутский поход, навсегда остался проклятым местом.
Узкий залив глубоко вдавался в сушу. На северном берегу бухты Гончаров увидел здание пакгауза под «нарядной красной кровлей», десяток домов, церковь с зеленым куполом и золоченым крестом, верфь, палаточный лагерь и полдесятка якутских берестяных юрт. Население Аяна тогда составляло около двухсот душ.
Он был основан Российско-Американской компанией, чтобы заместить чересчур удаленный к северу Охотск и сократить дорогу к Якутску, но после того, как Аляску продали США, превратился в порт-призрак. Лишь в конце XIX столетия сюда стали завозить чай и рис из Китая, которые затем отправляли вглубь материка. Изредка приходили за пушниной американские и японские суда.
К моменту появления здесь кораблей Якутской экспедиции от недолгого расцвета Аянского порта сохранилась ветхая церковь без зеленой краски на куполе и без позолоты на кресте, баня, кузница и несколько полуразрушенных бревенчатых пакгаузов. Красной кровли ни на одном не было. «Об остальных постройках, – писал приплывший с Пепеляевым ротмистр Нудатов, – напоминали гниющие столбы и кучи битого кирпича».
Жизнь переместилась на южную сторону бухты, в поселок Аянка. Здесь тоже находились складские помещения, но были и жилые дома, с северной стороны защищенные от разрушительных морских ветров листами кровельного железа. В четырех жалких лавчонках торговали американец, японец, англичанин и русский. Постоянных жителей насчитывалось около полусотни. Женщин, как обычно в таких местах, было меньше, чем мужчин.
«Кто не бывал Улиссом на своем веку и, возвращаясь издалека, не отыскивал глазами Итаки? – мысленно восклицал Гончаров при виде Аяна, с грустью думая о том, что отсюда до Петербурга ему предстоит добираться сушей. – Но десять тысяч верст остается до той красной кровли, где будешь иметь право сказать: я дома. Какая огромная Итака, и каково нашим Улиссам добираться до своих Пенелоп!»
Путь, который собирался пройти Пепеляев, чтобы на будущий год встретиться с женой и детьми, был ненамного короче, но в эти дни у него еще оставалась возможность ступить на берег Итаки не здесь, а в гавани Владивостока. Когда вечером 6 сентября 1922 года, в кают-компании «Защитника», он узнал новости, первое побуждение было именно таким – плыть назад.
6 марта 1922 года, ровно за полгода до того, как «Защитник» и «Батарея» вошли в Аянскую бухту, Каландаришвили и сорок шесть его спутников погибли в устроенной повстанцами засаде. Во избежание паники решено было скрыть случившееся от жителей Якутска: тела убитых привезли в город ночью и сложили в чьем-то амбаре. Мороз позволял не спешить с погребением.
Официальных известий о случившемся не публиковали, газета «Ленский коммунар» под нейтральной рубрикой «Разное» напечатала только список похищенных у военкома Гошадзе документов, которые отныне следовало считать недействительными. О том, что владельцев этих удостоверений, как и самого Гошадзе, три недели нет в живых, не сообщалось.
Якутск по-прежнему был окружен повстанцами. В конце марта Коробейников сумел войти на окраины, и хотя его быстро выбили из города, кольцо блокады не разомкнулось. Не хватало продовольствия, в огне «дровяного кризиса» сгорали сараи, заборы, дощатые тротуары. С января действовало уже не военное, а осадное положение: запрещалось появляться на улицах не после девяти часов вечера, как раньше, а сначала после шести, потом – после пяти. Театр и кино не работали, нельзя было послать за врачом при необходимости скорой помощи или пробраться к телефону в соседнем доме. Был застрелен какой-то глухой, не остановившийся на окрик патруля. Арестовывали и сажали под замок людей, вечерами «пробиравшихся в уборную или подыскивающих для своих нужд укромный уголок».
Лишь 2 апреля, когда откладывать похороны стало невозможно, вышел номер «Ленского коммунара», от первой до последней строки посвященный Каландаришвили – воспоминания о нем, клятвы верности делу, которому он служил, стихи:
- Подлый враг отравленной стрелою
- Яркий путь полета прекратил…
В передовой статье Каландаришвили ставился в один ряд с теми гениями, кого погубили не способные оценить их величие современники: «Он гибнет от руки невежественного охотника-якута, в темном безумии поднявшего оружие против грядущего обновления мира. Так Архимед погибает от рук варвара в момент гениального открытия, несущего свет и радость потомкам убийцы. Так умирает на костре Джордано Бруно».
В этот же день сорок семь гробов опустили в братскую могилу посреди городского сада. Каландаришвили лежал в поставленном на орудийный лафет открытом гробу, но в землю не лег, тело вернулось на ледник и пролежало там еще почти пять месяцев. Лишь в августе, на пароходе с холодильной камерой, его по Лене отправили в Иркутск и похоронили с полагающимися ему по рангу почестями.
Через три недели после похорон в обложенный повстанцами Якутск прибыл Карл Байкалов, назначенный командующим вооруженными силами Якутии вместо Каландаришвили. Он пробрался в город под видом врача, сопровождаемый всего двумя спутниками, сыном и братом. Настоящая фамилия Байкалова – Некундэ, он выходец из латышской крестьянской семьи, состоял при нелегальной типографии РСДРП, в 1909 году был сослан в Сибирь, работал забойщиком на Черемховских угольных копях под Иркутском. Вслед за ним в Сибирь переселилась его безземельная родня, и если старший брат, взяв местный топонимический псевдоним, остался Карлом, то младший из Яниса превратился в Ивана, как Строд, и в Якутии фигурировал под коренной сибирской фамилией Жарных, чье происхождение туманно. Байкалов партизанил еще при Колчаке, но его мужество и военные таланты раскрылись полгода назад, при обороне монастыря Сарылгун в Западной Монголии, где он с двумястами красноармейцами и «красными монголами» полтора месяца противостоял объединенным силам генерала Бакича и атамана Кайгородова, впятеро превосходящим по численности его отряд.
Байкалову тридцать шесть лет. Голова брита наголо, ни бороды, ни усов. Кобура с наганом простецки висит на поясном ремне, без портупеи. В отличие от подтянутого Строда, он в любой обстановке, будь то штаб или трибуна митинга, одет в обвислые галифе и суконную гимнастерку с полученным за Сарылгун орденом Красного Знамени, но этот аскетизм – следствие расчета, а не простодушия. Байкалов – военный администратор с широчайшими полномочиями, умный, жесткий, рационалистичный, виртуозно умеющий лавировать между иркутским начальством и местной партийной верхушкой. Прямой импульсивный Строд – полная ему противоположность.
Причиной первого конфликта между ними стала речь Строда на похоронах в городском саду: устрашающе размахивая обнаженной шашкой, он тогда обвинил якутскую интеллигенцию в предательстве и посулил, что это ей не простится. Байкалов узнал о его выходке по прибытии в Якутск, и когда со дня похорон прошло уже больше месяца, в «Ленском коммунаре» появилась статья Строда под выразительным названием: «За вспышкой настало раздумье».
«Я не мог, – оправдывался он, – выразить всей моей боли и скорби, происходивших в душе при виде братской могилы… Мне было душно в темных оковах событий последних дней. Из-за всего пережитого и душевной боли я резко и отчасти несправедливо выразился по адресу якутской интеллигенции…»
«Раздумье» после этой «вспышки» заставило себя долго ждать и, судя по характеру оратора, вообще бы не «настало», если бы Байкалов, стремившийся реабилитировать власть в глазах якутских интеллигентов, не приказал Строду написать покаянную статью. Тому пришлось смирить самолюбие и подчиниться.
До открытия навигации по Лене ждать помощи было неоткуда. Единственный крупный отряд, остававшийся вне Якутска, был заперт повстанцами в Амге-слободе и надеялся на приход Каландаришвили, не зная о его гибели. Связи с Якутском не было, блокада продолжалась третий месяц.
Однажды в Амгу со стороны лагеря повстанцев пришла корова. К рогам у нее были привязаны личные документы Каландаришвили, среди них – недавно полученный им билет члена РКП (б). Смысл этой посылки, имевшей целью, как выразился один из местных партийцев, «моральное разложение красных воинов», был понятен без слов: тот, кого вы ждете, мертв, никто вам не поможет, сдавайтесь. Сама по себе корова сулила то, чем всегда соблазняют осажденных – еду, но рогатую почтальоншу съели, а сдаваться не стали.
Байкалов выслал отряд им на выручку. Одной из колонн командовал Строд, а военкомом (комиссаром) стал Сергей Широких-Полянский, бывший заместитель Каландаришвили по политчасти. Сын забайкальского казака, он окончил в Чите учительскую семинарию, рано увлекся марксизмом, вел пропаганду среди рабочих. В 1918 году, когда Пепеляев подходил к Чите, Широких-Полянский, как Строд, ушел в тайгу, но не с группой, а в полном одиночестве, взяв с собой только винтовку с патронами, топорик, нож, спички и «много книг». Последний кусок хлеба съел накануне вечером, а запасное белье, мыло и полотенце выбросил как лишний груз. По словам Байкалова, в тайге его младший друг занимался самообразованием и охотой, и к зиме «оказался настолько оборванным, обросшим бородой и волосами, что стеснялся показаться даже коренным таежникам». В конце концов, «по русским следам» его отыскали и приняли к себе обитатели тунгусского стойбища. Юный отшельник со своими книгами произвел на них сильное впечатление, они «чтили его как святого» и впоследствии переправили к партизанам. К моменту похода к Амге ему было двадцать четыре года, но он успел побывать и министром юстиции ДВР, и представителем Коминтерна в Западной Монголии. Там Байкалов с ним и познакомился: Широких-Полянский был самым верным его помощником при обороне монастыря Сарылгун.
Первая стычка с повстанцами произошла в лесу, в местности Туора-Тумул в полусотне верст от Амги. После короткой перестрелки якуты отступили, но один, «зазевавшись», не сумел отойти вместе со всеми и засел в лесу. Строд и брат Байкалова, Жарных, прячась за деревьями, держали его «на мушке», а Широких-Полянский остался в седле и шагом стал подъезжать к нему, громко уговаривая сдаться. Тот ничего не понял и с перепугу пальнул из своего «бердана».
Байкалов, знавший подробности от брата, рассказывает, что Широких-Полянский «сразу свернулся с лошади, не успев даже ногу вытащить из стремени». Пуля попала ему в живот. Когда ногу освободили, он уже понимал, что рана – смертельная.
«Бойцы схватили стрелявшего, – пишет Строд, – и готовы были растерзать, но потом решили дать возможность умирающему застрелить его самому».
Широких-Полянский был в сознании. Ему вложили в руку наган, но когда перед ним поставили «трясущегося человека в залатанных дырявых одеждах из звериных шкур и кожи», стрелять он отказался, сказав: «Пусть идет на все четыре стороны. Накормите его и отпустите. Все равно моя жизнь кончена. Он не виноват».
Это перевели пленному, но тот долго не мог поверить в свое спасение, умолял убить его – из страха, что уйти ему не дадут, и если сделать такую попытку, местью за убитого начальника станет казнь куда более изощренная и мучительная, чем расстрел. Наконец он ушел, а Широких-Полянского положили в утепленную войлоком и шкурами повозку для транспортировки раненых, но и в ней он постоянно мерз. Врач, как передает его диагноз Байкалов, сказал: «Это такого характера ранение, какое получил когда-то Пушкин, но более тяжелое, так как ударную силу пули нарезной берданы нельзя сравнить с пистолетной. Немедленная операция, на которую с мизерной долей надежды можно было бы рискнуть, в данных условиях немыслима». Под утро раненый впал в беспамятство и умер, лежа в придвинутой к костру санитарной повозке, которая «закрывалась сверху кожаным колпаком наподобие швейной машинки».
«Весть о случившемся, – констатировал современник, – быстро разнеслась по тайге и внесла начало разложения в ряды повстанцев». Поступок Широких-Полянского объясняли тем, что для «демонстрации населению новой гуманной политики партии» он сумел подняться над такими личными чувствами, как «желание отомстить».
Об этом говорил и Байкалов. Отпущенного на свободу якута он охарактеризовал как «слепое, тупое и потому особенно опасное оружие контрреволюции», а о великодушии покойного друга писал: «Для многих большевиков это было непонятно. Могу сказать одно: Полянский не руководствовался какими-либо побуждениями толстовизма, здесь имели место тактические соображения». Точно так же впоследствии он будет объяснять гуманность Пепеляева.
Однако для Широких-Полянского это был еще и вздох сожаления об уходящей жизни, прожитой среди «моря крови», и жест праведника, кротостью смиряющего злобу мира. Он не просто пощадил собственного убийцу, он его простил, иначе не завещал бы ему свой кисет с табаком – вещь, которая на войне, после гибели хозяина, обычно достается его ближайшему другу.
Впрочем, по слухам, этого якута скоро убили свои. Им он мешал как воплощенное вражеское милосердие, последнюю волю умирающего комиссара они тоже истолковали как удачную пропагандистскую акцию, чей эффект следует нейтрализовать.
Одновременно с вызволением амгинского гарнизона произошло еще более важное событие: Москва, снизойдя к истерическим мольбам местного руководства, приняла постановление о Якутской автономии в составе РСФСР. Оно склонило часть национальной интеллигенции к сотрудничеству с советской властью. На посвященное этому вопросу собрание, писал Байкалов, многие интеллигенты «пришли со следами наших шомполов и плетей», но, услышав, что прежние действия властей расцениваются как «красный бандитизм», после трехдневных прений приняли нужную резолюцию. В ответ ревком объявил амнистию всем сложившим оружие повстанцам, исключая русских офицеров.
Прекратились расстрелы, арестованных распустили по домам, сняли всем осточертевшее осадное положение. Параллельно Байкалов готовился к летней кампании. С началом навигации из Иркутска прибыли два стрелковых полка 5-й Армии, дивизион кавалерии, артиллерийская батарея, телеграфно-строительная рота – восстанавливать нарушенную связь. Командующему привезли новенький мотоцикл «Индиана», сразу поднявший его авторитет у городских обывателей, никогда не видевших даже автомобиля.
Теперь в распоряжении Байкалова свыше четырех тысяч штыков и сабель – колоссальная для Якутии сила. Флот состоял из восьми обыкновенных пароходов, вооруженных снятыми с кораблей Байкальской флотилии пушками, и трех «бронированных». У последних палубные надстройки обшивались листовым железом, борта укрепляли двойными стенками из досок с насыпанным между ними щебнем.
В середине лета Байкалов перешел в наступление. Численный перевес и «богатство патронов» приносили красным легкие победы во всех стычках. Пароходы без особой цели курсировали по рекам, оглашая берега орудийными выстрелами, дабы никогда не слыхавшие пушечной пальбы якуты прониклись почтением к власти. Как выразился Байкалов, «жалкой моське контрреволюции» следовало понять, что она бросается на «советского слона».
После первых поражений в армии Коробейникова обострились противоречия между рядовыми повстанцами и офицерами. Последние были недовольны плохой дисциплиной подчиненных, их «косностью в военном деле», желанием действовать исключительно из засад. Якуты не без оснований обвиняли своих командиров в грубости, пьянстве, грабежах и убийствах мирных жителей.
Раньше, обороняясь, повстанцы запирались в юртах[14], а после того, как расстреливали все патроны, позволяли красноармейцам поджечь стены и погибали в огне или перерезали себе горло, чтобы не попасть в руки врага живыми. Сейчас они стали сдаваться в плен. Слово «белобандитизм», которое раньше использовали как пропагандистское клише, насыщается реальным смыслом. В повстанческом движении все отчетливее проступает бунт архаики против олицетворяемой русскими цивилизации: опустошаются лепрозории (здесь издавна свирепствовала проказа), в школах сжигаются книги и учебные пособия, а в Чурапче сожжены и само здание школы, и лучшая в области сельская больница. Громче начинают звучать призывы, чей смысл можно передать фразой «Якутия для якутов».
Коробейников особой жестокостью не отличался, но на закате восстания к нему прибился семеновский полковник Дуганов с группой одичавших беглецов, именовавших себя «дугановскими волками». Они пришли сюда из Забайкалья с целью разжиться «готовой пушниной из складов и амбаров» и принесли с собой озверение тамошней смуты, свидетелем которого в сожженной унгерновцами Кулинге стал Строд. В Чурапче, обвинив крестьян в сочувствии красным, дугановцы насмерть забили полтора десятка человек колотушками для сбора кедровых орехов[15].
В июле Коробейников сумел собрать часть своей рассеянной по тайге «Народной армии» и дал Байкалову генеральное сражение у села Никольское. Он стянул сюда не то шестьсот, не то тысячу бойцов, но люди в одежде из «звериных шкур и кожи» не выдержали кавалерийской атаки и шрапнельного обстрела из орудий на пароходах. Кавалеристы, войдя в раж, рубили всех подряд, бегущие «скашивались пулеметным огнем», тонули в протоке Лены, через которую пытались переправиться и спастись, хотя якуты, как правило, не умеют плавать. Вид поля битвы, усеянного полутора сотнями мертвых тел со страшными ранами от шашек, ужасал окрестных крестьян. По представлениям якутов, даже в двадцать лет мужчина еще остается ребенком, а многие из убитых были не старше этого возраста.
Рассказывали, будто Байкалов, не в силах прекратить бойню, лично застрелил какого-то опьяневшего от крови иркутского краскома, но это – легенда. Никаких угрызений совести командующий не испытывал. «Никольский бой показал, что большевики – не толстовцы», – писал он с напором, словно кто-то в этом сомневался, а поскольку национальная интеллигенция и даже некоторые из членов РКП (б) «ныли о якобы проявленной в никольском бою чрезвычайной жестокости», Байкалову пришлось «посвятить анализу этого боя несколько собраний и дать ему правильное освещение».
Бросив обоз и госпиталь, Коробейников отступил в Нелькан, но не удержался и там. В начале сентября остатки его армии приближались к морю по двум маршрутам: меньшая часть шла в Охотск, большая, в том числе Коробейников с Дугановым и кое-кто из якутских деятелей – в Аян, куда им удалось добраться лишь за пару дней до Пепеляева. Появление пароходов с Сибирской дружиной на борту стало для них настоящим чудом. О готовящейся во Владивостоке экспедиции они знали, но на ее прибытие давно не надеялись.
В Аяне. Сомнения
К скалам Аянского мыса корабли подошли во второй половине дня. Начинало смеркаться, но впереди не видно было ни огонька, берег казался безлюден. С шедшей впереди «Батареи» выслали шлюпку с разведчиками. По возвращении они доложили, что в поселке – свои, тогда оба судна двинулись в бухту.
Уже в сумерках Коробейников на лодке причалил к «Защитнику». С ним вместе на борт поднялся его начальник штаба, капитан Николай Занфиров, до бегства из Якутска служивший в Народном театре на какой-то хозяйственной должности. Обоих пригласили в кают-компанию, где за чаем выяснилось, что помощь опоздала по меньшей мере на два месяца.
Перед Пепеляевым встал вопрос: высаживаться или плыть назад? На то и на другое решиться было одинаково непросто. Пятьсот человек пошли за ним на край света, предстояло сказать им, что он их обманул, пусть даже по неведению, обманувшись сам. Напрасно потрачены были громадные деньги, даром пропали труды двух месяцев, но воевать ради войны как таковой Пепеляев тоже не хотел.
«Мрачным мыслям генерала соответствовала надвигавшаяся темная осенняя ночь, – пытался Строд выразить его настроение в духе фольклорной баллады, где природа всегда откликается чувствам героя. – С последними лучами уходящего солнца в низины поползли седые облака холодного тумана. С моря потянуло пронизывающей сыростью, у берега зашумели, заплескались ворчливые волны».
Утром 7 сентября, не отдавая приказа о высадке, Пепеляев съехал на берег, встретился с якутами из армии Коробейникова и беженцами, а после полудня в одном из жилых домов на южном берегу бухты провел совещание с участием Куликовского, генерала Ракитина, начальника информационно-политического отдела Афанасия Соболева и начальника штаба дружины полковника Леонова. Якутское областное народное управление (ВЯОНУ) представляли Борисов, Антипин и Филиппов, общественность – купец Галибаров и еще трое-четверо коммерсантов, «Народную армию» – Коробейников и Занфиров. Дуганова, запятнанного откровенным бандитизмом, Пепеляев не пригласил, и все время, пока продолжалось совещание, тот простоял под дверью в тщетной надежде, что его позовут.
Вести протокол поручили Соболеву. Тот, видимо, ролью секретаря был недоволен и отнесся к делу формально: выступления участников совещания фиксировал вкратце, вдобавок позволял себе иронические ремарки прямо в тексте.
Сам Пепеляев позднее писал: «Я поставил вопросы: нужна ли наша помощь? Не будет ли это напрасной жертвой? Ответили: народ ждал».
Ответы не ограничились этой взывающей к его совести фразой. Галибаров, например, сообщил, что «население ушло в лес, побросало хозяйство», и «только 10–15 процентов против нас, остальные ждут ваше превосходительство».
Его поддержал Коробейников: «Когда я отступал, все спрашивали, вернусь ли, будут ли ружья. Якуты отдавали последнее… Общественные деятели из населения заявляли, что в случае нашего возвращения по-прежнему встретят с энтузиазмом».
Прочие говорили то же самое. Пепеляев довольно легко дал убедить себя, что «еще много партизанских отрядов находится в тайге, и стоит двинуться дружине вперед, как она будет усиливаться новыми добровольцами».
Когда он согласился начать поход, Борисов не мог сдержать эмоций: «Как мы были печальны вчера! А благодаря вашему приезду я никогда не был такой радостный!»
Галибаров, не смущавшийся ни патетикой, ни лестью, воскликнул: «Мы воскресли! Кричим “ура”! Я готов работать, как прежде… Отдам все на борьбу с большевиками!»
В ответ Пепеляев изложил свою программу: «Мы пришли не навязывать свою волю, свою власть, и не будем насаждать ни монархии, ни республики. Поможет Бог, отстоим область, тогда само население скажет, чего оно хочет… Для меня важно, чтобы инициатива движения была взята местными людьми. Я бы желал сосредоточить в своих руках только распоряжение военными силами».
Соболева дополняет Василий Никифоров-Кюлюмнюр, якутский журналист и ученый, автор первой национальной пьесы «Разбойник Манчары» – о легендарном таежном Робин Гуде середины XIX столетия. На совещании он не присутствовал, но знал подробности от кого-то из участников.
По его словам, Пепеляев обещал «повести борьбу не так, как Коробейников, который не с коммунистами воевал, а воевал с якутским народом, производил расстрелы безоружных людей, сжигал дома, а встречи с вооруженными силами избегал».
О том, что приказы о расстрелах отдавал и сам Коробейников, Пепеляеву утром сообщил священник-якут из повстанческой армии. Это настроило его против корнета. Он еще не знал, что были случаи, когда и якуты убивали своих русских командиров. Поражение выявило скрытый прежде национальный антагонизм.
Под конец совещания опять выступил Коробейников. По словам Никифорова-Кюлюмнюра, Коробейников «лепетал, что он все-таки воевал, делал большое и нужное для населения дело, давал какие-то сбивчивые объяснения», а когда Пепеляев велел ему говорить яснее, растерялся и сказал, что поскольку Якутское народное управление передало ему «полноту военной и гражданской власти», он теперь военную власть передает Пепеляеву, а гражданскую – Куликовскому, и «сделал руками жест в их сторону». Тот и другой ответили «поклонами с иронической улыбкой».
Соболев не без ехидства это подтверждает: «С полнотой власти Коробейников расстался с помпой и театральными жестами».
Объясняя, почему он отправился в Якутию, Пепеляев писал в своей исповеди, единственными читателями которой стали сотрудники ГПУ и следователи военного трибунала: «Не жажда власти и богатства влекла меня. Я знал, какие трудности, гибель, может быть, нас ждут, но мы идем к народу, и не мы начинаем войну, она уже идет со страшной жестокостью. Неужели отказать в помощи лишь потому, что нас мало? Сказать: мы вели борьбу, вы нас не поддержали, так пусть вас бьют, мы будем смотреть, сидя за границей? Так я поступить не мог».
В Аяне ситуация была схожей, но сейчас приходилось думать и о том, что опоздавший всегда смешон, возвращение без попытки вступить в борьбу скажется на его репутации и, значит, на всей последующей жизни вплоть до отношений в семье. За последние два года он на опыте узнал, каково это – жить с разъедающей душу памятью о проявленной слабости, с сознанием упущенных возможностей, которые, как известно, мстят за себя уже одним тем, что не повторяются.
«Нужно пройти через это для оправдания жизни, для оправдания будущего счастья, спокойствия совести», – через месяц напишет он жене, объясняя свое решение начать поход.
А под Новый год в его дневнике появится запись: «Счастья нет для меня, и его не будет, это нужно сказать раз и навсегда. Я всегда это чувствовал, терзался, мучился, доходило до исступления несколько месяцев назад, теперь же говорю спокойно. Только долг – как он силен во мне!»
К зиме он утратит надежду с честью выдержать все испытания, чтобы обновленным вернуться в прежнюю жизнь и сделать ее иной, лучшей. В Аяне такая надежда еще была. Уйти отсюда ни с чем значило признать поражение и смириться с судьбой. Обратный путь для него – дорога в царство теней.
Высадка началась сразу после совещания и закончилась через сутки. Было пасмурно, высаживались на лодках под моросящим дождем. 8 сентября Коробейников построил на берегу своих якутов и тунгусов, а Пепеляев – добровольцев. Куликовский сказал речь, Малышев сделал несколько фотографий (они не сохранились, но Байкалов их видел). Из-за плохой погоды церемония прошла без должной торжественности. На следующий день батальон полковника Андерса выступил на запад, в направлении села Нелькан, год назад ставшего колыбелью Якутского восстания, а Пепеляев с большей частью дружины задержался в Аяне еще на двое суток.
Первым делом он на «Защитнике» послал в Охотск, на пятьсот верст севернее, генерала Ракитина и полковника Худоярова с двумя десятками добровольцев. Они должны были сформировать отряд из ушедших туда повстанцев и самостоятельно наступать на Якутск через села Татта и Чурапча.
Прежде чем покинуть Аян, Пепеляеву нужно было решить, что делать с Коробейниковым. По Никифорову-Кюлюмнюру, «генерал не церемонился с предшественником и вел себя по отношению к нему крайне неуважительно», однако он, видимо, сожалел, что несправедливо обвинил его в уклонении от встреч с противником. Корнет был ему не нужен, более того – вреден; за ним тянулся шлейф неудач и насилий, он компрометировал бы в глазах якутов самого Пепеляева, тем не менее Коробейникову и Занфирову предложено было принять участие в походе. Занфиров согласился, а Коробейников отказался, ссылаясь «на усталость и на то, что в связи с перенесенным нуждается в серьезном лечении».
Все-таки Пепеляев не ставил его на одну доску с Дугановым, которому он такого предложения не сделал. Дуганова и его людей на «Батарее» спровадили во Владивосток; с ними уплыли те офицеры, кто больше воевать не хотел, в том числе Коробейников. О его дальнейшей судьбе сведений нет. Ровно на год «отчаянный мальчик» вынырнул из безвестности, чтобы вновь кануть туда же.
Рассказы о вывезенном им с собой пуде золотого песка – миф; на дорогу он получил от Куликовского пятьсот рублей, сумму не слишком большую, но и не ничтожную. Пепеляев на год жизни оставил жене с двумя детьми всего вдвое больше.
Дуганову и его спутникам не дали ничего. Поговаривали, будто им удалось прихватить с собой пушнину, но Никифоров-Кюлюмнюр уверяет, что при посадке на пароход ее у них отобрали.
11 сентября Пепеляев с главными силами двинулся вслед за Андерсом. Куликовский, якутские деятели и ряд офицеров остались на месте. Им предстояло наладить снабжение дружины, встретить вторую партию добровольцев под командой Вишневского и организовать переброску на запад привезенных ими грузов. Вошедший в эту группу Кронье де Поль стал начальником кузницы, избежав тягот похода как инженер и специалист, а почему от них был избавлен поручик Малышев, понять сложнее. Возможно – по состоянию здоровья. Пепеляев взял себе нового адъютанта, а друга-поэта оставил в Аяне на странной для юриста и, похоже, фиктивной должности заведующего «моторно-технической частью». Может быть, поэтому при наличии фотоаппарата фотохроники Якутского похода не существует.
В Якутии, кроме Пепеляева, дневники вели Андерс, Вишневский и «начполитотдел» дружины Афанасий Соболев, впоследствии сдавшийся в плен красным. Его тетрадь, как блокнот Пепеляева, должна была попасть в следственное дело, но там ее почему-то нет. Есть лишь краткие выписки с пересказом отдельных мест.
Приведена, в частности, запись Соболева о том, как в Нелькане георгиевские кавалеры дружины собрались «на чашку чая» у полковника Сивко. Многие служили в Средне-Сибирском корпусе и за столом вспоминали Восточный фронт, ругали контрразведчиков, говорили, что в Перми контрразведка «вывела в расход 200 человек». Кто-то рассказал историю из декабря 1918 года: на глухом железнодорожном полустанке, в лесу, сибиряки расстреляли партию пленных, после чего заночевали в единственном находившемся поблизости доме. Никто не заметил, что один из красноармейцев лишь притворился мертвым. Когда все ушли, он хотел скрыться, но был страшный мороз, а перед расстрелом их раздели до белья, и этот несчастный, чувствуя, что замерзает, в полночь явился в занятый расстрельной командой дом, «перепугав всех до полусмерти». Придя в себя, хозяева напоили гостя чаем, позволили до утра поспать в тепле, а утром все-таки расстреляли.
Об этом случае Пепеляев мог и не знать, но, конечно, слышал о других, подобных. Отказ от идеи возмездия он продекларировал еще в 1921 году, в интервью харбинскому «Русскому голосу»: «Не злобу, месть и расправу, а забвение прошлых обид должно нести истинно народное движение».
Этот принцип – основа его приказа по дружине, изданного перед выступлением из Аяна: «Сдавшиеся с оружием или без оружия никаким преследованиям не подвергаются, хотя бы и состояли начальниками частей Красной Армии.
Взятые в бою комиссары и коммунисты задерживаются до суда Народной власти.
Все служащие советских учреждений остаются на своих местах.
Никакой военный начальник ни к кому не имеет права применить смертную казнь.
Никаких истязаний над пленными не допускать, помнить, что мы боремся с властью, а не с отдельными лицами.
Раненым красноармейцам подавать медицинскую помощь».
Самое невероятное, что этот приказ исполнялся неукоснительно. За все десять месяцев, в течение которых Пепеляев находился в Якутии, здесь не был расстрелян ни один человек.
Дитерихс тоже отменил смертную казнь, но в Приморье это стало скорее благим пожеланием, чем действующей нормой. Чтобы в условиях Гражданской войны с ее привычной жестокостью такой приказ не остался только демонстрацией добрых намерений, автору нужно было обладать авторитетом, какого Дитерихс не имел.
Призыв к милосердию для Пепеляева не был тактическим ходом, как это пытались представить его противники. Он всегда вел себя так же и с несомненной искренностью говорил, что за три года Гражданской войны в Сибири не подписал ни одного смертного приговора.
Белое и зеленое. Джугджур
В 1835 году кокандский хан послал в дар Николаю I слона. Его привели в Омск, а сопровождать элефантуса в Петербург поручили хорунжему Николаю Потанину с несколькими казаками. Ему не хотелось надолго покидать молодую жену с новорожденным сыном Гришей, и он взял их с собой. Зиму встретили в пути. Слон, защищенный от сибирских морозов теплыми попонами, шел пешком, но однажды по неизвестной причине вдруг остановился и дальше идти не пожелал. Пока погонщики пытались заставить его продолжить путь, Потанин решил проведать ехавшее в санях семейство. Жена мирно спала под шубами, но сына возле нее не было – выпал по дороге. Казаки бросились назад, и когда увидели в сугробе узелочек с ребенком, оказалось, что мальчик невредим, не замерз и даже не проснулся.
Под старость Григорий Николаевич Потанин с удовольствием рассказывал эту полумифическую историю: вовремя заупрямившийся слон олицетворял собой благосклонный к маленькому Грише дух Азии. Спасенный им младенец стал выдающимся исследователем Монголии, натуралистом, фольклористом, антропологом, а еще – создателем учения, под флагом которого Пепеляев воевал с красными на Урале и в Сибири. Флаг был двуцветный, бело-зеленый. Линия раздела шла по диагонали, зеленый треугольник – вверху. Белый цвет символизировал законность, зеленый – вольный крестьянский труд, но ассоциировались они со снегом и тайгой. В 1918 году Сибирское правительство утвердило этот флаг в качестве регионального и учредило орден «Освобождение Сибири», выдержанный в той же цветовой гамме: материалами для него послужили серебро и малахит[16]. Потанин и Пепеляев могли бы стать его первыми кавалерами, но наградить им никого не успели, изготовили только опытные образцы, а при Колчаке сама идея такого ордена сделалась еретической.
Потанин и барнаулец Николай Ядринцев рассматривали Сибирь как колонию России, которой следует если не отделиться от нее, как США отделились от Англии, то получить автономию. В 1865 году они были главными обвиняемыми на процессе «сибирских сепаратистов»; Потанин девять лет провел в тюрьмах и в ссылке, был помилован по ходатайству Географического общества и после многолетних скитаний по Центральной Азии, пережив умершую в одной из экспедиций жену, уже стариком поселился в Томске, читал лекции в университете, писал мемуары. Пепеляев не был с ним знаком, но в каком-нибудь собрании или просто на улице мог видеть этого теряющего зрение, окруженного всеобщим поклонением старца в темных очках.
«Времени зарождения идеи сибирского областничества я не знаю, – говорил Пепеляев, – мне известно лишь, что причиной этого течения общественной мысли было бесправное положение Сибири при царском режиме. Центр смотрел на Сибирь как на место ссылки политической и уголовной, в Сибири не было земств, хозяйничали военные наместники и т. д. Основателем считают Потанина, теперь уже умершего – кажется, в 1920 году».
До войны Пепеляев был слишком юн, чтобы увлечься его идеями, а когда вернулся домой с фронта, восьмидесятитрехлетний Потанин почти ослеп и редко показывался на людях. Зато он был знаком с входившим в ближайшее потанинское окружение редактором газеты «Сибирская жизнь» Александром Адриановым[17]. Яростный противник большевиков, за что они потом его расстреляли в возрасте шестидесяти шести лет, Адрианов на областнической платформе создал в Томске подпольную организацию из офицеров и студентов. Пепеляев был ее военным руководителем и впоследствии, отвечая на вопрос о связях с Потаниным, сказал: «Я знал, что он будет во главе».
Имелось в виду – во главе организации и планируемого ею восстания. Пепеляев думал, что следует указаниям основоположника сибирской идеи, глаголющего устами своего апостола, но Адрианов, о чем стало известно много позже, мистифицировал подпольщиков и втайне от ничего не подозревающего Потанина доносил до них его волю, как пророк – повеления скрытого от смертных божества. Пепеляев об этом так никогда и не узнал.
«В правление Колчака сибирское областничество заглохло, но после появилась мысль заключить мир с красными на основе автономии Сибири», – продолжал он, умалчивая, что этот воздушный замок был выстроен им самим в декабре 1919 года.
Среди русских эмигрантов на Дальнем Востоке областничество пережило короткий ренессанс в связи с крестьянскими восстаниями в Сибири. Казалось, подтверждаются мысли Потанина о разнице между сибирским мужиком и его собратом из центральных губерний. На вопрос, почему в России крестьянин не восстал, а в Сибири восстал, ответ был готов: потому что суровые условия жизни выработали в нем «дух предприимчивости», он свободолюбив, меньше заражен суевериями, перенимает городскую моду в одежде и в быту, наконец так же легко роднится с аборигенами, как испанцы в Южной Америке – с индейцами, а результатом «метисизации» станет появление новых наций и новых государств. Все это взывало больше к уму, чем к сердцу, но Пепеляев, по-русски легко умевший переводить идеи в эмоции, всей душой отдался надежде, что возрождение России пойдет с востока на запад. Сибирское крестьянство для него – объект мессианских чаяний, как монголы для Унгерна или пролетариат для марксистов, только не во всемирном, а в национальном масштабе. Оно не приняло ни белых, ни красных, и теперь, в огне восстаний, сгорит все наносное, все чуждое его природе, что насаждали и «старорежимцы», и большевики, после чего зародятся органичные для народа формы общественной жизни.
«Я полагал, – признавался Пепеляев, – что сам народ из глубины своей выдвинет те силы, которые создадут действительно народную власть».
Себе и своим добровольцам он, по его словам, отводил роль «технического аппарата», призванного создать благоприятные условия для свободного проявления этих форм. Предвосхищать их Пепеляев не хотел, допуская, правда, что это будет новое издание «вечевых начал». Якутская экспедиция – погоня за призраком, чью сущность и обличье он описать не мог, но надеялся узнать его при встрече.
«Не найдется ни одного якутского интеллигента, который мог бы определенно сказать, что генерал являлся сторонником того или иного строя», – точно подметил Никифоров-Кюлюмнюр. Он усматривал тут хитрую «игру в жмурки», позволявшую Пепеляеву скрыть свой монархизм, но на самом деле скрывать ему было нечего. Пепеляев просто не знал, какой «строй» возникнет в будущем из «народных недр».
Символика бело-зеленого флага лишь отчасти выражала цель его похода, поэтому придуманное им знамя Сибирской дружины отличалось от канонического. На нем, тоже по диагонали пересекая линию раздела между «снегом» и «тайгой», тянулась широкая красная полоса – символ революции, как толковал ее смысл Пепеляев. Он не считал революцию злом, но рассматривал ее как явление временное, поэтому на другой стороне знаменного полотнища были изображены православный крест и лик Спаса Нерукотворного – в знак того, что «революция заканчивается обращением к Христу».
Под этим знаменем Пепеляев повел свое войско на запад, чтобы воплотить в жизнь последнюю в истории Гражданской войны социальную утопию. Он планировал до зимы овладеть Якутском, затем по Ленскому тракту двинуться на юг, весной занять Иркутск и начать освобождение Сибири от красных. Ожидалось, что к весне вся она будет охвачена крестьянскими восстаниями.
Поднять восстание в Иркутске взялся Николай Калашников, эсер, партизан, член областнического кружка Сазонова в Харбине. Пепеляев выдал ему на подпольную работу пять тысяч рублей золотом, но в марте 1923 года Калашников узнал из газет о разгроме Сибирской дружины и в Иркутск не поехал. Полученные деньги помогли ему устроиться в США. Там он прославился как автор написанных по-английски, очень в свое время популярных и переведенных на многие языки повестей о лошадях и собаках («Тойон», «Скакун», «Защитник», «Мой друг Якуб»).
Нелькан – самое восточное из сел Якутии, от Аяна до него около двухсот пятидесяти верст. Путь проходил по дикой тайге с редкими тунгусскими урасами – берестяными чумами, и единственным якутским селением Сырынгах из двух юрт. Колесный тракт, о котором мечтал Куликовский, прокладывать даже не начали, нужно было двигаться по тропам.
В 1850-х годах, незадолго до того, как здесь проезжал писатель Гончаров, Российско-Американская компания проложила гати через заболоченные участки, но жерди давно сгнили и растворились в трясине. Болото в пять верст длиной и глубиной по колено попалось Андерсу на второй день пути, потом было несколько таких же. Самое длинное растянулось на двадцать верст и заняло весь дневной переход. Кроме болот, пришлось «бродить» мелкие речки, а обувь поставщики подсунули плохую, сапоги быстро прохудились. Между тем, ночами температура опускалась ниже нуля.
Не лучше обстояло дело и с доставшимися от Коробейникова лошадьми. Они пришли с ним в Аян и, не успев отдохнуть и подкормиться, должны были с тяжелой поклажей идти назад.
Ссыльный польский революционер, этнограф и писатель Вацлав Серошевский пропел гимн якутской лошади: «Нужно видеть, как она идет по брюхо в густом липком болоте, пробивая грудью борозду, идет версты три-четыре, иногда десять, без перерыва, несет всадника или вьюки, стонет, хрипит, пошатывается, но идет, идет, не останавливаясь. Нужно видеть, как она пробирается, согнувшись в дугу, по невероятным крутизнам, по горным скалистым россыпям, сквозь бушующие потоки…»
Однако предел выносливости есть и у якутских лошадей. Якуты делили их на двенадцать разрядов по степени тучности, и те, что были у Пепеляева с Андерсом, стояли на нижних делениях этой шкалы. Они падали и подняться не могли, приходилось бросать навьюченное на них продовольствие. Люди не в силах были тащить его на себе по болотам и горным тропам.
В 1854 году автор «Фрегата “Паллада”» проделал этот путь летом, и все-таки леса между Охотским побережьем и горами Джугджура, как называлась эта часть Станового хребта, поразили его своей безжизненностью: «Тишина и молчание сопровождали нас… Не слыхать и насекомых… Даже птицы, и те мимолетом здесь… Тоска сжимает сердце, когда проезжаешь эти немые пустыни».
Вишневский лаконичен: «Приморский лес почти лишен зверового населения».
Пепеляев с большей частью дружины нагнал батальон Андерса у подножья Джугджура. Заночевали вместе, утром двинулись на перевал. Вначале дорога пролегала по кедровому стланику, затем – по гольцам. Две версты одолели за два с половиной часа.
«Тропа шла по отвесным скалам, – вечером того же дня записал в дневнике Андерс, – местами приходилось прыгать с камня на камень. Внизу бурлила река. Перед вершиной тропа извивалась спиралью, очень круто, коням было тяжело. На самой вершине подул ветер, резкий и холодный».
Гончарову гора показалась стеной «с обледеневшей снежной глыбой, будто вставленным в перстень алмазом, на самой крутизне». До этого он с комфортом ехал в кожаной «качке», висевшей между двумя идущими друг за другом лошадьми, но здесь пришлось вылезти из нее и пойти пешком. Один якут вел его «на кушаке», другой поддерживал сзади. Гончаров семь раз садился отдыхать, в изнеможении кладя голову на плечо провожатого, а на вершине от полноты чувств выпил рюмку портвейна, хотя вообще-то, как Пепеляев, вина не пил.
«На вершине, – пишет Вишневский, – видны жертвы тунгусов и якутов богу гор. Это ленточки, подвешенные к веткам, и тарелки с медными и мелкими серебряными монетами. Интересно, что при оккупации большевиками Якутской области тарелки с деньгами регулярно исчезали, и это вызвало отрицательное отношение местных жителей к новой власти. Тунгусы стали ограничивать свои жертвы только цветными лоскутами».
Обратно к морю Вишневский шел не здесь, а по дороге к Нелькану переходил перевал через четыре месяца после Пепеляева и Андерса, в страшную пургу, и не мог видеть эти приношения. Вероятно, о них ему рассказали проводники, и он не устоял перед соблазном выдать себя за очевидца. Тарелки с монетами, исчезнувшие при красных, а с прибытием Сибирской дружины занявшие прежнее место, подтверждали правоту дела, за которое он сражался.
В ясную погоду с вершины открывался вид на бесконечные ряды полуразрушенных скал и каменных осыпей. Один из проходивших здесь путешественников признавался: «Никогда не доводилось мне видеть более печальный пейзаж. Ни побережье Ледовитого океана, ни тундра не оставляли во мне такого впечатления безнадежности и уныния, как Джугджурский хребет… Неизгладимая печаль лежит на развалинах этих гор».
Те же чувства должны были испытать пепеляевские добровольцы, и вряд ли никто из них не задумывался о собственном будущем.
Джугджур считался восточной границей Якутии. К западу от него лежала страна, чьи размеры в сочетании с ее малолюдностью плохо укладывались в сознании европейца. Чтобы передать ужас здешних расстояний, ссыльный Владимир Короленко оперировал не верстами и не сроками пути из одного населенного пункта в другой, а временем жизни, проходящим от одного до другого визита якутских священников к их прихожанам: «Эти бродячие пастыри постоянно объезжают свое стадо, рассеянное на невообразимых пространствах, венчая супругов, у которых давно бегают дети, крестя подростков и отпевая умерших, кости которых истлели в земле».
На юге Якутии сеяли пшеницу, на севере разводили оленей и добывали песцов. Здесь охотники вместо дефицитного свинца могли использовать мелко нарубленные медвежьи или птичьи когти, юрты строили из тонких бревен, потому что рубить старые деревья считалось грехом, а старосты наслегов с XVIII века имели право носить на поясе кортики русских морских офицеров.
Здесь ездили верхом на быках, верили, что насекомые – это души растений; героический эпос олонхо оставался живой традицией, и некоторые его песни сказители-олонхосуты исполняли по семь дней подряд, заучивая наизусть десятки тысяч строк, как рапсоды в архаической Греции. При этом один из таких виртуозов, поэт Платон Ойунский, состоял в РКП (б) и занимал пост председателя ЦИК ЯАССР. Не все певцы и слушатели владели русским языком, хотя все носили русские имена и фамилии и были крещены по православному обряду.
Ровесник Пепеляева, якутский антрополог Гавриил Ксенофонтов, не находил в этом противоречия. Вслед за Потаниным он утверждал, что «в основе еврейской легенды о Христе лежит центральноазиатская шаманийская легенда», ведь в преданиях шаманы часто рождаются от девственниц, а перед камланием, представляющим собой не что иное, как странствие в потусторонних мирах, «умирают» на три дня, как умер и воскрес Иисус Христос. Крест, по Ксенофонтову, это символ птицы в полете, «икона летящих духов», поскольку шаманы и подвластные им духи перемещаются по миру в облике птиц. Повстанцы получали у шаманов «консультации» по военным и политическим вопросам, но великий национальный поэт-новатор Алексей Кулаковский, встретивший Пепеляева в Аяне, увлекался философией Владимира Соловьева, а в Якутске, в Инородческом клубе, еще до революции шли пьесы «Любовь» и «Тина жизни» драматурга Анемподиста Софронова-Алампы, сторонника ЯАССР.
Пепеляев мало интересовался этой землей и населяющими ее людьми. Якуты были для него разновидностью сибирских крестьян, а Якутия – частью Сибири, отличающейся от других ее частей не больше, чем Иркутская губерния отличается от Енисейской. Нормы, которыми регулировалась жизнь якутских родов, были ему не известны, хотя при его утопических идеалах он нашел бы немало привлекательного в том, например, что удачливый охотник обязан разделить добычу со всеми родственниками, так же должен поступить хозяин с мясом забитого быка, лошади или оленя. Того, кто забивал скотину тайком, презирали как вора. Даже маленькие дети, если их угощали чем-нибудь съедобным, немедленно начинали делиться с домашними. Еда принадлежала всем, торговля продуктами считалась постыдным делом, и заниматься им якуты предоставляли русским, татарам и евреям.
Слабо разбирался Пепеляев и в местном политическом раскладе. Ситуация в Якутии, какой она виделась ему из Владивостока и Харбина, описана в одном из его стихотворений:
- Там, презревши все Божьи законы,
- Мучат русских людей палачи.
Однако от «коммунистической тирании» пострадали тут прежде всего якуты и совсем уж не способные шагать в ногу с эпохой тунгусы, а русские крестьяне, напуганные национализмом Якутского восстания, держали сторону большевиков. За советскую власть стояли и скопцы, сосланные сюда при Николае I и научившиеся выращивать в здешнем климате все плоды земные вплоть до арбузов.
Измена
Строд не участвовал в бойне у Никольского – месяцем раньше, в стычке с повстанцами, целившими, видимо, в командира, он был ранен двумя пулями. Первая, как говорилось в справке из лазарета, «вошла в мягкие части живота», вторая – «у левого угла рта» и, пройдя по шее и «порвав кожу в нескольких местах», вышла возле ключицы, после чего каким-то образом снова вонзилась в тело и окончательно покинула его через ребра.
Оба ранения были тяжелыми, но уже в августе Строд с отрядом «имени Каландаришвили», как назывался теперь Северный отряд, на пароходе «Диктатор» (имелся в виду пролетариат из формулы о его диктатуре) прибыл в Вилюйск, где полвека назад отбывал ссылку Чернышевский, и «освободил город от многомесячной осады». Так выражается его биограф, хотя «осада» – чересчур громкое слово для сложившейся в Вилюйске ситуации.
С прошлой осени повстанцы засели в пригородной колонии для прокаженных, которую основала когда-то английская филантропка Кэт Марсден, выгнали оттуда доктора и больных и сделали лепрозорий своей базой, но их попытка штурмовать Вилюйск была отбита. Горожане успели приготовиться к обороне: вырубили лес там, где он подходил близко к домам, на коровьем выгоне вырыли окопы, заложили «фугасы», в качестве артиллерии соорудили «камнеметы». После этого военные действия ограничивались спорадическими перестрелками, жертвами которых становились в основном коровы и собаки.
Узнав о приближении парохода с орудием, повстанцы ушли в тайгу, а Строд, для маскировки подняв на мачте белый флаг (якуты простодушно полагали, что если красные имеют красный флаг, то белым полагается иметь белый), проплыл вверх по Вилюю еще полторы тысячи верст до села Сунтар, где якутское население «сильно пострадало от примазавшихся к советской власти прохвостов». Эти «прохвосты», то есть уездные комиссары, под видом административной реформы приписывали улусы и наслеги то к одному округу, то к другому, чтобы обкладывать их разверсткой не один раз, а два, второй – в свою пользу.
Здесь Строд должен был ощутить особость жизни на якутском севере. Русский врач Сергей Мицкевич, в начале ХХ века работавший в Нижнеколымске, писал, что психика северянина «очень возбудима, он нервен, пуглив, в нем сильно выражена внушаемость, склонность к психическому заражению». Тот же врач считал это характерным для всех якутов, но для северных – особенно, и проводил аналогию с северной ездовой собакой, которая настолько робка, что никогда не лает на людей, только воет: «Стоит завыть одной, завоют все ее соседки, и вой, страшный, надрывающий душу вой сотен собак разливается по городу, наводя щемящую тоску на непривычного приезжего человека. На Анюйской ярмарке, где на небольшом пространстве скапливается до тысячи собак, этот вой принимает поистине адские размеры, не давая возможности спать ночью».
На севере многие женщины страдали типичной для Якутии разновидностью истерии – меряченьем или эмиряченьем (от якутского названия этой болезни – эмирях). Больная, если ее внезапно испугать, впадала в гипнотическое состояние, автоматически исполняла любые, самые дикие приказы (могла спрыгнуть с крыши, сунуть руку в огонь или показать половые органы) и становилась беззащитна перед чужой злой волей. Этим пользовались ссыльнопоселенцы из уголовных, «производя над такими несчастными всяческие издевательства и насилия». Бывали эмиряки и среди мужчин. Сразу после революции «каторжный элемент» составлял значительную прослойку в местных органах власти, и все это вместе с обычными у якутов туберкулезом, трахомой и систематическим недоеданием, когда основной пищей большинства была заправленная кислым молоком-таром похлебка из корневищ или сосновой заболони, а ежедневный надой от одной коровы даже летом не превышал пол-литра, создавало тягостную, невротическую атмосферу Якутского восстания. Строд был чувствителен к таким вещам, недаром он подчеркивал, что в Вилюйском уезде «не сделал ни одного выстрела», и у него «не было ни одного боя».
Единственной жертвой этой бескровной военной экспедиции стал бывший боец Кавказского полка, грузин Гомартели. Его застрелил сам Строд, за что позже, в Якутске, «был отдан под суд, но оправдан полностью»[18]. Очевидно, Строд застрелил Гомартели за мародерство или за насилия над якутами, и свидетели это подтвердили. Очень может быть, что дело вообще оставили бы без последствий, не будь виновный анархистом.
В Сунтаре он вступил в переписку с повстанческим командиром Петром Павловым, убеждая его сдаться и гарантируя амнистию. Павлов, однако, не верил, что «советская власть ликвидирует восстание, а не повстанцев». Опыт убеждал его в обратном.
Помощь предложил местный старожил Давид Пернштейн. «Это был, – пишет Строд, – хитрый и остроумный старик, отъявленный картежник. Жил он в Хочинском улусе давно, здесь и состарился. На двести-триста километров кругом знал он каждого и пользовался своеобразным авторитетом. Повезло ему в игре – дарил бедноте корову, лошадь, давал деньги. Проигрался – значит, идет пешком и на чем свет стоит ругает тех, кто выдумал карты. Чаще ругался и жил бедно».
Даже для Строда, выросшего в Люцине, где было семь синагог, этот оригинальный еврейский тип явился новостью, иначе он не описал бы его так обстоятельно.
Пернштейн вызвался быть парламентером, благо и с Павловым, и с прочими вождями восстания «по трое суток, бывало, дулся в штосс и в двадцать одно». Строд рассудил, что «когда тушат пожар, в качестве воды не разбираются», и послал Пернштейна в тайгу. Тот сумел вывести оттуда немало бывших партнеров, но не Павлова.
«Я протягиваю вам руку мира, а не вражды, – церемонно писал ему Строд, предлагая личные переговоры. – Укажите место и время, я согласен выехать один, без отряда, надеясь на ваше честное слово, что мне не будет угрожать опасность».
Павлов тянул время в расчете на скорый конец навигации. Он надеялся, что красные не захотят тут зимовать и уплывут в Якутск. Тогда Строд взял другой тон: «Петр Трофимович Павлов, приезжайте смело в Сунтар! Я слишком честен для того, чтобы ваши опасения имели какое-то основание. Жду до 18 августа или верну… кровавый меч гражданской войны».
Павлов сдался и был амнистирован. Мелкие группы повстанцев еще скрывались в тайге, но чтобы гоняться за ними, регулярные части не требовались, отряд Строда был расформирован. У него осталось около восьмидесяти бойцов, прочих на пароходе отправили в Иркутск заодно с прибывшими оттуда в июне стрелковыми полками 5-й Армии.
Байкалову оставили дивизион войск ГПУ и два батальона по двести штыков. Один должен был захватить Охотск, где царил есаул Бочкарев, больше похожий на бандита, чем на рыцаря Белой идеи, другой – Аян, куда ушел Коробейников. Этим батальоном командовал выходец из давно обосновавшейся в Якутске еврейской семьи Исай Карпель. Его сестра Брайна, рабфаковка из Иркутска, ехала домой с братом, служившим тогда в Северном отряде, и после гибели Каландаришвили бесследно пропала вместе с шифровальщицей, женой отрядного комиссара Екатериной Гошадзе. Повстанцы увели их с собой, с тех пор о них никто ничего не слышал.
Свои батальоны Байкалов собирался выслать в поход зимой, но замкомандующего 5-й армией Касьян Чайковский (Уборевич тогда воевал в Приморье) требовал выступить немедленно. Разведка докладывала о готовящейся во Владивостоке экспедиции на север, предположительно – для захвата Охотска и Аяна, и Чайковский хотел занять гарнизонами оба эти порта. Надвигалась осенняя распутица, но оспорить приказ Байкалов не посмел. В результате первый батальон по дороге к Охотску застрял в тайге, на бездействующей телеграфной станции Алах-Юнь, а Карпель, выбив из Нелькана повстанцев Коробейникова и «дугановских волков», оказался не в силах двинуться дальше, к Аяну.
Карпель свободно говорил по-якутски и в Нелькане от пленных или перебежчиков должен был узнать о судьбе сестры. Рассказывали, что при отступлении от Чурапчи люди Дуганова отобрали ее и Екатерину Гошадзе у якутов, которые захватили их весной. Якуты не причинили им вреда, но дугановцы после насилий и надругательств изрубили девушек шашками, тела сбросили в реку Нотору.
Был, правда, слух, будто Брайна полюбила какого-то повстанца-якута, стала его женой, ушла с ним в тайгу и до самой смерти, отрекшись от себя прежней, прожила вдали от цивилизации. То, что она, еврейка, представительница народа, противоположного простодушным и близким к природе якутам, ради любви к антиподу стала лесной отшельницей, придавало ее поступку особый смысл, но эта легенда могла появиться лишь спустя много лет, а то и десятилетий после восстания. Подобные истории о мнимых страстях возникают не раньше, чем остывают страсти подлинные.
В Аяне находились убийцы сестры, но добраться до них Карпель не мог. Мука кончилась, питались одной кониной. Лошадей для обоза не хватало, теплой одеждой не запаслись. Пароход, на котором в Нелькан отправили все необходимое, на Алдане сел на мель, оставалось ждать, когда с наступлением холодов его груз доставят санным путем. После высадки Пепеляева прошло две недели, а Карпель об этом не знал и не подозревал, что Сибирская дружина уже перешла Джугджур.
На безрадостной картине, развернутой перед Пепеляевым в Аяне, имелось одно светлое пятно: Коробейников сообщил, что на реке Мае возле Нелькана стоят доставившие туда батальон Карпеля пароходы «Соболь» и «Республиканец», бывший «Киренск». На них можно было спуститься по Мае в Алдан, по Алдану – в Лену, а по Лене доплыть до Якутска. Захватить город казалось нетрудно. Главная сложность была в том, чтобы подойти к Нелькану скрытно и лишить Карпеля возможности бежать на этих пароходах.
На восьмой день пути, в селении Сырынгах, Пепеляев провел совещание командного состава дружины. Решено было выйти к Мае в двадцати верстах ниже Нелькана, переправиться через реку на плотах и занять деревню Кромкино на противоположном берегу. Оттуда Пепеляев с главными силами двинется к Нелькану, а батальон Андерса дойдет до так называемых Семи Проток (еще в двадцати верстах вниз по течению), где Мая растекается по нескольким узким рукавам, из которых только один – судоходный. Там можно будет перехватить пароходы, если Карпелю удастся уплыть на них из Нелькана.
Заночевали на месте, а наутро после совещания обнаружилось, что ночью один человек покинул лагерь.
«Среди нашего отряда нашелся предатель (вероятно, заранее подосланный большевиками), солдат Плотников, который дезертировал из Сырынгаха, опередил нас и сообщил красным о нашем приближении», – сообщал потом Пепеляев в Аян, Куликовскому, однако в то утро о предательстве он не думал, полагая, что напуганный тяготами похода Плотников счел за лучшее податься назад, к морю, пока не отошли от него слишком далеко. Там у него были шансы выбраться с японскими рыбаками на Сахалин или на Хоккайдо.
Ночами подмораживало, с рассветом траву покрывал иней. На нем ясно отпечатались следы беглеца, но высылать погоню не стали. В годы Гражданской войны дезертиры в обоих станах исчислялись десятками, если не сотнями тысяч, все к этому привыкли и знали, что люди бегут от войны как таковой, а к противнику переходят редко. По рассказу Никифорова-Кюлюмнюра, якуты, хорошо знавшие местность, предложили поймать ушедшего Плотникова, но Пепеляев ответил: «Из-за таких случаев не стоит волноваться, потому что их будет много, как всегда это наблюдалось».
Как ни странно, тут он, судя по всему, был прав, а когда задним числом обвинял Плотникова в измене – ошибался. Осталось тайной, куда тот направился и что с ним потом случилось, но никто из советских журналистов и мемуаристов никогда о нем не упоминал. Иней растаял, и его следы затерялись в тайге. Карпеля предупредил не он, а другие люди, никакого отношения к нему не имевшие.
Из Сырынгаха выступили с рассветом 22 сентября, под дождем, и весь день шли по болотам. Дождь не прекращался. Обоз отстал, лошади падали. Часть груза опять пришлось бросить. От того места, где вечером встали на ночлег, до Нелькана оставалось шестьдесят верст.
Вечером следующего дня Андерс записал в дневнике: «Вчера отстал от батальона поручик Нах (латыш Бернгард Наха. – Л. Ю.) и до сих пор не явился».
В скобках добавлено: «Впоследствии выяснилось, что поручик Нах и доброволец Вичужанинов бежали к красным».
Правильное написание фамилии второго беглеца – Вычужанин, имя – Алексей. Ошибки свидетельствуют, что пояснение в скобках сделано не Андерсом, а Вишневским, опубликовавшим его дневник. Андерс так ошибиться не мог; он не просто хорошо знал этого человека, но готовился с ним породниться: родная сестра Вычужанина была его невестой. В Харбине он сделал ей предложение, но венчание решили отложить до возвращения жениха из Якутии.
То, что одним из предателей оказался брат невесты, Андерса наверняка расстроило, поэтому в дневнике он ограничился именем Нахи и не упомянул о Вычужанине.
Перебежчики не были внедренными в дружину во Владивостоке большевистскими агентами. Просто они предвидели, на чьей стороне рано или поздно будет победа, и выбрали такой момент, когда переход к противнику сулил им наибольшие выгоды.
Вычужанин и Наха опередили Пепеляева на сутки. Принесенная ими новость, в которой никто не усомнился, угнетающе подействовала на нельканский гарнизон и на самого Карпеля.
«Нелькан как оборонительный пункт – мышеловка, – говорил он Байкалову. – Находится в котловине, кругом кустарники, лес, складки местности». О сопротивлении нечего было и думать. Чтобы спастись, требовалось покинуть село в течение суток, но в конце сентября уходить в тайгу без продовольствия и теплой одежды – значило идти на верную гибель, а плыть по Мае было не на чем. Пепеляев не знал, что в августе, когда река в верховьях начала мелеть, «Соболь» и «Республиканец», чтобы не оказаться запертыми в Нелькане, ушли на триста верст вниз по течению, к устью впадающей в Маю реки Юдомы.
На двести с лишним человек у Карпеля имелась одна моторная лодка и тунгусские берестяные «ветки», они же «душегубки», а на постройку плотов не хватило бы времени. Ближний лес был мелкий, толстые бревна пришлось бы возить издалека, к тому же извилистая и бурная Мая с множеством мелей и подводных камней не годилась для дальнего плавания на плотах.
Положение было безвыходное, и Карпель не мог не думать о том, что все коммунисты батальона будут расстреляны белыми, а сам он как коммунист и еврей – в первую очередь. Сомнительно, чтобы Вычужанин и Наха проинформировали его о последнем приказе Пепеляева. Карпель был из местных, в период массовых репрессий при начале восстания заступался за якутов перед пришлыми леваками и авантюристами, но не мог надеяться, что это спасет его от смерти.
Строд в своем стиле чередует изложение событий и картины природы, которая с неизменной готовностью отзывается настроению людей: «Бойцы и командиры подходили к берегу, ломая голову над тем, как быть. Воды Маи быстро неслись на запад, к Петропавловску (село на Алдане. – Л. Ю.), и как бы дразнили красноармейцев, унося сорванные при разливе ветки тальника, вырванные с корнем стволы пихт и лиственниц».
На пике отчаяния подоспела счастливая случайность: «Внимание штаба привлекла старая брандвахта (небольшая деревянная баржа), брошенная за непригодностью. Наполовину засыпанная песком, она стояла в ближайшей протоке. Ее тщательно осмотрели, как во время консилиума у больного, и решили, что хотя и с некоторым риском, но плыть на ней можно».
Предстояло спуститься по Мае до устья Юдомы, где стояли «Соболь» и «Республиканец», но главное – успеть пройти Семь Проток, пока туда не вышли пепеляевцы. Наха и Вычужанин предупредили Карпеля, что там его будет караулить батальон Андерса. Сгрудившиеся в открытой барже люди имели мало шансов живыми проплыть по узкому рукаву мимо двух сотен стрелков на скалах. В этом случае оставался один способ сохранить жизнь – сдаться. Тогда пароходами завладел бы Пепеляев.
«Немедленно приступили к ремонту, – продолжает Строд. – Наверное, люди никогда так усердно не работали. Застучали топоры. Лопатами, кайлами и просто руками отгребали песок. Ведрами и котелками вычерпывали воду. Тряпками и мхом заделывали дыры. Весь день и всю ночь кипела дружная работа. Когда зарумянился восток и глянули первые лучи солнца, брандвахта была готова, но нужно было снять ее с мели. Больше часа ушло, пока наконец она со скрежетом оторвалась от речного дна и вышла на глубокое место. Началась погрузка имущества, потом плотно, как сельди в бочке, в брандвахту набились красноармейцы. Поставили шесть пар неуклюжих, грубо вытесанных из целых бревен весел. На каждую пару село по шесть человек… С протяжным скрипом мерно поднимались и падали, разрезая воду, двенадцать тяжелых весел. Благодаря быстрому течению двигались со скоростью до десяти верст в час. Один за другим оставались позади уже посыпанные золотом ранней северной осени островки».
Семь Проток (якутское название – Каралетин) миновали за несколько часов до того, как там появился Андерс.
Позднее Байкалов, если верить его мемуарам, поинтересовался у Карпеля: «Какие плавучие средства в Нелькане оставил? Вслед за вами Пепеляев не пожалует?»
Карпель ответил, что осталось только «штук десять плоскодонных, одно– и двухместных лодочек».
«А плоты чем хуже твоей брандвахты? Еще исторические казаки, даже с пушками, спускались по рекам», – напомнил Байкалов.
«Только не по Мае, – успокоил его Карпель. – Островки, мели, узкое русло – они и версту не спустятся. Скоро начнется шуга. Словом, эта вероятность абсолютно отпадает».
Карпель не ошибся. Наутро после его бегства Пепеляев занял Нелькан и очутился в таком же положении, как его предшественник – без продовольствия, без зимнего обмундирования и без надежды выбраться отсюда раньше, чем установится санный путь.
Все это можно прочесть как историю овладения богом забытой деревней на краю Якутии, которая и сама была краем света, а можно – как вечный сюжет о поиске ключа к бессмертию или к замку спящей царевны. Герой плывет по морю, идет через заколдованный лес, где не жужжат насекомые и не поют птицы, восходит на ледяную гору, отделяющую мир живых от царства мертвых, вязнет в трясине, теряет коня, становится жертвой предательства и, с честью выдержав все испытания, обретает искомое, чтобы с ужасом обнаружить: этот ключ не подходит к нужной двери, и над теми, кому он достается, тяготеет проклятье.
Голод
По якутским масштабам Нелькан с его тремя десятками домов, кузницей, складскими амбарами на берегу Маи, церковью и тунгусской школой при ней считался крупным селом. Дома были целы, но пусты, жители ушли в тайгу при Коробейникове и не вернулись при Карпеле. Осталось две семьи, одна из которых приютила у себя несколько чужих детей. Скорее всего, это была семья священника Аммосова. Казалось бы, он должен был первым бежать от красных, но Аммосов уверенно чувствовал себя при любой власти; все пришельцы зависели здесь от тунгусов с оленями, а он пользовался у них авторитетом и как священник, и как учитель их детей. Никифоров-Кюлюмнюр пишет, что при белых Аммосов «служил по принуждению» и «не стеснялся ругать пепеляевцев даже во время церковной службы». Сторонником советской власти он не был, просто ненавидел всех, кто приходил сюда с оружием в руках и грабил его беззащитную паству.
Людей разместили в пустующих домах. По приказу Пепеляева в каждом доме составили опись имущества, чтобы сдать его хозяевам в том виде, в каком он был оставлен красными, но жители не спешили покидать таежные убежища. Скот они увели с собой, или его угнал у них Коробейников, остался только десяток страшно отощавших лошадей. На брандвахте для них места не нашлось, а убить, чтобы не достались врагу, у красноармейцев, мобилизованных крестьян, рука не поднялась. Эти клячи вместе с теми, что пришли из Аяна, стали основой дружинного рациона. По дороге суточную выдачу муки сократили до полфунта на человека, теперь ее выдавали раз в несколько дней, чтобы сделать порцию сколько-нибудь ощутимой, но мука быстро кончилась. Лошадей съели, начался голод.
Уходя из Аяна, Пепеляев, по рассказу полковника Рейнгардта, построил дружину и «предложил всем, кто чувствует физическую или душевную невозможность идти дальше», возвратиться на «Батарее» во Владивосток. Таких нашлось двое. Сейчас было бы больше, но пути назад нет, осень сделала непроходимыми даже оленьи тропы.
В эти дни Пепеляев начал писать письма жене, предупредив ее: «Пишу в разное время, но получишь, наверное, все вместе». Отослать их никакой возможности не было.
«Как тяжело, родная! – жалуется он. – Только в Германскую войну не получал иногда по три-четыре месяца твоих писем, даже сейчас не могу забыть то свое чувство. Может быть, Вишневский привезет письмо? Утешаю себя тем, что дело наше правое, верю, что Господь сделал так, чтобы мы пришли сюда, что он проведет и не бросит нас. Только мечта о будущем и помогает переносить настоящее. Вот ты всегда говорила мне: живи настоящим. В данное время для нас это совет неутешительный. До зимнего пути прибытие подвод из Аяна очень трудно, перевозки на вьюках по горным тропам и болотам, через непроходимую тайгу. Мы уже испытываем голод, муки не бывает по два-три дня, нет солода, дрожжей и даже соли. Многие ослабли, особенно офицеры из интеллигенции. Солдаты выносят более спокойно. Едят чаек, ворон, уток. Я, конечно, в лучших условиях, каждый день кто-нибудь из солдат принесет то рябчика, то утку».
Ели собак, кошек, делали студень из конской кожи. Вишневский вспоминал «кожаную обивку дверей», из которой варили суп. О таких вещах Пепеляев жене не сообщал и, спохватившись, что и так уже ее расстроил, все прочее описывал в идиллическом ключе: «Нелькан стоит в чудном месте, на холме, возвышающемся над рекой Маей. С одной стороны прекрасный сосновый лес, с другой – быстрая светлая река. Дома хорошие, из толстых бревен. Есть церковь, тоже такая массивная. Все по-старинному крепко, во всем чувствуется зажиточность. Штаб поместился в большом доме, а для меня нашлась даже отдельная комната. Есть письменный стол, кровать с сеткой, образа в углу и большая столовая лампа».
И еще: «Кругом скалы, река Мая блестит под уже не греющим солнцем. Все дышит простором, свободой, и так тихо кругом! Зайдешь в лес, слышно, как листья падают с деревьев».
Поэтические картины природы – для жены, а Куликовскому он писал другое: «Люди изголодались, легко одеты и разуты. Из обуви – сто пар ичиг, приходится обматывать ноги шкурами».
Заготавливать дрова в лесу становилось все тяжелее. Чтобы упростить процесс, какие-то умники раскатали по бревнам пустующую деревенскую кузницу. Рассказав об этом в дневнике, Соболев, склонный к резонерским обобщениям по любому поводу, заметил: «Наш поход войдет в историю как историческое хулиганство».
Были, видимо, и другие инциденты. Они побудили Пепеляева сочинить что-то вроде присяги, под которой каждый солдат и офицер должен был поставить подпись: «Я поступил в дружину добровольно, по своему желанию, никто меня не заставлял. Буду помогать населению – русским, якутам, тунгусам – выгнать большевиков и устроить для народа мирную свободную жизнь и порядок, какой захочет сам народ. Я должен быть честен, храбр, никого не обвинять, не грабить, не насильничать, не убивать того, кто добровольно сдает оружие. Исполняя службу, должен быть готов перенести всякие лишения, болезни, раны и самую смерть стойко и безропотно».
Скопировав этот текст в письме к жене, Пепеляев сопроводил его комментарием: «Видишь, Ниночка, как мы учим добровольцев и на каких условиях принимаем. Много, много труда и терпения нужно потратить, чтобы воспитать их, в особенности офицеров. Есть такие, что пришли, кажется, и пограбить».
И дальше, с обычной наивностью, помноженной на стремление обнадежить жену: «Теперь все уже прониклись моими идеями».
Прониклись, однако, не все, и когда нельканцы понемногу стали возвращаться в свои дома, были изнасилованы три якутки.
Пока не установился зимний путь, спасти голодающих могли только тунгусы, а договориться с ними – только влившиеся в дружину якуты из армии Коробейникова. Пепеляев отправил их на поиски бывших товарищей по оружию.
«Посланные эти, – рассказывает Никифоров-Кюлюмнюр, – блуждали вдоль и поперек Станового хребта, разыскивая тунгусов, которые скрывались по горам, встревоженные Гражданской войной. Тунгусы допускали их к себе с большими предосторожностями, иногда сначала оцепляли место стоянки, подходили с ружьями. Отношение было крайне недоверчивое. Потом лишь смягчались, увидев знакомых людей».
Мяса в одном олене приблизительно два с половиной пуда, сорок килограммов. На семьсот человек требовалось хотя бы пять-шесть оленей в сутки, а добыть удавалось единицы. Вишневский с оставшейся частью дружины и двадцатью тысячами пудов «интендантского груза» уже приплыл на «Томске» в Аян, но осень выдалась затяжная, переправить продовольствие в Нелькан они с Куликовским не могли.
Совсем недавно здесь же голодал отряд Карпеля, а минувшей зимой на телеграфной станции Алах-Юнь к западу от Охотска в еще худшем положении очутились члены охотского ревкома и группа портовых рабочих. Они направлялись в Якутск, но, обессилев от голода, сумели добраться лишь до этой станции.
Через полгода с противоположной стороны туда пришел батальон, высланный Байкаловым к Охотску. «Стекла в доме телеграфной конторы были выбиты, стены просверлены, точно буравом, пулями, труба обрушилась, – со слов кого-то из участников экспедиции рассказывает Строд о том, что они там увидели. – Во дворе валялись поломанные сани, куски кожи, обгорелые поленья, лошадиные скелеты, обрывки телеграфных лент, перепутанная проволока… Последние лучи заходящего солнца продирались сквозь чащу и заливали багровым светом оба домика на Алах-Юньской. Через зияющие дыры на месте бывших здесь окон они проникали в здание, куда уже зашли десятка полтора любопытствующих красноармейцев. Картину они увидели мрачную, полную смерти и ужаса. Пол, покрытый засохшей кровью, имел цвет ржавого листа железа. На полу старая обувь, лохмотья, когда-то бывшие одеждой, человеческие кости. А на стенах длинными, черными от осевшей на них пыли лентами висели сморщенные, высохшие человечьи кишки».
От жившего неподалеку якута узнали, что здесь живодерствовали белые из отряда капитана Яныгина. Рабочих резали ножами, избивали прикладами, ревкомовцам заживо «вспороли животы и кишки развесили по стенам»[19].
Этот эпизод изложен Стродом в его второй книге («В якутской тайге»), а в первой («В тайге») скупо сообщается, что перед тем, как в Алах-Юне появился Яныгин со своими людьми, дошедшие до крайней степени голода рабочие и ревкомовцы «по жребию убивали одного за другим и питались их мясом».
Без этой подробности, исчезнувшей под карандашом московского редактора или цензора, трагедия в Алах-Юне обернулась не более чем очередным свидетельством «звериной сущности» белых. Их жертвы, будучи хозяевами Охотска, сами пролили немало крови, едва ли Яныгин сохранил бы им жизнь, но причина их ужасных предсмертных мучений – не прошлые злодеяния, а людоедство. Убийцы, как обычно и происходит при патологически жестоком истреблении себе подобных, дали волю самым темным своим инстинктам, потому что в их глазах эти каннибалы перестали быть людьми.
Вишневский прибыл в Аян в конце сентября, но лишь в середине октября они с Куликовским сумели снарядить первый обоз в Нелькан. С обозом, как Пепеляев и надеялся, доставили привезенное Вишневским письмо от Нины.
На другой день он ей ответил: «Вчера пришла из Аяна зимняя одежда и сейчас идет раздача: выдаются рукавицы, белье теплое, меховые шапки. Шубы пока еще не пришли. Вот получим все, подкопим продовольствие, подойдет Вишневский – и идем дальше. У меня почему-то полная вера в успех. Ты не волнуйся, настанет время и, даст Бог, вернемся здоровыми, или ты к нам приедешь в свободную Сибирь. А пока ждать нужно, нужно терпение и сила воли. Я только за вас беспокоюсь и боюсь, как-то вы одни проживете… Молись, Ниночка, ходи, родная, чаще, чаще в церковь, в особенности ко Всенощной, хорошо там вечером в уголку где-нибудь постоять. Вот увидишь, сколько утешения доставит это… Самое большее до следующей осени будем жить порознь. Все меры приму, чтобы увидеться, и если не выйдет, все равно приеду домой. Но я чувствую, верю, что к будущей осени не будет коммунистической власти в Сибири. Снова увидимся, будем вместе переносить невзгоды, больше ценить будем друг друга. Постараюсь никогда больше не расставаться с вами».
Как всегда бывает, в первые недели и месяцы разлуки Пепеляев очень скучал по жене. Потом тоска по ней станет менее острой, он сам отметит это в дневнике, но сейчас забыто все, что их разделяло: «Вот последняя попытка моя, удача или неудача, все равно через год, если сохранит Господь, а в это я твердо верю, жди меня. Ведь люблю вас, все готов отдать для жизни вашей. Разве ты не веришь в это “твой, всегда твой”? С тех пор, как сказал тебе слово “твой”, и был им всегда неизменно».
И, отвечая, видимо, на ее жалобы: «Нина, родная, всем трудно сейчас, потерпи, займись детьми, хозяйством. Пианино купи, научись играть к моему приезду. Хорошо бы купить маленький домик, но ведь денег нет».
Отсюда мысль движется к неизменной теме его тревог: «Есть ли на расходы? Интересно, сколько у тебя выходит в месяц? Меньше ли, чем при мне?»
Дальше все расплывается в нахлынувших чувствах: «Как-то проведете Рождество? Будет елка, и Лаврик будет уже большой, будет смотреть на игрушки, ручонками хлопать, а Вовочка (Всеволод. – Л. Ю.) выучит хорошее какое-нибудь стихотворение. Еще будут его именины, купи ему от меня подарок, коньки или еще что-нибудь, поздравь от меня, поцелуй… Думаю о вас, но всего не напишешь, да и найдутся разве такие слова, которые могут выразить мою любовь, нежность? Чувство не изъяснимо словами».
Чувства к жене усиливались от вынужденного бездействия. В октябре, не имея возможности начать военную кампанию, Пепеляев начал пропагандистскую.
«Посылаю воззвания к населению, – бодро докладывал он Нине Ивановне в другом письме, которое, как и первое, попало не к ней, а в ГПУ, – их охотно развозят якуты и тунгусы».
Кажется, работа кипит и скоро принесет плоды, но о том, какими способами велась эта агитация, рассказывает Строд: «Мы обнаружили шагах в десяти от дороги торчащий из снега длинный шест. К концу шеста был привязан какой-то сверток. Один красноармеец достал его и передал мне. В довольно объемистом пакете оказались воззвания пепеляевцев».
Дело происходило вечером, в мороз, при ясном небе. В лунном или звездном свете Строд должен был увидеть сначала не сам шест, а его тень на снегу. Такой же призрачной тенью среди снежных пустынь кажутся эти пепеляевские листовки с рассуждениями о необходимости созвать Учредительное собрание, о возрождении земств, кооперации, свободе слова.
В распоряжении политотдела дружины, то есть у Соболева с Грачевым, имелась закупленная во Владивостоке походная типография, но ее оставили в Аяне из-за нехватки лошадей. У Пепеляева не было ни пишущей машинки, ни копировальной бумаги, воззвания размножались от руки. Рассеянные по необозримым пространствам Якутии одинокие шесты с привязанными к ним пакетами производили примерно такой же эффект, как брошенная в океан бутылка с письмом. При здешних вьюгах, когда за ночь может занести снегом вертикально поставленные нарты, предугадать судьбу этих пакетов не составляло труда.
Пепеляев вместе с начальником штаба дружины, полковником Леоновым, составили расчет всего необходимого для наступления на Якутск. Результат этой работы был отправлен в Аян с каким-то тунгусом. Получив его, Куликовский схватился за голову. Предлагалось прислать двухмесячный запас продовольствия на тысячу двести бойцов, проводников и «вожаков нарт» (мука, крупа, сухие овощи, сахар, чай), железные печки, палатки, топоры, спички, свечи, табак, мыло, принадлежности для чистки и смазки винтовок, пулеметы, винчестеры, тысячу штук гранат и прочее, а также охотничьи ружья, дробь и порох «для обмена у населения на мясо».
Вес всего перечисленного – две с половиной тысячи пудов. Для перевозки, как подсчитал Леонов, понадобится двести десять нарт и четыреста двадцать упряжных оленей, кроме того двести семьдесят пять оленей под вьюки и сто семьдесят на мясо. Добыть оленье стадо в восемьсот шестьдесят пять голов было неимоверно сложно, а сделать это в течение месяца – невозможно. Вообще Пепеляев плохо представлял, в каких условиях ему предстоит действовать. В районах, прилегающих к Охотскому морю, зимний путь устанавливается в конце ноября – начале декабря, а он уже 10 ноября планировал выступить на Якутск. Из этого, разумеется, ничего не вышло.
Дружина продолжала голодать. Нельканские сидельцы винили в этом Куликовского (Соболев называл его «самолюбивым бездельным старикашкой»), а тот не уставал напоминать, что возражал против поспешного и плохо подготовленного броска на Нелькан. Не выдержав, Пепеляев решил сам взяться за организацию снабжения. «Я поехал в порт Аян, – говорил он, – так как из-за голода люди едва могли рубить дрова и убирать помещения».
Без него в Нелькан прибыл Галибаров, назначенный заведовать «транспортом». При Коробейникове он тоже ведал оленями и нартами и, как говорили, «разбогател на народном бедствии – привез в Аян 30 тысяч белок». На аянском совещании Галибаров поклялся «все отдать на борьбу с большевиками», а теперь Куликовский напоминал ему: «Вы не отдали на дело борьбы даже 12 кип спасенной вами мануфактуры, и не только не отдали, но переполучили из склада».
В Нелькане Галибаров занялся изъятием белки у задолжавших ему жителей округи, а вечерами поил коньяком полковников Сивко, Леонова, Рейнгардта, подговаривая их повлиять на Пепеляева, чтобы тот наряду с военной властью взял бы и гражданскую. Куликовский, заступавшийся за аборигенов и знавший толк в финансовых делах, его не устраивал. Галибаров и другие коммерсанты нуждались в твердой руке, чтобы под ее защитой за бесценок скупать пушнину у тунгусов и якутов, держа их в долговом рабстве, но при этом быть уверенным, что эта рука не полезет им в карман. Они еще не поняли, как мало годится Пепеляев на роль диктатора.
Галибаров скрытно привез в Нелькан запас продуктов и спрятал их в одном из пустовавших складских помещений на Мае. Свой тайник он посещал ночью, и все же кто-то его выследил. Комиссия, созданная для расследования этого дела, нашла в указанном месте ящик коньяка, табак, сигары, масло и прочие деликатесы. Галибаров предназначал их для подарков тем офицерам, кто мог быть ему полезен. Штабные чины традиционно не разделяли общих тягот, но если раньше это терпели как неизбежное зло, то теперь, по рассказу Соболева, «началась агитация, натравливающая солдат на офицеров, особенно против штаба, на почве неравномерного пользования продуктами». Страсти накалились настолько, что Рейнгардт предложил ввести военно-полевой суд «для борьбы с агитацией». Сивко его поддержал, но рекомендовал учредить такой суд до возвращения Пепеляева из Аяна, так как «Пепеляев по доброте своей этого не разрешит».
Отчаяние
Когда Вишневский приплыл в Аян, якуты пожаловались ему на бесчинства охотского гарнизона, состоявшего из людей есаула Бочкарева (сам Бочкарев к тому времени сбежал во Владивосток). Вишневский послал в Охотск полсотни добровольцев во главе с Михайловским, назначив его комендантом города. Тот разоружил бочкаревцев, на «Томске» отправил их в Приморье и взял город под свой контроль. Это было тем важнее, что здесь находились «миллионные склады» пушнины и товаров, на которые ее выменивали. Их владелец, богатейший якутский купец Никифоров, жил в Японии, а остатки своих сокровищ предоставил в распоряжение ВЯОНУ: пушнину – на закупку оружия за границей, товары – на вербовку людей в повстанческие отряды. Предполагалось, что после изгнания бочкаревцев якутские деятели в Охотске без помех займутся тем и другим, а Михайловский будет за ними приглядывать.
Вишневский доложил об этом Пепеляеву, едва тот появился в Аяне. Тогда же, видимо, он конфиденциально предложил ему с помощью Михайловского изъять с никифоровских складов пушнину на сумму двести пятьдесят-триста тысяч рублей золотом, привезти ее в Аян и под караулом положить на хранение в качестве «фонда Сибирской дружины» – с тем, чтобы если Якутская экспедиция закончится неудачей, выплатить «вознаграждение» всем ее участникам.
Сам Вишневский утверждал, что это предложение было сделано им позже, в Нелькане, на совещании командного состава дружины, но сомнительно, чтобы он мог так поступить, не переговорив перед тем с Пепеляевым. Они были старые друзья и, конечно, все обсудили в Аяне, откуда до Охотска было гораздо ближе, чем из Нелькана. Через месяц Вишневский потому и поднял этот вопрос на совещании, что с помощью Леонова и Рейнгардта надеялся переубедить Пепеляева. Тот, однако, вновь отверг его идею.
«Он верил, – напишет потом харбинский литератор Василий Логинов в предисловии к книге Вишневского «Аргонавты Белой мечты», – что только бескорыстная, лишенная всяких материальных соображений борьба увенчается успехом, и в это верили все эти русские люди, не желающие ничего и жертвующие всем».
Пепеляев лучше знал своих добровольцев и говорил, что среди них «есть всякие элементы, нельзя идеализировать, публика разная». Были и такие, кто пошел с ним в расчете поправить финансовые дела. Хлебнув эмигрантской нищеты, он не считал себя вправе их осуждать, но понимал, что если на складах в Аяне будет храниться «пушной фонд», созданный, как выразился Вишневский, на случай «могущего быть поражения», скрыть это не удастся, а чтобы люди готовы были идти на страдания и смерть, поражение должно стать для них катастрофой, а не промежуточной стадией между походом и возвращением домой с честно заработанными деньгами.
Для Логинова решение Пепеляева – «идеалистическая вспышка» на «мрачном темном фоне гражданской войны», но поступить иначе он не мог. «Не ради шкурной наживы, выгоды, личных интересов пришли мы на новые лишения в этот далекий край», – провозглашалось в одном из его воззваний. Попытка учредить страховочный фонд противоречила этим принципам и грозила ссорой с членами ВЯОНУ По доброй воле они бы такое количество пушнины не отдали, а при ее насильственном изъятии Якутская экспедиция была обречена. Без поддержки национальной интеллигенции, единственного связующего звена между собой и простыми якутами, Пепеляев не мог обойтись точно так же, как Байкалов, поэтому, вернувшись из Нелькана в Аян, он первым делом создал «Совет народной обороны» из местных коммерсантов и «общественных деятелей». Его задачей было формирование туземных отрядов и снабжение дружины провиантом и транспортом.
Главной проблемой оставались олени. О том, как они добывались, говорит наказ Куликовского поручику Виноградову, командированному «в районы Маймакан, Ватанга и Кенюй» с сорока кулями муки, «разным товаром и спиртом, всего на 600 рублей». За одного оленя Виноградов должен был давать тунгусам или якутам куль муки, а разницу в цене доплачивать товарами. Предписывалось угощать продавцов спиртом «в весьма нужных случаях» и только «в виде порции». Оленей отсылать в Аян живыми, в крайнем случае – мясом.
Олени – ключевое слово всей дружинной документации. Оно присутствует едва ли не в каждом приказе, письме, служебной записке. Приезд Пепеляева в Аян ничего не изменил, двумя неделями позже Куликовский писал в Нелькан Галибарову: «Положение ухудшается, до сих пор нет оленей для перевозки». Тот вызвался быть «начальником транспорта», но изрядную долю товаров, которые выдавались ему, чтобы обменять на оленей с нартами для дружины, выменивал на меха для себя лично.
У Куликовского опускаются руки. Коммерческий опыт позволял ему замечать то, что от Пепеляева ускользало: он видел, как члены «Совета народной обороны» лихорадочно скупают пушнину и сбывают ее агентам японских или американских фирм, и знал их лозунг дня, выкинутый тем же Галибаровым: «Дурак, кто не воспользуется моментом». Появление Сибирской дружины уже принесло прибыль множеству людей и сулило тем больше, чем дольше она сумеет продержаться в Якутии. Сознавая свое бессилие, Куликовский начал отходить от дел, а морфий помогал ему с смириться с поражением. «В Аяне он страдал мигренями и почти не выходил из дому», – рассказывал Пепеляев, не зная о его морфинизме или не желая об этом говорить.
Перебросить в Нелькан привезенные Вишневским продовольствие и снаряжение не удавалось, поход откладывался, и 27 ноября 1922 года в блокноте Пепеляева, где большая часть страниц оставалась чистой, появилась первая запись будущего дневника: «Сомнения мучают меня. Как один останешься, самые мрачные мысли начинают осаждать. Прав ли я, что веду людей вновь на страдания, а многих и на смерть? Опять кровь. Во имя чего? Неужели для того лишь, чтобы одну кучку ничтожных людей, именующих себя властью где-нибудь в Якутске или в Сибири, заменить другой? А страдания борцов слишком суровы»[20].
И здесь же: «Итак, опять война. Как надоело все это! Чего я хочу? Чего ищу? Для себя, видит Бог, ничего не ищу, ни слава, ни богатство мне не нужны. Единственная мечта – мирная семейная жизнь с женой и детьми, хозяйство небольшое в деревне, работа, чтение».
На следующий день – вторая запись, краткая: «Страшно мучаюсь из-за семьи, до слез. Гнетет неизвестность. Прав ли я, что оставил семью?»
И через день – третья, еще короче: «Господи, не допускай меня до отчаяния!»
Отчаяние было неизбежно, если бы действовала радиостанция. Ее привезли с собой, но то ли она быстро испортилась, то ли по прибытии ее не смогли наладить. Начиная вести дневник, Пепеляев не знал, что месяц назад Земская рать Дитерихса эвакуировалась в Корею, Владивосток занят партизанами и Народно-Революционной армией ДВР.
Приблизительно тогда же в Аянскую бухту зашла американская шхуна, чтобы отсюда с грузом пушнины идти во Владивосток, а затем обратно, за новой партией куниц, песцов и белок. Пользуясь оказией, Куликовский с кем-то из экипажа отправил некоему владивостокскому знакомому письмо с просьбой найти и прислать с американцами какие-то, как он выразился, «штучки для радио». К письму прилагалась техническая документация, но ни американцев, ни «штучек» не дождались, в начале декабря радиостанция по-прежнему не работала даже на прием.
Байкалов решал транспортный вопрос путем конских и оленьих мобилизаций, но для Пепеляева это было совершенно неприемлемо. Лишь безвыходное положение вынудило пойти на не вполне, по его понятиям, демократическую меру: он объявил Аяно-Нельканский район прифронтовым и, впервые отступив от неукоснительно соблюдавшегося до сих пор принципа добровольности, обязал тунгусов отдавать оленей за муку, охотничьи ружья, порох и патроны. Они могли выбирать только из этого ассортимента и не имели права требовать те товары, которых не было в наличии. Впрочем, и тут оговаривалось, что бедные семьи, владеющие менее чем двадцатью оленями, под действие указа не подпадают.
Тунгусы сообразили, что если скрыться в тайге, есть риск не получить вообще ничего. Пепеляев давал им шанс выменять муку и припасы для охоты по более выгодным расценкам, чем предлагали и советские торговые агенты, и купцы вроде Галибарова. Кроме того, они имели возможность за плату, не продавая своих оленей, стать при них погонщиками. Прежде была опасность, что олени погибнут из-за плохой дороги, но зимний путь установился прочно.
2 декабря Пепеляев выехал обратно в Нелькан. Казалось бы, все стало налаживаться, но именно теперь его начали преследовать мысли о самоубийстве.
«Еду из Аяна в Нелькан, – записывает он в дневнике. – Тайга, холод. Огромные пространства… Сегодня особенно было тяжело. Мигрень. Мучительные мысли все о том же, без конца. Никогда, никогда не оставляют они меня. Даже ночью. Почти лишился сна. Просыпаюсь в три часа ночи и уже не могу заснуть. Иногда совсем не хочется жить. Может быть, это малодушие молодости? Вчера было особенно сильное желание покончить с собой. Так ясно представлял, чувствовал даже переход к иной жизни».
Наверное, такое бывало с ним и раньше. Для людей его склада подобные состояния с их чувственным переживанием порога небытия – источник побуждающих к действию эмоций. Оправдывая себя и в то же время растравляя себе душу, Пепеляев мог думать и о том, что пока дружина не выступила из Нелькана, его смерть повлечет не гибель ее, а, напротив, спасение: без него поход на Якутск не состоится, весной люди вернутся во Владивосток. Это очищало его ночные томления от чувства вины если не перед семьей, то хотя бы перед товарищами, а сознание греховности ночных соблазнов поутру давало приятное ощущение победы над самим собой.
Глубокая религиозность Пепеляева вне сомнений, однако мысль о том, что в изменившемся мире есть обстоятельства, когда самоубийство не только допустимо для христианина, но может считаться долгом и даже доблестью, являлась ему еще в его позапрошлой жизни, если прошлой считать жизнь в Харбине.
15 июня 1919 года, на станции Верещагино в Пермской губернии, Пепеляев издал не совсем обычный приказ по войскам Северной группы Сибирской армии.
Во вводной части излагалась история Михаила Соларева, солдата из мобилизованных приуральских крестьян: «В ночь с 27 на 28 мая Соларев находился со своим взводом в д. Матышенская. Красные, обойдя деревню с правого фланга, начали ее окружать, и взвод должен был отступить. Соларев при отступлении отстал от взвода, так как ослаб, изнуренный предыдущими беспрерывными боями, и, думая, что ему не удастся уйти от красных и не желая отдаваться им в плен живым, решил лишить себя жизни, распоров себе живот и нанеся себе перочинным ножом три раны в область живота. По словам Соларева, первые удары были неудачны, лишь с третьего удара ему удалось глубоко засадить нож и разрезать себе живот. При осмотре Соларева обнаружены три колотые раны в область живота. Одна, кожная, величиной в полтора см, другая величиной 2 см, проникающая в полость живота, и третья, резаная, величной 25 см, проникающая в полость живота, через которую вышли наружу внутренности. Вышеизложенный осмотр подтвердил правдивость рассказа Соларева. После нанесения ран Соларев заполз в кусты, где был обнаружен отступавшими с поселка Зотовского стрелками учебной команды того же полка… Дивврачом Солареву произведена операция и наложены швы. Через три дня был эвакуирован. Имелись признаки начинающегося перитонита».
Непонятно, почему солдат с винтовкой не застрелился из нее, а начал резать себя перочинным ножом якобы с целью не попасть в плен к красным, но все видится иначе, если вспомнить, что Соларев «ослаб» и был «изнурен беспрерывными боями». Его попытка покончить с собой таким странным образом – это акт отчаяния, поступок невменяемого от многодневной усталости человека.
«Разве можно оставаться у них, извергов?» – говорил Соларев в лазарете, имея в виду красных. Видимо, нашлись люди, после операции доходчиво объяснившие ему смысл того, что он сделал, и что никакими рациональными мотивами объяснить нельзя.
Пепеляев, однако, объявил Соларева героем, а его маниакальную попытку зарезаться перочинным ножом – подвигом во имя России. Разумеется, тем самым он хотел поднять дух отступающих солдат, и все-таки трудно отделаться от мысли, что здесь выплеснулись и его личные настроения.
Основная часть приказа гласила:
«Отмечаю выдающуюся любовь к Родине и высокое исполнение воинского долга – награждаю стрелка Соларева Георгиевским крестом 4-й степени.
Приказываю: врачам принять все меры к сохранению жизни героя.
Выдать Солареву или его семье 5 тысяч рублей пособия.
Приказ прочесть во всех ротах, сотнях, эскадронах, батареях и командах»[21].
Приказ Пепеляева – тоже своего рода акт отчаяния. Сибирская армия откатывалась на восток, и на фоне хаоса тех недель очевидная несуразность этого распоряжения не так бросалась в глаза.
Даже самые близкие Пепеляеву люди вроде Шнаппермана или Малышева не догадывались, что их любимый командир, спокойный гигант с «грубым низким» голосом – натура куда более неврастеничная, чем это можно было представить исходя из его биографии, внешности и манеры поведения. Они испугались бы за себя, за свое будущее, если бы прочли у него в дневнике не то что признание в тяге к самоубийству, но даже рядовое самонаблюдение типа следующего: «Большое безразличие и какая-то тоска небывалая, которая иногда доходит до невыносимости. Хочется уйти куда-то от всех, забыть все».
Это дневник интроверта, тонко чувствующего, но не озабоченного чувствами других. Пепеляев почти ничего не говорит о соратниках по Якутскому походу, словно он живет, страдает и действует в пустоте, правда, нет здесь и кокетства перед возможной публикой. Это записи для себя, неразборчивые, сделанные плохо очиненным, затупившимся или царапающим бумагу карандашом, с множеством сокращений и тире, заменяющих паузы или отмечающих резкие, как в помутненном сознании, переходы от одной темы к другой. Кажется, все произнесено на пределе дыхания, торопливым сбивчивым шепотом.
Дневник Пепеляева – интимное свидетельство его одиночества и душевной надломленности. В нем мало сведений о боях и походах, зато с избытком мигрени, ночных кошмаров, предчувствий, сожалений. Слова «страдание», «сомнение», «тоска», «смерть» повторяются здесь чересчур часто для человека, взявшего на себя ответственность за судьбу сотен доверившихся ему людей.
В Якутске. Миссия Строда
От Аяна до Якутска почти тысяча двести верст, телеграфная и телефонная связь не работала, но о том, что Пепеляев высадился в Аяне, Байкалов узнал из перехваченного «радиоразговора» – вероятно, между «Защитником» или «Батареей» и Владивостоком. Через четыре дня после высадки, 12 сентября 1922 года, он посвятил этому событию доклад на совместном экстренном заседании ревкома и совнаркома ЯАССР, а на другой день газета «Автономная Якутия» (бывший «Ленский коммунар») напечатала написанную им передовую статью под тревожным, как набат, заголовком: «Ганнибал у ворот Якутии».
Уподобляя новоиспеченную автономию Римской республике, а коренного сибиряка Пепеляева – карфагенскому завоевателю в Италии, Байкалов, во-первых, подчеркивал пришлость генерала, его чуждость этой земле, а во-вторых, указывал на опасность момента, сравнимого с ситуацией после поражения римлян при Каннах, когда ожидался поход Ганнибала на беззащитный Рим. Хотя красные победили в недавней войне с повстанцами, войск для обороны Якутска у Байкалова почти не осталось. Вернуть уплывшие по Лене полки он не мог.
Правда, сохранялась надежда, что в глубь материка белые не пойдут, и их конечная цель – не Якутия. «Наш старый знакомый, генерал Пепеляев, назначен Главнокомандующим Камчатского полуострова», – писал Байкалов, опираясь на данные радиоперехвата, которые, похоже, были умелой дезинформацией. Сообщив, что японцы эвакуируют войска из Приморья и, значит, падение Владивостока неминуемо, он с обычным для него тяжеловесным сарказмом заключал: «Очевидно, вновь избранной обетованной землей нашей дальневосточной контрреволюции является Камчатка. Камчатская фауна не видала столь диких зверей, дальнейший путь которых – к Северному полюсу».
В течение недели газетные передовицы муссируют эту тему: «корпус Пепеляева – первые убежавшие на север каппелевские части», Аян – пересадочная станция на линии Владивосток – Камчатка. Впрочем, вторжение в Якутию тоже не сбрасывалось со счетов. Об этом говорят стихи комиссара Михаила Кропачева (с пометой «посвящается ЯАССР»):
- Грозные тучи с востока
- Нависли опять над тобою
- Коварною, черной, жестокой,
- Как плети удары, волною.
- ………………………………………
- Но с запада буйного, зоркого,
- К тебе пролетарий придет
- И тучи нависшие, грозные
- Железом и кровью взорвет.
Проблема заключалась в том, что пролетарий с запада, вернее – с юга, в достаточном количестве мог явиться сюда только со следующей навигацией, а до нее оставалось восемь месяцев.
К концу сентября пропагандистская шумиха стихает. Никаких известий о Пепеляеве не поступало, и в ревкоме тешили себя иллюзией, что он уплыл на Камчатку. Байкалов не знал о походе на Нелькан, хотя в другое время весть об этом давно достигла бы Якутска. В Якутии, как во всех архаических обществах, новости распространялись с поражающей европейцев быстротой. В каждом наслеге, помимо старосты и писаря, имелся штатный скороход, ответ на сообщение, отправленное с пешим гонцом за двести пятьдесят верст, получали на пятые сутки, и его доставлял тот же человек, с кем оно было послано. Это не значило, что он сам прошел все пятьсот верст, просто его личный отрезок пути был первым по дороге туда и последним – обратно.
Однако таежная эстафета не действовала, если в ней не были заинтересованы сами якуты, а они предпочитали молчать. Как заметил Никифоров-Кюлюмнюр, «население мало рассуждало, кто кого побьет, красные или белые, но что за молчание ни от кого ничего не будет, оно знало хорошо».
Между тем красноармейцы Карпеля на брандвахте спустились по Мае до устья Юдомы, где стояли уведенные из Нелькана пароходы, и на них доплыли до села Петропавловское. Там они и остались, а Карпель по Алдану добрался до Охотского перевоза. Отсюда в Якутск шла только что восстановленная телеграфная линия, но кабель через Лену все еще был разорван. Для разговора с Карпелем по прямому проводу Байкалову пришлось переправиться на правый берег.
«Поздоровался и жду, – вспоминал он четверть века спустя. – Аппарат Морзе в таких случаях – орудие пытки или заика, который душу выматывает. Ползут точки и черточки».
Из них сложился следующий разговор.
КАРПЕЛЬ: «Товарищ командующий, вернулся с вверенным мне отрядом в Петропавловск…»
БАЙКАЛОВ: «Да ты скажи главное – от кого убежал. Васька (Коробейников. – Л. Ю.) тебе и твоим орлам набил потылицу?»
КАРПЕЛЬ: «Хуже, товарищ командующий».
БАЙКАЛОВ: «Брось этого чертова “товарища командующего на каждом слове!»
КАРПЕЛЬ: «7 сентября в Аяне высадился генерал Пепеляев – до 700 штыков отборного офицерского состава. Они в походном порядке перешли Джугджур и уже подходили к Нелькану. С остатками армии Коробейникова передо мной сосредотачивалось более 1000 штыков, с пулеметами, и я считал благоразумным отступить… Пепеляев взял бы нас как наседок на яйцах».
БАЙКАЛОВ: «Откуда сведения о численности и вооружении?»
КАРПЕЛЬ: «Часов за двадцать до прибытия головных частей Пепеляева пришли два его перебежчика…»
Память плохо сохраняет устную речь. Диалоги в мемуарах обычно сочиняются задним числом, но это не значит, что все в них – ложь. Суть разговора Байкалов передает верно, изменились слова, интонация, оттенки.
КАРПЕЛЬ: «В Нелькане была старая брандвахта. Мы выкачали из нее всю воду, собрали в деревне все смазочные и жировые материалы, брандвахту залепили и законопатили… Постоянно высаживаясь в холодную шуговую воду, все же спустились».
БАЙКАЛОВ: «Обожди. Нелькан ты, конечно, спалил до последнего дома?»
Карп ЕЛЬ: «Товарищ командующий, мы после спохватились, когда уже было поздно, и вырвали немало волос…»
БАЙКАЛОВ: «За это, конечно, по головке не погладим – вырвем все остальные волосы».
Он дает понять, что не был особенно встревожен падением Нелькана, хотя для него это было как гром с почти безоблачного неба. О Камчатке, которую белые избрали «землей обетованной», приходилось забыть. Молчание официальных лиц продлилось неделю, что говорит о растерянности, если не о шоке. Лишь 12 октября в «Автономной Якутии» появилось краткое сообщение с характерной для информации о военных неудачах витиеватой формулировкой: «Нельканский гарнизон отступил для организации прочной и организованной защиты».
Еще через три дня в Якутске состоялся митинг. На нем сказитель-олонхосут, поэт и председатель ЦИК ЯАССР Платон Ойунский именовал Пепеляева «наемником японской буржуазии», «стервятником царизма», «кровожадным волком колчаковщины», который «рыскал от Урала до Байкала», а Байкалова – «обожаемым вождем», под чьим руководством трудовой народ «ударит по черепу Пепеляева».
Минувшей зимой трупы расстрелянных советских работников и сочувствующих красным русских поселенцев повстанцы свозили на один из островов на Алдане и бросали непогребенными. Жители соседнего села Петропавловское рассказывали, что якуты издевались над трупами, но глумление, как его описывали очевидцы, выглядит странно: «На ноги им надевали рукавицы, на руки – торбаса (меховые сапоги. – Л. Ю.), на голову – штаны, а на место штанов – пальто».
Это необычное надругательство над мертвым врагом – не столько попытка сделать его смешным и, следовательно, не страшным, сколько идеологическое высказывание. С помощью одежды, находящейся на теле не там, где ей положено быть, наглядно демонстрировалось, что коммунисты с их противоестественными законами – не люди, а выходцы из демонического, изнаночного мира. Там, как всегда в потусторонних сферах, порядок жизни противоположен действующему в мире людей: солнце восходит на западе и заходит на востоке, верх оборачивается низом, правое – левым, добро – злом. Чтобы явить подлинную природу этих существ, обувь и рукавицы на них менялись местами, а пальто, надетое вместо штанов, по идее должно было быть еще и вывернуто наизнанку.
Звериные имена («волк», «стервятник»), которые Ойунский давал Пепеляеву с трибуны митинга в Якутске, преследовали сходную цель – по сути своей они сродни заклятью, призванному вернуть генерала в его истинное обличье.
Известие о падении Нелькана застало Строда в Вилюйске, и едва ли он был этим сильно огорчен: появление Пепеляева открывало перед ним перспективы более заманчивые, чем неизбежная демобилизация. Гражданская война заканчивалась, остаться в Красной Армии на командной должности у него как у анархиста надежды не было, зато теперь он опять мог жить с чувством, о котором Каландаришвили, год назад отправляясь в Якутию, говорил соратникам, Строду в том числе: «Возможно, в боях тело будет изранено, и эти раны напомнят о себе в облачную погоду или при смене времени года, но те же раны напомнят нам и о красивейших, светлейших наших днях. Они возвысят и отличат нас от тех, кто увяз в трясине жизни».
В середине октября Строд с последним пароходом вернулся из Вилюйска в Якутск, мало изменившийся за время его отсутствия. Богатые домовладельцы с центральных улиц разъехались или были расстреляны, их дома заняли чужие люди. О ремонте постояльцы не помышляли, крыши «поломались или проломились, трубы развалились». Во многих зданиях одну половину занимало какое-нибудь учреждение, а вторую превращали в мусорную яму и нужник. Часто дома стояли голые, без оград и дворовых построек. Сараи, заборы, дощатые тротуары сгорели во время «дровяного кризиса» при осаде города Коробейниковым. Тогда же ревком не от хорошей жизни позволил разобрать на дрова «памятник трехсотлетней эксплуатации народа» – три башни и остатки крепостных стен Якутского острога XVII века.
Советских дензнаков было мало, в городах роль денег играли чай, табак и золото с Ленских приисков. Обменный курс изумлял приезжих: за фунт табака давали шесть золотников золотого песка, за кирпич чая – десять. Стоимость всех продуктов, кроме наиболее доступного – мяса, выражалась в золотом, чайном или табачном эквиваленте. Особенно дороги были сладости. Среди обвинений, предъявляемых сотрудникам ГПУ народной молвой, было и такое: «Употребляют сахар».
Процветала проституция, автор фельетона в «Автономной Якутии» ставил на вид властям, что вечером, на улице, проститутки атаковали его «с решительностью дезертиров на пароходе “Полярный”». Имелись в виду красноармейцы, прибывшие из Иркутска для борьбы с повстанцами, но бежавшие вверх по Лене на этом пароходе.
В Народном театре ставилась пьеса Леонида Андреева «Савва». Когда-то запрещенная цензурой, она входила в рекомендованный Москвой репертуар, благо главный персонаж, психопатический бунтарь, мечтал взорвать чудотворную икону в монастыре и «уничтожить все старые дома, старые города, старую литературу, старое искусство». В середине последнего акта на галерке что-то громко треснуло, но зрители в партере не обратили на это внимания. Пьесу доиграли, тогда только пронесся слух, что наверху кто-то застрелился. Смерть стала делом настолько обыденным, что соседи самоубийцы не подняли шума, чтобы без помех досмотреть спектакль, и спокойно сидели рядом с мертвецом. Когда публика покидала зал, автор газетной заметки подслушал чью-то реплику: «Раньше бы старушки плакали, полиции уйма. Теперь – ничего. Унесли, и кончено».
Сообщение о начале похода Пепеляева большинство горожан встретило с тем же равнодушием, с каким соседи этого самоубийцы – его смерть. Северный фатализм наложился на развившуюся за годы Гражданской войны апатию, да и генерал находился где-то далеко на востоке. Если читать «Автономную Якутию», кажется, что в Якутске пятая колонна пепеляевцев состояла, главным образом, из барышень, мечтающих заполучить в кавалеры какого-нибудь капитана или поручика. Герой фельетона сообщает эмигрировавшей в Китай землячке: «Многие из ваших приятельниц начинают бальные платья готовить, чтобы было в чем мазурку танцевать, ведь господа офицеры к дамскому туалету весьма требовательны».
После падения Владивостока заместитель командующего 5-й армией Чайковский из Иркутска радировал Байкалову, что похода Сибирской дружины вглубь Якутии ожидать не стоит, так как белые лишились своей базы. А когда стало известно, что в Нелькане они голодают, ревком ЯАССР решил обратиться к Пепеляеву с предложением капитулировать, гарантируя «неприкосновенность личности и имущества» всем сложившим оружие. В переводе с уклончивого казенного языка это означало, что их судьбу решат вышестоящие инстанции, а на месте никого не расстреляют.
Парламентерами назначили якутов Дьячковского и Федорова[22]. Им как представителям коренного населения предстояло вручить послание ревкома Пепеляеву и устно сообщить об «отрицательном отношении» якутского народа к его «авантюре». Сопровождать «мирную делегацию», а заодно присматривать за не очень-то надежными парламентерами (Дьячковский был амнистированным повстанцем) доверили только что вернувшемуся с севера Строду. История с «убийством красноармейца Гомартели» закончилась для него оправданием и не сказалась на его репутации.
«Командовать экспедицией поручено было мне», – пишет Строд, умалчивая, что и сам был уполномочен вести переговоры с Пепеляевым[23]. В 1930 году, когда вышла его книга, это могло вызвать неприятный вопрос, почему выбор пал именно на него. Строда не раз обвиняли в чересчур дружеских отношениях с «контрреволюционерами», и ему не хотелось давать повод для новых подозрений.
Чтобы пройти девятьсот верст до Нелькана, требовалось около месяца. За это время, по расчетам Байкалова, положение Сибирской дружины станет невыносимым, значит, у Особой Нельканской экспедиции, как официально именовалась миссия Строда, будут шансы договориться с Пепеляевым о капитуляции.
Строду разрешили взять с собой сорок человек из оставшихся при нем бойцов и включили в состав экспедиции привезенных Карпелем в Якутск перебежчиков Наху и Вычужанина. Они олицетворяли собой то, о чем говорилось в ревкомовском послании – милость к сдавшемуся врагу. Якобы по собственной инициативе эти двое сочинили обращение к добровольцам Сибирской дружины, но малоправдоподобно, чтобы без чьей-то авторитетной подсказки они додумались именовать недавних товарищей «наемной кучкой приверженцев навеки отжившего строя», уверять, что якуты и русские при советской власти «живут легко и свободно», и «советская власть не мстит никому».
Подготовка экспедиции заняла полтора месяца – сушили сухари, шили палатки, мастерили печки из листов кровельного железа. «Нужно было предусмотреть много мелочей», – замечает Строд, памятуя прошлогоднюю зимнюю войну с повстанцами. Ни палаток, ни печек с трубами у красноармейцев тогда не было, в морозы ночевали у костров, во сне получали ожоги или, что еще хуже, сжигали одежду и валенки. Бывали случае, когда после этого целые отряды насмерть замерзали в тайге.
Из Якутска выступили в середине декабря, быстро добрались до Амги-слободы в ста восьмидесяти верстах к юго-востоку и застряли здесь на неделю. Собирали оленей, искали проводников. Тем временем гарнизонные политработники настрочили еще одно письмо Пепеляеву, чтобы отправить его со Стродом. В нем на фоне блеклой официозной риторики выделяется один абзац: «Будучи в Харбине, – обращались к Пепеляеву красноармейцы, от чьего имени было написано письмо, – вы оттуда, из полосы отчуждения, увидели на далеком севере яркую звезду и решили, что это ваша звезда, звезда ваших будущих побед и славы…»
Образ кажется завершенным, но неожиданно продолжается евангельской аллюзией: «И вот к вам в Харбин явились волхвы в лице Куликовского…»
Якобы увиденная Пепеляевым звезда признается реальной, но означающей совершенно не то, что он в ней усмотрел: «Да, звезда загорелась над Якутией, звезда коммуны, и ничего хорошего она вам не предвещает».
Не исключено, что Строд приложил руку к этому письму. Похожие метафоры есть и в его книгах, и в письмах, которые он от своего имени скоро будет писать Пепеляеву. Готовясь к предстоящей встрече с ним, он мысленно мог сочинять будущую речь, звезда и Куликовский в роли волхва годились для ее начала.
23 декабря 1922 года Строд покинул Амгу. Вскоре дорога пропала, «не было даже ее признаков». Прежде отряд ехал в нартах, но теперь оставили в них только продовольствие, палатки, печки и пошли пешком вслед за оленями, которые протаптывали дорогу. Иногда забирались в такие чащобы, что приходилось прорубать путь топорами. Двигались медленно. Скорость переходов по снежной целине составляет не более десяти-двенадцати верст в день.
На стоянках оленей отпускали «отыскивать свой незатейливый корм в виде мха-ягеля», и за ночь они могли уйти от лагеря верст на десять. Утром якуты на лыжах пригоняли их обратно. На это уходило много времени, и еще через каждые три дня делали дневку, чтобы дать оленям отдых.
Один, совсем один
Вернувшись в Нелькан, Пепеляев отправил в селение Усть-Миль (у впадения реки Мили в Алдан) полковника Сурова с группой офицеров. Тот должен был войти в контакт с партизанами, не сложившими оружие после ухода Коробейникова, и руководить их действиями против красных, а прикомандированный к нему «политработник» Герасим Грачев – организовывать на местах «народную власть».
Пепеляев исходил из того, что если удастся взять Якутск, до весны командование 5-й Армии не сумеет перебросить так далеко на север сколько-нибудь крупные воинские части, зимовка пройдет в комфортных условиях, а весной все может измениться. Он не терял надежды на всеобщее крестьянское восстание в Сибири. При иллюзорности этой перспективы сам план овладения Якутском с военной точки зрения был вполне реалистичен.
Наступать планировалось через Амгу, где находилось около ста пятидесяти красноармейцев. Чуть более сильные гарнизоны занимали села Чурапча и Петропавловское к северу от направления главного удара. В самом Якутске войск было немного, о чем Пепеляев не знал, полагая, что Байкалов сможет выставить против него до трех тысяч штыков. На самом деле тот располагал вдвое меньшими силами.
У Пепеляева вместе с якутами было около восьмисот бойцов, у Ракитина и Худоярова на севере – еще полторы-две сотни бывших повстанцев. Кроме того, рассчитывали на партизан, чья численность будет расти по мере продвижения на запад. У красных, правда, имелось шесть орудий, а у Сибирской дружины – ни одного, их только предстояло отбить у противника, но при громадных расстояниях и большой глубине снежного покрова использовать эти пушки было весьма непросто. Их и летом-то перевозили в основном на пароходах.
26 декабря вслед за Суровым ушел конный дивизион полковника Цевловского – сто десять человек. Они считались кавалеристами и делились на эскадроны, но передвигались пешком: лошади, как и пушки, были делом будущего. Их командир в анкетах, в графе «профессия», писал «наездник», а его люди называли себя «ангелами Цевловского»[24].
Утром 28 декабря выступил авангардный батальон полковника Рейнгардта – до двухсот русских добровольцев и полсотни якутов, а вечером того же дня в Нелькан прибыл Вишневский. Он оставил Аян через неделю после Пепеляева, и за эту неделю или появились «штучки для радио», или обошлись без них, но после трехмесячного молчания радиостанция заработала. Теперь Вишневский знал то, о чем в Якутске узнали два месяца назад.
После разговора с ним Пепеляев записал в дневнике: «Радио оставлено нами в Аяне. Первая новость – Владивосток пал, в Приморье хозяйничают красные. Одни мы остались, затерянные в бесконечных пространствах якутской тайги… Один, совсем один… Холодно. Мысль усиленно работает, ищет выхода… Что будет?»
Позже ему ставили в вину, будто он, чтобы не подрывать боевой дух добровольцев, утаил от них информацию о падении Приморья, но его предновогодний приказ гласит: всем командирам следует разъяснить подчиненным, что у них остался один путь на Родину – вперед. Раньше, значит, подумывали о том, не лучше ли будет вернуться в Аян, весной запросить у Дитерихса пароходы и уплыть во Владивосток. Отныне возвращаться некуда.
Одиночество, затерянность – это чувствовали все. Новая ситуация требовала новых отношений между людьми, и в своем изданном под Новый год приказе Пепеляев особым пунктом предписывал: с 1 января 1923 года «для закрепления сплоченности» дружины при обращении друг к другу употреблять перед чином слово «брат» – брат доброволец, брат полковник, брат генерал.
В Чехословацком корпусе и в созданных Дитерихсом в 1919 году «Дружинах Святого Креста» принято было такое же обращение, но в первом случае декларировалось кровное братство среди чужих, во втором – нечто вроде братства монашеского. Для Пепеляева за этим словом стояло то и другое, а еще – равенство перед общей судьбой, родственное тепло во враждебном ледяном мире. Нововведение быстро прижилось, хотя поначалу его одобрили не все офицеры.
План похода был утвержден на военном совете 30 декабря, но в дневнике Пепеляева об этом нет ни слова. В ночь после совещания он записывает: «Сильно болела голова, спать лег рано, в 9 ч. Проспал два часа и больше не могу заснуть. Вдруг все далеко стало – страсть, мечты, желания отошли куда-то. Одно стало понятно, я должен умереть – рано или поздно, все равно это неизбежно».
Кажется, спокойный властный вождь отчаянно смелой военной экспедиции на край света не имеет ничего общего с нервным молодым человеком, терзаемым бессонницей и неудовлетворенными желаниями, но впечатление обманчиво. «Чарующей цельности», которая восхищала подпавшего под его обаяние Устрялова, в нем не больше, чем в любом нормальном человеке, однако раздвоением личности Пепеляев тоже не страдал. Смысл его регулярно появляющихся в дневнике многословных и, в общем-то, маловразумительных ламентаций прост: жизнь сложилась не так, как хотелось в молодости. Ранняя женитьба, нелюбимая служба и невозможность выйти в отставку из-за войны и революции помешали его мечтам осуществиться, его дарования не раскрылись, настоящей любви он не испытал, счастья нет и не будет, и уже ничего нельзя изменить: он – раб долга, только смерть положит этому предел. Банальная мысль о ее неизбежности потому и потрясает его, что рождена внезапным ночным предчувствием: он умрет здесь, в Якутии.
Через неделю наступило Рождество, в нельканской церкви Благовещения прошло праздничное богослужение. Священник Аммосов, убедившись, что пепеляевцы не обижают его паству, давно сменил гнев на милость, принуждать его к исполнению пастырских обязанностей больше не приходилось. После службы Пепеляев вернулся в свою комнату при штабе – со столом и с лампой, как он хвалился Нине Ивановне, и записал: «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение – этими словами и звуками полна душа… Только что пришел из нашей церкви. Тускло, хотя и по-праздничному, освещен храм, кругом бедность, а сколько во всем чувства – как молятся! Может, к лучшему Бог дал людям эти страдания? Сколько беспредельной тоски!»
И, оттолкнувшись от предпоследней фразы, продолжил: «Часто бывает чувство желания пострадать. За что? За все! За все!.. А все-таки каждый день молюсь. Что-то впереди? Страшно смотреть – полная неопределенность, уверенности нет».
Между тем авангард Рейнгардта уже двигался к центру Якутии. В ближайшие дни за ним должна была последовать вся дружина.
Через десять лет Вишневский напишет: «Несмотря на в высшей степени неблагоприятную обстановку, как политическую, так и военную, генералом Пепеляевым все же было принято решение начать активные действия, и этим самым была сделана огромная, непоправимая ошибка, скажу даже больше – роковая».
Едва ли, однако, в начале похода Вишневский думал о нем как о роковой ошибке. Размышлений на эту тему в его дневнике нет, зато есть такие записи: «Едим вкусно и сытно. Мясо оленье, по полтора фунта на человека, пожалуй, вкуснее воловьего… Едим пельмени или котлеты… Наш Захаров из оленьего мяса стряпает отличную кашицу».
Как раз в эти дни в Якутске, на республиканском съезде Советов, дискутировался животрепещущий вопрос о том, как побыстрее сделать из хамначитов полноценных пролетариев – путем привлечения к труду в специально для этого созданных кустарных мастерских или через развитие сельского хозяйства и превращение их в сельскохозяйственных рабочих.
Обывателей мучили другие заботы. Начинался НЭП, до Якутии дошедший в последнюю очередь, часть домов вернули хозяевам, но и домовладельцев, и жильцов волновал нигде не прописанный порядок взимания квартирной платы. Многих беспокоило огромное количество документов, необходимых для получения лицензии на торговлю, а в Народном театре остро стояла проблема длинных, «по часу и более», антрактов: они «создавали почву для безудержного флирта», который продолжался в зале и мешал артистам завладеть вниманием публики. Бывало, что актеры, возмущенные поведением таких парочек, в знак протеста покидали сцену прямо во время спектакля.
В интеллигентской среде обострился интерес к краеведению, и поэт Петр Черных-Якутский, в прошлом – губернский чиновник, слагавший оды «лучезарной деве Горделине», чей образ ныне трактовался им как олицетворение «мечты угнетенных о счастливом будущем», взывал к читателям «Автономной Якутии»: «Лет 30 тому назад в Якутске жил гражданин, известный под именем “сочинителя стихов Петрова”. Он был популярен тем, что, будучи вечно навеселе, развлекал обывателей своими стихотворными шутками. Говорят, часто эти стихотворные экспромты имели едко-сатирический характер и направлялись по адресу власть имущих, якутской буржуазии и тех или иных обывателей, чем-либо досадивших Петрову. По-видимому, он был личностью, несколько выступающей из фона нашей обывательской действительности, хотя чувствуется, что его популярность была отчасти скандального толка. Настоящим письмом я обращаюсь к старожилам города Якутска, прошу записать сохранившиеся в их памяти стихи Петрова и прислать их в редакцию для передачи мне. Буду очень рад и благодарен, если кто-то приложит при этом разъяснение, по какому поводу написан тот или иной стих».
Фон – свирепствовавший в городе сыпной тиф, вдобавок зима выдалась необыкновенно суровая даже для этих мест: в первую декаду января 1923 года средняя температура составляла сорок семь целых девять десятых градуса мороза, во вторую – на два градуса ниже. Ночами ртутный столбик опускался до пятидесятивосьмиградусной отметки. В такие морозы останавливаются ручные часы, потому что в них замерзает смазка, и при полном безветрии, под ясным звездным небом человек слышит таинственный тихий шум, похожий на плеск листвы или шорох пересыпаемого зерна – шуршат кристаллики льда, в которые мгновенно превращается влага выходящего с дыханием воздуха. Такой звук якуты называют «шепотом звезд» – поэтично и в то же время с чувством близости проступающих в этой космической стуже иных, нечеловеческих сфер бытия.
Август Рейнгардт – кадровый офицер, полунемец-полулатыш из Дерпта, любитель порассуждать о том, что «без немцев и латышей в России не было бы порядка». Однажды, рассказывает Соболев, такой разговор закончился выстрелами и ранением двух диспутантов, в том числе, видимо, самого Рейнгардта, но это не отбило у него охоту к подобным высказываниям. Пепеляев охарактеризовал его как человека «сильной воли, сурового воина».
На двести пятьдесят бойцов у него имелось всего полсотни нарт, на них везли продовольствие, палатки, печки, котлы и минимальный запас патронов. Идти приходилось по целине. Впереди верхом на оленях ехали тунгусы, проминая дорогу для оленей упряжных, за ними – нарты с грузом, за нартами – пешая колонна. Дозоров не высылали, от якутов известно было, что на пятьсот верст к западу, до села Петропавловское, красных нет.
В зависимости от кормовища оленей в день проходили от десяти до сорока верст. Чтобы уставшие люди не заботились об ужине и ночлеге, утром квартирьеры на нартах выезжали с места стоянки и к прибытию батальона ставили палатки, кололи дрова, разводили костры, кипятили воду. Из-за нехватки оленей продовольствие взяли в обрез, суточная порция была маленькая: фунт муки-крупчатки, полфунта мяса, немного крупы и раз в несколько дней – две столовых ложки соли, которой во Владивостоке не запаслись, не зная, что в Якутии это огромная ценность. Изредка выдавалось немного водки.
«Настроение людей было плохое, – со слов кого-то из участников этого марша писал Никифоров-Кюлюмнюр. – Иначе и быть не могло. Каждому не лишенному некоторого здравого смысла человеку ясна была вся абсурдность похода… Высокие мрачные горы, окаймлявшие дорогу с обеих сторон, сама дорога, покрытая глубоким снегом и не имевшая признаков жизни, наводили ужас на солдат. Они чувствовали себя в каменном мешке, откуда нет выхода».
11 января тем же маршрутом ушли последние подразделения под командой Вишневского. С ними покинул Нелькан и Пепеляев, незадолго перед тем отметив в дневнике: «Жизнеперелом происходит, видимо, и характера, и миросозерцания».
Имеется в виду – перелом к лучшему. Как ни странно, падение Владивостока сделало положение Пепеляева более определенным. Исчезают мысли о возможности возвращения в Приморье, война становится единственным выходом. Охотское море сковано льдом, и если до июня все равно не удастся выбраться ни в Китай, ни в Японию, лучше уж наступать самому, чем ждать, когда Байкалов, собравшись с силами, перейдет в наступление.
Угнетающее бездействие осталось в прошлом, и на одном из ночлегов по пути к Усть-Милю в дневнике Пепеляева появляется запись, по тону и настроению мало похожая на прежние: «Еду на оленях, а иногда на страшно заморенной лошадке или иду пешком. Сильный мороз, 35–40 градусов, надолго останавливаться нельзя. Часто бегу, чтобы согреться, одну-две версты. Дружина небольшими колоннами (100–150 чел.) движется пешим порядком. Страшно боялся за этот переход, с ужасом думал, что мы все замерзнем. Ведь идти 25 дней, по дороге ни одного селения… Но вот обгоняю первую, вторую, третью колонну – идут весело, несмотря на то что в пути уже 10–15 дней. Больных всего пять человек, и один умер скоропостижно (доброволец Рыбкин, крестьянин, 48 лет). Есть обмороженные руки, и почти у всех обморожены нос, щеки. У иных очень сильно. У многих от ходьбы пухнут ноги».
Вишневский почти ежедневно отмечал в дневнике температуру «пугливого», как писал Короленко, «морозного воздуха, в котором треск льдины вырастает в пушечный выстрел, а падение ничтожного камня гремит как обвал» – тридцать два, тридцать четыре, тридцать шесть градусов ниже нуля по Реомюру. По Цельсию это еще на восемь-девять градусов холоднее.
С каждым днем Вишневский все с большим трудом одолевал дистанцию от бивака до бивака: «Вчерашний переход в 21 версту был чрезвычайно тяжел… Я вчера еле дотащился… Было очень холодно, люди очень устали. Я сам едва дополз. Устал как никогда… Олени совершенно не идут, нарты ломаются, обоз перегружен».
Когда до Усть-Миля оставалось три дневных перехода, кто-то сообщил ему новость: «Из Амги на Усть-Миль красными выслан отряд в сорок человек. По Амге распространялись слухи, что отряд этот выслан с мирными предложениями к генералу Пепеляеву».
Речь идет о миссии Строда.
Разговор с мертвыми
В начале января 1923 года Рейнгардт и Строд, ничего не зная друг о друге, приближались к Усть-Милю с противоположных направлений: первый шел с востока, второй – с запада.
«Длинной вереницей растянулись наши олени, характерно пощелкивая на ходу копытами длинных стройных ног, – пишет Строд. – Узкие длинные нарты неслышно скользят по только что развороченной целине девственного снега. От дыхания бегущих животных пар садится и замерзает белым инеем на одежде бойцов. Мороз залезает в рукавицы и, как иглами, покалывает пальцы рук, зябнут и ноги несмотря на теплые валенки. Часто, чтобы разогреться, приходится слезать с нарт и версту-другую бежать… Ветви деревьев под тяжестью осевшего на них снега пригнулись к земле, преграждая путь. Кажется, дороге не будет конца, и отряд никогда не выберется из этих дебрей».
Однажды наткнулись на какого-то человека, скрывшегося в тайге. Двинулись по его следам и вышли к одинокой юрте на опушке. Она была пуста, но на столе стоял котел с горячим супом, в камельке догорали дрова. По следам на дворе определили, что здесь находилось около двадцати человек, в которых проводники заочно признали партизан из отряда Артемьева. Это был якутский интеллигент, учитель, и Строд надеялся, что он согласится пропустить делегацию в Нелькан или сам возьмется доставить письма Пепеляеву. С утра на переговоры с ним отправились парламентеры-якуты.
Вскоре после их ухода приехал неизвестный всадник. «Привязав во дворе коня, – вспоминал Строд, – он зашел в юрту, снял себя старую, с облезлой шерстью, коротенькую оленью доху. На гимнастерке у него оказались погоны, на которых было написано химическим карандашом: 1.Я.П.О., то есть «1-й Якутский партизанский отряд».
Он очень удивился, узнав, что люди в юрте – красные, но впоследствии такое случалось нередко. «Все грязные, все матерятся», – объяснял причину ошибки другой пепеляевец, в полутьме перепутавший своих и чужих.
От пленного узнали, что Пепеляев, получив провиант и «олений транспорт», движется к Усть-Милю, туда же для связи с партизанами прибыл полковник Суров с несколькими офицерами. Это означало, что парламентеры попадут к нему, а не к Артемьеву, и когда на третий день они не вернулись, а артемьевцы попытались угнать у Строда оленей, что для затерянной в тайге экспедиции означало бы верную смерть, он счел «рискованным и бесцельным» оставаться здесь дальше. После того, как Пепеляев начал поход, переговоры потеряли смысл. Строд, как он пишет, понял, что парламентеры задержаны, и увел отряд обратно в Амгу.
Его версии противоречит дневник Пепеляева: «На наших передних партизан брошен отряд «мирной делегации» (40 чел., 4 пул.), но, увидев наших ребят, скрылся, оставив письмо на мое имя с предложением сложить оружие и гарантией неприкосновенности в случае согласия на это».
Можно предположить, что по горячим следам Строд бросился в погоню за теми, кто пытался угнать у него оленей, в азарте забыв, что это классический таежный способ заманить противника в западню, но кто-то из его бойцов заметил притаившихся в лесу артемьевцев, и отряд успел отступить без потерь.
Оставив прямо на снегу или в юрте пакет с письмом для Пепеляева, Строд покинул опасный район. Признаваться в бегстве от партизан-якутов он не хотел, не стоило упоминать и о том, что парламентеры, как стало известно позже, не были задержаны пепеляевцами, а перешли к ним сами. «Возвратиться назад не пожелали», – отметил Вишневский.
Ревкомовское послание дошло до Пепеляева не совсем так, как задумывалось, но произвело на него желаемое впечатление. Под ним стояли подписи Байкалова и председателя ревкома, якута Исидора Барахова, но писал, видимо, умница Барахов, хорошо владевший пером и умевший обходиться минимумом идеологии. За скупым деловитым тоном письма чувствуется сознающая себя сила: «Владивосток, ваша база, пал. Те, кто послал вас сюда, вам не помогут. Местное население, бедное, истощенное гражданской войной и теперь определенно стоящее на стороне советской власти, вам не сочувствует и помогать также не будет…»
Парламентеры, не захотевшие вернуться к своим, опровергали последний тезис, но главное оставалось в силе: «Все добровольно сдавшиеся с оружием в руках освобождаются от всякого преследования, им дается полная гарантия личной и имущественной неприкосновенности. Каждый получает право избрать себе место жительства, куда при первой возможности и будет отправлен».
Письмо было не вручено, а подброшено, Пепеляев волен был на него не отвечать, но не думать о нем не мог.
«Много, много дум зародило во мне это предложение: мир, семья, жизнь! – поверяет он дневнику свои сокровенные мысли. – Тут ведь все так кончали повстанцы, во все времена».
Последняя фраза вырвалась у него словно бы непроизвольно, под напором нахлынувшего чувства. Из нее следует, что, в отличие от других белых генералов, Пепеляев видел себя не борцом за государственность, а вождем мятежников. Роли поменялись, державную власть на окраинах отныне олицетворяли большевики. Он чувствовал себя героем пьесы, неоднократно шедшей на этой сцене, и финал был ему хорошо известен: «бунташные» якутские князьки всегда сдавались на милость московских воевод.
Эти мысли – минутная слабость. Поборов искушение, Пепеляев сформулировал четыре причины, которые заставляют его отказаться от капитуляции, чтобы «идти почти на верную гибель».
1. «Веру коммунисты не переносят православную, так постоим до конца за нее, святую, поруганную».
2. «Народ простой против них, ждет нас, надеется, а я верю только в простой народ (крестьянство)».
3. «Наглый вызывающий тон письма, полный насмешки, презрения и уверенности в своей правоте, их хитрость и цинизм».
4. «Душевные настроения: хочется чашу страданий испить до дна».
Четвертый пункт – последний в ряду, но по значению, конечно же, первый. С того дня, как Пепеляев принял предложение Куликовского, он постоянно говорил о страданиях, ожидающих всех участников Якутского похода, и с тем же постоянством во Владивостоке, в Аяне, в Нелькане предлагал всем, кто сомневается в своих силах, остаться на берегу, вернуться на пароходе домой, не идти дальше.
Сам он много раз имел возможность так поступить и не потерять при этом лица: сначала при первом свидании с Куликовским, затем – поддавшись на уговоры Дитерихса никуда не ездить и вместе со всеми добровольцами влиться в Земскую рать, позже – в Аяне, услышав от Коробейникова о разгроме восстания, и в Нелькане, когда Вишневский привез туда известие о падении Приморья. Наконец, он мог сделать это теперь, получив гарантии от Барахова и Байкалова. Сомнительно, чтобы Пепеляев им поверил, иначе не написал бы о «хитрости и цинизме» таких, как они, но в любом случае выбор был сделан задолго до этого письма: в его стихах и речах, которые он предварительно набрасывал в блокноте, Якутскому походу дается недвусмысленное определение – «крестный путь».
«Не сам иду, посылает меня судьба», – говорил он на Второй Речке, перед погрузкой дружины на корабли. А сейчас высказал ту же уверенность, разве что неуместную в якутской тайге интеллигентскую путеводительницу-судьбу заменил на Бога: «Тяжело на душе, кругом враги, холод, громадные пространства, и все-таки светлый луч веры и надежды живет в душе. Вера в чудо, вера, что сам Господь послал нас на эти страдания и отказаться от них мы не можем».
И дальше, на волне владеющего им чувства причастности к высшему замыслу о себе: «Боже, Боже, Тебе вручаю семью свою и себя. Ты знаешь мои мысли, желания, мольбу мою, Ты все можешь сделать для меня – радостную встречу, прощение. Прекрати междоусобие, мир пошли измученному русскому народу. Но я, слуга и раб Твой, говорю – да будет воля Твоя, Господи».
Все это написано в одном из четырех домов деревни Усть-Миль. До Якутска оставалось четыреста верст. Двигаться к нему можно было по двум маршрутам: на северо-запад, через Амгу-слободу, или с уклоном к северу, через село Чурапча. Первый путь был короче, второй пролегал по районам, где проще добыть лошадей, фураж, мясной скот. Красные гарнизоны размещались на обоих направлениях. За последнее время изменений в их дислокации не произошло, и Пепеляев утвердил план, выработанный в Нелькане: главные силы дружины должны овладеть Амгой и наступать на Якутск, а отвлекающие удары будут наноситься по Чурапче и соседней Татте.
Эта схема должна была подчинить себе мир столь неординарный, что трудно поверить в ее действенность. Крошечные армии рассеяны по огромной пустынной территории, кругом дикие горы, реки с ледяными торосами и безбрежная тайга с затерянными в ней жалкими якутскими заимками. Кажется, перед лицом этой реальности всякие диспозиции лишены смысла и сочиняются исключительно для самоуспокоения, но на самом деле зимняя война в этих краях гораздо более упорядочена, чем представляется постороннему взгляду. Здесь очень мало мест, где три-четыре сотни человек могут одновременно получить кров и пищу, и не многим больше дорог, по которым можно перейти из одного такого места в другое. Маршруты движения войск легко предвидеть, вариантов почти нет, при всей своей чудовищной громадности якутский театр военных действий так же обозрим и прозрачен, как используемый на учебных занятиях по тактике «ящик с песком».
26 января авангардный батальон Рейнгардта выступил к Амге. Операция по «овладению г. Якутском» вступила в решающую стадию. Пепеляев, оставшись в Усть-Миле, собирает здесь все вышедшие из Нелькана подразделения, проводит съезд алданских якутов, получает от них мясо, фураж и лошадей для обоза, посылает партизан Артемьева к селу Петропавловское – помешать тамошнему гарнизону красных соединиться с амгинским. Он энергичен и деятелен, но вечерами в его дневнике множатся записи вроде следующей: «Опять чаще и чаще стали повторяться приступы тоски. Такое отчаяние охватывает, что порой кажется – нет, дальше не в силах переносить. Раньше тосковал о прошлом, прошлое виделось в счастливом, отрадном виде. Теперь оно рисуется бесконечно уныло, как зимняя, длинная-длинная дорога».
Пустынная дорога среди снегов сейчас каждый день у него перед глазами.
Сухой якутский мороз грозит обморожением и смертью, но не простудой, и если молодой, физически очень крепкий Пепеляев то и дело простужается, это тоже говорит о его душевном нездоровье. Когда исчезнут сомнения в правильности избранного пути, прекратятся и бронхиты. А пока у него опять высокая температура: «С утра еще встал больным, болела голова, жар. Лошадь попалась тряская, тупая, седло невозможно изломано, одно дерево. Утром съел кусок лепешки. До вечера устал, даже к лучшему, что лошадь встала. Весь разбитый, остановился в лесной избушке. Разболочился совсем, в избушке тепло, семья 15 человек, все голые, голодные, дети кричат. Ночью был кошмар: приходила какая-то старуха – ужас какой-то! – но все же я ее оттащил от себя и с криком проснулся. Был очень рад, что прогнал старуху. Лицо ее – лицо смерти».
Тогда же, 28 января, пик болезни миновал, он почувствовал себя лучше и вспомнил, что «сегодня день Св. Ангела Нины».
Из Амги, поговорив с Байкаловым по телефону, Строд отправил к нему Вычужанина с Нахой и нечаянно плененного пепеляевца в гимнастерке с солдатскими погонами, на которых все то, что обычно присутствует на погонах в виде трафаретов или нашивок, по-ученически было нарисовано и написано химическим карандашом.
Байкалов приказал Строду остаться в Амге и, чтобы усилить ее гарнизон, прислал ему еще сорок его бойцов из бывшего Северного, ныне – имени Каландаришвили, отряда. Переводить сюда красноармейский гарнизон села Петропавловское он боялся, не зная, каким путем Сибирская дружина двинется на Якутск. Лишь к концу января Байкалов утвердился в мысли, что главный удар Пепеляев нанесет через Амгу. После этого Строд получил новый приказ: идти со своими людьми в Петропавловское, на смену тамошнему батальону, которому надлежало переместиться в Амгу.
Это был уплывший из Нелькана батальон Карпеля, но Карпель давно находился в Якутске, передав командование своему заместителю Дмитриеву – «хорошему товарищу», как великодушно характеризовал его Строд, и слабому командиру. У него было двести пятьдесят штыков и дюжина пулеметов с неисчерпаемым запасом патронов, но при «богатстве огневых средств» он дважды потерпел поражение от вооруженных «берданами» якутов из отряда Артемьева. Оба раза высланные в тайгу роты попадали в засады и несли тяжелые потери.
Сам Дмитриев ни в одной из вылазок не участвовал, зато на идеологическом фронте проявил себя как умелый демагог: в сочиненной им прокламации утверждалось, что Пепеляев пришел в Якутию мстить за расстрелянного вместе с Колчаком старшего брата. Этот простейший мотив был понятен и красноармейцам из крестьян, и особенно якутам. Сильное «родовое чувство» заставляло их верить версии Дмитриева, как они верили ходившим тогда слухам о «сыне» Каландаришвили, который вот-вот объявится и покарает убийц отца, так до сих пор и оставшегося неотомщенным.
29 января, когда Рейнгардт с востока приближался к Амге, Строд со своим маленьким отрядом выступил на север. Лошадей для обоза не хватило, запряженные в сани быки замедляли движение. В ночь на 3 февраля, оставив бойцов на биваке в одном переходе от цели пути, нетерпеливый Строд в сопровождении пяти всадников поскакал вперед и под утро въехал в старинное, основанное ссыльными скопцами село Петропавловское.
На околице никто его не задержал, караулов не было. Отыскав штаб по красному флажку на воротах, Строд разбудил Дмитриева, беспечно спавшего раздетым, вручил ему пакет с приказом Байкалова и попенял на расхлябанность. Тот ответил: «Врасплох меня не застанут. Имею хорошую агентуру и через нее своевременно получу сведения о движении белых».
При всем том настроение у него было неважное. Это видно из его записки, отправленной им какому-то приятелю в Амге или в Якутске, но по пути перехваченной артемьевцами. Те сочли ее важным донесением и доставили в штаб Пепеляева.
«Как живешь, как чувствуешь себя? – осведомлялся Дмитриев у адресата, чтобы, исполнив долг вежливости, перейти к самому себе. – Я-то живу хорошо, да чувствую себя под дамокловым мечом, сам знаешь, почему. Из Нелькана отступили, в Петропавловском сидим. Пепеляев тихо двигается, да черт его знает! Все перепутано, запутано так, что ничего не разберешь, такой хаос, что черт знает что такое. Убежать, что ли, куда-нибудь?»[25]
В мудрость и всеведение начальства Дмитриев явно не верил, но бежать было некуда. Получив приказ Байкалова, он начал готовиться к походу. На складах в Петропавловском хранился запас провианта и боеприпасов, еще осенью приготовленный для не состоявшейся аянской экспедиции Карпеля, и чтобы перевезти все это в Амгу, требовалось много лошадей. Дмитриеву пришлось объявить «конскую мобилизацию» в соседних наслегах.
Месяц назад, если доверять репортажу в «Автономной Якутии», у бойцов его батальона не было иных неприятностей, кроме отсутствия париков и грима для новогоднего спектакля, но после двух поражений от партизан Артемьева настроение в батальоне было подавленное. «Дело в том, – объяснял Строд еще одну причину царившего здесь уныния, – что красноармейцы, убитые на реке Ноторе и за Алданом, больше тридцати человек, были свезены в Петропавловское и сложены в пустом амбаре. Дверь амбара не запиралась. Бойцы, имея много свободного времени, навещали мертвых товарищей и целыми часами толпились у амбара. Когда из Амги приходила почта, некоторые брали письма убитых и шли к амбару. Отыскав адресата, они вскрывали письмо и читали его вслух при гробовом молчании присутствующих. Слышны были только редкие вздохи да возгласы: “Э-эх, Митя! Как ждал, миляга, письма из дому! Вот письмо пришло, а его не стало в живых”. Если присутствовали участники тех боев, они подробно рассказывали, при каких обстоятельствах погиб тот или иной товарищ».
Строд указал Дмитриеву на «ненормальность такого положения». Тот объяснил, что послал рапорт Байкалову с просьбой об отправке тел в Якутск, откуда были родом погибшие, но Строд хотел как можно скорее их закопать, поскольку соседство с ними «глубоко отражалось на психике красноармейцев». Дмитриев не внял его аргументам, тогда он приказал заколотить двери амбара и выставил возле них часового.
«Развели большой костер, – пишет Строд. – Когда земля оттаяла, начали рыть братскую могилу. К обеду следующего дня она была готова. Накануне всех убитых перенесли в два-три дома, обмыли, надели чистое белье».
О гробах он умолчал, значит, их не было, зато упомянул о более важных, по тогдашним понятиям, вещах: «На могиле водрузили большую пятиконечную звезду, сделанную по собственному почину местным жителем. Дрогнул морозный воздух от трех винтовочных залпов, а над сомкнутыми рядами бойцов неслось: “Вы жертвою пали в борьбе роковой…”».
Затем, как обычно, на передний план выходит неравнодушная к человеческим страстям природа: «Где-то в ущельях скалистых берегов Алдана завывал ветер. Тайга глухо шумела, прощаясь с нашими погибшими товарищами».
Штабеля мерзлых мертвых тел – характерная примета этой войны, но еще не самая страшная. Мороз легко позволял составить из трупов «живые картины» со смыслом. Прежде чем тело застынет до твердости камня, ему можно придать любую позу, и оно сохранит ее до весны – можно, например, расстрелять человека, а затем усадить его с протянутой для рукопожатья ладонью у ворот амбара, где заперты еще живые арестанты, и заставлять их здороваться за руку с мертвецом. Тот как бы приветствовал товарищей у других, незримых врат, за которыми он теперь находится и куда они скоро попадут вслед за ним. До этого в Татте додумались повстанцы из армии Коробейникова, но что-нибудь в том же духе могли сделать и их противники.
Сон о Лаврике
Амга-слобода, ближайшее к Якутску крупное село, лежит на равнине, окаймленной горными кряжами. Когда в декабре 1881 года к ней подъезжал молодой Владимир Короленко, сосланный сюда за отказ принести Александру III присягу на верноподданство, первое, что он увидел, было множество высоких, как бывает в мороз, столбов белого дыма, выглядевших так, словно там стоял «дымный лес». В темноте улица Амги показалась ему необычайно оживленной, хотя на ней не было ни души. Иллюзия бурной уличной жизни создавалась горящими в юртах камельками, отсветами их пламени, переливающимися в толще вставленных в рамы вместо стекол обточенных льдин (зимой стекла от намерзающего куржака плохо пропускают дневной свет), и «клубами дыма, который вырывался из юрт, боролся с морозом и, треща, подымался высоко к небу».
Здесь Короленко прожил три года и написал принесший ему славу рассказ «Сон Макара». Амга выведена в нем как «слободка Чалган», а главный герой – типичный амгинский крестьянин, ругавший аборигенов «погаными якутами», хотя почти ничем от них не отличался: «По-русски он говорил мало и довольно плохо, одевался в звериные шкуры, носил на ногах торбаса, питался в обычное время одною лепешкой с настоем кирпичного чая, а в праздники и в других экстренных случаях съедал топленого масла именно столько, сколько стояло перед ним на столе. Он ездил очень искусно верхом на быках, а в случае болезни призывал шамана, который, беснуясь, со скрежетом кидался на него, стараясь испугать и выгнать из Макара засевшую хворь».
Однако даже эти «объякутившиеся» русские крестьяне, в которых областники хотели видеть представителей зарождающейся сибирской нации, для многих якутов были опасными чужаками. В отличие от более дипломатичных интеллигентов, простые повстанцы прямо заявляли, что нужно выселить из Якутии всех русских. Не удивительно, что земляки короленковского Макара видели в красных своих защитников.
Пагынай, как они сами себя называли (искаженное «пашенные»), были лояльны советской власти, но Байкалов, разговаривая по прямому проводу с Иркутском, сказал Чайковскому, что если Пепеляев поведет наступление через Амгу и отстоять ее не удастся, со слободой, чтобы она не стала базой для белых, необходимо сделать то, что Карпель не сделал с Нельканом, – сжечь.
Байкалов сравнивал Пепеляева с Ганнибалом, а в беседе с одним из заместителей многозначительно упомянул консула Квинта Фабия по прозвищу Кунктатор, то есть «медлительный»: подразумевалось, что для борьбы с белыми он избрал ту же тактику, которую римский полководец с успехом использовал против карфагенян. Сейчас, говоря о сожжении воспетой Короленко слободы, Байкалов сослался на «опыт начала 17-го столетия». Что тут подразумевалось, не понятно – то ли Смутное время, то ли якутские восстания XVII века, то ли телеграфист на слух перепутал цифры, и начитанный в военной истории Байкалов имел в виду начало XVIII века, когда русские, отступая перед армией Карла XII в Белоруссии, применяли скифскую тактику выжженной земли. У Строда подобных идей никогда не возникало.
Двести верст от Усть-Миля до Амги ударная группа Рейнгардта ускоренным маршем прошла за пять дней, делая по сорок верст в сутки при сорокапятиградусном морозе.
«Мороз застучал в штаны, – рассказывает участник перехода, проделанного примерно там же и тогда же, но красными, – пришлось разрезать одно одеяло. Куски меха засовывали в ширинки». Наверняка этот прием был в ходу и у пепеляевцев. Обморожение половых органов – одна из самых распространенных у обеих сторон травм.
У Рейнгардта был один батальон, батарея Катаева без орудий, конный дивизион Цевловского без лошадей и отряд якутов – всего около четырехсот человек. Гарнизон Амги насчитывал полтораста красноармейцев, зато с шестью тяжелыми и тремя легкими пулеметами, не считая автоматов Шоша. У защитников слободы имелось и еще одно важное преимущество: Амга лежала на возвышенности, подступы к ней были открыты и хорошо простреливались.
Единственная ее улица растянулась на две версты, и незадолго до того, как Строд ушел отсюда в Петропавловское, они с начальником гарнизона Суторихиным решили, что удержать село целиком не удастся, нужно сосредоточить все силы в той его части, где находились больница, продовольственные склады, церковь и кладбище. Предполагалось создать здесь узел обороны с укреплениями из каменных надгробных плит, но без Строда этот план так и не был выполнен.
Вечером 1 февраля Рейнгардт остановился в лесу, не доходя пару верст до Амги, дал людям отдых и начал атаку в три часа ночи, чтобы захватить противника врасплох. Приказано было взять слободу «без выстрела». Сам он остался на месте с адъютантами, двумя вестовыми и Грачевым, который после победы должен был организовать местное самоуправление. Главный политработник Соболев задержался в Усть-Миле. Он имел «тонкий стан», как в посвященном ему стихотворении писал Пепеляев, и непоколебимое сознание собственной значимости, поэтому передвигался исключительно в санях или в нартах.
Грачев в атаке не участвовал, но понимал, что чувствовали его товарищи: «Вокруг Амги глубокий снег. Местность открытая, мороз 50°, светит луна. Добровольцы рассыпаны цепью, медленно движутся по снегу. Мороз душит, обледенели глаза. Амга все ближе. От винтовки руки мерзнут».
Красноармейцы были расквартированы по всей слободе и, как в Петропавловском, спали раздетыми. Суторихин бежал первым, за ним – большая часть гарнизона. Лишь одиночки пытались отстреливаться. О том, чтобы поджечь Амгу, как планировал «кунктатор» Байкалов, никто не думал.
«Вдруг, – вспоминал Грачев эти минуты напряженного ожидания, – выстрел, другой, третий, и снова тишина. Через десять минут затрещали пулеметы. Заметили? Пропало все, люди погибли!»
Мороз усиливает звуки, окружает их эхом. На самом деле из всех имевшихся у Суторихина «тринадцати пулеметов» (неизбалованные пепеляевцы причисляли к ним и автоматы Шоша) стрелял только один: пулеметчик Ренкус выкатил на улицу свой «максим» и вел огонь, пока не кончились ленты. Набивать новые было некому.
«Через полчаса стрельба начала стихать, – продолжает Грачев, – а донесений нет. Беспокойство растет, но вот показался всадник-вестовой: “Ура! Наши взяли”. Прискакал весь обмороженный, пришлось растирать его снегом».
Грачев, на месте узнавший цифры потерь, пишет, что у красных было убито два человека, но в официальном рапорте Байкалова они превратились в двадцать, чтобы создать у начальства иллюзию упорного сопротивления. Добровольцы после боя недосчитались двадцати двух товарищей. Все они погибли от пулеметного огня, много было раненых, но для Ренкуса это не имело никаких последствий, кроме пары ударов прикладом в момент пленения.
По Грачеву, пленным предложили выбор из двух вариантов: уйти в Якутск с трехдневным запасом продовольствия или вступить в Сибирскую дружину. Все предпочли второе. Строд объясняет это тем, что иначе их грозились отпустить без теплой одежды, но едва ли угроза была бы приведена в исполнение. Красноармейцев просто запугивали, а они еще не понимали разницы между пепеляевцами и повстанцами, вполне способными так поступить.
В приказе Пепеляева, изданном перед началом наступления на Якутск, говорилось, что в освобожденных населенных пунктах должны «созываться народные съезды, которые будут устанавливать власть на местах». По этой директиве Грачев собрал жителей Амги и предложил избрать «самоуправление». В ответ на осторожный вопрос, кого можно выбирать, он разъяснил, что кого пожелают, «хотя бы выбранные лица были и коммунисты: раз его избрали жители, значит, заслужил доверие населения, а против воли населения дружина не борется».
Надо полагать, амгинских «пагынай» сильно озадачила подобная принципиальность. Она выглядела не то ловушкой для простаков, не то признаком слабости нового порядка, с которым в любом случае лучше пока дел не иметь.
Первые полчаса боя за Амгу там работала телефонная связь с Чурапчой, потом пепеляевцы ее оборвали, но кто-то из командиров или красноармейцев успел сообщить туда, что слобода пала. Из Чурапчи телефонировали в Якутск. Рано утром того же дня Байкалова поднял с постели прибежавший к нему на квартиру работник оперативного отдела: «Товарищ командующий, маленькая неприятность… Налет на Амгу. Наших пощипали».
Свои воспоминания Байкалов писал в 1948 году, после лагеря и незадолго до смерти. Возможно, ему казалось, что их скорее удастся издать, если они будут похожи на художественную прозу, и оживлял текст диалогами – вымышленными, часто чересчур литературными, но иногда удачно имитирующими устную речь.
Выслушав прибежавшего к нему штабиста, Байкалов «начал раздражаться»: «Кто пощипал, как пощипал? Нельзя ли без метафор?»
«Пепеляев сегодня до рассвета ворвался в Амгу…»
«И?» – «диким визгом вырвалось» у Байкалова.
«Занял деревню и…»
«И? Вы долго заставите меня через соломинку касторку сосать?»
«Это тоже метафора, товарищ командующий… Чурапча сейчас передает подробности, поедем, узнаем все».
О том, что сам Пепеляев остался в Усть-Миле, никто не знал, и Байкалов, выяснив, какие трофеи могли ему достаться в Амге, сказал своему начальнику штаба: «Значит, генерал сегодня шаньги лопает и ходит именинником?» Тот ответил: «Сегодня он, завтра – мы. Военная судьба изменчива».
Пепеляев еще ничего не знал и с нетерпением ждал известий от Рейнгардта. В ночь после взятия Амги он увидел сон: «Шли Нина и я с Лавриком куда-то далеко, пришли к речке, сели на берегу и о чем-то дружно так разговаривали. Было лето, хорошо кругом, радостно, тепло, ясно. Вот подходит к нам старичок какой-то и просит: дайте ребеночка подержать. А мы уже дальше идти хотели, и Нина передала его мне, чтобы я его нес. Я не отдавал старичку Лаврика, но он так ласково приставал, так восхищался ребеночком, так просил его подержать, что я отдал. Он закутал Лаврика и понес. Сначала дорога шла речкой, лугами, вошли в город, вот и наш дом – какой-то высокий, каменный. Лестницы высокие, крутые. Нина легко взбежала и скрылась наверху. Старичок же еле поднимается, трудно ему, а ступеньки все реже, приходится руками захватывать. Уронит он ребеночка, подумал я, и стал придерживать его сбоку одной рукой, но и идти трудно, душно. У меня мысль мелькнула: или ребенок задохнется, или выронит он его. Тут, не обращая внимания на старика, вырвал я Лаврика и стал прыгать вниз, в несколько прыжков достиг земли, развернул пеленки, и ужас овладел мною – Лаврик весь синий и не дышит. Вначале я хотел себя убить – вновь забраться по лестнице и броситься вниз головой, но Господь вразумил меня. Раскрыл я Лаврику рот, вложил туда палец и в то же время ручонками его стал шевелить, поднимать вверх и вниз. И вот Лаврик глубоко-глубоко вздохнул, потом открыл глазки и начал дышать, хотя очень слабо. Я продолжал делать искусственное дыхание, повернул его головенку, потом отдал кому-то из окружающих и сказал: несите Нине. А сам пошел куда-то, долго бродил и все думал о Лаврике – жив ли. И так решил: если жив, и я останусь жить, если же умер, убью себя. Вечером пришел домой, поднимаюсь наверх, отворяю дверь, навстречу идет Нина и говорит: слава Богу, Лаврик жив и весел».
Кажется, сон не то чтобы целиком выдуман, но записан не вполне простодушно. Слишком уж легко он поддается истолкованию: Лаврик – «родная Сибирь», старик – коммунисты, Пепеляев готовится покончить с собой, если она останется под их властью и погибнет, но в последний момент успевает освободить ее, почти бездыханную, а затем вернуть ей жизнь.
Вестовой от Рейнгардта прискакал в Усть-Миль 4 февраля. В тот же день, повторяя, видимо, щегольские формулировки полученной от него победной реляции, Пепеляев записал: «Позавчера штыковой атакой взята слобода Амга, жители в восторге от добровольцев. В прошлом году повстанцы три месяца не могли взять Амгу, добровольцы взяли после часового боя. Шли по глубокому снегу под пули, точно на парад. Теперь я спокоен за дружину и начальников».
Радость омрачали потери: «Как хочется поменьше крови! Мечта моя – помирить русских людей, я веду борьбу исключительно потому, что убежден: при хозяйничанье коммунистов народу погибает больше, чем в организованной борьбе».
И последняя фраза – нарочито нейтральная, чтобы не сглазить удачу: «Открываются перспективы на дальнейшее».
Победа важна была «в психологическом смысле», но гораздо ценнее было то, что Амга могла служить базой для наступления на Якутск. Пепеляев примчался сюда 7 февраля, а на следующий день, на торжественном построении с выносом знамени, произнес речь, накануне набросав ее в дневнике.
Начинается она предупреждением: «Братья добровольцы, теперь настало тяжелое время, как никогда!»
Это столько же констатация нелегкого положения Сибирской дружины, сколько аллюзия на популярное в годы Гражданской войны ветхозаветное пророчество Даниила об избавлении праведных от сил зла и ужасных бедствиях на пороге приближающейся новой эры: «И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени»[26].
Затем центром речи становится бело-зеленое знамя. Сейчас оно у Пепеляева, его рука сжимает древко. Он предлагает сделать это знамя «символом братского единения», говорит об изображенных на нем лике Спаса Нерукотворного и кресте, который напоминает об их «крестном пути», о том, что они не отказались «нести крест страданий за благо народное».
Накал речи достигает апогея: «Кто знает, что нас ждет впереди? Может, этим летом мы уедем из Якутской области и станем мирными гражданами, тогда наше знамя будет сохранено у меня и будет ждать того времени, когда вновь разовьется на просторах Сибири и вновь соберет нас всех под сень свою. Может, нам вновь суждено пережить бои, тогда оно будет развеваться там, где бойцы будут усталы, где будет трудно».
И обращение к знаменосцу: «Брат доброволец Березкин! Вручаю тебе знамя Сибирской добровольческой дружины, нашу общую святыню. Храни его и никогда не отдавай врагу».
Пепеляев считал Амгу «стратегическим ключом к Якутску», и мало кто сомневался, что замок скоро будет открыт. Кадровых частей в городе не было, лишь отряды ЧОНа, а они не могли противостоять прошедшим две войны пепеляевским ветеранам. Выступление назначено было на 15 февраля.
Все предвкушали скорое возвращение к цивилизации. До Якутска оставалось менее двухсот верст. Город лежал на западном берегу Лены, но замерзшая река не являлась препятствием для штурма. Мысль о том, что хорошо бы оборудовать окопы вдоль Набережной улицы, одно время владела умами гарнизонного начальства и угасла, не осуществившись. По данным пепеляевской разведки, оборонительные сооружения на окраинах не возводились, укрепления имелись лишь на пивоваренном и пороховом заводах, и то не земляные, а проволочные.
Лисья поляна
Пока Дмитриев собирал лошадей для обоза, Строд загорелся идеей наказать находившихся где-то поблизости партизан Артемьева. Похоже, ему не терпелось посчитаться с ним не только за убитых бойцов Дмитриева, но и за собственное бегство от Усть-Миля.
Накануне операции в штабе собрались командиры рот, которые должны были в ней участвовать. Обстановку этого совещания Строд описывает в духе советских романов конца 1920-х с их избытком бытовых подробностей, призванных заполнить зияющие пустоты послереволюционного бытия и создать иллюзию прочности того мира, где никто не чувствовал себя уверенно: «Махорочный дым сизыми волнами плавал по комнате, закрывал потолок, лез в глаза и медленно уходил в кухню. На стенах висели дулами вниз до десятка винтовок рядом с наполненными до отказа патронташами. На подоконнике валялись мильсовские гранаты. В углу у печки притулился “максим”, окруженный облезлыми, потерявшими свой защитный цвет коробками. Одна коробка открыта, конец ленты, тускло поблескивающий медью патронных гильз, продернут в приемник. Тут же, на усеянном окурками грязном полу, расположились пулеметчики. Мирно посапывает хозяйская собака Полкан».
Уже хотели расходиться, когда часовой привел троих незнакомых красноармейцев – оборванных, страшно изможденных, с распухшими кистями рук и черными обмороженными лицами. От них стало известно о падении Амги. Оказалось, что из всех избежавших плена командиров и бойцов амгинского гарнизона лишь пятеро догадались идти не в Якутск, как остальные, а в Петропавловское – предупредить своих. Двое замерзли в пути, трое дошли.
Про операцию против Артемьева забыли, стали думать, как быть дальше. Можно было укрепить село и остаться на месте, можно – идти в Якутск кружным путем, минуя Амгу, но в этом случае предстояло пройти шестьсот верст с риском оказаться у цели после того, как город будет взят белыми. Строд предложил третий вариант, который и был принят: двигаться к Амге, чтобы, если Пепеляев уже выступил к Якутску, угрожать ему с тыла, а если он еще там – задержать его, дав Байкалову время организовать оборону.
Строд готов был подчиниться Дмитриеву и включить своих людей в состав его батальона, однако наутро, на стихийном собрании, рядовые красноармейцы, понимая, что теперь от начальника будет зависеть не только их паек, но и жизнь, взроптали и потребовали назначить другого командира. Претензии к Дмитриеву были следующие: «Не использовал перевес в живой силе и огневых средствах, дробил батальон по частям, сам не принял участия ни в одном из боев с артемьевцами». Ораторы предлагали заменить его Стродом, и в сложившихся обстоятельствах тот счел возможным принять командование без санкции свыше, что вообще-то грозило ему трибуналом.
В результате голосования, прошедшего прямо на улице, перед штабом с красным флажком на воротах, командиром Сводного отряда единогласно, о чем не забыл упомянуть Строд, выбрали его самого, Дмитриев переместился на должность начальника штаба, а военкомом (комиссаром) остался двадцатидвухлетний Михаил Кропачев, в прошлом – типографский рабочий из Петрограда, автор стихов о пролетарии с «буйного, зоркого запада», который «железом и кровью взорвет» нависшие над Якутией тучи.
В августе 1922 года Кропачев оказался в Таттинском улусе. В газете «Автономная Якутия» он, помимо стихов, печатал корреспонденции на разные темы, а в Ытык-Кюёле близ Татты жил известный «исследователь якутской старины», художник Иван Попов. Любознательный Кропачев захотел с ним познакомиться, а попутно добыть материал для очередной заметки.
Попову было в то время пятьдесят лет. Одаренный рисовальщик, портретист, реконструктор, фотограф, он был женат на якутке и большую часть жизни провел среди якутов. Русский по происхождению, Попов стал певцом якутской жизни, чутким к ее скрытой от постороннего взгляда поэзии. Он родился в Татте, в семье сельского священника, окончил духовную семинарию, был иконописцем, учился живописи в Петербурге. Вернувшись на родину, по чьему-то заказу подрабатывал тем, что собирал этнографические коллекции для музеев в Гамбурге и в Мюнхене, и соединил интерес к местным древностям со столичным предреволюционным мистицизмом. По словам его родственника, Попов «любил рассказы о покойниках и привидениях и сам приводил сотни таинственных случаев из личной жизни». Он «любил уединяться в мрачных местах в осенние лунные ночи, любил вращаться около трупов, любил наблюдать моменты наступления смерти и умирающих людей, любил посещать психических больных». Под стать этим увлечениям была и тематика его работ: Попов «писал старинные якутские кладбища, шаманские жертвенные деревья, черепа людей и животных, куски сырого мяса, живых рыб на рожне, зарисовывал покойников, украшал гробы». При всем том какие-то советские деятели, ведавшие в Якутске культурой, с хлестаковской легкостью поручили ему «выработать общий стиль якутского искусства» и официальным документом удостоверили его статус «свободного художника». Вероятно, именно за это повстанцы собирались его расстрелять, но почему-то пощадили. Родному брату Попова повезло меньше, он был убит вместе с женой-учительницей за отказ сотрудничать с повстанческим штабом в Татте.
Попов пригласил Кропачева в дом и начал показывать ему свои рисунки, поясняя: «Вот якутская орнаментика и различная резьба… Вот могила знаменитой дюпсинской злой шаманки, умершей триста лет назад и положенной вниз лицом, чтобы не встала».
Туземные суеверия не волновали юного комиссара, но с одним из элементов якутского геометрического орнамента он позже столкнулся при невеселых обстоятельствах. Эту деталь традиционной резьбы по дереву и металлу Кропачев видел не на седле и не на кубке для кумыса, а на руке мертвого красноармейца, убитого в стычке с артемьевцами, а потом лежавшего в амбаре, пока Строд не распорядился похоронить его вместе с другими.
Экспедиций против Артемьева было две, Кропачев участвовал во второй. Тогда и нашли трупы тех, кто погиб в первой. На руке одного из них, между кистью и локтем, ножом вырезан был большой ромб.
В газете Кропачев упомянул об этом как о чем-то не требующем специальных пояснений. Очевидно, случай был заурядный. Ромб – знак женской вульвы, о чем, надо полагать, Кропачеву было известно, хотя вряд ли он знал, что это еще и древний символ плодородия. Судя по интонации, с какой он повествует о страшной находке, ему доводилось слышать, что такие ромбы попадаются иногда на убитых повстанцами красноармейцах, но для чего именно их вырезали, неясно. Толковать смысл этой посмертной меты можно по-разному – от вульгарной демонстрации презрения к уподобляемому женщине врагу до стремления магическим способом избежать мести покойного. Мир, в котором возможны подобные вещи, Попову, конечно, был ближе и понятнее, чем его гостю.
Кропачев, больше интересовавшийся текущим политическим моментом, чем якутской этнографией, выразил пожелание, чтобы Попов «в художественных образах дал картину бандитского движения».
Тот горячо одобрил эту идею: «Материал, безусловно, богатый. Обязательно напишу, – тут же родился у него сюжет будущего полотна, – как зимой, по морозу, голого человека со скрученными руками ведут на казнь».
Тем не менее что-то в его поведении Кропачеву не понравилось. Под конец рассказа он не удержался от осторожной колкости в адрес «свободного художника»: «Садясь на коня, я видел, как он прошмыгнул с градусником по двору и скрылся в огороде. Я подумал: табак побежал укрывать».
Голый человек на морозе не случайно оказался рядом с могущим пострадать от заморозков табаком[27].
Пять месяцев спустя Кропачев стал военкомом Сводного отряда. С этого дня в течение трех с лишним недель, которые окажутся самыми важными в его долгой жизни, он будет одним из помощников Строда, а в старости станет хранителем памяти о нем, автором предисловия к его книге. Как бывает с юными типографщиками, он, похоже, мечтал стать писателем или журналистом. Некоторые места в его юношеских очерках говорят о наблюдательности и словесном даре – например, описание лошади, убитой в бою с партизанами Артемьева: «Кровь громадным комом застыла у нее на животе, и кажется, что живот ей распороли и выпустили внутренности».
Или портрет впервые увиденного им Байкалова, беглый, но точный: «Серо-зеленая суконная гимнастерка сидит на нем по-простецки и по-простецки же кобур с наганом висит на ремне, без всяких ремней крест-накрест. Годы его немолодые, но голос жесток, и сам он верток, гибок, разворотист».
Кропачев, наверное, забыл обещание, данное ему Поповым, но тот его сдержал. Правда, не скоро. То ли так сложилась конъюнктура, то ли настали времена, когда любителю шаманов и покойников пришлось доказывать свою благонадежность, но в 1940 году, почти через двадцать лет после начала Якутского восстания, Попов все-таки написал картину «Зверства белобандитов», правда не на тот сюжет, о котором он говорил Кропачеву. Голые люди на ней были, но их, привязанных к конским хвостам, тащили за собой по снегу бешеные лошади.
У Строда имелось двести восемьдесят два бойца, в том числе двадцать шесть конных для разведки. С ними 8 февраля 1923 года он выступил из Петропавловского к Амге, предварительно утопив в проруби на Алдане десять тысяч патронов, которые не мог увезти с собой, и раздав крестьянам тысячу пудов муки, двести – масла, сто – соли и сорок «мест кирпичного чая» с гарнизонных складов. Саней с лошадьми и упряжными быками хватило только на десятидневный запас продовольствия.
«Небо заволокло тучами, падал небольшой снежок, – вспоминал Строд. – Скоро весь отряд втянулся в лес. Некоторое время из деревни доносился лай потревоженных собак, но и он постепенно замер. Отряд остался одиноким, как затерянное в водных просторах океана судно».
Конкретного плана действий Строд не имел. Мысль схватиться со всей Сибирской дружиной, которая вместе с якутами-повстанцами втрое превосходила их силы, была настолько безумной, что строить планы не имело смысла. Оставалось полагаться на удачу и на судьбу.
На другой день разведка донесла, что ближайшее по пути к Амге селение Соордах занято неизвестными вооруженными людьми. Строд начал окружать эти три юрты, но «враг проскочил», оставив в одной из них двоих пленных красноармейцев, сказавших, что здесь заночевали партизаны-артемьевцы – сотня верховых якутов с тремя пепеляевскими офицерами в роли военспецов. Артемьев шел к Петропавловскому с задачей запереть там красных, а сейчас отступил в сторону Амги, чтобы засадами измотать Строда, отяготить его ранеными, задержать и тем самым обезопасить тылы Сибирской дружины.
Решено было двигаться к Амге по заброшенной старой дороге, но требовалось скрыть маневр от Артемьева, иначе тот легко перебросил бы туда своих всадников. Следовало внушить жителям Соордаха, будто бы красные, осознав невозможность борьбы с конными артемьевцами, возвращаются в Петропавловское для сбора лошадей, но не сообщать об этом напрямую, не то Артемьев заподозрил бы что-то неладное. Хозяева юрт сами должны были извлечь нужную информацию из якобы случайных разговоров бойцов между собой.
Чтобы выйти на старую дорогу, нужно было вернуться на семь верст назад, и когда утром красноармейцы покинули деревню, у соордахцев не возникло сомнений в том, что они уходят обратно в Петропавловское. Их путь можно было бы прочесть по следам, но Строду повезло – весь день и всю ночь валил густой снег.
Артемьев сутки напрасно просидел в засаде, затем отправил в Соордах разведчиков. Узнав от них, что красные повернули назад, он двинулся тем же маршрутом и только через день, в Петропавловском, понял, что Строд его обманул. Расстояние между ними составляло уже больше сотни верст, а на усталых лошадях, без фуража и провианта, сразу пуститься в погоню Артемьев не мог. Он послал Пепеляеву в Амгу гонца с донесением и этим ограничился.
Ночь на 13 февраля, как и предыдущие ночи, Сводный отряд провел в лесу, у костров. Дул сильный ветер, от разлетающихся искр у многих бойцов появились громадные дыры в обгорелых шинелях. На морозе это грозило им скорой гибелью.
Утром двинулись дальше. В тайге стали попадаться поляны, по-якутски – аласы. Завидев стоявшие на них стога сена, голодные лошади и быки норовили свернуть с дороги, опрокидывали сани и доставляли немало хлопот повозочным.
Наконец вышли на равнину. Строд увидел: «Вдали, на горизонте, высились в сизой дымке громады гор, похожие на причудливой формы облака. Покрытые выбеленной метелями чащей, они манили к себе человека. Хотелось легкой птицей улететь туда, взвиться на вершину самой высокой горы и взглядом охватить от края до края безбрежную тайгу, увидеть все скрытое от наших глаз».
Если бы его желание исполнилось, с высоты птичьего полета он мог увидеть, как из Амги навстречу ему движется пешая колонна в двести тридцать штыков под командой Вишневского.
Для последней перед Амгой ночевки проводник предложил одно из двух небольших селений – Абагу или Сасыл-Сысы. Под вечер Строд склонился ко второму варианту. Люди устали, а до Абаги было на шесть верст дальше.
Уже в темноте подошли к Сасыл-Сысы, что по-якутски значит «лисья поляна». В деревне было пять юрт, из труб «роем золотых пчел летели веселые искры». Разрешения у хозяев не спрашивали, в шуме и ругани каждый спешил поскорее попасть в тепло. Дмитриев с батальоном и обозом разместился в четырех находившихся рядом юртах, а Строд и пришедшие с ним из Амги восемьдесят два бойца – в пятой. Она стояла особняком, шагах в трехстах от остальных.
Ее хозяин, якут Алексей Карманов, хорошо понимал, чем грозит ему недостаточное радушие. «Он, – пишет Строд, – сварил целый котел мяса и отдал нам весь свой запас лепешек.
Когда выяснилось, что лепешек все же не хватило, хозяйка со старухой-матерью и двенадцатилетней дочерью быстро замесили пресное тесто из ячменной муки и напекли свежих лепешек. На столе сменилось несколько ведерных самоваров, опустел котел мяса пуда в полтора… Отяжелели желудки, отяжелели головы, захотелось спать. И немудрено – два часа ночи. Расположились на полу, вповалку, зажав в руках винтовки, поставив у дверей пулеметы. Я примостился в углу на лавке. Семья гостеприимного якута заночевала в хотоне – пристройке для скота».
Вишневский в это время стоял в лесу неподалеку от Сасыл-Сысы. Он слышал ржание лошадей, рев рвущихся к сену быков, ругань красноармейцев («Красные не могут без ругани», – отмечено у него в дневнике), но напасть решил не сейчас, а перед рассветом, в часы самого крепкого сна.
Евгений Кондратьевич Вишневский – кадровый офицер, уроженец Брест-Литовска. «Барин, но решительный», – уважительно отзывался о нем перебежчик Наха. Весной 1918 года он подполковником приехал с фронта на родину жены, в Томск, вступил в подпольную организацию, которой руководил Пепеляев, и осенью, уже в чине генерал-майора, командовал дивизией в Средне-Сибирском корпусе. Вишневский был на пятнадцать лет старше Пепеляева, но всегда или находился у него в подчинении, или признавал его первенство. Это, впрочем, не мешало их дружбе.
Вечером 12 февраля в Амгу прискакал гонец от Артемьева, а утром Вишневский с одним батальоном и офицерской ротой выступил навстречу Строду. Он собирался устроить ему засаду, но передумал, узнав, что красные будут ночевать в Сасыл-Сысы.
Под утро офицерская рота скрытно выдвинулась к деревне. Через какое-то время ее командир прислал Вишневскому записку: «Снял три поста парных часовых. Красные расположились в четырех юртах. Из труб идет слабый дым – по-видимому, спят. Весь обоз находится тут же, у юрт, в загонах. Лошади и быки выпряжены».
Здесь важно, что речь идет о «четырех юртах». Пятая, стоявшая на отшибе и занятая людьми Строда, в темноте осталась незамеченной.
Вишневский двинулся к Сасыл-Сысы и подошел к деревне с той стороны, где стояла эта юрта. Лес не доходил до нее шагов сто. За ней начинался алас, рассеченный небольшим озерцом. Все вокруг было покрыто глубоким снегом. На открытом месте он лежал более толстым слоем, чем под деревьями.
В дневнике Вишневского все последующее уложилось в две общих фразы: «В 6 час. утра 14 февраля я атаковал противника, но удалось ворваться в деревню только с юго-западной стороны. В 8 час. утра, видя бесполезность дальнейших действий, я отдал приказ об отступлении»[28].
Эти два часа вместили в себя многое.
Вишневский еще находился в лесу, когда его авангард вступил в деревню с другой стороны. Часть добровольцев задержалась у обозных саней, интересуясь их содержимым, остальные группами вошли в юрты, вначале подбросили дров в гаснущие камельки и только потом начали будить спящих. Настроены они были благодушно: «Ничего плохого мы вам не сделаем. Хорошо, что все кончилось без кровопролития».
На исходе Гражданской войны, в мире, где самый грозный враг – не противник, а мороз, красные и белые уже не питали ненависти друг к другу и постоянно предлагали друг другу сдаться. Никому не хотелось убивать таких же русских людей, как они сами. Населенная непонятным народом чужая холодная земля, за власть над которой они сражались, объединяла их равной враждебностью тем и другим.
«Давайте-ка закурим, – предлагали пепеляевцы красноармейцам, спросонья не понимавшим, что происходит. – У нас табачок харбинский, первосортный».
Входя в юрту, они прошли мимо Дмитриева, спавшего у самых дверей. От шума он проснулся, вышел на улицу и увидел у обоза каких-то людей. Как раз в это время послышались выстрелы – поднял тревогу единственный не уснувший под утро караульный пост. «А ну в цепь, мать вашу растак!» – услышав пальбу, скомандовал Дмитриев слонявшимся по двору темным фигурам, приняв их за своих.
Те бросились исполнять приказ, но один, всмотревшись, крикнул: «Вы кто такой?.. Руки вверх!»
Дмитриев мгновенно все понял, нырнул в морозный туман и вынырнул из него, когда бой почти закончился.
Разбуженные выстрелами бойцы Строда заняли оборону возле юрты. Вишневский начал атаку, но под пулеметным огнем наступающие залегли. От юрт, занятых батальоном Дмитриева, не доносилось ни звука. Туман мешал разглядеть, что там происходит. Строд послал туда двоих человек.
«Минут через пять, – пишет он, – посланные вернулись: “В юртах белые”. Я остолбенел – не верю. “Вы там не были, струсили! Застрелю!” – наставил карабин в грудь одного».
Семь лет спустя он уже не мог восстановить последовательность событий, из хаоса боя выступают лишь несколько запавших ему в память сцен.
«За нашей цепью валяются убитые быки и кони. Одна лошадь, волоча перебитую заднюю ногу, дрожа всем телом, храпит, сверкает белками полных страха глаз, ковыляет, путается между опрокинутыми санями и трупами животных. Остальные, оборвав поводья, несутся бешеным галопом. Некоторые, настигнутые шальной певучей пулей, черным бугром падают на ледяную грудь озера».
«Нас забросали японскими гранатами, но те не разрывались. Одному нашему бойцу такая граната угодила в голову. Он отделался громадной шишкой, покрутил головой, от души выругался. Потом даже улыбнулся: “Японцы держат нейтралитет”».
«Я бросился к цепи, скомандовал: “Встать! За мной, в атаку…” Закончить команду не смог. Пуля угодила мне в грудь. Я все видел и понимал, но сразу лишился голоса и точно прирос к земле – ноги мне больше не повиновались… В цепи рядом со мной стоял Кайгородцев. Он взглянул на меня: “Ты что бледный?” – “Ранен. Не говори остальным. Передавай мою команду…”».
Строд держался на ногах, пока Вишневский не начал отходить, и лишь затем, расслабившись, потерял сознание.
В крепости
Строд очнулся на лавке, где спал ночью. Ему сделали перевязку. Пуля застряла в правом легком, он харкал кровью. Другой фельдшер перевязал двух пепеляевских офицеров. Одного подобрали и принесли в юрту красноармейцы, другой приполз сам, чтобы умереть в тепле. Строд запомнил, как рядом застонал его раненый боец, но когда хозяйка юрты поднесла к его губам кружку с водой, замотал головой, чем «сконфузил» молодую женщину. По-якутски вода – «уу», она приняла стон за просьбу дать напиться.
Туман рассеялся и лишь вдали, над тайгой, плавал «разорванными клочьями». Когда взошло солнце, глазам победителей предстали ужасные итоги отгремевшего боя: испятнанный кровью снег, десятки трупов людей и животных. Встреча началась предложением покурить вместе и завершилась побоищем. На аласе осталось лежать до полусотни солдат и офицеров Вишневского, а в Сводном отряде каждый седьмой был убит, каждый десятый – ранен, в том числе все командиры рот. Строд не мог встать на ноги, но передать командование было некому. Дмитриев объявился на исходе боя, поэтому «не пользовался необходимым в такой момент авторитетом».
Вишневский отступил в деревню Табалах в пяти верстах к югу. Понятно было, что он уже послал нарочного к Пепеляеву, вечером или завтра утром генерал с главными силами будет здесь, но отряд не в состоянии был тронуться с места, или пришлось бы бросить раненых. «Перебил почти весь обоз», – без преувеличений донес Вишневский в Амгу. Не сумев разбить Строда, он приковал его к Сасыл-Сысы. На ночь лошадей и быков выпрягли из саней, и те, что не погибли, разбежались. Уцелели единицы.
Лежа на лавке, Строд распорядился покинуть остальные четыре юрты и всему отряду перейти в ту, где находился он сам. На оборону деревни сил не хватало, решено было укрепиться в отдельно стоящей усадьбе Карманова. Из других дворов притащили дрова, сено для подстилок и, главное, бруски замороженного конского и коровьего навоза – балбахи (балбах по-якутски «навоз»). Якуты копят их в течение года, а весной используют как удобрение, но повстанцы догадались применить балбахи для строительства оборонительных сооружений. Укрепления из мерзлого навоза Строд впервые увидел год назад, при штурме Табаги, и знал достоинства этого материала. Балбаха представляет собой плиту длиной приблизительно 70 см, шириной и толщиной – 15–20. Пепеляев говорил, что пуля не пробивает две положенные рядом балбахи; по наблюдениям Строда, как раз два таких бруска пуля и пробивает, третий раскалывает, четвертый остается неуязвимым. Разбить четыре слоя балбах можно лишь сосредоточенным пулеметным огнем.
Сразу после боя под руководством друга Строда, Иннокентия Адамского, начали строить стену из навозных плит. Их ставили по четыре-пять штук в ряд, проделывая бойницы для пулеметов. Стену присыпали снегом и полили водой, а мороз зацементировал эти «окопы», позволявшие передвигаться за ними в лучшем случае на четвереньках, и то лишь в непосредственной близости от них. Все остальное пространство усадьбы простреливалось с окружавших алас невысоких пологих холмов. Ближайшие находились на расстоянии полутора-двух сотен метров.
Семья Карманова, пережив один бой, спешила уехать до начала нового: «Хозяйка в первую очередь ухватилась за ребятишек. Она укутала их в грязные, с порванной покрышкой, заячьи одеяла, посадила каждого малыша в большую кожаную суму, которую ловко зашнуровала мягким тонким ремешком из лосиной кожи. Из сумы выглядывала только детская головка». Отец семейства запряг быков и стал собирать «свой немудреный скарб»: «Все полетело в общую кучу: подушки, торбаса, горшки, рыболовная сеть, берестяные туеса, разные шкуры. Пыль и пух густо висели в воздухе. Хозяин до того запарился, что на просьбу жены увязать последнего ребенка схватил стоявший рядом с люлькой самовар и стал засовывать в предназначенную для ребенка суму. Грустно и тяжело было видеть, как торопились люди покинуть насиженный угол и бросали на произвол судьбы свое маленькое, но с огромным трудом сколоченное хозяйство».
Кармановы считались людьми среднего достатка, бревна в стенах их юрты были уложены горизонтально, как в русских избах (сказывалась близость Амги), а не приставлены наклонно к бревенчатому каркасу, как в юртах победнее. Внутри, надо полагать, царили обычные в якутских жилищах опрятность и порядок – аккуратный камелек в центре, нары у стен, по левой от входа стене – полки для кухонной посуды, здесь же шкафчик для мелочи и чашек из грубого фарфора, но белых и чистых. Стол вымыт щеткой и вытерт, сияют начищенный самовар и медный чайник. По утрам все члены семьи мылись из тазика и полоскали зубы теплой водой. В тот день хозяевам было не до гигиены, но оставшийся после их отъезда беспорядок стал лишь слабым подобием будущего разгрома. Осада – это скученные на небольшом пространстве людские тела, вши, вонь, грязь и хаос.
Посылать кого-то в Якутск днем не рискнули, но когда стемнело, боец Константинов, здешний якут, знавший местность, на чуть ли не единственной оставшейся в живых тощей лошаденке повез Байкалову донесение с отчетом об уходе из Петропавловского, о бое с Вишневским, координатами («Стоим в шести верстах северо-восточнее Абаги, в Дженкунском наслеге») и просьбой о «срочной выручке».
На словах Константинову велели передать: «Лучшие наши командиры ранены. Строд ранен в правую половину груди, ранение слепое. Дышит тяжело».
На всякий случай донесение зашифровали (использовался шифр «Америка»). На пакете имелась помета «аллюр», но лошадь под гонцом явно «не могла развить требуемой скорости». Строд опасался, что она вообще падет, Константинову придется идти пешком, а если он не сделает в первую ночь семьдесят-восемьдесят верст, его нагонят.
К вечеру того же дня Пепеляев, оставив в Амге сотню человек под командой Андерса, со всеми остальными поспешил к Вишневскому в Табалах. Утром 15 февраля оба они уже были в Сасыл-Сысы, и двое из недавно плененных красноармейцев принесли Строду пакет с письмом от генерала. «Вы, – говорилось в нем, – окружены с трех сторон Сибирской добровольческой дружиной и повстанческими отрядами. Сопротивление бесполезно. Во избежание напрасного кровопролития, исключительно ради сохранения жизни красноармейцев, предлагаю сдаться. Гарантирую жизнь всем красноармейцам, командирам и коммунистам…».
Времени на размышление было немного. Письмо доставили в 11.15, а ответ следовало дать до 12.00.
Предложение Пепеляева зачитали вслух в присутствии всех бойцов. Чтение, как пишет Строд, часто прерывалось «возмущенными возгласами», и ответ был якобы единодушным – нет, но наверняка дело обстояло не так просто. Сам Строд, кажется, не был уверен, есть ли смысл принимать неравный бой. На него накинули оленью доху и под руки вывели во двор – осмотреть укрепления из балбах, которых он еще не видел. Нужно было возвести их по всему периметру усадьбы, имевшей около ста метров в длину и тридцать-сорок в ширину, но оказалось, что «окопы» прикрывают ее только с фронта, фланги и тыл не защищены.
Чтобы исправить положение, требовалось много больше времени, чем оставалось до указанного в ультиматуме срока, и в ответном письме Строд попросил об отсрочке до 16.00 – под предлогом, что не может в одиночку решить вопрос такой «громадной важности», нужно созвать общее собрание.
Двум бойцам вручили это письмо и палку с привязанным к ней носовым платком. Шагах в трехстах за линией караулов их остановили, обоим завязали глаза и, держа за руки, привели в одну из тех четырех юрт, где батальон Дмитриева провел предыдущую ночь. Повязки сняли уже внутри.
За столом сидели пятеро в одежде без погон. На вопрос, кто из них Пепеляев, отозвался шестой, которого парламентеры поначалу не заметили. Высокий, с черной бородой, он стоял у горящего камелька и подкладывал в него дрова. На нем были оленьи камусы (меховые чулки) и «вязаная красная фуфайка» явно домашнего происхождения. Вероятно, перед отъездом в Якутию ему связала ее жена или мать, Клавдия Георгиевна.
Прочитав письмо Строда, Пепеляев посовещался с Вишневским и сказал, что согласен на отсрочку. «Если почему-либо ваши командиры не согласятся на сдачу, и я поведу наступление, стреляйте в воздух, – на прощание посоветовал он парламентерам. – Помните, что я никого не расстреливаю».
Тем временем в усадьбе Карманова кипела работа. Укрепления перестроили, и в 15.30, на полчаса раньше срока, Строд продиктовал новое письмо Пепеляеву: сдаться он отказывался и сам предлагал генералу сложить оружие.
Это его письмо существует в двух вариантах, мало похожих друг на друга. Первый из них семь лет спустя Строд привел в своей книге «В якутской тайге»: «Вы бросили вызов всей советской Сибири и России, – клеймил он только что обманутого им генерала и одновременно, как положено человеку, испившему от мудрости масс, давал понять, что его самого обмануть невозможно. – Вас пригласили сюда купцы-спекулянты и предатель-эсер Куликовский. Народ не звал вас. С оружием в руках он встал на защиту Советской власти…»
Скорее всего, этот вариант – плод коллективного труда автора и издательских работников разного уровня. Подлинное письмо Строда вдвое длиннее придуманного задним числом, написано просто и с большой эмоциональной силой.
Вначале Строд указывал Пепеляеву, что тот имел «частичный успех благодаря разбросанности гарнизонов», но теперь «силы стянуты», белые уже не могут рассчитывать на победу. Затем объяснялось, почему капитуляция, пусть на самых выгодных условиях, для него неприемлема: «Наша сдача может лишь углубить Гражданскую войну, разорить еще более и без того разоренный край. Разве с нашей стороны это не будет громаднейшим нравственным преступлением?»
Были, разумеется, и другие побуждения, менее идеалистические, но честолюбие, гордость, мужской азарт, боязнь порицания точно так же действовали на противную сторону, разнились именно рациональные мотивы. Пепеляев считал, что если не свергнуть «коммунистическую власть», в будущем число ее жертв многократно превысит понесенные в борьбе с ней потери, а Строд видел всю бессмысленность этой войны, ведущей только к новым жертвам, и считал долгом прекратить ее как можно скорее.
Об отсутствии у Пепеляева перспектив мог бы написать любой современник, о капитуляции как «нравственном преступлении» – далеко не всякий из начальников Строда, а последнюю фразу письма – только он. Она вызывает доверие к искренности автора, способного в таких обстоятельствах обратиться к противнику с таким призывом: «Ключ к прекращению Гражданской войны в ваших руках, не бросайте же его в море крови, а откройте им дверь мира»[29].
Были опасения, что Пепеляев, получив отказ, поймет, для чего понадобилась отсрочка, и может арестовать парламентеров, поэтому послали не двоих, как утром, а одного. Скоро он вернулся с лаконичным ответом: «Переговоры считаю законченными. Открываю военные действия».
Их, однако, не последовало ни в этот день, ни на следующий, ни еще в течение двух суток.
Наутро осажденные почувствовали, а потом убедились, что и в остальных юртах Сасыл-Сысы, и в соседнем березняке, и у озера нет ни души. Ночью все шестьсот пепеляевцев исчезли, и не у кого было спросить, куда они подевались: в страхе перед войной жители покинули свои дома, как и семья Карманова. Разведчики обшарили местность в радиусе шести-семи верст, но никого не нашли,
«Это нас и обрадовало и озадачило, – вспоминал Строд. – Кое-кто высказывал предположение, что, наверное, к Амге подходят наши из Якутска, и Пепеляев бросился им навстречу, оставив нас в покое, но, поразмыслив, мы решили, что это военная хитрость. Пепеляев открыл ловушку, пытаясь выманить нас из укреплений, чтобы напасть в удобном для него месте и разбить».
Вишневский, однако, ни словом не обмолвился о том, что они с Пепеляевым уводили дружину из-под Сасыл-Сысы. В позднейшем комментарии к дневниковой записи того времени он приводит иную причину трехдневного промедления с атакой на усадьбу Карманова: «Из захваченного донесения Строда в красный штаб, в котором он сообщал о своих потерях, своем ранении, упадке духа среди красноармейцев, просил о срочной присылке отряда к нему на выручку, у генерала Пепеляева появилось убеждение, что Строд вынужден будет сдаться без боя, а потому до 18-го (февраля. – Л. Ю.) включительно он вел с ним переговоры о сдаче».
Строд тревожился не зря: обессилевшая от голода лошадь пала под Константиновым в первую же ночь, его схватили и доставили в Амгу. Код «Америка» не затруднил дружинных шифровальщиков, а на допросе гонец выдал все, что ему велели передать устно. Пепеляеву стало ясно, что положение осажденных еще хуже, чем он думал, отсюда – надежды на капитуляцию Строда, тем не менее никаких переговоров с ним больше не велось. Недаром Вишневский написал о них не в самом дневнике, а в позднейших примечаниях.
Свой дневник он готовил к изданию в 1932 году, к десятилетию Якутской экспедиции. На юбилейной волне в Харбине ожили все старые эмигрантские претензии к Пепеляеву, но Вишневский не позволил себе никакой критики в его адрес. Ему не хотелось упрекать друга, и неудачу похода он объяснял стечением роковых случайностей, а не ошибками командующего. Возможно, запись о его наивных расчетах и нелепых надеждах была вычеркнута при публикации, но сам факт, что после обмена письмами Сибирская дружина ушла из-под Сасыл-Сысы, сомнению не подлежит. Об этом Строд потом говорил на судебном заседании, в присутствии самого Пепеляева, и не стал бы лгать ему в лицо. У него не было причин для такого обмана, а у Вишневского для умолчания – были.
Пепеляев не столько, может быть, хотел выманить Строда из его убежища и завлечь в капкан, сколько надеялся, что если предоставить красных самим себе, начнется дезертирство, отряд развалится, тогда удастся обойтись без жертв с обеих сторон. Впрочем, был тут и другой смысл. Уходя, он посылал Строду сигнал с предложением, которое, будучи передано словами, никогда не было бы принято. Суть его – в следующем: я не хочу вас убивать, не хочу брать на душу вашу кровь и кровь тех, кого убьете вы, а так как я обещал отпустить всех, кто сложит оружие и не пожелает вступить в Сибирскую дружину, вы вольны, не унизив себя капитуляцией, идти куда угодно, только не оставайтесь там, где вы сейчас – иначе мне придется начать штурм, чтобы, когда я уйду из Амги в Якутск, вы не могли ее захватить и угрожать мне с тыла.
Не исключено, что Строд сумел прочесть адресованное ему бессловесное послание, но уйти было не в его силах. Обоз перестал существовать, не на чем было везти не только пулеметы и боеприпасы, но и раненых, и лошадиные туши, ставшие для отряда единственным продуктом питания. Трагизм ситуации заключался в том, что Строд, даже если бы захотел, был не в состоянии покинуть Сасыл-Сысы, а Пепеляев не мог оставить его на месте без риска получить удар в спину. На три недели они оказались прикованы друг к другу, но при всей брутальности этого противостояния оба повели себя так, что едва ли не впервые за пять лет Гражданской войны в России она утратила характер войны религиозной с обычной для таких конфликтов бесчеловечностью, ибо их цель – не победить врага, а уничтожить его или обратить в свою веру. Прозвучавший из уст Пепеляева призыв к милосердию был услышан и поддержан Стродом, в чем сам он ни за что бы не признался.
«Море крови», о котором он писал, убеждая Пепеляева не бросать туда «ключ» от дверей еще возможного примирения, для нормальных, в сущности, людей, не маньяков и не профессиональных убийц, сделалось метафорой мира, где они устали жить. Осада Сасыл-Сысы обернулась кошмаром для обеих сторон, при всем том и красные, и белые сумели обойтись без зверств, без идеи священной мести, даже без ненависти и едва ли не с жалостью к противнику, обманутому своими начальниками, которых в свою очередь тоже кто-то обманул.
Пользуясь моментом, Строд вслед за Константиновым отправил в Якутск еще двоих лыжников, для легкости вооруженных лишь наганами и парой гранат на человека. У обоих в чулках-камусах спрятаны были записки одинакового содержания.
Пока пепеляевцы отсутствовали, красноармейцы разобрали на дрова амбар, срубили в лесу десятка три деревьев и разложили их за «окопами», верхушками в сторону противника. Получилось «нечто вроде засеки, правда довольно жалкой». На озере накололи и притащили во двор глыбы льда вместо воды. Запасти воду не могли, зимой озера в Якутии промерзают до дна.
О том, чтобы лишить противника «базы» и сжечь остальные четыре юрты, Строд не думал. Для него, в отличие от Байкалова, планировавшего спалить Амгу и ругавшего Карпеля за то, что не сжег Нелькан, это было не имеющей особого смысла жестокостью по отношению к якутам, которые рано или поздно вернутся в свои дома.
Тем временем Пепеляев, узнав, что его расчеты не оправдались, вечером 18 февраля возвратился в Сасыл-Сысы. Ночью завязалась перестрелка между караулами, а в семь утра начался штурм[30].
«Ночь приближалась к концу, – пишет Строд. – В сгустившуюся темь большими белыми заплатами вкрапливался туман… Сквозь его белую пелену не дальше как в двадцатитридцати шагах от караула смутно виднелись силуэты людей… Предутреннюю тишину разорвала предостерегающая дробь наших пулеметов. Навстречу белым окоп громыхнул вспышкой залпа. Посыпалась дробная разноголосица выстрелов. Падали идущие впереди люди, а на смену им шли другие. Лесная опушка выбрасывала на Лисью поляну все новые цепи».
Со стороны леса атаку возглавил сам Пепеляев, со стороны озера – Вишневский. Дважды атакующие подходили на пару десятков шагов к стене из балбах, но оба раза, не дойдя до засеки, под пулеметным огнем залегали, а после отступали к лесу или к юртам. Когда в час дня атаки прекратились, многие красноармейцы поморозили ноги. На складах в Петропавловском не было зимнего обмундирования, бойцы батальона Дмитриева носили шинели и ботинки. Строд был в «катанках», но и ему нелегко дался шестичасовой бой при сорокаградусной стуже: «Самому жарко, с лица льет пот, а ноги без движения стынут».
На морозе «организм терял много энергии и требовал пищи». Под обстрелом подтащили к укреплениям лошадиные туши, отрубали куски мороженого мяса и глодали сырым. Воду заменял грязный снег. С этого дня и до конца осады всех мучал кашель.
Около трех часов пополудни Пепеляев возобновил наступление. Снег на аласе был вытоптан во время предыдущих атак, идти было легче. В эти минуты у осажденных пуля разбила затвор «льюиса», а у «кольта» были ранены все номера расчета. Единственный раз за все время осады пепеляевцы прорвались за линию «окопов». Их выбили, но в схватке погиб Адамский, ближайший друг Строда со времен боев с Семеновым и Унгерном в Забайкалье.
Назначив «начальником обороны» комвзвода Дмитрия Жолнина, ослабевший Строд уполз в юрту. У тех, кто в ней оказывался, поначалу возникало чувство безопасности, хотя она не могла служить защитой: «Пули пронизывали стены насквозь, летели низко над полом. Чтобы не попасть под них, нельзя было не только стоять, но даже сидеть. Все в юрте плотно прижимались к земле, чтобы избежать смерти».
Вечером атак не было, но перестрелка ослабевала медленно и прекратилась лишь после полуночи.
С рассветом подсчитали потери. При наилучших намерениях и беззлобном отношении друг к другу они оказались огромны: у Пепеляева – свыше сотни убитых и раненых, у Строда – около шестидесяти.
Весь следующий день и первая половина ночи прошли спокойно, а около трех часов осажденные почувствовали, что готовится атака, на этот раз – ночная. Кто-то вспомнил, что среди отрядного имущества есть пять ракет, четыре осветительных и одна сигнальная. «Когда шум в лесу усилился и стал приближаться, – рассказывает Строд, – взвилась ракета и, разорвав черное покрывало ночи, осветила поляну, окопы и опушку леса. Следом взметнулась вторая. На короткое время сделалось светло как днем. Затем обе ракеты падающими звездами полетели вниз, мягко стукнулись о землю и с тихим шипением, испуская трепетный матовый свет, погасли. Густой мрак снова окутал поляну, юрту, лес. Началась перестрелка, которая продолжалась до утра, но атака белых не состоялась».
Утром Вишневский, сильно сгустив краски, донес Пепеляеву, накануне уехавшему из Сасыл-Сысы в Амгу: «Красные имеют большой запас ракет и беспрерывно освещаются. Это отрицательно действует на дружинников».
После вчерашнего восемнадцатичасового боя никто не рвался опять идти под пулеметы. Вишневский воспользовался этими ракетами как предлогом не начинать новый штурм, но назавтра в Сасыл-Сысы прибыло несколько саней, груженных зеркалами «самых разнообразных форм и размеров». Зная Пепеляева, можно с уверенностью сказать, что их не конфисковали у жителей Амги, а с выгодой для хозяев выменяли на мануфактуру или на охотничьи припасы. Очевидно, для сохранности при перевозке зеркала завернули во что-нибудь мягкое или переложили сеном, но на месте у них было немного шансов уцелеть – им предстояло пасть в борьбе с осветительными ракетами противника. Предполагалось расставить их вокруг позиций Строда, чтобы свет запущенной оттуда ракеты, отражаясь от множества зеркальных поверхностей, освещал и ослеплял самих осажденных, но насколько технически удачна сама идея, выяснить не удалось.
«Во-первых, – иронизирует Строд, – у нас не было ракет, против которых зеркала предназначались, а во-вторых, наступили лунные ночи».
Тридцать пять кирпичей чая
В сентябре 1922 года, сразу по прибытии в Аян, Пепеляев на «Защитнике» послал в Охотск генерал-майора Василия Ракитина с группой офицеров, чтобы набрать отряд из укрывшихся там повстанцев Коробейникова и наступать на Якутск севернее направления главного удара. Четыре года назад Ракитин носил капитанские погоны, генералом стал после Ледяного похода из Красноярска в Забайкалье, когда все его участники получили повышение сразу на два чина. Во Владивостоке он числился при штабе Вержбицкого на сомнительной должности «генерала для поручений», пока вовсе не был уволен из армии. По классификации Соболева, Ракитин принадлежал к четвертой категории добровольцев – тем, «кому деваться было некуда и есть нечего». Пепеляев считал его «плохим воякой», поэтому приставил к нему энергичного и храброго полковника Худоярова.
В Охотске им удалось навербовать до двухсот якутских беженцев. С этим отрядом они выступили на запад, но точно так же, как Пепеляев в Нелькане, из-за отсутствия оленей и осенней распутицы на два месяца застряли в тайге, на бездействующей телеграфной станции Арка в двух сотнях верст от побережья. Отсюда относительно недалеко было до станции Алах-Юнь, где год назад страшной смертью погибли несчастные людоеды из охотского ревкома, а теперь сидели полуживые от голода бойцы батальона, в конце лета отправленного Байкаловым в Охотск, но так и не сумевшего пройти дальше на восток. Когда туда добрался наконец обоз с продовольствием, красноармеец, первым получивший буханку хлеба, обнял ее обеими руками, как ребенка, прижал к груди и заплакал. К тому времени были съедены все лошади, варили конскую кожу, уздечки и подпруги, правда на этот раз до каннибальства не дошло. В ноябре батальон вывели из Алах-Юня в село Чурапча, отстоявшее от Якутска примерно на такое же расстояние к востоку, как Амга – к юго-востоку. Ракитин и Худояров, голода не испытавшие, проделали этот путь месяцем позже, в декабре.
Первым с двадцатью якутами выступил Худояров. В поселке Крест-Ходжай он встретил пришедший из Оймяконского округа отряд повстанца Оросина и присоединил его к своему. Во главе объединенных сил общей численностью человек в восемьдесят Худояров занял село Татта, «для форсу» поругался по телефону с красными в Чурапче и Амге, тогда еще не взятой Рейнгардтом, после чего снял телефонный аппарат и закрепился в деревне Олба. Оттуда, по местным масштабам, до Якутска было рукой подать, и встревоженный Байкалов послал в Таттинский улус тамошнего уроженца, поэта и драматурга Софронова-Алампу, поручив ему донести до земляков обещание амнистии всем повстанцам-якутам, вставшим под знамена Пепеляева. Гарантами выступали сопровождавшие его брат и сын командующего – Жарных-Некундэ и восемнадцатилетний Матвей.
На лесной дороге возле Олбы они встретили якутов Худоярова. «Отряд, заметив делегацию, рассыпался цепью по обеим сторонам дороги и, подпустив, окружил их, – рассказывает Никифоров-Кюлюмнюр. – Тут солдаты узнали Софронова, многие бросились к нему целоваться с радостными возгласами, забыв о дисциплине».
Народного любимца Худояров благоразумно не тронул, а Жарных и Байкалова-младшего сгоряча арестовал, но скоро отпустил в Якутск, вернув им даже маузеры. Держать их под арестом до «суда Народной власти», как приказывал Пепеляев, он не мог, ни один якут не пошел бы к ним в тюремщики из страха, что Байкалов отомстит за нанесенные его «родовичам» обиды.
Худояров, «тип настоящего разбойника», как отзывался о нем Никифоров-Кюлюмнюр, должен был «отказаться от всяких насилий» и вести себя «скромно». В этой роли, навязанной ему обстоятельствами и Пепеляевым, лихой полковник порой выглядел комично. Когда при налете на Татту ему достались бумаги уполномоченного ГПУ, в том числе список «агентов из населения», он охарактеризовал этих людей как «потерявших общественную совесть» и в своем приказе повелел им «в однодневный срок» выехать в Якутск.
Строд назвал этот приказ «взмахом картонного меча», хотя вернее было бы сравнить его с попыткой устрашить врага тенью меча настоящего. Худояров грозил ослушникам военно-полевым судом, но и здешний резидент ГПУ, родной брат председателя ЯЦИК Ойунского, и его улусная «агентура» даже не подумали куда-то уезжать и спокойно дожили до прихода красных.
Задержавшийся в пути Ракитин появился здесь уже после того, как Рейнгардт взял Амгу. Дожидаясь, пока красные в Сасыл-Сысы сложат оружие, Пепеляев приказал ему и Худоярову «маневрировать» возле Чурапчи, чтобы выведенный туда из Алах-Юня батальон, командование которым принял краском Ефим Курашов, не мог ни помочь Строду, ни соединиться с Байкаловым.
К середине февраля план кампании, выработанный Пепеляевым еще осенью, в Нелькане, почти полностью претворился в жизнь. Все стрелы, начерченные им на штабной карте, через горы, тайгу и снежные пустыни прилетели туда, куда он их направил пять месяцев назад, и готовы были вонзиться каждая в свою цель. Порядок нарушал лишь засевший в навозной цитадели Строд.
В другое время Пепеляев не стал бы медлить с новой атакой на Строда, но после взятия Амги он впервые с начала похода был полон оптимизма. Казалось, в войне наступил перелом, промедление в два-три дня ничего не изменит. Отступает чувство обреченности, заставлявшее всегда ожидать худшего. Когда в Амгу потянулись недавние сторонники советской власти, Пепеляев уверовал в ее близкий конец.
Первым приехал видный некогда общественный деятель, тойон Дмитрий Слепцов, представлявший Якутскую область на празднествах в честь трехсотлетия дома Романовых в Петербурге. Он рассказал, что на собрании национальной интеллигенции в Якутске принята резолюция о сотрудничестве с правительством ЯАССР, но это сделано только из тактических соображений – «во избежание уничтожения интеллигенции». Как говорил Пепеляев, «Слепцов заверил нас, что с подходом нашим к Якутску все будут с нами».
Еще сильнее обнадеживало появление в Амге представителей Нарревдота, то есть Народно-революционного добровольческого отряда, сформированного из примирившихся с советской властью якутских интеллигентов и амнистированных повстанцев. В нем насчитывалось двести с лишним человек во главе с бывшим повстанческим командиром Михайловым; начальником штаба стал Карпель, свободно говоривший по-якутски. Штаб и политотдел остались в Якутске, а «экспедиционная» часть Нарревдота стояла на реке Амге, в пятидесяти верстах выше Амги-слободы. Никифоров-Кюлюмнюр уверяет, будто Пепеляев хотел от Усть-Миля идти прямиком на Якутск, минуя слободу, но, обнаружив, что этот путь занят Михайловым, изменил маршрут, так как «узнал твердую готовность Нарревдота дать ему отпор и понял, что столкновение с ним вооружит против него все якутское население, чего он больше всего боялся».
Плана выйти к Якутску в обход Амги у Пепеляева никогда не было, а Нарревдот готовился не к «отпору», а к тому, чтобы всеми способами уклоняться от участия в боевых действиях. Зная, что Рейнгардт идет к Амге, Михайлов не сделал даже попытки помочь ее гарнизону, но как только слобода пала, послал туда парламентеров. «После долгих переговоров, – рассказывал Пепеляев, – они согласились перевести отряд к нам, но не сейчас, а ближе к Якутску». На деле это означало, что окончательное решение Михайлов примет не раньше, чем определится победитель, а до тех пор каждая из сторон должна числить его в своем стане. Пепеляев мог быть уверен, что Нарревдот не придет на помощь Строду, но в целом якутская интеллигенция не оправдала его ожиданий. Он обвинял ее в двуличии, предательстве, своекорыстии, не понимая, на какой тонкой грани между природой и цивилизацией балансируют якуты, как быстро настигнет их разорение, а то и вымирание, если в момент исторического выбора интеллигенция, ведя за собой «простой народ», поставит не на того игрока.
При штабе Сибирской дружины не состояли шаманы, Пепеляев не обращался к ним за предсказаниями, как Унгерн – к монгольским ламам. Он едва знал десяток якутских слов, не пытался ввести в военную форму или нанести на знамена элементы национальной символики, не имел ни малейшего представления о якутской мифологии и не апеллировал к ней в своих манифестах. Ему претила любая идеологическая эксцентрика, и все же он слишком мало интересовался жизнью народа, ради освобождения которого из-под ига «красных тиранов» приплыл сюда из Владивостока. Как народник он сочувствовал мирным незлобивым якутам, не очень-то вникая в их отличия от тунгусов, но умозрительная жалость – не лучший способ понять чужую душу.
Пепеляев недооценивал проницательность своих союзников, их умение сразу видеть суть человека, необходимое при жизни небольшими изолированными сообществами, когда каждый незнакомец представляет собой потенциальную угрозу.
«Вследствие мирного образа жизни якуты не могут быть названы храбрецами, но они сразу понимают ум, убеждения и характер людей, с которыми вступают в разговор, без труда постигают смысл высокой речи, угадывают обстоятельства, о которых будет идти речь. Найдутся немногие лукавые русские, которые смогут обмануть простого якута», – отмечал чиновник Афанасий Уваровский, живший в Якутии в первой половине XIX века.
Его мнение подтверждал сосланный в Якутию народоволец Владимир Иохельсон: «Едва ли найдется на земном шаре какой-нибудь первобытный народ без школы и письменности, который состоял бы из таких искусных дипломатов, как якуты. Невольно поражаешься, когда видишь, как невзрачный якут в глуши улуса обнаруживает тонкое знание людей, способность льстить, умение приводить в движение тайные пружины тщеславия и притворяться наивным. Политика будто сделалась врожденной чертой его характера».
Пепеляев оказался бессилен против этого древнего туземного оружия, отточенного в стенах реальных училищ, духовных и учительских семинарий.
«После того, как белобандиты украли у нас Амгу-слободу, на их сторону стали склоняться колеблющиеся, – задним числом признавал Байкалов. – Наши мещанские барышни в городе уже слышали звон шпор белой офицерщины».
Осенью этим барышням крепко досталось как пепеляевской «пятой колонне», а сейчас они опять стали мишенью фельетонистов:
- Ждали беленьких недели,
- Ночью блюдечки вертели,
- Днями карты раскладали —
- Все гадали и гадали.
- Карты с блюдцем говорили,
- Что Байкалова разбили,
- И спаситель-генерал
- Строда в плен уже забрал.
К трехлетней годовщине казни Колчака не преминули вспомнить о расстрелянном вместе с ним Викторе Пепеляеве: «Он выказал себя презренным трусом, ползал на коленях, умоляя сохранить ему жизнь». Рожденная в офицерской среде легенда о неспособном взглянуть в лицо смерти штатском либерале, кадете, говорившем, что «левые слишком мало любят Родину, а правые – свободу», оттеняла мужество адмирала, но бросала тень на Пепеляева-младшего.
Разоблачить его в глазах интеллигенции, в том числе якутской, поручили перебежчику Вычужанину. Он выполнил заказ талантливо, по всем правилам информационной войны.
«В последнее время в городе распространяются разговоры о генерале Пепеляеве, – смело начинал Вычужанин свою заметку, самой констатацией этого факта вызывая доверие к себе. – Говорят о его якобы “революционном” прошлом, о его “правдивых письмах”, которые он послал властям республики… Я хочу сказать несколько беспристрастных слов по поводу его письма, подобранного экспедицией, в которой я принимал участие…»
Имеется в виду экспедиция Строда в Нелькан, где Вычужанин и Наха должны были склонить бывших товарищей к капитуляции. По пути туда и был обнаружен привязанный к верхушке воткнутого в снег шеста пакет с генеральскими воззваниями.
Забыв о намерении «беспристрастно» рассмотреть содержание найденного письма, Вычужанин сразу переходит к его автору и сообщает, что в Аяне, перед уходом в Нелькан, на «пирушке» с участием всего командного состава дружины, пьяный Пепеляев сказал: «Господа офицеры, возьмите себя, свои души и сердца, в руки, не показывайте своих карт народу раньше времени. Я стану большевиком, если это понадобится. Когда мы будем сильны, когда мы будем у власти, тогда продиктуем, что хотим, а пока вспомним дорогое для нас время адмирала Колчака и споемте “Боже, царя храни”». Прямая речь с попыткой передать интонацию, а не только смысл сказанного придавала убедительность рассказу, хотя Пепеляев вообще не пил, да и в трезвом виде вряд ли мог говорить что-то подобное. «Я народник, – записано у него в дневнике, – ненавижу реакцию с ее местью, кровью, возвращением к старому».
Вычужанин придает ему сходство не с Ганнибалом, как Байкалов, а скорее с Писарро или Кортесом. Его добровольцы – снедаемые алчностью конкистадоры: «Как стая бродячих шакалов, высадились они на берегах Якутии, спрашивая: “А где тут золотые россыпи и соболя?”»
Пепеляев славился бескорыстием, и последний удар Вычужанин нанес по его репутации бессребреника: он якобы согласился возглавить Якутскую экспедицию лишь после того, как Куликовский выдал ему «на личные нужды» тридцать тысяч рублей золотом.
Пропаганда шла своим чередом, а подготовка к войне – своим. Велась запись добровольцев, собирали валенки, мобилизовывали лошадей, запасали фураж. Особенной активностью в пожертвованиях отличились «бабовидные махринские скопцы», не ожидавшие ничего хорошего от сторонников преследовавшего их старого режима и еще не успевшие получить все то же самое от новой власти. Карпелю, хорошо зарекомендовавшему себя при организации Нарревдота, поручили сформировать отряд ЧОНа. Под ружье ставили всех, кого могли, вплоть до подростков, сбежавших из дому в поисках приключений. Появилась дружина из объединенных по непонятному принципу «мусульман и мадьяр».
Многие сомневались, что Пепеляева удастся остановить. Больше надеялись на летний реванш, при этом понимали, что за оставшиеся до навигации четыре-пять месяцев и в Москве, и в Сибири может случиться всякое. Даже в центре, не говоря уж о таких дремучих окраинах, как Якутия, новые хозяева жизни еще не до конца поверили в прочность ими же созданного режима; появившаяся на третий день после падения Амги передовая статья в «Автономной Якутии» похожа на заклинание будущего, которое нужно со страстью призывать, чтобы оно наступило: «Придет весна, и придет самое страшное и последнее для генерала Пепеляева – придут пароходы с верховьев Лены, а из Владивостока на Охотском побережье высадится красный десант…»
Морозы не спадали, ежемесячно публикуемая в той же газете уголовная хроника целиком состояла из сообщений о краже дров, оленьих дох, рукавиц, торбасов, меховых одеял и мороженой рыбы. В обнищавшем городе воровать больше нечего, но в этом унылом списке выделяется один пункт: с квартиры Байкалова неизвестные похитили тридцать пять кирпичей плиточного чая. По местному обменному курсу это равнялось более чем полутора килограммам золота.
Информация небезобидна и просочилась на газетную полосу по чьему-то недосмотру или, скорее, злому умыслу. Из нее можно сделать разные выводы, в том числе такой: Байкалов допускал, что Якутск будет сдан, придется уходить в тайгу и оставаться там до прибытия помощи из Иркутска. На этот случай он и запасался таежной валютой.
Стены ада
На второй день после штурма иссяк запас льда, осажденные остались без воды. Раненые просили пить, но не было даже снега. Во дворе его весь вытоптали, отправиться за ним в лес или на алас можно было только в темноте, а когда стемнело, оказалось, что ночь – лунная. Тем не менее трое добровольцев взяли по мешку и выползли за линию укреплений. В «лунной светлой мути» они отчетливо выделялись на белом фоне, по ним начали стрелять. Один погиб, двое были ранены и вернулись ни с чем. В следующей паре одного тоже ранило, второй ухитрился притащить немного снега. Из него натопили и распределили между тяжелоранеными несколько кружек воды.
Под утро луна должна была скрыться за цепью гор, но за недолгое время между ее закатом и восходом солнца три-четыре человека не успели бы набрать столько снега, чтобы обеспечить отряд водой на целый день. У санитаров нашлись простыни, сшили три маскхалата, и все равно снегоносов заметили, пришлось поддерживать их огнем, пока они, припав к земле, нагребали в мешки снег. Его хватило сварить конину, выдать по две кружки воды на раненого и по одной – на здорового.
«Красные вынуждены были делать вылазки за снегом, в это время их стреляли как куропаток», – пишет Грачев, состоявший тогда при Вишневском.
Однажды Строд отхлебнул кипяток из кружки и ощутил трупный запах. Санитар признался, что нагреб снег из-под убитых пепеляевцев, а на вопрос, можно ли пить такую воду, авторитетно ответил: «Можно, все бактерии убиты кипячением». Строд этот кипяток пить не стал, но «остальные пили, и ничего».
С продовольствием было не лучше. Взятый из Петропавловского десятидневный запас крупы и муки быстро закончился, печеный хлеб вышел еще раньше. Сена не запасли, в дороге хлебом кормили лошадей и быков. Их туши стали единственным «продовольственным ресурсом». Подсчитали, что мяса должно хватить приблизительно на месяц, но несмотря на морозы оно скоро начало портиться из-за разлагающихся внутренностей. Туши следовало срочно выпотрошить. В обозе нашлась пила, однако работать можно было только ночью и в лежачем положении. Звук, с которым зубья вгрызались в мерзлое, «твердое, как кость», мясо, разносился далеко, пепеляевцы начинали стрелять по пильщикам. От пуль их прикрывали мертвые лошади, но работа шла медленно, за ночь удавалось распилить и разделать две-три туши.
Готовые куски не мыли, воду экономили для варки. Процесс приготовления пищи был первобытно прост: шерсть опаливали на огне, обтирали закопченное мясо полой шинели или тряпкой и опускали в ведро с водой. Единственной приправой к нему была соль. Раз в сутки, часам к девяти-десяти вечера, каждый получал по куску вареной конины и немного бульона.
Раненые, в их числе Строд, помещались в хотоне (хлеве). На двадцати квадратных саженях (около 40 кв. м) лежало до семидесяти человек, а к концу осады – почти сто. Здесь всегда было темно, жир для светильников берегли на время перевязок. Поначалу старались почаще протапливать камелек, это согревало и освежало воздух, потом дрова пришлось экономить. Топили раз в сутки и сжигали не более шести-семи поленьев.
«Из насквозь промерзших углов выглядывает белая борода Деда Мороза, – дорисовывает Строд эту картину. – Оттуда несет холодом, но кому-то приходится занимать и углы хотона. Там ложатся только такие раненые, кто может передвигаться сам, без посторонней помощи. Долго оставаться в углу нельзя».
Однажды рядом с ним прилег фельдшер и негромко, чтобы не услышали соседи, сообщил, что нет медикаментов и «перевязочного материала». Вся отрядная аптека помещалась в сумках фельдшера и лекпомов, запаса не было. Дезинфицирующих и прижигающих средств хватило на несколько первых дней, теперь кончились и бинты. Стали использовать старые, пропитанные кровью и гноем, но поскольку их многократно стирали в горячей воде, они быстро расползались. Кому-то пришла мысль заменить бинты мануфактурой, которую возили в обозе, чтобы выменивать у якутов на продукты и фураж. Она была цветная, и прежде чем употреблять ее на повязки, материю приходилось кипятить, пока не вылиняет. В отсутствие сулемы и йода раны промывали снеговой водой, были случаи смерти от заражения крови.
В книге Строда раненые пепеляевцы умирают с проклятиями тем, кто их сюда заманил, а красноармейцы – с клятвами верности «делу Ленина» и трудовому народу, но ужас реальности пробивается сквозь нормативные речи: «Цокнула в стену хотона и упала где-то у порога одинокая пуля. Фельдшер лег наземь, но больше не стреляют. Раненый просит его: “Повязка свалилась, здорово болит. Перевяжи”. Фельдшер подошел и при скудном освещении самодельной лампы, “действующего вулкана”, как мы ее называли, начал разматывать повязку. Санитар держал ногу красноармейца. Наконец повязку сняли, стали промывать рану. В это время пепеляевцы дали залп по хотону. Отвратительно щелкая, зашлепали о противоположную стену пули. Санитара убило. Уронил ногу и сам упал на нее, придавил. Раненый дико кричит, а белые стреляют по хотону… С большим трудом и риском для жизни стащил фельдшер убитого санитара, освободил ногу раненого. Тот приподнялся на руках, сел. “Ложись, укокошат!” – кричат ему. “Не лягу! Пусть убьют. Лучше конец сразу…” Фельдшер уложил его насильно и, не обращая внимания на ругань и просьбы, держал, пока не прекратилась стрельба. Раненый плакал».
В другой раз пуля попала Строду в ногу. Пробив стену и толстый катанок, она потеряла силу, но ступня распухла и долго болела при движении.
Страшнее всего были «миллионы вшей»: «Там, где запеклись кровь или гной, вши ползали целыми полчищами, копошились сплошной живой масой… Смерти никто не боялся. Боялись получить ранение и целыми днями лежать в темном хотоне».
В юрте тоже всегда было темно. Еще при начале осады из окон вынули прозрачные льдины, к весне ставшие тонкими, проницаемыми для пуль, потому что в течение зимы с них ежедневно соскребали ножом намерзающий изнутри и мешающий солнечному свету куржак, оконные проемы заложили балбахами.
Иногда с пепеляевских позиций доносилось: «Эй-е-е-й! Слу-у-ушай!.. Кра-а-сные… Бра-а-тья, а бра-а-тья! Дава-айте поговориим!»
Отвечать можно было без согласования с начальством, но чтобы самим вызвать противника на разговор, требовалось разрешение Строда. Он обычно не возражал: «Валяйте! Небось и вам скучно».
Такие беседы быстро скатывались в перебранку и заканчивались перестрелками, но ими дело и ограничивалось. Идти на третий штурм Пепеляев не хотел, страшась больших жертв. Вишневский пытался действовать другими, более безопасными для его людей методами. Кто-то подал ему идею атаковать Строда под защитой «сооружений из бревен» – небольших срубов, которые должны были двигать укрывшиеся внутри люди. С помощью этих «якутских танков», как окрестили их красноармейцы, предполагалось подойти к вражеским «окопам», закидать противника гранатами и ворваться в усадьбу, но срубы получились чересчур тяжелыми, чтобы двигаться с ними по глубокому снегу. Попробовали заменить их поставленными на полозья платформами с несколькими рядами балбах – результат был тот же. Вес такой передвижной крепости достигал ста пудов, восемь – десять человек еле способны были сдвинуть ее с места, а прикрыть собой большее число дружинников она не могла из-за своих размеров. Использовать в качестве тягловой силы лошадей не имело смысла, их бы сразу перестреляли.
Неудачной оказалась и предпринятая Вишневским «гранатная атака». Шомпола с привинченными к ним японскими «шомпольными» гранатами особым образом вставлялись в стволы «берданов», при выстреле их выталкивало пороховыми газами, и они могли пролететь метров двадцать пять-тридцать, не намного дальше, чем при броске вручную, зато не требовалось вставать под огнем и даже подниматься на коленях. Однако на нужную дистанцию стрелки подползти не смогли и выпустили гранаты издалека. Большинство их разорвалось или упало в снег, не долетев до цели.
За Стродом стояла вся мощь красной Москвы, за Пепеляевым не было никого, но мы всегда больше сочувствуем осажденным, чем осаждающим. Как бы все ни обстояло в большом мире, в этой точке пространства они в меньшинстве, они страдают, они уже потерпели поражение, раз им пришлось уйти под защиту крепостных стен, а нам свойственно верить, что правда – на стороне слабейших. Все грехи прощаются им за то, что они замкнуты в кольце укреплений, как душа в теле, как узник в темнице, как Хома Брут – в восставшем из круговой черты на полу незримом столпе, о который бессильно бьются силы тьмы. Кажется, осажденные противостоят не столько другим людям, сколько хаосу и смерти, и мы не потому желаем им выстоять, что они во всем правы, а потому что они всего лишены. Чем труднее им оставаться людьми, тем сильнее наша вера в их человечность. Нам хочется думать, что внутри этого магического круга все равны, объединены братской любовью и, как сироты, жмутся друг к другу в поисках последнего оставшегося для них в мире тепла.
Первую неделю осады Пепеляев метался между Сасыл-Сысы и Амгой, где вел переговоры с представителями Нарревдота и готовился к наступлению на Якутск. Его замещал Вишневский, поделивший подступы к усадьбе Карманова на два «боевых участка». За один отвечал он сам, за второй – Рейнгардт.
«Всем начальникам помнить, – обращался к ним Пепеляев, – и внушить подчиненным, что отряд Строда должен быть разбит во что бы то ни стало и в короткое время. Снять осаду равносильно поражению… Всеми способами действовать на психику красных с целью убить в них всякую надежду на помощь извне».
Отдельным пунктом этого приказа предписывалось постоянно держать под наблюдением «выход из хотона Строда» – для того, надо думать, чтобы снайпер мог его подстрелить.
«Помнить всем, – под конец опять призывал Пепеляев, – что мы должны разбить отряд Строда. В этом заключается исход нашего движения, наша жизнь».
После неудачи с платформами на санных полозьях он тоже решил построить укрепления из балбах и постепенно переносить их все ближе к позициям красных, пока дистанция между ними не сократится до тридцати-сорока метров. Затем планировалось действовать так же, как если бы удалось подобраться на это расстояние под защитой «якутских танков».
Одновременно сосредоточенным огнем всех захваченных в Амге тяжелых пулеметов начали разрушать «окопы» Строда. Били прежде всего по пулеметным гнездам, заодно разбивая соседние участки. В стене из балбах образовались разрывы. К вечеру третьего дня Жолнин доложил Строду, что если завтра белые продолжат такой же огонь, ширина брешей сделает дальнейшую оборону невозможной.
«Нужно было как-то восстанавливать укрытия, – пишет Строд. – Но чем? Никакого материала у нас нет. Спрашиваю у Жолнина: “Сколько во дворе убитых?” – “Наших человек пятьдесят. А с белыми больше ста будет”. Выручили мертвые… Всю ночь исправляли красноармейцы разрушенные окопы. Подтаскивали замерзшие обледенелые трупы, примеряли, переворачивали, укладывали рядами, заменяли один труп другим: “Этот длинный, не подходит. Тащи покороче. Вон того бери – кажется, Федоров”. Небольшие дыры в стенах окопов затыкали конскими головами. К утру новые окопы были готовы. Напрасно белые открывали сильный пулеметный огонь – мертвые тела тверды как камень, их можно разбить только из орудий».
Неизвестно, как отреагировали пепеляевцы на появление этих инфернальных стен, но и Вишневский, и Грачев предпочли забыть, что дружинники день за днем расстреливали своих же мертвецов. Безумие войны миновало, а оставшимся в Харбине вдовам лучше было не знать, что сталось с их мужьями.
Рана Строда начала заживать. Однажды он вместе с другим раненым, начальником пулеметной команды Зореем Хаснутдиновым, впервые выполз из хотона во двор и «ослеп от яркого солнечного дня, опьянел от свежего воздуха». Закружилась голова, но, полежав немного с закрытыми глазами, Строд почувствовал себя лучше.
Вдали пейзаж был прекрасен: «Лучи солнца серебрили вершины гор. Тайга, одетая в зимний наряд, сверкала бесчисленными голубыми огоньками».
Вблизи – другое: «Снег во дворе вытоптан и залит кровью. Кровь животных смешалась с человеческой, ее не отличишь, она одинакова. Засыпать эту красную площадку нечем, да и к чему? Все, видно, к этой картине привыкли, а снег дороже золота. Маленькая площадь двора завалена грязными тряпками, гнойными бинтами, обглоданными конскими костями, затвердевшими испражнениями, ржавыми обоймами, неразорвавшимися шомпольными гранатами. Отдельными кучами лежат сломанные и целые винтовки, валяются помятые диски от “Шоша”, порванные пулеметные ленты».
В центре небольшой земляной площадки, буро-красной среди окружающих усадьбу снегов, чернели продырявленные пулями юрта и хотон с девятью десятками раненых, а вокруг этого кишащего вшами ада громоздились чудовищные, как в апокалиптическом видении, стены из человеческих и конских трупов: «В одном месте на баррикадах два мертвеца, красный пулеметчик и пепеляевский дружинник, почти прикасались головами друг к другу, протягивали один другому руки, словно решили примириться и заключить союз. Дальше лежит командир взвода Москаленко. Глаза у него широко раскрыты, на губах замерзла кровавая пена. Левая рука протянута вдоль туловища, а правая полусогнута, он держит ее на уровне лба, как бы защищая глаза от солнца. В двух-трех шагах от Москаленко вижу Иннокентия Адамского. Глубокие морщины прорезали его лоб, голубые глаза прищурены, потеряли прежний стальной оттенок и остроту. Лицо серьезное, озабоченное, на нем застыл отпечаток железной воли и решимости. Даже пуля, пронзившая сердце старого партизана, не сняла это выражение мужества и отваги… У “шошиста” Карачарова затылок вырван разрывной пулей, пустой череп зияет страшной, черной, сплошной дырой. Руки скрещены, прижаты к груди. Волосы слиплись и замерзли кровавым комом, а лицо свело в гримасу, точно от сильной зубной боли. Унтер-офицер, получив смертельную рану в висок, упал лицом в снег, отчего оно расплылось, стало большим и неестественно широким, а нос сплюснулся и вдавился вовнутрь, и только небольшой продольный бугорок напоминал о нем. Убитого унтера притащили вчера ночью бойцы, таскавшие снег, и положили на окопы.
У пулемета Кольта лежит огромное неуклюжее тело пепеляевского фельдфебеля. Руки вытянуты вперед, ветер шевелит, перебирает длинные, спутанные космы его волос. Издали кажется, фельдфебель спит, но вот сейчас проснется и пошлет проклятия тому, кто оторвал его от семьи, заставил бежать в Маньчжурию, а потом привел из Харбина в Сасыл-Сысы и сделал щитом для красных и мишенью для своих. Больше ста человеческих трупов и до десятка лошадиных туш вперемешку с балбахами ужасным кровавым кругом замыкали хотон и юрту».
Начался обстрел: «Звякали пули о мерзлые тела, отрывали пальцы, куски мяса, попадали в голову. От удара пули голова раскалывалась, и внутри был виден серый окостеневший мозг. Труп вздрагивал, некоторые падали наземь. Их клали обратно. Казалось, мертвые не выдержат сыпавшихся на них ударов и закричат: “Ой, больно нам, больно!”».
Строд уполз в юрту, а Хаснутдинов остался и был смертельно ранен пулей, проскочившей сквозь отверстие в баррикаде.
В это время Байкалов, как повествует он сам, необычной для большого русского «тойона» простотой поведения пробуждал симпатии якутской бедноты к себе и, следовательно, к олицетворяемой им власти: «В одной юрте ребятишки показывали нам “бодание быков”. Когда же и я, встав на четвереньки, начал подражать реву старого сердитого быка, скосившего голову и вызывающе копытящего землю, ребятишки и даже взрослые пришли в замешательство. Потом, поощряемые нашими якутами и своими родителями, карапузы перешли в наступление на меня, и “большой бык” вынужден был, конечно, пятиться назад, пока не был оттеснен и приперт к стенке. Это вызвало неистовый восторг ребятишек и хохот до слез у взрослых. Ясно, что победителям в виде премии выдали конфеты, пряники».
Дело происходило на одной из ночевок по дороге к Амге. Байкалов со всеми своими силами выступил туда 23 февраля. На четвертые сутки марша, на полпути между Якутском и Амгой, ему принесли письмо от Курашова: тот сообщал, что выступил из Чурапчи, но вопреки приказу идет не на соединение с Байкаловым, а к Сасыл-Сысы, на выручку осажденным.
Вскоре после этого разведчики, которых Байкалов называет «зондировщиками», поздно вечером доставили к нему в палатку схваченных в лесу двоих подозрительных «типов» на лыжах. Оказалось, что это посланные за подмогой гонцы Строда. Они целую неделю бродили по тайге, скрываясь от гнавшихся за ними тунгусов из отряда Артемьева, а последние два дня ни минуты не спали и ничего, кроме снега, не ели.
«Я спичкой осветил им лица, – пишет Байкалов, – и невольно содрогнулся. Слезы текли по лицам, не известно когда мытым. Их одежда была оборвана и висела клочьями».
Он дал им подкрепиться из личной «фляги с кофейной спиртной настойкой» и начал расспрашивать. Гонцы, рассказывая об «отчаянном, кошмарном положении осажденных», предъявили «заделанные» у них в камусах записки с одинаковым текстом. Обе не имели адресата, так как неизвестно было, к кому они попадут. Указывалось местонахождение отряда, кратко сообщалось о боях, о большом числе раненых. В конце Строд писал: «Можем держаться еще дней 15, после чего кончится продовольствие, и мы все взорвем на воздух».
Байкалов уверяет, что лишь тогда, 26 февраля, то есть почти через две недели после начала осады, он и узнал о происходящем в Сасыл-Сысы. Поверить в это совершенно невозможно.
«Якуты сохранили таежный обычай, кэпсе, – писал Строд. – Всякое важное событие или интересное известие первым узнавший о нем житель спешит передать соседу, хотя бы тот жил от него за пятьдесят, даже за сто верст. Время года, суток, состояние погоды – ничто не может служить препятствием… Благодаря кэпсе обо всем, что происходит в тайге и представляет тот или иной интерес, очень быстро становится известно даже Якутску. Здесь новости поступают прежде всего на базар, а уже оттуда становятся достоянием городского населения и жителей других районов. Понятно, что в Гражданскую войну новостей было особенно много. Иногда они имели военный характер и через базарную площадь проникали в наш штаб (я тогда служил в Якутске), доходили до командующего. “Утка, базарное радио”, – пренебрежительно говорили мы, а потом диву давались. Получали срочное донесение, читали и видели, что добрая половина уже передана по базарному радио».
Карманов и его соседи рассказали в окрестных деревнях, почему им пришлось покинуть свои юрты. Весть тут же в разных направлениях распространилась дальше. Скорость, с какой здесь разносились новости, была прямо пропорциональна плотности населения, а в Якутии эти места – самые густонаселенные.
Один из офицеров Пепеляева писал ему из района Чурапчи, то есть за двести верст от места событий: «Везде и повсюду якуты только и говорили о событиях в Сасыл-Сысы».
До Якутска оттуда было не дальше, чем до Чурапчи, и Строд был уверен, что о нем «известно всей республике», в штабе командующего могут не знать разве что подробности. Михайлов и другие командиры стоявшего в полусотне верст Нарревдота с самого начала осады находились в курсе происходящего, обсуждали это на военном совете и должны были доложить обо всем в Якутск, а при наличии осведомителей ГПУ в каждом улусе Байкалов никак не мог пребывать в неведении так долго, как изображает дело он сам.
Воспоминания писались им в 1948 году, но и тогда, и прежде ему тяжело было смириться с тем, что спасителем Якутска, главным героем борьбы с Пепеляевым признан не он, а Строд. Байкалов всю жизнь продолжал считать, что честь победы по праву принадлежит ему как командующему. Вину за неудачный первый период кампании он целиком возлагал на вышестоящих начальников, которых называл «доходящими до опасного зазнайства вельможами», а то, что Сибирской дружине беспрепятственно удалось дойти до центральных районов Якутии, объяснял необходимостью повиноваться поступающим из штаба округа и от командования 5-й армии ошибочным и едва ли не преступным приказам. При этом Байкалову нужно было как-то оправдаться, что в течение двух недель он не попытался ни выручить осажденных, ни хотя бы отвлечь от них часть сил Пепеляева, отсюда его подозрительно настойчивые ссылки на неосведомленность.
Однако и после того, как он якобы впервые услышал об осаде Сасыл-Сысы, Байкалов не бросился на помощь Строду не только по тактическим соображениям, как это выглядит в его интерпретации. Ему важно было доказать собственную состоятельность, иначе под вопросом оказалось бы его будущее.
За полгода он прошел путь от рядового партизанского вожака до крупного военного администратора. Для того времени в таком взлете нет ничего необычного, но Байкалов, в отличие от множества ему подобных, сделал карьеру поздно. Командующим вооруженными силами Якутии он стал в тридцать шесть лет, а в этом возрасте человек больше ценит неожиданно обретенный ранг и сильнее боится его потерять, сознавая, что второго шанса не будет.
Байкалов нуждался в своей личной победе над Пепеляевым, и обстоятельства складывались таким образом, что можно было на нее рассчитывать. По его словам, на штабном совещании «горячие головы» предлагали срочно идти выручать Строда, причем эта «самонадеянная молодежь» успела обсудить между собой план действий по его спасению, изучила дорогу до Сасыл-Сысы, знала расстояние, «потребное время». Байкалов отверг эту идею и, одобрив мнение каких-то «вдумчивых командиров», приказал наступать на Амгу.
Он пишет, что боялся «попасть между молотом и наковальней», так как Пепеляев мог прийти на помощь амгинскому гарнизону Андерса. Чтобы задержать его, если это случится, Байкалов поручил Нарревдоту устроить засады на пути от Сасыл-Сысы к Амге, но непонятно, почему те же нарревдотовцы в тех же засадах не могли действовать против Андерса, если бы тот пошел из Амги к Сасыл-Сысы. Аргументы, приводимые Байкаловом в пользу разумности принятого им решения, занимают целую страницу, в них есть логика, и все-таки уже в силу объема они похожи на оправдание. Трудно отделаться от мысли об их искусственности. Кажется, Байкалов, сам себе в этом не признаваясь, допускал, что к моменту его торжества Строд или сложит оружие, или будет мертв и не придется делить с ним славу триумфатора.
Пороховой погреб
К концу второй недели осады Строд окреп, к нему вернулся аппетит. Он все время испытывал голод. Часть лошадиных туш положили на баррикады, выдачу мяса сократили вдвое и могли бы сокращать дальше, но «ненасытная смерть костлявой рукой гасила все новые жизни». Это позволяло поддерживать порцию на одном уровне.
Погибшие и умершие от ран поступали в распоряжение Жолнина, который подыскивал им подходящее место в кладке из оледеневших людей, лошадей и навозных плит.
Внутри нее ничего не менялось: «Люди ползают на четвереньках, держатся не далее двух-трех шагов от баррикад, иначе грозит смерть. особенно большая опасность угрожает с восточной стороны, где пепеляевцы занимают гору и стреляют сверху вниз. Непоражаемой здесь была лишь узенькая дорожка. От постоянного ползания одежда на локтях и коленях протерлась, болели припухшие суставы рук и ног. Никто не раздевался.
День и ночь были при патронташах, отчего тупо ныли натертые плечи и грудь… От костров, от порохового дыма и грязи лица и руки потемнели и походили на копченый окорок».
С наступлением темноты стрельба стихала, лишь иногда шум ночной тайги провоцировал недолгие перестрелки: «Налетит, выскочит откуда-то ветерок, пробежит по тайге, зашумит иглами сосен, пихт. Насторожатся часовые, стукнет несколько винтовочных выстрелов, татакнет пулемет… Десятками гулких огоньков засверкает опушка леса, взвизгнут над головой пули, и снова тишина. Через каждые два часа осторожный шорох заполняет двор: загремит нечаянно оброненная на мерзлую землю винтовка, тихо выругается красноармеец. Происходит смена цепи в окопах. И за окопами, в стороне противника, через равные промежутки времени слышен скрип снега: у белых тоже сменяется находившееся на позиции подразделение».
В одну из ночей оттуда раздались голоса – вызывали на разговор, хотя по ночам это не практиковалось, а в последнее время перекличек не было. Доказывать свою правоту всем надоело, доводы исчерпались. У осажденных дискутировать никто не хотел, однако пепеляевцы не унимались. Строд велел спросить, что им нужно. В ответ услышали: генерал Ракитин взял Чурапчу, Курашов бежал в Якутск, гарнизон сдался.
«Поздравляем вас с Чурапчой! – кричал глашатай. – К нам оттуда выслано орудие… Сдавайтесь, пока целы».
У Курашова было две американских пушки системы Маклена калибром полтора дюйма (37 мм), скорострельных, но маломощных. Тем не менее ясно было, что даже одной из них хватит на то, чтобы баррикада и юрты были «разнесены в два счета».
Тут же, как и в тот раз, когда от Пепеляева принесли письмо с требованием сдаться, Строд созвал общее собрание. Оно проходило при горящем камельке и зажженных светильниках, чтобы видеть лица товарищей. Дверь в хотон оставили открытой, раненые все слышали и тоже могли подать голос. Дежурная смена прислала своих представителей.
Все понимали, что если под угрозой артиллерийского обстрела они сложат оружие, перед своими отвечать не придется, а в плену им точно будет не хуже, чем сейчас, но штаб в лице Строда и послушных ему Кропачева с Жолниным легко нашел причину, почему сдаваться нельзя: тогда взятое у них вооружение будет использовано для похода на Якутск.
Пепеляева мало интересовали оставшиеся у осажденных четыре увечных пулемета. Боеприпасы были важнее, но и без них можно было пока обойтись. Главное – он уверовал сам и сумел убедить других, что для успешного наступления на Якутск надо вынудить Строда к сдаче, хотя обескровленный, лишенный обоза, обремененный почти сотней раненых Сводный отряд был не в состоянии угрожать тылам Сибирской дружины. К концу февраля в осаде Сасыл-Сысы ясно проступает иррациональное начало. Крепость из балбах становится фетишем, обладание ею – целью, а не средством. У Пепеляева была возможность оставить ее и двигаться на Якутск, чтобы не дать Байкалову перехватить инициативу, но то, чего не удается избежать, кажется потом неизбежным – так проще оправдать собственные ошибки.
Пепеляев любой ценой хотел сломить Строда, тот – не уступить, выстоять, и оба маскировали это стратегическими резонами. Осада превратилась в поединок между ними, при этом за все ее время они друг друга ни разу не видели вблизи и никакой враждебности друг к другу не испытывали, равно как их подчиненные.
Через год, на судебном процессе в Чите, адвокат Пепеляева найдет выразительные слова, чтобы передать нерасторжимое, мучительное единство тех и других: «Над ними было одно небо, которое ставило их всех перед лицом вечности, и глубокий снег, как саваном, окутывал их замерзающие члены».
Кажется, белые и красные, подобно троянцам и грекам, сошлись на этом пятачке, подвластные высшим, надмирным силам, которые через них разрешают спор об устройстве мира людей. Покорность общей судьбе не предполагает взаимной ненависти, и когда Пепеляев и Строд встретятся в зале суда, каждый выразит уважение другому.
Под пером Строда осада Сасыл-Сысы обернулась ярчайшим воплощением первого из перечисленных Борхесом четырех вечных сюжетов мировой литературы – истории крепости, которую штурмуют и обороняют герои, но при холодном взгляде заметен окутывающий это проклятое место морок азарта и бессмысленного соперничества. Строд, как можно понять из его книги, возражений не терпел и все важнейшие решения принимал сам, создавая лишь видимость их обсуждения, а у Пепеляева авторитет был так высок, что никому, включая Вишневского, не приходило в голову сомневаться в логике его действий, тем более – просить у него каких-либо разъяснений.
Пепеляев не был откровенен даже с близкими людьми и поверял душу только дневнику. Это помогало ему разобраться в собственных чувствах, но после приезда из Усть-Миля в Амгу серенький блокнотик был надолго заброшен. Следующая запись появится в нем почти через три месяца, в конце апреля.
План, выработанный штабом, огласил Строд: «Все запасные патроны и гранаты сложить в погреб в юрте, на них насыпать около трех пудов имевшегося у нас охотничьего пороха, сверху набросать сухого сена и щепок. В критическую минуту, когда раздастся первый орудийный выстрел, выкинуть белый флаг, а как только пепеляевцы подойдут к нашим окопам, два выбранных нами решительных товарища зажгут костер. Взрыв будет колоссальный, и белые вместе с нами взлетят на воздух». Военная история знает немало схожих случаев, но это, кажется, единственный, когда идея взорвать себя вместе с победителями не была результатом спонтанного порыва самоотвержения или хранимой до времени в секрете командирской воли, а заранее выносилась на голосование. Пока Строд излагал проект коллективного самоубийства, «все притихли, прекратились даже стоны раненых». Проголосовали, как он уверяет, единогласно, «против не было ни одного». Это похоже на правду, в таких ситуациях «против» никто не голосует. Единение перед лицом смерти – мощный наркотик, а те, на кого он не подействовал, не решились поставить крамольный вопрос о том, зачем нужна их гибель, если можно уничтожить боеприпасы и пулеметы, а самим сдаться в плен. Они прекрасно понимали, что после такого предложения Строд станет их врагом, тогда, в случае если до взрыва дело не дойдет, в условиях осады резко понижаются их шансы остаться в живых.
Для Строда и его пассионарных помощников вроде Кропачева готовность умереть была сродни дозе морфия, поддерживавшей в них тонус жизни, но и малочисленная тайная оппозиция, и апатичное от недоедания и усталости лояльное большинство наверняка надеялись, что смерть их минует. В конце концов, каждый имел шанс уцелеть, если при взрыве окажется на достаточном удалении от юрты, да и с орудием по дороге из Чурапчи могло случиться всякое.
До рассвета оставалось часа четыре. За это время, пользуясь темнотой, затащили в юрту и спустили в погреб примерно семьдесят ящиков с патронами и гранатами, предварительно сорвав с них крышки. Ящики завалили сеном, на него насыпали порох, сверху опять положили сено. Из санных оглобель соорудили составной шест, к концу привязали сохраненное Стродом старое знамя Северного отряда. Когда-то его подарили Каландаришвили амурские партизаны.
Рано утром с пепеляевских позиций раздались крики: «Ну что? Сдаетесь? К вечеру придет орудие».
Все здоровые бойцы были уже возле бойниц. Принесли гармошку, которую с начала осады никто не трогал, Жолнин взял ее, привалился спиной к балбахам и начал играть «Интернационал». Остальные хором подхватили припев. Одновременно над крышей юрты подняли шест со знаменем.
«Эффект был поразительный, – гордился Строд. – Пепеляевцы растерялись и даже не сразу открыли огонь. Зато, когда пришли в себя, буквально засыпали нас пулями. А Жолнин перевел дух и заиграл “Варшавянку”».
Грачев свидетельствует, что именно так все и происходило: «После двухнедельной осады, в тисках смерти и голода, в лагере осажденных заиграла гармошка, а голоса подхватили припев, взвился красный флаг. Это вызвало у наших бойцов одобрение Строду: “Молодец Строд, хочет умереть под своим знаменем”».
Для Вишневского все случившееся было тем неожиданнее, что незадолго до того кто-то сообщил ему о якобы начавшемся у красных людоедстве. Их положение казалось невыносимым. По ночам и днем, в часы затишья, из усадьбы Карманова долетали стоны раненых.
Вишневский доложил Пепеляеву: «Осажденные знают о взятии Чурапчи, знают, что сюда выслано орудие. В ответ выбросили красный флаг и играют на гармошке».
«Как видно, – ответил Пепеляев, – к красным кто-нибудь прорвался и доставил важные сведения».
Он решил, что какой-то смельчак ночью пробрался к Строду и открыл ему, что Ракитин с Худояровым не сумели взять Чурапчу, следовательно, орудие оттуда не придет. Пепеляев отвергал саму мысль о том, что красные, ничего не зная о положении на фронте, способны выказать такое презрение к смерти. Допустить это было для него равносильно признанию собственной неправоты.
В появление пушки верилось все слабее («На черепахах везут», – шутили красноармейцы), но люди были на пределе сил, начались нервные срывы. Один боец, крикнув, что не желает больше ползать на карачках, среди бела дня с песней стал плясать на дворе и был ранен тремя пулями. Другой, увидев во сне атакующих пепеляевцев, дикими воплями увлек за собой спящую смену.
Помощь не приходила, конина была на исходе. Все вроде бы проголосовали за то, что, когда она закончится, надо «взорвать себя на воздух», но даже Строду и его рупорам вроде не чуждого литературе Кропачева, заворожившим измученную красноармейскую массу образом мгновенной смерти без мучений, трудно было смириться с ней как с неизбежностью. Все равно оставалась вера в чудо, и как ее вариант возникло подозрение, что раз выручки до сих пор нет, значит и Байкалов, и Курашов, и Михайлов с Нарревдотом обороняют Якутск от Пепеляева, а под Сасыл-Сысы находится лишь небольшая часть добровольцев, имитирующих присутствие на позициях всей дружины. Громче зазвучали голоса тех, кто предлагал проверить эту гипотезу и устроить вылазку. Им возражали, указывая, что если пепеляевцы никуда не ушли, они отобьют атаку и на плечах бегущих ворвутся в усадьбу, но Строд, поддержав первых, предложил оставить в юрте «динамитную команду», то есть подрывников Пожидаева и Волкова. При неудаче им предстояло привести в исполнение прежний план. Ящики с патронами и гранатами по-прежнему лежали в подполе.
Опять провели собрание. Маловеры оказались в меньшинстве, большинство стояло за вылазку. Главный аргумент был тот, что лучше смерть, чем такая жизнь. Это вообще многое объясняет в истории осады Сасыл-Сысы.
Каждый участник вылазки должен был взять с собой кусок мяса, чтобы, если удастся вырваться из окружения, не умереть с голоду по дороге в Якутск. Раненых решили оставить под присмотром фельдшера и лекпомов. По отношению к ним это не было предательством, скорее – благодеянием. Никто не сомневался, что белые сохранят им жизнь и даже окажут медицинскую помощь, которой они сейчас лишены из-за отсутствия лекарств и бинтов.
Вылазку назначили на утро, но погода внезапно переменилась. Потеплело, повалил снег. Под усиливающимся ветром «тайга затянула свою однообразную нудную песню». К вечеру разыгралась пурга. Она не стихала всю ночь и весь следующий день, а при плохой видимости была опасность, что цепь наступающих не сможет упорядоченно подойти к вражеским «окопам». Вылазку отложили. Ночью все здоровые бойцы дежурили во дворе, ожидая атаки. Казалось, пепеляевцы пойдут на штурм под прикрытием снеговой завесы, но те использовали ее иначе – за ночь перенесли свои укрепления из балбах на несколько десятков шагов ближе к усадьбе Карманова. Когда метель улеглась, выяснилось, что противники могут видеть лица друг друга.
Отчетливее стали слышны и голоса. Кто-то узнал долетавший со стороны леса высокий звонкий голос Артемьева. Скоро осажденные почувствовали, что отныне нужно соблюдать предельную осторожность. Стоило высунуть голову из-за укрытия, и «меткая пуля настигала бойца». Многие артемьевцы были профессиональными охотниками, привыкшими терпеливо подстерегать добычу.
Строд понятия не имел, что почти год назад сам же и толкнул их предводителя в лагерь повстанцев.
Артемьев происходил из бедной якутской семьи. Без всякого покровительства, только благодаря своим способностям он получил должность наслежного писаря, затем окончил учительскую семинарию, служил народным учителем в Амге. Во время Гражданской войны стоял за красных, был даже председателем амгинского ревкома, и хотя со временем разочаровался в новой власти, при начале восстания 1921 года участия в нем не принимал. С приближением Коробейникова к Амге он уехал в Якутск, работал в Наробразе, но, по его словам, «на почве личных счетов был преследуем некоторыми подпавшими под влияние рокового исторического момента представителями соввласти», и во время осады Якутска «жил в очень сжатой атмосфере, чувствовал себя затравленным». Присутствуя на погребении погибших вместе с Каландаришвили бойцов и командиров Северного отряда, Артемьев слышал, как в прощальном слове «один из ответственных работников в резкой форме» обвинил национальную интеллигенцию в предательстве и «поставил на вид, что это не забудется».
Именно Строд, по его собственному признанию, на похоронах в городском саду «резко и отчасти несправедливо выразился по адресу якутской интеллигенции». Потом он выступил с покаянной статьей «За вспышкой настало раздумье», но ее появления Артемьев не дождался. Речь Строда окончательно убедила его, что провозглашенная ревкомом «новая гуманная политика» – фикция. Он бежал к повстанцам, после разгрома Коробейникова скрывался в тайге, с прибытием Пепеляева примкнул к нему и сейчас очутился под Сасыл-Сысы. Его снайперы пришли на смену батальонам Вишневского и Рейнгардта. Прицельной стрельбой они должны были компенсировать отсутствие большей части Сибирской дружины.
Осажденные верно предположили, что основных сил Пепеляева здесь нет, но догадка на два-три дня опередила события. За это время порыв угас, о вылазке больше речи не заходило.
Слепцов, появившись в Амге, порадовал Пепеляева не только рассказом о готовности якутской интеллигенции перейти на его сторону. В тех же радужных тонах нарисовал он картину «широкого народного движения» к югу от Якутска и просил «послать туда оружие не менее чем на 700 человек». Пепеляев, с легкостью приняв это на веру, отправил с ним партию винтовок и полковника Варгасова, чтобы тот создал на северном фронте еще одну боевую единицу в дополнение к отрядам Ракитина и Худоярова. Все они должны были «маневрировать» около Чурапчи, чтобы не выпустить из нее отряд Курашова.
Когда Пепеляев назначил на 15 февраля наступление на Якутск, из-за Строда отмененное, он приказал Ракитину двигаться туда же. По дороге тот вздумал захватить совершенно ему не нужное селение Тюнгюлю, но не сумел поднять своих якутов в атаку. Началось дезертирство, и Ракитин счел за лучшее распустить оставшихся.
Столь же плачевно закончились попытки Худоярова помешать Курашову уйти из Чурапчи, а Варгасова – остановить его в пути. Якуты, которых вместо обещанных семисот человек оказалось всего несколько десятков, бросили Варгасова одного в лесу и разбежались.
Тем временем Пепеляева известили о продвижении Байкалова к Амге. Одновременно из полученных от Ракитина и Варгасова донесений стало ясно, что сюда же идет Курашов, и путь перед ним – чист. В ночь на 26 февраля Пепеляев, взяв почти всех бойцов, устремился ему навстречу, чтобы не дать красным объединить силы. Вишневский с тридцатью дружинниками и Артемьев со своими якутскими и тунгусскими стрелками остались в Сасыл-Сысы караулить Строда.
«После 37-верстного марша с двух часов ночи до шести вечера я встретился с конницей Курашова в местности Элесин», – рассказывал Пепеляев. Он планировал позволить красным втянуться в лежащую среди сопок Элесинскую котловину и атаковать их с трех сторон. По оценке Вишневского, «позиция была выбрана идеальная», но, замечает он, вспомнив перебежчиков, предупредивших Карпеля в Нелькане, и свою неудачу с ночным нападением на спящего Строда, «положительно, нас преследовал какой-то злой рок».
На этот раз полковник Суров без приказа напал на конных разведчиков Курашова, приняв их за всю неприятельскую колонну, находившуюся на марше в паре верст сзади. Кого-то взяли в плен, прочие ускакали и предупредили своих.
Узнав о засаде, Курашов ускорил движение в расчете вырваться из котловины, прежде чем Пепеляев займет высоты над ней. Это ему не удалось, но он успел приготовиться к обороне. Обозных быков и лошадей выпрягли, из саней соорудили укрепления. Пушки зарядили картечью.
Пепеляевцы не спали предыдущую ночь и были измотаны шестнадцатичасовым переходом. Им пришлось вступить в бой без отдыха, тем не менее при невыгодном для них лунном свете, хорошо видные на снегу, под убийственным пулеметным огнем и картечью из бивших прямой наводкой пушек, они несколько раз приближались к залегшим за санями красным, однажды не дошли до них двадцать шагов и едва не захватили одну из «макленок», после чего участь Строда была бы решена, но и эта атака захлебнулась. Элесинский бой – самый кровавый за всю Якутскую кампанию, к рассвету ни у кого не осталось сил его продолжать. Какое-то время противники стояли на виду друг у друга, затем Курашов начал отходить в одну сторону, Пепеляев – в другую.
Через день, 28 февраля, они снова столкнулись во встречном бою и снова разошлись. По словам Пепеляева, и на этот раз «результат был неопределенный». В двух сражениях на открытой местности потери у обоих оказались так велики, что Курашов, сочиняя донесение Байкалову, побоялся назвать точную цифру, ограничившись уклончивой формулой «значительные».
Третьего боя он бы не выдержал, но его не случилось. 2 марта Пепеляев получил записку от Вишневского: тот сообщал, что сегодня утром Байкалов взял Амгу.
Штурм Амги
28 февраля, когда Пепеляев вел второй бой с Курашовым, со стороны позиций Вишневского под Сасыл-Сысы послышались крики – пепеляевцы опять вызывали на переговоры. Условились, что завтра, в девять утра, на поле между «окопами», на равном расстоянии от тех и других, встретятся делегаты от обеих сторон.
Строд не знал, что Пепеляева здесь нет. Вечером он от имени всех бойцов отряда написал ему третье письмо: «Генерал Пепеляев, вы думали в феврале взять Якутск, в марте – всю автономную республику, в апреле – Бодайбо и Киренск, весной наступать на Иркутск, а затем форсированным победоносным маршем пройти Сибирь и в 1924 году быть в Москве. Но суровое лицо жизни – железная действительность, а не роман, не сказка из “Тысячи и одной ночи”. Не приходится говорить о Москве, Иркутске, даже Якутске, если вы всеми своими силами не можете взять небольшой отряд… Мы вспоминаем кавказскую басню про барана, который разжирел и стал просить бога, чтобы тот послал ему встречу с волком. Не будьте же глухи и слепы, не проливайте напрасно крови. Вторично предлагаем вам сложить оружие…»
Наутро Жолнин с белой повязкой на рукаве и письмом Строда в кармане медленно двинулся к вражеским позициям. Ровно на середине пути его встретил какой-то пепеляевский унтер-офицер. Обменялись рукопожатием. В тишине, на морозе, далеко разносящем каждый звук, весь их разговор был прекрасно слышен. Продолжался он недолго. Унтер указал Жолнину, как у осажденных все плохо – едят одну конину, хлеба нет, медикаментов нет, пора сдаваться. Жолнин отвечал, что у них все хорошо, хлеба нет, зато мяса много, никто не жалуется. Он отдал унтеру пакет, они еще немного поспорили и расстались.
С полчаса, пока белые читали и обсуждали письмо, было тихо, потом началась перестрелка, правда довольно вялая. Последнее время стало заметно, что пепеляевцы экономят патроны.
Зато на следующий день, 2 марта, они с рассветом открыли сильнейший пулеметный и ружейный огонь, причем впервые стреляли разрывными пулями. Раньше их использовали только для разрушения укреплений, и тогда огонь велся залпами, а сейчас они беспорядочно летели и от озера, и со стороны леса: «Рвется тысячами осколков стальной дождь, падает на баррикады из человеческих тел, будто щелкают сотни бичей».
Казалось, это что-то вроде артиллерийской подготовки перед атакой, но ее не последовало. Стрельба прекратилась так же внезапно, как началась. Лишь потом, узнав о взятии Амги, осажденные догадались, что таким способом Вишневский старался заглушить доносившиеся оттуда пушечные выстрелы.
На морозе их звук сумел одолеть восемнадцать верст до Сасыл-Сысы, но слабые орудийные раскаты потонули в грохоте разрывающихся пуль.
У Байкалова имелось две пушки-«макленки». Колеса их лафетов прикрепили к самодельным лыжам, которые тащили за собой быки, но чересчур широко расставленные лыжи постоянно застревали на узкой дороге в березняке. То и дело приходилось расчищать заросли пилами и топорами. Эта «борьба с природной контрреволюцией», как с типичной для него ненатуральной иронией выражается Байкалов, замедляла движение всей колонны. Он злился и в своем духе ругал проводника «бандитским Сусаниным».
«Вот уже светает, черт подери! Вся органическая природа и люди с радостью встречают это явление, а меня оно приводит к какому-то пароксизму и отчаянию, – пытался Байкалов передать свои тогдашние чувства, перемежая книжными проклятиями витиевато-мутный язык культпросветовских брошюр. – Это же верная смерть лишних десятков товарищей, которой можно было избежать, успей мы до этого проклятого рассвета!»
К Амге вышли не затемно, как должны были, а когда уже совсем рассвело. Только поэтому, если верить Байкалову, он и не сумел застать белых врасплох, но Строд называет причину менее простительную, чем вредительство «берез и коряг».
«Неожиданно ударил первый выстрел из орудия, – рассказывает он со слов кого-то из участников штурма. – В воздухе просвистел снаряд, разорвался где-то в селе. Это нарушило мирный сон обитателей слободы и предупредило пепеляевцев об опасности. В Амге завыли собаки, замычал скот, заметались дремавшие в загородках кони. Караулы открыли ружейный огонь в направлении стрелявшей пушки».
Байкалов об этом умалчивает. Он пишет, что первый выстрел дали по колокольне, где будто бы заметили вражеских наблюдателей, потом перенесли огонь на окопы, но десяток снарядов не причинил им никакого вреда, так «искусно они были замаскированы». Поскольку окопов никто не видел, палили, значит, наугад, снаряды ложились в чистом поле, но Байкалов и тут нашел удобное объяснение: обстрелу мешала больница, а он распорядился по ней не стрелять, потому что вместе с пепеляевцами там лежали раненые красноармейцы. Якобы исключительно по этой причине был отдан приказ о прекращении орудийного огня. На самом деле от него просто не было толку, и при атаке неопытные артиллеристы могли попасть по своим.
По тревоге дружинники Андерса и партизаны-якуты заняли окопы и укрепления из камней, мерзлой земли и балбах, сооруженные на гребне окружавших слободу пологих, но покрытых нетронутым снегом склонов. Байкалову не оставалось ничего иного, как наступать прямо в лоб по открытой, хорошо простреливаемой местности.
Ракитин и Варгасов слишком поздно обнаружили непригодность якутов к таким операциям; Байкалов не питал иллюзий на их счет, зато имел основания опасаться, что если военное счастье ему изменит, недавние повстанцы перебегут к противнику. Лучше было держать их подальше от поля боя, и Нарревдот, свое любимое детище, наглядно демонстрирующее правильность проводимой им политической линии, он отправил устраивать засады между Сасыл-Сысы и Амгой – на случай, если Пепеляев двинется на помощь Андерсу. После этого у Байкалова осталось немногим более трехсот бойцов: ЧОН под командой Карпеля, дивизион ГПУ и мелкие подразделения вроде конной разведки во главе с его братом Иваном Жарных.
Все мемуаристы упоминают, что в ту зиму снежный покров был необычайно глубок даже для Якутии. Когда наступающие развернулись в цепь, идти пришлось очень медленно. Дивизиону ГПУ, чтобы удружить руководству этой организации, с которой лучше было не ссориться, Байкалов поставил задачу обойти противника с фланга, а на самый опасный участок бросил бойцов ЧОНа. Их было около полутора сотен – мобилизованные партийцы и комсомольцы, а также добровольно пошедшие на эту войну служащие советских учреждений, рабочие немногочисленных заводов и мастерских.
В рапорте, позднее отосланном в штаб 5-й армии, Байкалов подчеркивал, что направление для атаки выбрал тактически грамотно: «Окопы противника протяжением около 70 саженей подверглись косому перекрестному огню нашей наступающей цепи протяжением около 150 саженей, с загнутыми вперед флангами».
На деле все выглядело не так идеально. Многие чоновцы были людьми в возрасте, скоро они начали отставать от более молодых. Цепь пошла волнами, распалась и залегла, едва пепеляевцы открыли огонь. Поднять ее не удавалось. Карпель помчался к Байкалову на командный пункт просить подкреплений из резерва, ничего не получил и вернулся назад. Продвинулись еще немного и под пулеметным огнем снова зарылись в снег. Карпель опять побежал к Байкалову с той же просьбой. Он впервые участвовал в настоящем бою, был напуган, не мог спокойно оценить обстановку и на вопрос, сколько у него бойцов убито и ранено, ответил: «Все поле покрыто ими».
Так казалось не ему одному.
До ближайших домов нужно было пройти версты полторы. Шли, проваливаясь в снег, иногда бежали, ложились, вставали. Становилось жарко, чоновцы скидывали дохи, пальто, полушубки, бросали их и двигались дальше. «Я уже не мог разобрать, – вспоминал Байкалов, наблюдавший за боем издали, – сколько там лежит убитых и раненых, и сколько – верхней одежды, брошенной вспотевшими людьми».
Пепеляевцев это зрелище тоже сильно впечатлило, но произвело другой эффект. После боя один из пленных рассказывал Карпелю: «Бьем вас, валятся люди, а цепи не уменьшаются, идут вперед. Жуть нас забирала…»
Когда Карпель в третий раз явился к Байкалову и уже не попросил, а «дерзко потребовал» подкреплений, тот сместил его, тут же заменив братом. Лихой Жарных под обстрелом поехал в цепь верхом, «держа в руке и жуя большой кусок колбасы».
Байкалов это запомнил потому, может быть, что никогда больше не увидел брата живым. Такие минуты часто западают в память совсем не теми деталями, с которыми хотелось бы связать последние часы жизни родного человека, но со временем подобные мелочи начинают казаться символичными и необыкновенно значительными.
Снег на поле был вытоптан наступающими. В седле добравшись до залегшей цепи, Жарных спешился и поднял ее в атаку. Отставший от него Карпель, искупая вину, вскочил на оставленную им лошадь и вслед за своими бойцами поскакал к неприятельским окопам. По пути к нему присоединились подоспевшие конные разведчики из команды Жарных. Как рассказывает Строд, почти все они погибли, лошадь под Карпелем ранило, сам он был «обожжен» тремя пулями, но уцелел и одним из первых ворвался в Амгу.
Ее гарнизон состоял, главным образом, из офицеров. Многие отстреливались до конца и лишь в безнадежном положении поднимали винтовку прикладом вверх. Это означало готовность сдаться. Попытки расправиться с ними пресекались, зато прямо на месте прикончили тех красноармейцев, кто попал в плен, вступил в Сибирскую дружину и не успел вовремя сорвать с шапки бело-зеленую ленточку. Ожесточение боя выместили на несчастных «предателях». Других обнаруженных в Амге красноармейцев, включая лежавших в больнице, сотрудники ГПУ арестовали для разбирательства. Трудно представить, чтобы Пепеляев поступил так со своими освобожденными из плена бойцами.
Почти всех сдавшихся якутов распустили по домам, а захваченных офицеров тоже передали в распоряжение ГПУ. Байкалов, находя это естественным, объясняет причины: они «были сознательные враги, потребовавшие от нас больших жертв», и «предательски стреляли в спину и из-за угла», хотя в уличном бою трудно было ожидать от них чего-то иного.
Зато «начполитотдел» дружины Соболев сумел добиться особого к себе отношения. Недавно, по примеру Троцкого, он предлагал создать «заградительные отряды» и пулеметами гнать в атаку не проявляющих должной отваги якутов, а сейчас вызвался отправиться парламентером к Пепеляеву, чтобы склонить его к капитуляции. После этого Соболев перешел на привилегированное положение, которое считал для себя естественным.
Грачев, его помощник, находился с Вишневским в Сасыл-Сысы, а Куликовский, как сообщили местные жители, последнее время жил в Амге. Ближайший сподвижник Пепеляева, собиравшийся возглавить гражданскую власть в Якутии, в качестве трофея мог бы достойно увенчать собой амгинский триумф; начались поиски. Явились к нему на квартиру, но ни там, ни среди пленных его не нашли. Уполномоченный ГПУ Мизин был этим страшно раздосадован. Разговаривая с Байкаловым, он в сердцах называл Куликовского «слепой сукой», поскольку тот страдал сильной близорукостью, и терялся в догадках, куда он мог деться.
Андерс со штабом в конце боя бежал на подводах. С ним было человек десять – пятнадцать, еще две группы пепеляевцев скрылись в лесу, а вечером вышли на дорогу к Сасыл-Сысы. Последним очагом сопротивления стала больница с более чем сотней раненых. Те, что могли ходить, вместе с отступившими из окопов и укрывшимися там офицерами забаррикадировали двери и стреляли из окон, пока не подоспел Жарных.
Он и чоновец по фамилии Гоголь, слесарь электростанции в Якутске, встали под окном с поднятыми гранатами, угрожая забросить их внутрь, если стрельба не прекратится и засевшие в больнице не выйдут с поднятыми руками на улицу. В ответ офицеры Игнатенко и Жданов через окно, почти в упор, выстрелили в них из револьверов. Жарных и Гоголь были убиты наповал.
Когда Байкалов нашел брата, тот уже закоченел, при поцелуе губы ощутили «закованный морозом лоб». Рядом валялась «граната Мильса» с невыдернутым кольцом. Наган и поясной ремень кто-то успел украсть.
Привели доктора. Вдвоем расстегнули на мертвом шинель и фуфайку, задрали рубашку. Входное отверстие от пули находилось на левой стороне груди, на высоте соска.
«Аорта, долго мучаться не пришлось», – сказал доктор.
«Я целую маленькую окровавленную дырочку, – с неподдельным чувством пишет Байкалов. – Что-то спирает в груди, к горлу подступают спазмы».
И тут же в своем обычном духе: «Но ничего. Братьев у меня – миллионы!»
В тот же день он договорился с уполномоченным ГПУ, что месть за брата и погибшего с ним Гоголя возьмет на себя. Имена убийц были установлены. Пока их допрашивали, Байкалов, чтобы снять напряжение, выпил полстакана своей фирменной «кофейной спиртной настойки», которой угощал гонцов Строда, немного поспал после двух бессонных ночей, а вечером вывел Игнатенко и Жданова в поле и застрелил из маузера.
Об этом кратко упоминается в его не опубликованных при жизни воспоминаниях, но не в самом тексте, а в подстраничной сноске. Похоже, информация казалась ему необязательной, а ее пригодность для печати – небесспорной.
В мемуарах Байкалов приписывает Пепеляеву совершенно фантастический замысел: будто бы после взятия Якутска, зная, что путь к нему с юга возможен только по Лене, Пепеляев собирался отделить Якутию от красной Сибири, для чего планировалось воздвигнуть на ленских островах форты с артиллерией и пустить по реке канонерские лодки, чтобы топить идущие из Иркутска пароходы с красноармейцами. Якобы эти канонерки должны были поставить Пепеляеву японцы, хотя не понятно, каким образом через тайгу, болота и хребты Джугджура удалось бы перетащить их из Охотского моря в бассейн Лены. Эта фантасмагория, рожденная воображением старого и больного, но не забывшего былые обиды Байкалова, преследовала единственную цель – показать, насколько судьбоносной для Якутии стала его победа под Амгой.
Освобождение. Смерть Куликовского
Прошли сутки после взятия Амги, но в отряде Строда об этом не знали. Утром 3 марта велась не слишком интенсивная перестрелка, ближе к вечеру пепеляевцы выпустили очередь из пулемета, бросили несколько шомпольных гранат, затем все стихло. Подождав, осажденные сами открыли огонь. В ответ – тишина. Пока обсуждали, что бы это могло значить, из леса вышли два человека. «Не стреляйте! – кричали они. – Мы перебежчики».
Выяснилось, что эти двое – семипалатинские казаки, хорунжие Михайлов и Ровнягин из «ангелов Цевловского», то есть офицеры его безлошадного «конного дивизиона». Они рассказали о боях с Курашовым, о взятии Амги, о том, что ни Пепеляева, ни Вишневского с Артемьевым здесь нет, осада закончена, все ушли.
Им не поверили, заподозрив ловушку, но с наступлением темноты все-таки выслали разведчиков. Вернувшись, те доложили, что «окопы» белых пусты, в лесу и в остальных юртах – никого.
«Все же не верится… Чересчур большая радость, – описывает Строд свою реакцию. – Она распирает грудь, захватывает дыхание. От нее трясутся руки, дрожит голос».
Слова – самые расхожие, но когда сильные чувства пережиты вместе с множеством других людей, лишь банальности могут выразить их сколько-нибудь верно.
Осажденные еле держались на ногах, и один из перебежчиков, Михайлов, вызвался сейчас же отправиться в Амгу с письмом от Строда. Тот сразу его написал, в качестве адресата указав «первого встречного красного командира». Содержание – новости о Курашове и Пепеляеве, просьба прислать лекарства, хлеб и табак. В скобках, как запомнилось Байкалову, было добавлено: «Лучше табак, чем хлеб!»
Имелась и еще одна просьба. В своей книге Строд целомудренно ее опустил, а Байкалов, не без оснований обвинявший его в пристрастии к алкоголю, не преминул процитировать: «По случаю радости и счастья хоть немного спирта!»
Этой ночью в Сасыл-Сысы никто не спал. Сварили и съели все оставшееся мясо, из последних дров сложили костры на дворе. Строд долго разговаривал с Ровнягиным. Отвечая на вопрос, что побудило его отправиться в Якутию с Пепеляевым, тот сказал, что «выступает против всех крайних партий, крайней правой и крайней левой», и не хочет, чтобы в России «властвовала какая-нибудь одна партия». Строд, фактически стоявший на близкой идейной платформе, изложил его программу без сарказма и без каких бы то ни было комментариев, что можно счесть за максимально допустимое выражение сочувствия.
Товарищ Ровнягина, Михайлов, тем временем заблудился в ночном лесу и лишь утром вышел на дорогу к Амге.
Как уверяет Байкалов, письмо Строда он получил на второй день после штурма, то есть 3 марта, но сам Строд пишет, что отослал его в ночь на 4 марта. Разница в один день чрезвычайна важна. «Ледовая осада», как по аналогии с «Ледовым походом» остатков армии Колчака из-под Красноярска в Забайкалье стали называть оборону Сасыл-Сысы, превратилась в главное событие Гражданской войны в Якутии, и чтобы сократить необъяснимый разрыв между взятием Амги и освобождением Строда, последнее в рапортах Байкалова датировалось двумя сутками раньше, чем это произошло на самом деле. В его докладе командованию 5-й армии говорится: «Тотчас (после взятия Амги. – Л. Ю.) из населения были сформированы отряды для обороны Амги, и наши части пошли на помощь Строду, которого 3 марта и выручили». В своих воспоминаниях Байкалов излагает другую версию. Сразу после штурма, рассказывает он, измученные бойцы завалились спать, но на следующий день, 3 марта, еще не зная, что осада Сасыл-Сысы снята, он направил туда дивизион ГПУ во главе с уполномоченным Мизиным. Байкалов умалчивает, что портить с ним отношения ему не хотелось, настаивать на немедленном исполнении приказа он остерегся, поэтому дивизион выступил из Амги только утром 4 марта.
На полпути Мизин встретил перебежчика Михайлова с письмом Строда, прочел его и повернул назад, рассудив, что если осажденным ничто не угрожает, идти в Сасыл-Сысы ему не обязательно. Ни он, ни Байкалов не думали, что это место скоро станет священным, а Строд, на которого оба привыкли смотреть свысока, будет объявлен победителем вышедшего из моря дракона, спасителем обреченной ему в жертву девы-Якутии. Байкалов с Мизиным упустили шанс встать обок с главным персонажем будущего мифа, хотя им всего-то и нужно было вовремя явиться к израненному герою с глотком вина и словом благодарности. В итоге Строд разделил славу не с ними, а с Курашовым, с самого начала прорывавшимся именно к нему.
В первой половине дня 5 марта в Сасыл-Сысы увидели, как на опушку леса за озером выехали четверо конных. Они что-то кричали, размахивая руками и винтовками, затем карьером понеслись к усадьбе. В одном из них Строд узнал Курашова.
Дальше – сцена всеобщего счастья: «Всадники вихрем врываются во двор. Бурная радость охватывает нас. Беспрерывно гремит “ура”. Заключаем друг друга в объятья, целуемся… Многие не выдерживают и плачут».
Курашов был потрясен увиденным. Он волнения ему захотелось курить, он начал искать свою трубку и никак не мог найти, хотя держал ее в руке. По этому поводу Строд вложил ему в уста чеканную фразу: «От такой картины не то что трубку, голову потеряешь».
К вечеру прибыл обоз из Амги: привезли продукты, медикаменты, заячьи одеяла, оленьи и собачьи дохи. Байкалов прислал «немного спирта», взяв его у военкома, в чьи обязанности входило распределять этот сверхценный продукт в качестве поощрения. Строд, разумеется, об этом не написал.
Сани разгрузили, накормили раненых. Фельдшеры приступили к перевязкам. Красноармейцы поели, затем начали снимать с баррикад смерзшиеся трупы, отделяя их друг от друга, что было не так-то просто. На другой день с помощью бойцов Курашова все тела зарыли где-то неподалеку. Сколько было выкопано братских могил, одна или две – для своих и для чужих, Строд не сообщает. Три недели назад он привел сюда двести восемьдесят два красноармейца, из них шестьдесят три погибли, девяносто шесть раненых на санях отправили в Амгу. Осталось сто двадцать три человека. Перед тем, как покинуть усадьбу Карманова, Строд построил их во дворе и увидел, как они изменились: «Люди помрачнели, фигуры стали мешковато-сутулыми, заросшие бородатые лица сосредоточенны. Мы прощались с погибшими товарищами, прощались с хотоном и юртой… Двести винтовок и четыре пулемета разрядились залпами прощального салюта. Сухим раскатистым эхом отозвалась тайга, глухим рокотом ответили ей угрюмые великаны горы. Таежный скиталец ветер колыхнул знамя…»
Строд энергично повествует, как «уцелевшие бойцы переходили озеро, втягивались в опушку леса, готовые, если потребуется, пойти в новый бой с врагами Советов», но вряд ли колонна выглядела так уж бодро. В лечении нуждались не только раненые, все были истощены и «завшивлены до невероятности». В Амге, куда они добрались к вечеру, собрали все бритвы, все ножницы и мобилизовали всех, кто сколько-нибудь годился в парикмахеры. Героев Сасыл-Сысы «стригли как овец, а потом уж пускали в ход бритвы».
Вскоре Алексей Карманов с женой и детьми вернулся в свое разоренное изгаженное жилище. Со временем жизнь наладилась, и уже через пару лет или ему сумели внушить, что оборонявшиеся здесь русские защитили его семью от пепеляевских бандитов, или он думал, что само имя их предводителя заключает в себе магическую силу, раз он сумел совершить невозможное, но родившийся у хозяина юрты сын был назван Стродом.
Может быть, у маленького Строда Карманова появились тезки и в других якутских семьях. Это имя, гремевшее по всей Якутии, могли давать мальчикам и с прагматическими целями, в расчете на будущие милости к ним со стороны начальства. Если так, Строд сделался для них чем-то вроде тотемного животного или небесного покровителя, обеспечивающего подопечным удачу в делах, здоровье и долгую жизнь, хотя сам никакой карьеры не сделал, после пяти тяжелых ранений постоянно болел и был расстрелян в возрасте сорока трех лет.
Сасыл-Сысы он посетил еще дважды. Сначала приехал через год и подарил Карманову коня, потом – в 1932 году, когда жил в Москве и был приглашен на торжества в честь десятилетнего юбилея ЯАССР. В Сасыл-Сысы его привезли на автомобиле, чтобы показать установленный здесь «памятник» – столб с красным знаменем на верхушке, которое ежегодно меняли, чтобы не успевало полинять и выцвести от дождей и морозов. После прогулки почетного гостя привели в юрту Карманова, усадили за стол, напоили чаем с «душистой земляникой». На чаепитие собрались все обитатели деревни, и, как описывал эту встречу сам Строд, «лица присутствующих сияли счастьем и гордостью за свою новую колхозную жизнь».
Однако в других населенных пунктах, где он в тот раз побывал, ему как большому человеку подавали жалобы на эту счастливую новую жизнь. Строд обещал отвезти их в Якутск или даже в Москву и, наверное, честно исполнил обещанное, но в таких делах его заступничество мало что значило.
В Усть-Миле, в ответ на письмо члена ревтрибунала Редникова, который призывал Куликовского признать советскую власть, бывший властитель дум якутских гимназистов и семинаристов написал самое яркое из своих сочинений – «К молодежи».
«Всем ли этим милым юношам суждено превратить утреннюю зарю в сияющий разумом день? – риторически вопрошал он, вспоминая о своих духовных чадах, актерах в поставленных им любительских спектаклях. – Я знаю, у одних заря юности померкнет от самомнения, у других – от слепого увлечения каким-нибудь декоративным учением, у третьих – от житейской прозы будней. Но прочь сомнения! Я вижу юношей. Их жизнь прекрасна, стремления чисты. Они не пойдут на грязное дело. Я люблю молодежь, уважаю ее светлые стремления… На знамени молодежи должно гореть яркими красками: Родина, наука, искусство превыше всего!»
А под конец – о себе: «И мы, лишенные молодости и силы, согретые вашим энтузиазмом, сможем еще раз побороться за великие идеи великих людей».
К марту 1923 года сил у него оставалось немного.
Он приехал в Амгу за неделю до взятия ее Байкаловым, в пути простыл, почти всю эту неделю провалялся с температурой, к моменту штурма не полностью оправился от болезни и никакой деятельности здесь не вел. Победители издевались над найденными у него в вещах губернаторскими печатями и визитными карточками на двух языках, русском и французском, но трудно судить, действительно ли он ожидал падения Якутска, чтобы вступить в должность управляющего областью, или давно махнул на это рукой.
Наряду с атрибутами будущей власти у Куликовского нашли разного рода материалы, касающиеся прокладки колесного тракта между Аяном и Нельканом. Полтора года назад он начал эту работу, но прервал ее из-за появления Коробейникова и начавшегося восстания. Среди бумаг обнаружили схемы придуманных им самим «подъемных агрегатов», с помощью которых можно поднимать грузы на Джугджур. Кажется, после всех разочарований проект этой дороги стал для Куликовского главным делом жизни, на нем он строил мечты о том времени, когда «Якутский край, освободившись от потрясений междоусобной распри и установив у себя режим свободного развития созидательных сил, быстро разовьется и станет второй Америкой».
Ее нынешние правители, говорилось в одном из написанных им воззваний, «бросили клич о земном рае и сулили счастье, счастье без конца и в полной мере», но принесли разруху и нищету. Чтобы явиться к отданным под его управление людям не с пустыми руками, Куликовский во Владивостоке, перед отплытием в Аян, сумел получить со складов Приамурского правительства кое-какие вещи для страдающего от бестоварья населения. Правда, их ассортимент больше говорит о нем самом, чем о реальных нуждах жителей Якутии. В списке предметов первой необходимости фигурируют две тысячи электрических лампочек, которые и советская власть сделает символом новой жизни, два пуда выключателей, восемьсот девяносто четыре косы для крестьян и пять пудов ценимых якутами перламутровых пуговиц, но все это богатство, призванное осчастливить и горожан, и сельских хозяев, и туземных модниц, застряло в Аяне. Олени требовались для перевозки боеприпасов и продовольствия, а выключатели с пуговицами могли подождать. Куликовский привез в Амгу только личные письма и бумаги, связанные со строительством дороги Аян – Нелькан. То и другое уместилось в одной папке. В день штурма ее нашли у него на квартире, но сам он исчез.
«Очевидцы рассказали, – с удовольствием передает Байкалов слухи о его трусости, – что Куликовский в страхе и полной растерянности метался из одного дома в другой, ползал на брюхе и, не находя места, где спрятаться, наводил лишь панику на обороняющихся. После захвата Амги никто не мог указать, куда он девался, а все поиски оказались тщетными».
Как выяснилось позже, во время боя Куликовский убежал из слободы и то ли потерял товарищей, то ли они его бросили, потому что он за ними не поспевал, то ли спутников у него не было. Не в силах идти дальше, он спрятался в стоге соломы неподалеку от Амги, в темноте перебрался в стог сена, зная, что в сене теплее, и просидел здесь двое суток. Наконец 5 марта, полуживой от холода, с обмороженными руками и ногами, поскольку был не в дохе и даже не в полушубке, а «в осеннем пальто», рискнул окликнуть появившегося хозяина стога, крестьянина Егора Алексеева. Обещая хорошо ему заплатить, Куликовский попросил отвезти себя в Усть-Миль, а пока принести какой-нибудь еды и теплую одежду. Алексеев притворно согласился и вернулся с красноармейцами. Те доставили пленника в штаб.
«Он вошел, – описывает Байкалов свою с ним встречу, – жалкий, дрожащий, шатающийся, даже не поздоровался, а на приглашение сесть молчал, дико озираясь, и продолжал стоять».
Состоявшийся между ними разговор Байкалов передает прямой речью, словно четверть века спустя помнил его слово в слово.
БАЙКАЛОВ: «Вы царский политкаторжанин?» Куликовский: «Да».
БАЙКАЛОВ: «Я тоже политкаторжанин (это неправда. – Л. Ю.). Каким образом мы очутились по разные стороны баррикад?»
На это Куликовский «не нашел что ответить».
БАЙКАЛОВ (зная, видимо, от крестьян или пленных пепеляевцев, чем был вооружен собеседник): «Где ваш кольт?»
КУЛИКОВСКИЙ: «Я его потерял. Был такой ужас, такой ужас! Я ничего не помню».
БАЙКАЛОВ: «Вы впервые слышали орудийный кашель и музыку боя?»
КУЛИКОВСКИЙ: «Да».
БАЙКАЛОВ: «Садитесь же! Вы шатаетесь, вы бледны. Вам нездоровится?»
Куликовский (продолжая стоять): «Я ночевал в зароде и страшно озяб, не спал совсем».
БАЙКАЛОВ: «Участь Пепеляева знаете? Он разбит и бежит в Петропавловское».
КУЛИКОВСКИЙ: «Я очень устал, я плохо отдаю себе отчет в происходящем. Я просил бы…»
БАЙКАЛОВ: «Добре, идите отдыхайте. Потом поговорим».
Диалог явно вымышленный, но когда Байкалов пишет, что велел коменданту приготовить для Куликовского «теплую комнату, постель и завтрак», это больше похоже на правду, чем строки из посвященного ему стихотворения Пепеляева:
- Враг в злобе коварной придумывал муки,
- Мольбе о пощаде заранее рад…
Теплая комната нашлась в доме священника. Пленника отвели туда под конвоем, причем красноармейцы и жители Амги «свистали и тюкали» ему вслед. При досмотре на нем нашли какой-то «флакончик», но он сказал, что там лекарство, и флакончик ему оставили. Отказавшись от завтрака, Куликовский сразу лег, а вечером Байкалову доложили, что он «как-то неестественно храпит, и изо рта у него идет слюна».
Срочно вызвали доктора. Тот констатировал: «Зрачки резко сужены и слабо реагируют на свет. Пульс нитевидный, около 70 ударов в минуту. Дыхание ритмически неравномерное, лицо и кисти рук отмечены похолоданием».
Имелись «признаки отравления», и Байкалов, чтобы отвести от себя подозрение в причастности к убийству и «не дать козырь в руки контрреволюции», создал комиссию для расследования обстоятельств случившегося. На квартире у Куликовского нашли шприцы для инъекций и морфий, отсюда вывели, что оставленный ему флакончик содержал то же вещество, и он «отравился большой дозой морфия».
6 марта Куликовский умер.
Двумя днями позже краткое сообщение о его самоубийстве появилось в «Автономной Якутии». Оно состояло из двух строк, зато было увенчано крупным, не соответствующим объему текста заголовком: «Одним негодяем меньше».
Байкалов отзывался о Куликовском как о никчемном человеке и «законченном морфинисте», однако текст доклада «Транзитная линия Аян – Нелькан, р. Мая», который он когда-то сделал в Продовольственном комитете, не утратил значения и был опубликован в журнале «Хозяйство Якутии» (1926, № 4).
Его автора похоронили в одной могиле с несколькими десятками пепеляевских солдат и офицеров, убитых под Сасыл-Сысы и в других местах. Их промерзшие тела, как год назад – тела командиров и бойцов Каландаришвили, штабелями лежали в одном из слободских амбаров, ожидая весны и достойного, с воинскими почестями, погребения, но, в отличие от погибших в засаде на Техтюрской протоке Лены, так его и не дождались.
Через полтора месяца Пепеляев написал стихотворение «Памяти П. А. Куликовского»:
- Всю жизнь ты боролся за счастье народное
- И сил не берег ты в неравной борьбе,
- Томилося сердце твое благородное
- То в ссылке далекой, то в мрачной тюрьме.
- Но волю сберег ты среди испытаний,
- Ее не сломили тюрьма и острог,
- В годину тяжелых народных страданий
- Ты праздным остаться не мог.
- …………………………………………………….
- Ты умер, и сердце твое уж не бьется,
- Но память о жизни твоей не умрет,
- И время придет, и Россия проснется,
- Про жизнь твою громко расскажет народ[31].
Сочиняя эти прекраснодушные народнические стихи в духе Некрасова и Михайлова, Пепеляев не знал, что среди оставшегося от Куликовского имущества были две вещи, странные для багажа старого социалиста-народника – Псалтирь и «порнографические карточки японского происхождения».
Выступая с докладом на объединенном заседании партийных и советских организаций Якутии, Байкалов упомянул об этих карточках «дурного сорта» и добавил, что они были вложены в Псалтирь. Эту выразительную деталь он привел и в своей речи на судебном процессе Пепеляева, правда заменил Псалтирь «молитвенником». Скабрезные карточки, заложенные между страницами такой книги, делали Куликовского не просто банальным лицемером, как если бы то и другое хранилось у него по отдельности, но человеком, для которого нет ничего святого.
«Карточки» – это не фотографии обнаженного женского тела, а открытки (от post carde) с репродукциями рисунков или гравюр в стиле сюнга («весенние картинки»). Относя их к продукции «дурного сорта», Байкалов имел в виду низкое качество не художественного, о чем он судить не мог, а типографского исполнения. При слове «порнография» у его слушателей включалось воображение, хотя традиционная японская эротика при всей ее физиологической откровенности возбуждает слабее, чем аналогичные западные изделия. Экзотичность нарядов, причесок и, главное, полная бесстрастность лиц обоих партнеров, не свойственная предающимся тому же занятию европейцам, мешает соотнести себя с персонажами этой живописи.
Несколько найденных у Куликовского открыток кочевали потом из статьи в статью, из книги в книгу[32]. Лучшего разоблачения его скрытой порочности трудно было придумать. Комичное старческое сладострастие и подразумеваемая импотенция, вынуждающая взрослого мужчину предпочитать нарисованных японок живым и вполне доступным якуткам, идеально соответствовали образу столь же охочего до власти, как до женщин, и так же не способного ею овладеть «управляющего Якутской областью», но на самом деле вся эта история говорит о другом. Заботливо, чтобы не помялись, вложенные в Псалтирь японские картинки, которые вместе с чертежами «подъемных агрегатов» тайком от всех возил с собой по зимней тайге пожилой больной человек в демисезонном пальто – знак его бесконечного одиночества.
Птица-правда
После второго боя с Курашовым, готовясь к третьему, Пепеляев получил записку Вишневского с сообщением о падении Амги. На другой день, в деревне Усть-Лаба, он собрал военный совет. Произошло это, как ему казалось, 2 марта, а на самом деле – 3-го. Ошибка объясняется тем, что в сумятице тех дней он посчитал 1 марта за отсутствующее в 1923 году 29 февраля.
На совете Пепеляев, говоря его собственными словами, заявил: «Я пришел к заключению, что своими силами нам Якутию не взять. Якуты помогают только транспортом и довольством, сами же в отряд идут неохотно. Якутская интеллигенция ведет двусмысленную политику, а главное – вы слышали от пленных, что в Сибири многое изменилось, поголовного недовольства крестьян больше нет… Конечно, мы можем продолжать борьбу партизанского характера, но это пользы народу не принесет, принесет только вред. Я шел не за тем и не такое движение хотел организовать…»
Рассудительность и спокойствие привнесены в его речь задним числом, в тот момент им владели иные чувства. Как говорил Байкалову кто-то из сдавшихся в плен добровольцев, Пепеляев, узнав о падении Амги, «побледнел и сказал, что его миссия кончена, якутские твари и Куликовский его обманули, надо спасать свои души». Конкретные слова могли быть другими, но настроение передано верно.
Положение было катастрофическое. Разбить Строда не удалось, Курашова – тоже, Байкалов находился в сорока верстах от Усть-Лабы. Амга с ее складами продовольствия и боеприпасов была потеряна, у людей осталось по десять-двадцать патронов на винтовку. В довершение ко всему Сибирская дружина лишилась главного своего символа – бело-зеленого знамени с красной диагональной полосой, крестом и ликом Спаса Нерукотворного. В Элесинской котловине, в ночном бою, знаменосец Березкин, которому месяц назад Пепеляев перед строем торжественно вручил эту святыню, был убит, знамя досталось Курашову.
На военном совете с участием Рейнгардта, Леонова, Сивко и Цевловского решили выводить остатки дружины в Аян, чтобы с началом навигации выбраться в Японию или на Сахалин, а оттуда – в Китай. У Пепеляева осталось около трехсот бойцов, не считая якутских партизан. Никем не преследуемый, 9 марта он пришел в Петропавловское, где к нему присоединились Вишневский с Артемьевым. Андерс и группа бежавших с ним из Амги офицеров, опасаясь, что Байкалов перережет дорогу к Усть-Милю, поспешили уйти по ней самостоятельно.
В Петропавловском дружина простояла двое суток. Крестьяне рассказывали, что пепеляевцы «были все черны, грязны и мрачны». Их интересовали только еда и ночлег, но истосковавшийся по чтению капитан Петр Каменский проинспектировал брошенную батальоном Дмитриева библиотеку, отобрал несколько книг и взял их с собой, заодно прихватив номер рукописной гарнизонной газеты. С его помощью он, очевидно, хотел лучше понять, что представляли собой защитники Сасыл-Сысы и какими идеями они вдохновлялись.
Нужда заставила Пепеляева впервые за семь месяцев «прибегнуть к реквизиции у жителей» – взяли фуражное зерно и пятьсот пудов из той муки, которую месяц назад, уходя из Петропавловского в Амгу, раздал здешним крестьянам Строд. От Петропавловского до ближайшего селения Усть-Аим предстояло пройти триста с лишним верст по Алдану и Мае и опередить красных, хотя те пойдут туда не по снежной целине, а вслед за Андерсом, по зимнику. Другого выбора у Пепеляева не было – единственный путь к Охотскому побережью пролегал через Усть-Аим.
Перед уходом он построил дружину и обратился к ней с речью. В изложении Грачева сказано было следующее: «Братья добровольцы, мы исполнили свой долг до конца… По призыву представителей якутского населения, чтобы помочь народу в борьбе с врагами, мы пошли на этот далекий, холодный и дикий север. Многие сложили свои кости в этой пустыне. Мы, оставшиеся в живых, обречены на худшие испытания. Мы идем навстречу жестокой неизвестности. Неизбежно испытаем голод, холод и тяжелые переходы при слабой надежде на спасение. Удастся ли нам выбраться обратно на территорию Китая при отсутствии всякой помощи, трудно сказать. В таком состоянии, в каком оказалась дружина, требуется отменно строгая дисциплина, и я ее буду проводить в жизнь. Каждого нарушившего дисциплину буду беспощадно карать. Тот, кто не находит в себе сил перенести названные мною тяжелые испытания или поколебался в правоте нашего дела, пусть остается. А кто готов идти со мной – пол-оборота направо, шагом марш!»
Возможностью «уходить куда угодно», как сформулировал свое предложение Пепеляев, воспользовались большая часть якутов и шестьдесят русских добровольцев, среди них пятнадцать офицеров. С остальными он выступил на восток, увозя в обозе тридцать два раненых, которые оставаться не захотели. В тот же день его нагнали байкаловские парламентеры, среди них – сдавшийся в плен в Амге начальник информационнополитического отдела дружины Афанасий Соболев.
Позже Пепеляев написал о нем стихотворение «Начполитотдел». Соболев, он же Афоня или Афанас, предстает здесь фигурой сгущенно-комической и в то же время очень узнаваемой. Вначале рассказывается, как он вел себя во Владивостоке, в Нелькане, во время голода, затем – в пути от Нелькана до Усть-Миля и в Амге:
- За дружиной в стужу зимнюю
- В нартах ехал на Алдан
- И доехал, сохатиною
- Прикрывая тонкий стан.
- По Амге с восторгом носится,
- С поцелуями спешит,
- А на красных так и косится —
- Всех сейчас он победит.
- Но настали испытания,
- И Афоню не узнать.
- На лицо его страдание
- Наложило вмиг печать.
- По Амге уже в волнении,
- С карабином на плечах
- Ходит он в недоумении,
- Нет уж бодрости в речах.
- А когда Амгу оставили,
- Тот бежал, кого Бог спас,
- Путь к Аяну все направили,
- Но остался Афанас.
Наконец – участие Соболева в байкаловской «мирной миссии»:
- Перемена декорации.
- Чтоб спасти свой тонкий стан,
- Он в составе делегации
- Приезжает на Алдан.
- И во славу демократии
- Тонким голосом поет,
- Обещает мир всей братии
- И гарантии дает,
- Но от страха тут же крестится —
- Видит дуло он ружья.
- Никак в сани не уместится:
Нет, назад, назад, друзья!
Автор наверняка читал это стихотворение вслух, для того оно и писалось, но тон его – довольно беззлобный. Каждый теперь выбирал себе судьбу с учетом не столько убеждений, сколько физических сил, и Пепеляев не обвиняет Соболева, он лишь посмеивается над ним, чтобы ободрить людей сравнением с не выдержавшим испытаний товарищем.
На этой терапевтической ноте стихотворение и заканчивается:
- Прошло время для сомнения,
- И в походе всякий раз
- Нам во вражеском пленении
- Представлялся Афанас[33].
Переговоры с прибывшей от Байкалова делегацией окончились безрезультатно, если состоялись вообще. Пепеляев продолжил путь к Усть-Аиму.
В это же время распустивший своих якутов Ракитин, брошенный ими Варгасов и раненный «в стыдное место» Худояров с двумя-тремя десятками русских добровольцев из района Чурапчи двинулись обратно в Охотск. «Переходы их по безлюдным местам в потрепанном виде надо считать подвигом», – признавал даже не склонный к сантиментам Байкалов, подводя итоги «борьбы с пепеляевщиной» в сделанном на сессии ЯЦИК докладе.
В штабе 5-й армии допускали, что поскольку в Аяне, куда идет Пепеляев, «нет морских посуд», он оттуда направится на юг, к порту Чумикан в Удской губе того же Охотского моря. Чтобы вовремя получить нужную информацию, в марте 1923 года в этот район был командирован из Читы сотрудник ГПУ Альберт Липский – как человек, «имеющий большие связи с местным туземным населением и обладающий в среде их известным влиянием». Неизвестно, какого рода «связи» имелись в виду, но ему предписывалось вести «закрытую разведку», а если удастся, организовать тунгусский партизанский отряд для диверсий против «банд Пепеляева». Липский с несколькими спутниками сошел с поезда на станции Ин Амурской железной дороги, нанял проводников и через верховья Амгуни на оленях двинулся на север.
Оставшийся в Аяне поручик Малышев, поэт и бывший адъютант Пепеляева, ничего об этом не знал и не подозревал, что в лице Липского к нему приближается судьба стать многолетним узником Александровского централа в Сибири, а в конце концов – безумцем.
«Даже в марте снег в покоти к Охотскому морю был настолько глубок, – доносил Липский начальству, – что, сидя верхом на олене в конце длинного каравана иногда из 60 животных, седок загребал его коленями. Для оленей этот снег был просто гибельным, несмотря на то, что впереди всегда шел тунгус на лыжах и проминал дорогу. Первые трое оленей без вьюков или же с пустыми вьючными седлами, после каждого перехода сменявшиеся, никогда не могли пройти без отдыха до вечернего привала. Вечером олени должны были отдохнуть, прежде чем приступить к добыче корма. Чтобы добраться до него, они разгребали толстый слой снега и не успевали отдохнуть к началу пути с рассветом. Многие олени пали».
С исключительной глубиной снежного покрова столкнулся и Пепеляев, но лошади были хуже к этому приспособлены, чем олени. «Впереди для проминания дороги пускали лучших лошадей и быков с порожними санями, – вспоминал Грачев, – скоро они выбивались из сил и падали. Для дневной потребности в продовольствии тут же их кололи и обдирали, а остальных оттаскивали в сторону. Больно и тяжело было смотреть, как усеивался путь бедными животными».
«Путь был очень тяжел, – писал Пепеляев. – Люди изнемогали, делая переходы по 12–13 верст в сутки, а на биваках приходилось рубить деревья, жечь костры, ставить палатки, нести сторожевое охранение, так как за нами шел отряд красных. Его численности я не знал и боя давать не хотел».
Это был сильно поредевший в боях, скудно снаряженный и плохо обмундированный батальон Курашова. Он шел по следам Пепеляева, а дивизион ГПУ под командой Мизина направлялся в Усть-Аим по тракту. Байкалов не сомневался, что Мизин прибудет туда раньше Пепеляева и отрежет ему путь на восток.
С Курашовым отправился военком Кропачев, по молодости лет быстро оправившийся после осады. Он, надо полагать, хотел лично присутствовать при поимке Пепеляева, чтобы потом на правах очевидца описать этот исторический момент, и хотя события развернулись не так, как ожидалось, Кропачеву хватило материала на заметку в «Автономной Якутии».
На десятый день погони, рассказывает он, в устье впадающей в Маю реки Юдомы, где осенью стояли уведенные из Нелькана пароходы «Соболь» и «Республика», Курашов почти настиг арьергард Пепеляева. Под утро, в темноте, разведчики подобрались так близко к его лагерю, что слышали, как генерал поздоровался с выстроенными для похода добровольцами, и те ответили ему по всей форме. Привычные ритуалы были элементом дисциплины, за нарушение которой он, вопреки своим прежним правилам, обещал «карать беспощадно». Теперь только дисциплина могла их спасти.
Атаковать колонну на марше Курашов не рискнул. Он предпочел «не проявлять себя», а когда вечером пепеляевцы встали на ночлег под левым, высоким берегом Маи, «предпринял обход» в расчете незаметно подойти к биваку и с обрыва закидать палатки гранатами. Выступили затемно, однако прибрежные скалы и все тот же снег глубиной по пояс разрушили этот план. Пока красноармейцы пробивались к цели, уже рассвело, отдохнувшие за ночь белые снялись и ушли, а бойцы Курашова выбились из сил. Чтобы не упустить противника, он отобрал лучших обозных лошадей и «сформировал конный отряд» из тридцати всадников. Они поехали по берегу, над рекой, но двигавшиеся по речному льду пепеляевцы при дневном свете заметили их издали, «удвоили энергию и выиграли время». Преследователи, спешившись, открыли по ним огонь. У белых восемь человек было ранено. Семерых они подобрали, оставив лишь одного, тяжело раненного прапорщика, и продолжали идти. «На крик наших “сдавайтесь”, отвечали: “Умрем, но не сдадимся», – пишет Кропачев.
С этого дня Пепеляев начал увеличивать суточные переходы, сжигая или бросая палатки и прочее «имущество» вплоть до саней с запасными винтовками. Его путь был усеян павшими лошадьми, но и у Курашова положение было не лучше. Лошадей кормили тальником, они еле держались на ногах. Хлипкая обувь не вынесла десятидневного пути по скалам и ледяным торосам, красноармейцы «обосели». Пепеляевцы тоже обматывали ноги шкурами, а идти по Мае становилось все труднее, под весенним солнцем на реке появились наледи и провалы. У Курашова много было отставших, и все-таки он не прекращал погони в расчете, что Мизин вот-вот займет Усть-Аим, тогда Пепеляев, оказавшись меж двух огней, должен будет сложить оружие.
При таких гонках красные неизменно проигрывали своему более стойкому и спаянному духом товарищества противнику. В этих зимних маршах пепеляевцы не имели себе равных. Когда Сибирская дружина достигла Усть-Аима, Мизин там еще не появился, а Курашов отстал на два дня пути.
Тунгусы, помня доброе к себе отношение, встретили добровольцев «с полным радушием», дали оленей, упряжных и на мясо. Переночевав, Пепеляев выступил дальше, а вечером в Усть-Аим пришел Курашов. Его бойцы вконец обессилели, продолжать преследование было невозможно. Через день он двинулся назад и по дороге узнал, что Мизин с дивизионом ГПУ, не пройдя и полпути до Усть-Аима, вернулся в Якутск. «Единственная для белых дверь на Нелькан осталась открытой», – замечает Строд, обвиняя в этом Мизина, но, разумеется, умалчивая о том, какой именно частью тот командовал.
21 марта Строд со своими бойцами триумфально вступил в Якутск. На площади Марата собрали митинг, а еще через четыре дня, когда пепеляевцы вошли в состоявший из двух юрт Усть-Аим, который для них был вожделенным оазисом среди ледяной пустыни, в Народном театре, бывшем Клубе приказчиков, открылось торжественное заседание в честь победы над Пепеляевым. Первым слово предоставили встреченному бурной овацией Строду.
Он рассказал об уходе из Петропавловского, о бое с Вишневским и последующих перипетиях осады, особенно подробно – о намерении «взорвать себя на воздух». Датой своего освобождения Строд назвал не 3 марта, как настаивал Байкалов, а 5-е, и освободителем – не туманные «наши части», а конкретно Курашова. Это противоречило официальной версии, но Строд не считал нужным ее поддерживать.
Его выступление продлилось не менее часа и было не просто докладом, но умело срежиссированным действом со статистами и звуковыми эффектами; в труппе Нартеатра должны были найтись люди, умевшие ставить такие агитспектакли. Оркестр за кулисами начинал играть бравурные марши, если Строд говорил о героизме красных бойцов, и переходил на «похоронную музыку», если речь шла о «понесенных жертвах». Когда рассказ дошел до штурма Сасыл-Сысы всеми силами Сибирской дружины, и Строд сказал, что «испорченный пулемет был исправлен товарищем Петровым под пулями противника», сидевший в зале Петров встал, приветствуемый аплодисментами и очередным маршем. Так повторялось несколько раз.
«Народ умеет умирать за свободу, – в заключение провозгласил Строд, – его можно разбить в одном бою, но в конечном счете он победит».
Байкалов из президиума объявил, что все участники обороны Сасыл-Сысы награждаются новым комплектом обмундирования, особо отличившиеся – именными часами, а Строд – шашкой с серебряной рукоятью и надписью «Герою Якутии». Соответствующим инстанциям предложено было выделить ему отрез сукна на костюм и кожу на пару сапог. Не исключено, что неравнодушный к таким радостям Строд сам же и выпросил себе эту награду.
Торжество не могло не завершиться выпивкой и закуской в узком кругу высших республиканских руководителей. В их общество Строд был допущен впервые, но вряд ли робел регулярно наполнять свою рюмку. Он прекрасно понимал, что отныне ему позволено все.
Отправляясь в Якутию, Пепеляев мечтал «влиться в народ», чтобы помочь ему «выдвинуть из глубины своей те силы, которые создадут действительно народную власть», и первая часть программы была успешно выполнена. «Благодаря перенесенным лишениям нам удалось вплотную подойти к народу», – констатировал он со своей неистребимой наивностью, но стихийные силы не «выдвинулись из глубин». Постепенно пришло понимание: «Народ только пользовался нами во избежание разверсток, налогов и прочая, а вопрос о власти его мало интересовал».
Этот вывод Пепеляев сделал в Амге. Здесь он имел дело не только с якутами, как раньше, но и с русскими крестьянами, тем тяжелее было разочарование. Вообще Амга – одна из двух точек на карте, ставших переломными в его судьбе и по странной, но символичной случайности связанных с жизнью Владимира Короленко. Весной 1919 года, наступая на Москву, Пепеляев дошел до уездного Глазова, где Короленко при Александре II отбывал первую ссылку, а четыре года спустя оказался на месте его последней ссылки, в Амге. Продвинуться на запад дальше этих роковых для него населенных пунктов он не сумел.
Как Пепеляев, Короленко посвятил молодость поискам скрытого в толще народа таинственного знания об идеальном устройстве жизни и так же отчаялся его найти. «Где она, эта народная мудрость? Куда привела она меня? – вспоминал он свои одинокие размышления на высоком берегу реки Амги, притока Алдана. – Вот я на Яммалахском утесе. Внизу подо мною песчаный остров, какие-то длинноногие птицы ходят по песку, перекликаются непонятными голосами – почти столь же непонятными, как народная мудрость».
Через сорок лет тот же невнятный призрачный голос заманил в Амгу и «мужицкого генерала».
«Как за сказочной птицей, гонялся я за правдой, верил, что там, в глубинах народных, знают ее», – написал он в исповедальном рассказе о себе.
А затем кратко сформулировал итог своих исканий: «У народа идеи нет».
И закончил, имея в виду будущее, каким оно представлялось ему во время отступления на восток: «Впереди было темно».
В Усть-Аиме Пепеляев нашел роту подполковника Захарова, отступившего сюда из Усть-Миля. Тот сказал, что Андерс и группа офицеров амгинского гарнизона уже прибыли в Нелькан.
Пепеляев был зол на Андерса. Имея не многим меньше сил, чем у Байкалова, тот не сумел удержать неприступную Амгу в течение хотя бы суток, до прихода подкреплений, и преступно бежал из нее в разгар боя. Пепеляеву, наверное, хотелось бы лично с ним разобраться, чтобы иметь право переложить на Андерса часть ответственности за неудачу всего похода, тем самым облегчив собственную ношу, но он не знал, что уже оторвался от погони, что Курашов дальше Усть-Аима не пойдет, а Мизин с полпути возвращается в Якутск. Пепеляев побоялся передать командование кому-то другому и с дружиной пошел в Нелькан пешком, а Вишневского на оленях выслал вперед с поручением, которое он никому другому доверить не мог: «Провести дознание о действиях полковника Андерса в связи с оставлением Амги».
Судя по формулировке, намерения у Пепеляева были самые серьезные, для Андерса и ближайших к нему офицеров дело могло кончиться военно-полевым судом и разжалованием. Возможно, здесь берут начало дошедшие до Якутска слухи о заговоре против Пепеляева и расстреле троих офицеров-заговорщиков. Чего они добивались, никто не знал, но Байкалов, осенью 1921 года воевавший в Монголии, слышал, конечно, об офицерском заговоре против Унгерна и мог смоделировать предполагаемые события в Сибирской дружине по образцу тех, что произошли в Азиатской дивизии. С той лишь разницей, что там офицеры договорились убить барона, не желая идти в Тибет, куда он собирался их вести, а здесь – покончить с Пепеляевым, который якобы насильно уводил их в Аян, и сдаться в плен, чтобы не умереть в тайге от голода. Байкалову очень хотелось поверить в такой заговор, но в дальнейшем сведения о нем не подтвердились.
Через Усть-Аим проходила старая дорога к побережью. В нартах Вишневский за три дня прошел по ней двести верст до Нелькана, но Андерса там не застал. Тот с несколькими спутниками ушел дальше на восток, явно не желая встречаться с Пепеляевым.
Неизвестно, провел ли Вишневский доверенное ему дознание, опрашивая оставшихся в Нелькане офицеров Андерса, но у него было еще одно поручение, более важное. Он его исполнил и за два дня до Пасхи выехал обратно в направлении Усть-Аима. Дружине предстояло встретить праздник в пути, и Вишневский вез с собой «полусдобные» из-за нехватки драгоценного сахара куличи заодно с «прочим, что можно было достать в этом полуголодном районе». Несмотря на все старания ни сырной пасхи, ни яиц раздобыть не удалось.
8 апреля он записал в дневнике: «Святая Пасха. В 12 часов ночи дружина поставлена покоем в глухой тайге в 60 верстах от Нелькана – и спели “Христос воскрес”».
План Вишневского
9 апреля Пепеляев привел остатки дружины в Нелькан. За месяц прошли без малого шестьсот верст, больше половины – без дорог, по речным руслам, в мороз и при сильных ветрах, но самое удивительное, что в этом беспримерном походе было потеряно всего два человека: оставленный после перестрелки на Мае неизвестный тяжело раненный прапорщик, о котором упомянул Кропачев, и тоже безымянный молодой солдат, с голодухи съевший слишком много недоваренного зерна.
В Нелькане задержались до начала мая. Здесь наконец нашлось время посчитать потери всей кампании. Вишневский привел эти цифры по Сибирской дружине, без учета якутских отрядов: девяносто восемь бойцов погибли, двадцать четыре пропали без вести, сто пятнадцать – в плену (большинство взято ранеными или обмороженными), сто два добровольно остались в Петропавловском и в других местах. О судьбе Ракитина, Варгасова, Худоярова и их людей никто ничего не знал.
Из семисот тридцати двух человек, осенью высадившихся в Якутии, Пепеляев сохранил около четырехсот, включая раненых и тех офицеров, кто в походе не участвовал и с осени жил в Охотске, как Михайловский, или в Аяне, как Малышев и Кронье де Поль. Кроме дружинников, в Нелькане находились якуты из отрядов Рязанского и Артемьева. Эти двое на амнистию не рассчитывали. Кто-то рассказал Артемьеву, что бойцы Строда, придя из Сасыл-Сысы в Амгу, «усиленно разыскивали его среди пленных», и у него не было сомнений, как бы с ним поступили, если бы нашли.
Опасность отступила, напряжение последних недель сменилось апатией. «Пала вера в свою идею, в свою правду, во имя которой мы делали едва доступные человеку переходы», – вспоминал Пепеляев о тех днях, когда на Пасхальной неделе дружина вновь очутилась в Нелькане, но на этот раз даже без тех скромных надежд, с какими покидала его три месяца назад, после Рождества.
«Мы шли впроголодь, – продолжал Пепеляев, отвергая упреки в меркантильности и насилиях, – мы не имели никакого жалованья. Как пришли, так и ушли мы нищими. Нами не было произведено ни одного грабежа, ни одного расстрела. Даже шпионов мы отпускали. За какие деньги можно нанять людей переносить эти бесконечные голодовки, морозы, переходы по колено то в снегу, то в воде? Только глубокая вера в правоту нашего дела…»
Эта вера рухнула, а впереди был тяжелейший поход до Аяна и, может быть, еще дальше. Чтобы выжить и выстоять, людям нужно было чувствовать себя героями, а не жертвами. Напрасный подвиг все равно оставался подвигом, поражение не умаляло их доблести. Они заслужили право уйти из Якутии с высоко поднятой головой, и во время нельканской передышки Пепеляев написал лучшее из трех найденных у него после ареста, скопированных в ГПУ и подшитых к его следственному делу стихотворений. Оно посвящено участникам Якутской экспедиции, живым и мертвым.
«Только долг спасти моих бойцов руководил мною», – в плену говорил Пепеляев о своих тогдашних чувствах, и если искать источник вдохновения, которым рождены эти стихи, то он – здесь же, в чувстве долга.
Его более ранние поэтические опыты не сохранились. Тяга к сочинительству была у него всегда, но не вылилась во что-то большее, чем дневник, охватывающий всего полгода его жизни, стихи по случаю, газетные интервью, взятые у самого себя, воззвания, написанные с избыточным для этого жанра лиризмом, и план сочинить «нечто вроде крестьянской утопии», о чем он говорил друзьям в Харбине, но, кажется, так и не взялся за этот труд. При заурядности стиля подспудный ритм присутствует во всем, что вышло из-под его пера. За этим угадывается постоянная эмоциональная напряженность, не могущая разрядиться в словах, потому что всякий раз не находится слов, по силе соразмерных породившему ее чувству. Единственное исключение – стихотворение «Братьям-добровольцам Сибирской дружины».
В начальных строфах, как в стихах памяти Куликовского, много риторики, рифмуются «стоны народные» и разбуженные ими «сердца свободные», но затем возникает ясный, просящийся на музыку размер, внутренняя рифма, живые детали:
- Не на радость, на подвиг тяжелый мы шли,
- От людей мы не ждали награды.
- На пути разрушая преграды,
- Крестный путь мы свершили одни.
- По болотам, лесам, по оленьим тропам,
- Высоко поднимаяся в горы,
- Чрез овраги, ущелья, зажоры[34]
- Смело шли мы навстречу врагам.
- И осенней порой чрез хребет Становой,
- Далеко растянувшись по скалам,
- По лесистым крутым перевалам
- Перешли мы Джугджур снеговой.
- Летний зной нас палил, дождь осенний мочил
- И морозила зимняя вьюга.
- По дремучей тайге, завывая в пурге,
- Отрывая ряды друг от друга,
- Шел дружинный отряд, не страшася преград,
- С твердой верою в правду и в Бога,
- Нес идею свою и в суровом краю
- Проложил он к народу дорогу.
- Но народ не восстал, слишком долго он ждал,
- И потухли восстанья пожары…
Фальшь ощущается лишь в заключительных строках:
- Пулеметом, штыком и нагайкой, кнутом
- Запугали его комиссары[35].
Финал стихотворения, претендующего стать гимном Сибирской дружины, не допускал никакой двусмысленности в вопросе о том, почему «народ не восстал», хотя причина была не только в жестокости одних и страхе других. Пепеляев как политик все понимал, но как поэт закрывал на это глаза.
В Нелькане к нему вернулось настроение осенних месяцев, когда дружина страдала от голода, а сам он – от сомнений в правильности избранного пути и сожалений о своей неудавшейся и, как ему казалось, кончающейся жизни. Сейчас было все то же самое, но с поправкой на окончательное крушение иллюзий. Душевную смуту, на фоне которой писались звонкие стихи о «братьях-добровольцах», передает дневниковая запись от 25 апреля, первая после почти трехмесячного перерыва: «Сколько тягостных и грустных переживаний. Часто думаю о былом. Вся жизнь вспоминается: молодость, мечты какие-то светлые, надежды… Все разбито… Боже, как изменился я! Личная жизнь (не частная, а внутренняя. – Л. Ю.) пуста, не манит блеском огоньков, ярко ласкающих, как раньше бывало. В германскую войну, в гражданскую все мысли мои о личной жизни сводились к вопросу: любить ли жизнь, людей? Так идеализировал свое отношение к жизни. Теперь все не то – горечь несбывшейся мечты, глубокая жалость. Ни злобы, ни вражды. Чувство бесконечной жалости… Что-то впереди ждет меня? Да и вырвемся ли мы отсюда?»
Надежда была, но слабая. Пепеляев думал так же, как Рейнгардт, говоривший ему: «Красные имеют намерение загнать нас в тайгу, где мы должны сдохнуть от голода».
При уходе из Петропавловского у Пепеляева было две сотни лошадей и быков, до Нелькана дошло не более десятка. Вновь замаячил призрак пережитого здесь голода, и Пепеляев опять, как осенью, собрал в приходской школе влиятельных тунгусов, пышно объявив это собрание Вторым Тунгусским съездом. В своей речи он честно признался, что покидает Якутию и нуждается в оленях, но не может за них заплатить – нет ни муки, ни спирта, ни охотничьих припасов. В ответ «делегаты» вынесли неожиданную резолюцию: они провозгласили территорию, где кочуют тунгусы, «самостоятельной республикой» и просили Пепеляева с его людьми остаться для ее защиты, обещая за это исправно снабжать их мясом.
«Бедные, славные дикари, – умилялся Грачев, словно это были украшенные перьями голые островитяне, трогательно взывающие к вооруженным громами и молниями бледнолицым пришельцам, – они видели в дружине своих спасителей».
Вежливо отклонив лестное предложение, Пепеляев посоветовал тунгусам подчиниться советской власти, а себе и своим добровольцам просил помочь «только как людям». Свою просьбу он никогда не высказал бы в столь доверительной форме, если бы его с тунгусами отношения не были по-настоящему сердечными.
Осенью, возвращаясь в Нелькан из своих таежных убежищ, где они отсиживались и при Коробейникове, и при Карпеле, тунгусы, чтобы их не подстрелили по ошибке, издали начинали кричать: «Мирны овеки! Мирны овеки!» Второе слово могло означать и «человеки», и «эвенки». Пепеляев не обижал этих детей тайги, и они не отказали ему в трудное для него время. «Лишь благодаря тунгусам, – писал он, – мы не умерли от голода в походе до Аяна».
Ничем, кроме оленей и оленины, «славные дикари» помочь ему не могли, а среди иностранных моряков бескорыстных гуманистов не было. В конце июня коммерческие суда приходили за пушниной в Аян и в Охотск, но обычно это были небольшие паровые шхуны, ни один капитан не согласился бы принять на борт четыре сотни похожих на бродяг вооруженных пассажиров, тем более не сделал бы это безвозмездно. Шансы на то, что удастся найти несколько судов, готовых по частям доставить дружину в Тяньцзинь или какой-то другой порт на севере Китая, были не велики, но даже при почти невероятной удаче оплатить фрахт было нечем. Подержанные берданы и винчестеры – вот все, что Пепеляев мог предложить японским или американским коммерсантам. Вряд ли такой товар мог их соблазнить.
В частных разговорах наверняка обсуждалась возможность захвата какого-нибудь стоящего на рейде судна – с тем, чтобы заставить капитана плыть по нужному маршруту. Технически это казалось осуществимым, но грозило полицейским преследованием в Китае, к тому же для Пепеляева было неприемлемо по моральным соображениям. От безысходности он скрепя сердце вернулся к тому разговору, который Вишневский завел с ним полгода назад – об изъятии крупной партии пушнины с охотских складов купца Никифорова. Тогда Пепеляев отверг эту затею, а сейчас раскаивался в своей излишней принципиальности.
В дневнике Вишневский не без понятного злорадства отметил: «Моего совета не послушались и только теперь, с отходом дружины в Аян, где дружину ожидает голод, а для эвакуации не имеется средств, командующий убедился, насколько мое указание относительно Охотска было своевременным и ценным, и настойчиво просил меня спасти дружину и поехать в Охотск. Решение несколько запоздалое, но все же я взялся несмотря на трудность предстоящего похода».
Заручившись его согласием, Пепеляев написал письмо членам находившегося в Охотске Временного Якутского областного народного управления (ВЯОНУ): им предлагалось выдать Вишневскому «250 тысяч рублей валютой или пушнины на эту сумму для образования фонда Сибирской дружины».
Из-за ветров и течений охотская гавань освобождается от льдов на две-три недели раньше, чем аянская. Получив пушнину или, на что никто всерьез не рассчитывал, доллары и иены, Вишневский должен был зафрахтовать первое подходящее судно, забрать охотский гарнизон и приплыть в Аян, куда к тому времени прибудет Пепеляев с дружиной. Была надежда, что это произойдет раньше, чем из Владивостока придут советские пароходы.
В письме, которое вез с собой Вишневский, Пепеляев писал, что «дружина поставлена в условия постоянной голодовки, люди исхудали и оборваны», напоминал окопавшимся при никифоровских складах членам ВЯОНУ, что добровольцы – «в большинстве идейные борцы за народ, бросившие семьи, мирную жизнь и мирный труд», что многие «погибли смертью героев», и долг якутских политиков – «прийти на помощь тем, кто… отдал все».
Он умолчал, что деньги нужны для эвакуации дружины и для того, чтобы после всего пережитого люди могли уйти из Якутии не с пустыми руками. Особенно важно это было для каппелевцев. Под его знамя они встали во Владивостоке и, в отличие от харбинцев, имевших за спиной какой-то тыл, очутились бы на чужбине без средств к существованию. Впрочем, каждый мог рассчитывать на очень скромную сумму – меньшую даже, чем в свое время получил Коробейников.
Ради этого Пепеляев позволил себе откровенную ложь. Зная, что все кончено, что у него одна цель – спасти тех, кто ему поверил и пошел за ним «на дикий север», он с пафосом извещал охотских адресатов: «Дружина не опустила знамя борьбы и, единогласно поддержанная на съезде представителями тунгусов, вновь готовится к борьбе, которую и будет продолжать до последней возможности».
Компромисс с совестью дался Пепеляеву непросто. Не случайно после того, как Вишневский с его письмом отбыл в Охотск, он записал в дневнике: «Пошлость жизни везде, во всем, она забралась в святая святых души моей».
Вся история с попыткой вытребовать деньги у ВЯОНУ якобы на продолжение «борьбы», а в действительности – на бегство, была ему неприятна и разрушала им же самим созданный образ мучеников и подвижников, безоглядно пришедших на помощь страдающему народу. Как многим в его положении, Пепеляеву хотелось оправдать свой поступок безнравственностью тех, у кого он решил получить валюту или пушнину. Под этим углом надо рассматривать его рассказ о поведении местных деятелей в Амге во время штурма ее Байкаловым, о чем ему мог рассказать Андерс или кто-то из спасшихся офицеров: «Якутские представители бегали и кричали: “Сколько нам это стоит!” (Иными словами, в их глазах поражение имело прежде всего экономический аспект. – Л. Ю.) Вот это “сколько стоит” открыло нам глаза, что нашим движением пользуется не народ, совершенно темный, а спекулянты. Потом мы убедились, что все областное правление состояло из таких же точно спекулянтов, которые спокойно занимались под нашей защитой спекуляцией пушниной и прочим».
Пятерых спутников Вишневский выбрал себе сам, но никого не неволил. Среди тех, чье желание совпало с его выбором, был Грачев, знакомый ему по Харбину и состоявший при нем во время осады Сасыл-Сысы. Кроме того, с ним пошел Артемьев и один из его партизан-якутов, но они собирались проделать с Вишневским только часть пути до Охотска. Этот район Артемьев знал плохо, проводниками взяли двоих тунгусов – единственных из окрестных жителей, кто обещал вывести экспедицию к морю. Прочие уверяли, что это невозможно, реки скоро вскроются, и придется сидеть в тайге до зимы.
20 апреля 1923 года маленький отряд на лыжах, с десятью, по Вишневскому, или с одиннадцатью, по Грачеву, оленьими упряжками выступил из Нелькана вверх по Мае. В нартах везли палатки, печки, запас продовольствия и чемодан Вишневского с личными вещами. Со свойственной ему домовитостью и аккуратностью он сберег его во всех перипетиях похода от Нелькана до Сасыл-Сысы и обратно. Помимо прочего, в чемодане лежали любимая фарфоровая чашка хозяина и тетрадь с дневником. Раньше записи в нем появлялись эпизодически, теперь – чуть ли не ежедневно.
22 апреля переправились через текущую с Джугджура бурную и быструю реку Уй. Оленей провели вброд, сами прыгали с льдины на льдину. Потом шли по узкому береговому припаю под обрывом, иногда по наледи, по колено в воде, а в следующие дни – по занесенным снегом протокам, «увязая по пояс, прокладывая дорогу заводными оленями и облегченными нартами».
Излучистый Уй переходили еще дважды. Один раз пришлось из еловых лесин и наброшенного сверху тальника соорудить мост через широкую промоину в ледяном панцире. Над четырехсаженной глубиной нарты протаскивали на лямках, оленей проводили поодиночке. Зато на биваках устраивались уютно: «Лежим на звериных шкурах в натопленной палатке, пьем чай и мирно беседуем о трудности пути или толкуем о том, что заложить в суп – крупу, лапшу или клецки».
«Настроение у всех бодрое», – отметил Вишневский на исходе первой недели пути, но день спустя оно резко ухудшилось. Двигаться по мокрому льду и талому снегу делалось все тяжелее, нередко скорость движения доходила до версты в час. К трем часам пополудни люди и олени выбивались из сил.
По карте до Охотска оставалось приблизительно семьсот верст. В Нелькане они с Пепеляевым прикинули, что на дорогу понадобится дней двадцать или немного больше, но, как теперь выяснилось, в апреле-мае, переправляясь через вскрывающиеся реки, одолеть такое расстояние за оставшиеся до конца намеченного срока две недели – задача абсолютно невыполнимая. Это означало, что иностранные пароходы могут прийти в Охотск и уйти из него раньше, чем Вишневский с Грачевым сумеют туда добраться.
Тем временем Сибирская дружина покинула Нелькан. На первом ночлеге Пепеляев сделал вторую после трехмесячного перерыва дневниковую запись: «Снова поход, палатка, снег, тяжелые переходы, боль от усталости в ногах. Идем в Аян. Проснулся в пять часов. Утренник. Через час снимут палатки, и снова будем шагать по бесконечной зимней якутской тайге».
Таласса!
Таласса – по-гречески «море». Этим восторженным воплем, как рассказывает Ксенофонт в «Анабасисе», десять тысяч греческих наемников, служивших в армии персидского царя Кира Младшего и после его гибели вынужденных с боями выходить из глубин Азии к морскому побережью, приветствовали появившийся перед ними на горизонте Понт Эвксинский. Синяя полоска на горизонте обещала им возвращение на родину.
Днем 17 мая авангард Сибирской дружины вышел к Охотскому морю. Оно открылось с вершин окружающих Аян сопок, еще скованное льдом, но для участников Якутской экспедиции эта безжизненная белая пустыня означала то же, что черноморская голубизна для гоплитов Ксенофонта – жизнь и свободу.
До начала навигации оставалось около месяца. Была надежда, что оставленную в Аяне радиостанцию сумели починить, по ней можно будет связаться с командующим Тихоокеанской флотилией адмиралом Старком и просить его о присылке пароходов для эвакуации дружины. Из перехваченных полгода назад радиосообщений знали, что флотилия из Владивостока перебазировалась в Шанхай, оттуда корабли за месяц могли бы дойти до Аяна, но чуда не произошло – на месте стало известно, что радиостанция по-прежнему работает только на прием.
Полковник Сейфулин, яростный противник упразднения погон, тоже, между прочим, писавший стихи[36], убедил Пепеляева послать нескольких добровольцев на юг с целью добраться до первой китайской телеграфной станции на Амуре или японской – на Сахалине и передать в штаб флотилии просьбу о помощи. Такая группа была выслана, но погибла в тайге. Через месяц, в районе Удской губы, сотрудник ГПУ Липский, еще в марте направленный туда из Читы, чтобы набрать отряд из тунгусов и помешать возможному движению белых из Аяна в Чумикан, захватил единственного оставшегося в живых офицера из этой группы. На нем нашли адресованное Старку письмо Пепеляева.
Пепеляев и Сейфулин не знали, что корабли Тихоокеанской флотилии, в том числе «Защитник», доставивший дружину в Аян, давно ушли из Шанхая на Филиппины и стоят в порту Манилы. Часть судов там же и бросили, некоторые удалось продать, вырученные деньги Старк поровну разделил между офицерами и матросами.
24 мая 1923 года, через неделю после того, как пепеляевцы с высоты прибрежных сопок увидели ледяную гладь Аянской бухты, в манильской гавани, под тропическим солнцем, на палубах крейсеров, миноносцев, канонерских лодок прошло последнее построение, спустили андреевский флаг, и американский военный транспорт «Меррит» принял на борт тех моряков, кто пожелал обосноваться в США. Флаг они взяли с собой в Сан-Франциско.
27 мая Пепеляев записал: «Вчера, на праздник Троицы, был у Всенощной в аянской церкви. Церковь маленькая, но внутри просторная, хотя старая (около 70 лет), с хорами, богато убранная. Священник служит хорошо, имеет хороший мягкий голос и говорит с чувством. Хор наш, дружинный, хоть и потерявший в боях около 10 чел. (теперь всего 18), поет отлично… Вряд ли здесь пел когда-нибудь такой хор. Есть очень хорошие голоса, но из всех выделяется наш 1-й тенор, корнет Седов. Это чудный, высокий, такой чистый голос, украшение хора. Вчера же утром была панихида по убитым добровольцам. Прошла с большим настроением. Горячо молились добровольцы – это придавало им грустный, мрачный, но и торжественный вид. Лица худые, изнуренные, бледные, со строгими блестящими глазами. Все в оборванной одежде, в испорченной обуви. Стоят смирно, не шевелятся, лишь иногда медленно крестятся. Грустно, грустно, и в то же время чувство какого-то восторга, отрешения от всего мелкого охватывает душу».
Когда-то в этом храме Казанской Божьей матери служил добрый знакомый Кропоткина, святитель Иннокентий Камчатский, крестивший камчадалов и отучивший чукчей от обычая детоубийства в голодные зимние месяцы. Церковь стояла на северной стороне бухты, а большая часть дружины разместилась на ее южном берегу. Здесь в нескольких домах обитало немногочисленное население порта, постоянное и временное, включая перезимовавших у моря Малышева и Кронье де Поля.
Пепеляев со штабом занял дом члена ВЯОНУ Борисова. Кое-кто из офицеров поселился в соседних домах, а неподалеку, в палатках и землянках разместились комендантская команда и две роты, в которые превратились прежние батальоны. Одной командовал Рейнгардт, другой – Андерс, дождавшийся Пепеляева в Аяне и прощенный за сдачу Амги. Третья рота под командой Сивко, артиллеристы Катаева, не сумевшие добыть ни одной пушки, и «ангелы Цевловского», так и оставшиеся без лошадей, квартировали в деревне Уйка на одноименной речке, в восьми верстах от Аяна – частью в избах, частью в полуразрушенных складских помещениях. Остатки артемьевцев и якуты из отряда Рязанского жили в тайге, промышляя охотой. По сравнению с прочими они находились в лучшем положении. Русские офицеры и солдаты порой не видели мяса по нескольку дней, хлебная порция к началу июня дошла до трех четвертей фунта в день на человека. Отсюда впечатлившие Пепеляева бледные лица с «блестящими» глазами. Из четырехсот бойцов почти сто были больны или не оправились от ран, а большинство тех, кого считали здоровыми, не слишком отличались от больных.
От Вишневского с апреля никаких известий не было. Это значило, что он или погиб, или, как предупреждали тунгусы, из-за разлившихся рек застрял в тайге. Проходивший вдоль моря путь из Охотска на юг был довольно прост, и если бы Вишневскому удалось туда добраться, он бы нашел способ сообщить об этом в Аян. На офицеров, отправленных с посланием к Старку, особых надежд не возлагали.
Рассчитывать приходилось на самих себя, и в конце мая решили строить кунгасы – так назывались распространенные на Дальнем Востоке крупные грузовые или рыбацкие беспалубные лодки, обычно гребные, но иногда и с парусом. Пепеляев планировал доплыть на них до порта Чумикан в Удской губе, а оттуда выйти в Амур или переправиться на Сахалин. В Чумикане можно было раздобыть кунгасы вместительнее и надежнее тех, которые удалось бы построить самим, но совершить этот переход пешком предполагалось в самом крайнем случае. Не на чем было везти раненых, да и провианта на такой путь не хватило бы. Кроме того, почти никто не имел целой обуви.
Место для «верфи» выбрали близ устья Уйки. Перед каждым подразделением Пепеляев поставил задачу исходя из его численности и близости к годному для строительства лесу: Сивко с ротой должен был построить четыре кунгаса, Цевловский – тоже четыре, Рейнгардт и Андерс – по три, «батарея» Катаева и штаб с комендантской командой – по два. Итого восемнадцать: один кунгас на двадцать – двадцать пять человек. Кронье де Поль заведовал кузницей, а Малышев – лодочными моторами. Осенью Вишневский привез их на «Томске», но из-за приближающейся зимы оставил в порту. Сколько было моторов и какой мощности, имелось ли для них горючее, неизвестно. Скорее всего, идти все равно пришлось бы на веслах.
Полгода назад в одном из написанных им воззваний Пепеляев призвал красноармейцев переходить к нему для совместной борьбы с «коммунистической диктатурой» и получил ответ в фольклорном духе: «Подождем, братишка, к тебе переходить, покуда не станешь верховным правителем всех вод Охотского моря». Иными словами – быть тебе, генерал, утопленником.
Эта перспектива стала вполне реальной, но вообще-то, судя по дневнику, мысли о смерти мучили Пепеляева не так сильно, как прежде.
Смерть подступила к нему гораздо ближе, чем осенью, ближе, чем в Сасыл-Сысы и Элесинской котловине – так близко, что думать о ней не имело смысла.
В те дни Пепеляев был постоянно занят, но все-таки жил на одном месте, под крышей, и в конце мая – начале июня в его блокноте появилось больше записей, чем за предыдущие четыре месяца.
3 июня.
Через три-четыре недели можно ждать парохода. У меня теперь одна мысль: кто придет раньше – большевистское судно с десантом, или японское военное судно, или какое-либо иностранное? В последних двух случаях есть надежда на эвакуацию если не всех, то хотя бы раненых и больных, которых у нас около 90 чел., не способных к походу.
Строим лодки, кунгасы морского типа. В случае прихода красных пойдем на Чумикан. Все мобилизованы для работ по постройке лодок. С раннего утра стучат топоры на месте построек, молоты в кузнице, скрипят стальные подпилки, дымятся трубы в смолокуренных котлах. Около 70 чел. работает специалистов и ежедневно до 200 чел. на вспомогательных работах – подносят доски, рубят лес, заготовляют угли, дрова, смолу и пр.
Все же мало у меня надежды на быстрое устройство лодок. Нет нужных инструментов, сырой лес, мало времени. Полагаю, что к 1 июля будет готово не более пяти кунгасов. Это для 100 чел., а 300 должны будут идти пешком.
Я не верю в приход иностранных пароходов, безусловно – раньше придут красные. Поэтому принимаю все меры для подготовки летнего похода. Путь предстоит большой – больше того, что мы сделали, и пойдем по территории, занятой врагом, но все же надеюсь, что с Божьей помощью как-нибудь дойдем. Беспокоит продовольственный вопрос.
Муки осталось до 20 июня по % фунта в день, мяса еще меньше, а там наступит голод.
Заботят мысли о семье. Удалось бы послать кого-то с весточкой о себе!.. Хоть бы не бедствовали. Но имеется еще огонек веры в добро жизни, мерцает, не тонет во тьме. Порой совсем темно, а иногда разгорается.
7 июня. Наконец-то у нас настали чисто весенние дни. Яркое солнце, зеленеющая трава. Только огромные льды на море напоминают об отошедшей зиме.
Весь день (8–9—10 ч.) идут работы по постройке морских лодок – единственной нашей надежды на уход от красных. Работают все, начиная с меня и кончая последним солдатом, дело идет быстро, и все же чувствуешь себя как приговоренный к казни, которая неуклонно приближается.
8 июня. Сегодня ночью вышел на улицу. На горах, в лесу, пеночка поет. Все дышит весной и пробуждением к жизни… Где ты, моя весна? Ты так прошла быстро и так мало дала мне счастья. Все больше страшных гроз и бурь.
А душа хочет нежности… Боже!
Часть раненых Пепеляев увез с собой, но некоторые остались в Петропавловском, веря, что в плену их будут лечить. Строд, готовясь к прорыву из усадьбы Карманова и собираясь оставить раненых в хотоне, тоже не сомневался, что белые не только не причинят им вреда, но и накормят, и перевяжут.
«Ни злобы, ни вражды», – писал Пепеляев о своем отношении к противнику. Так же относились к пленным красные командиры, правда победителям проще подавить в себе эти чувства.
Из Петропавловского раненых пепеляевцев увезли в Якутск, в госпиталь, где лежали привезенные из Амги и Сасыл-Сысы чоновцы и красноармейцы. В качестве сестер милосердия были мобилизованы курсантки медицинской школы. Автор письма в редакцию «Автономной Якутии» упрекал этих девушек в стремлении ухаживать за офицерами, «такими славными, интеллигентными, корректными», и желании уклониться от дежурства в палатах у красноармейцев, «ведь они так грубы, грязны, невоспитанны». Даже после разгрома Пепеляева его пятая колонна не отказалась от планов закрутить роман с каким-нибудь подходящим по возрасту врагом советской власти, но, радовала газета своих читателей, «приехавший из Москвы “Крокодил” (т. е. корреспондент столичного сатирического журнала. – Л. Ю.) точит зубы на этих курсанток».
Через два года Строд найдет среди них жену, но сейчас ему не до поисков подруги, его несет волной обрушившейся на него славы. Он награжден вторым орденом Красного Знамени, а от властей автономии получил очень похожий по форме почетный нагрудный знак ЦИК ЯАССР с таким же красно-эмалевым флагом. Привинченный рядом с двумя орденами, на фотографиях он кажется третьим.
За эти месяцы Строд сфотографировался множество раз. Иногда он запечатлен вдвоем с Курашовым, тоже теперь «краснознаменцем», чаще – с военным и партийным начальством, якутскими интеллигентами, амнистированными повстанцами, красноармейцами, курсантами или участниками какого-нибудь собрания, съезда, пленума, удостоенными чести сняться вместе с героем Сасыл-Сысы. На групповых снимках Строд неизменно находится в первом ряду и, за редкими исключениями, в середине. Персоны, стоявшие несравненно выше его на иерархической лестнице, оттеснены на фланги. При этом в центре кадра оказываются новенькие, блестящие, с модными узкими голенищами, высокие и, чувствуется, мягкие сапоги, пошитые, надо думать, из того куска кожи, который Байкалов пообещал Строду на заседании в Народном театре. Наградная шашка с серебряной рукоятью тоже присутствует на многих его фотографиях.
Байкалов, зная вкус подлинной власти, охотно предоставлял ему забавляться этими игрушками, но отношения между ними быстро стали ухудшаться. Строд не без оснований считал, что Байкалов его предал, не сделав даже попытки помочь осажденным, но не хотел высказывать эту обиду публично, дабы не сводить дело к личным счетам. Он начал критиковать Байкалова сначала за ошибки при штурме Амги, потом – за всю едва не проигранную кампанию, а попутно – за преувеличение им собственной роли в борьбе с колчаковщиной в Сибири и принижение Каландаришвили.
То, что оба были латышами, их не сблизило, напротив – усилило ревность и соперничество. Байкалов, говоривший по-русски с акцентом, но нисколько этого не стеснявшийся, не скрывал своего происхождения, тогда как Строд старался о нем не вспоминать. Перебежчик Бернгард Наха, на пару с Вычужаниным предупредивший Карпеля о приближении Пепеляева к Нелькану, тоже был латышом, и Байкалов добился от него полной откровенности, заговорив с ним на родном языке. Он сам пишет об этом, хвастаясь своей хитростью, а Строд, подробно рассказывая о Нахе в своей книге, умолчал о его национальности – потому, вероятно, что иначе пришлось бы сказать это и о себе. Объявить войну Байкалову для него было тем проще, что он выступал против соплеменника. Тем самым, как ему могло казаться, лишний раз подтверждалась объективность его критики.
Похоже, кто-то из врагов Байкалова настоятельно советовал Строду вступить в РКП (б), дабы его инвективы против командующего обрели больший вес. Кропоткин, «хлебовольцы» – все это осталось далеко в прошлом, Строд согласился и в полной уверенности, что отказа быть не может, написал заявление с просьбой о приеме. Вот тут-то Байкалов и нанес ответный удар.
Как непосредственный начальник кандидата он обязан был его аттестовать и написал служебную характеристику не то чтобы совсем несправедливую, но такую, каких в подобных случаях не пишут, если желают человеку добра. В ней Байкалов умело перемешал достоинства и недостатки Строда, чтобы обличения не выглядели тенденциозными, а комплименты меркли в их тени. С одной стороны, Строд – «человек порыва», «идеалист-романтик», у него «богатый природный ум», ему присущи «решительность, сила воли и безумная храбрость», с другой – он «партизан до мозга костей» и, что еще хуже, «анархист». Дальше – больше: «Не может ужиться с вышестоящими начальниками благодаря болезненному самолюбию и самомнению. Пристрастен к спирту, скоро пьянеет, склонен к буйству и дебошам». Здесь, правда, милостиво добавлено: «Не алкоголик».
А в конце – безжалостный вывод: «Занимаемой должности не соответствует».
Впоследствии Байкалов будет отзываться о Строде как о «бунтаре с анархией, путаницей и сумасбродством в голове» и отдельно отметит в нем еще один недостаток, для члена партии особенно предосудительный: «Я никогда не видел, чтобы он читал передовицы газет».
Впрочем, и того, что было написано сейчас, оказалось более чем достаточно.
Характеристика датирована 2 июня 1923 года. Осада Сасыл-Сысы снята три месяца назад. За это время Строд превратился в мифического персонажа и, как во всех историях о победителях чудовищ, был обречен на гонения после триумфа. Ревность правителя, который сам побоялся выйти на битву с драконом, зависть друзей, неблагодарность спасенных – вот участь героя.
В партию его не приняли, а заодно отстранили от командования Сводным отрядом. Ликвидация остатков Сибирской дружины должна была пройти без участия войск Байкалова, и Строду ясно дали понять, что в Якутии ему больше нечего делать. В июне он чуть не с первым пароходом, идущим вверх по Лене, уезжает в Иркутск.
13 мая отряд Вишневского без отделившегося днем раньше Артемьева подошел к Джугджуру. Все вокруг было занесено глубоким снегом. Чтобы проложить путь через хребет, нагрузили самые тяжелые и прочные нарты срубленными деревьями, и дюжина «полудиких оленей» поволокла эту «трамбовку» на вершину. Вслед за ними поднялись на перевал и спустились к реке Улье, впадающей в море на сто верст южнее Охотска. До устья оставалось примерно столько же, но под весенним солнцем снег начинал таять, идти можно было только рано утром, когда начинало светать, а ночной морозец еще держался, иначе приходилось часами брести в ледяной воде. Утренники делались все короче, сокращались и суточные переходы – двенадцать верст, десять, семь. Накануне Троицына дня Вишневский сорвал на берегу первый подснежник и вложил его в дневник.
Записи в нем становятся все обстоятельнее по двум причинам: во-первых, у Вишневского много свободного времени, потому что после полудня двигаться нельзя, все тает, и до следующего утра, пока сушится одежда, делать нечего; во-вторых, наступила весна. Мороз притуплял впечатления, зато сейчас они обострились и вместе с воспоминаниями просились на бумагу. О чем-то подобном повествовал Марко Поло, если аллегорически толковать его рассказ о чудесах северных стран – там, пишет он, слово, зимой с облачком пара выходящее изо рта, замерзает на лету, а весной оттаивает и звучит в воздухе.
Когда дошли до впадающей в Улью реки Давыхты, увидели, что по ней вверх корнями плывут подмытые паводком и уносимые бешеным течением деревья, огромные льдины. Ниже ее устья Улья вскрылась, проще было сплавиться к морю на плоту, чем тащиться с нартами через горы. Вишневский отпустил проводников с оленями, оставив одного оленя на мясо, остальные члены экспедиции за три дня построили плот, погрузили на него имущество и утром 1 июня, оттолкнувшись от берега, «понеслись со скоростью 7–8 верст в час».
Поначалу плавание шло спокойно, приключения начались после обеда: «Наш корабль быстрым течением кинуло на большую ледяную глыбу. Один конец плота поднялся на лед, другой стал опускаться в воду. Мы очутились в воде, но быстро перебрались на лед, куда начали перетаскивать свои вещи. С каждой минутой прибывали все новые и новые льдины и загромождали плот. Часть вещей уплыла сразу, как, например, мешок с мясом (последний запас), чья-то постель… В это время под сильным напором воды льдина, на которой мы находились, дала трещину, кусок льдины оторвался, плот стал поворачиваться по течению и выравниваться. Мы едва вскочили на него и поплыли дальше… Не прошло и пяти минут, как повторилась та же картина: мы опять на глыбе льда, а плот наш загромождается льдом. Дело к вечеру, мы промокли и продрогли. С моря дует холодный, со снегом, ветер. Кругом бушует река, несутся глыбы льда. Помощи ждать неоткуда. В довершение всего мимо нас проносятся наши вещи. Вот плывет мой сверток – постель, доха и шинель, завернутые в дождевой брезентовый плащ. Все узнают свои вещи и ранцы. Плывет наша кастрюля, величаво качаясь в волнах, свечи плывут врассыпную… Через ½ часа удалось оттолкнуть плот от льдины – нам помогла большая волна, очистившая его от нагроможденных глыб, мы понеслись дальше и наконец причалили к берегу».
Это оказался остров. По счастью, ночью к нему прибило чемодан Вишневского. Среди прочего в нем лежала кожаная сумка с документами и дневником, причем бумага не была даже подмочена. Уцелели также чайник, пила, два топора и винтовка Вишневского, которую он «закинул на плечи во время первого кораблекрушения». Все остальное, в том числе палатка и печка, утонуло.
2 июня, когда Байкалов писал характеристику Строду, Вишневский и его спутники, доплыв до устья Ульи, заночевали в стоявшей на берегу тунгусской урасе[37]. Ее хозяин по фамилии Громов, самой у тунгусов распространенной, видел их впервые, знал, что перед ним «форменные нищие», тем не менее накормил незваных гостей жареной утятиной и сладкой рисовой кашей, а вдобавок снабдил припасами на дорогу до Охотска. «Как это непохоже на некоторых наших русских буржуев», – отметил Вишневский после рассказа о его благодеяниях.
Наутро, после почти полуторамесячных скитаний, вышли к морю. Момент был волнующий, но радость подтачивал вид прибрежных вод, еще «затертых льдом». Рухнули надежды доплыть до Охотска на каком-нибудь рыбацком кунгасе. Опять двинулись пешком, правда уже по траве или по береговой гальке, кое-где припорошенной снегом.
Это была здешняя столбовая дорога. На ней скоро встретили нескольких якутов, отправленных членами ВЯОНУ из Охотска в Аян, к Пепеляеву. Вишневский потребовал у них пакет и прочел лежавшие в нем письма. О содержании он ничего не сообщает, но Грачев, тоже их прочитавший, пишет: «Из бумаг мы увидели весь хаос, интриганство и произвол, чинимый представителями дружины в Охотске. Капитан Михайловский (осенью Пепеляев назначил его комендантом порта. – Л. Ю.) возомнил себя наместником-диктатором Охотского района, ликвидировал возможность работы местного самоуправления (то есть ВЯОНУ. – Л. Ю.), отнял у них в свое ведение доходные статьи, с членами самоуправления обращался как с рабами, за ослушание садил в каталажку, сам жил на широкую ногу, имел выезд, устраивал вечера… В то время, как дружина переносила нечеловеческие страдания, борясь за освобождение края, ее представитель Михайловский оттолкнул от себя необходимую дружине противокоммунистическую общественность. Якутск лучше был связан с Охотском, и взаимная информация у них была лучше, чем с Аяном, отсюда недоброжелательное отношение якутской интеллигенции к дружине».
Спустя десять лет, публикуя дневник и не желая плохо говорить о затерявшемся в советских тюрьмах Михайловском, Вишневский, может быть, просто вычеркнул из своих записей все то, о чем написал его менее чувствительный к таким вещам спутник.
Национальная интеллигенция перешла на сторону красных не из-за Михайловского, и ситуация в Охотске была сложнее, чем изображает ее Грачев, но в одном он прав: Михайловский, при Колчаке назначенный управляющим Томской губернией, на редкость органично вошел в образ колониального администратора, традиционно практикующего поборы с купцов, экзотическое самодурство и светские рауты с участием знающей свое место туземной аристократии. Вся жизнь здесь вращалась вокруг никифоровских складов, и на их сокровища претендовали несколько партий: Михайловскому противостояли не только якутские деятели, но и тот самый капитан Яныгин, который на телеграфной станции Алах-Юнь развешивал по стенам кишки охотских ревкомовцев. К Яныгину примкнул вернувшийся из-под Чурапчи полковник Худояров, а генерал Ракитин в качестве третьей силы выступал против них обоих, в то же время враждуя и с Михайловским. Второстепенные действующие лица перебегали из одной партии в другую.
Сцена была миниатюрной, с востока ее окружало море, с запада – тайга, смерть грозила с обеих сторон, но на шатких подмостках кипели шекспировские страсти. Сюжет пьесы сводился к архетипической борьбе между стражами оставшегося без хозяина сокровища, которое они не могут поделить, ибо каждый стремится завладеть им полностью. А поскольку использовать его можно было лишь в будущем, у проигравших всегда имелось время вновь попытать счастья.
Во всей этой истории для Вишневского важно было прежде всего то, что Михайловский и Ракитин, на чью помощь они с Пепеляевым надеялись, не ладят друг с другом, ни один не контролирует ситуацию целиком, и, значит, получить пушнину будет непросто.
На разговор и чтение писем ушло два часа. Затем их возвратили нарочным, и те продолжили путь на юг, в Аян, а Вишневский с Грачевым – на север, в Охотск.
Десант
В мае 1923 года Строд находился далеко от охотского побережья. Он вообще ни разу в жизни там не бывал и приморскую весну описал со слов ротмистра Нудатова, в том году наблюдавшего ее приход: «Реки Охота и Кухтуй наполнялись мутной водой и готовились стряхнуть с себя ледяной покров. В одну из ночей реки загрохотали – лед тронулся. От берегов моря оторвалось ледяное поле и медленно отошло вдаль. С приливом лед возвратился, но уже весь поломанный, нагроможденный причудливыми ледяными горами».
В Аянской бухте между льдинами появились белухи. Это было спасением для дружины, сидевшей на фунтовом хлебном пайке, без рыбы и оленины, с редким супом из подстреленных чаек. У людей не хватало сил валить лес, пилить его на плахи, жечь уголь, гнать смолу, но в начале июня, как рассказывал Пепеляев, «пошли дельфины, мы стали их бить и питаться дельфиньим мясом и салом: один фунт мяса и 25 золотников сала на человека».
Парой недель раньше радисты перехватили переговоры двух крейсирующих где-то в Охотском море судов и по шифрам установили, что одно из них – товаро-пассажирский пароход Добровольного флота «Ставрополь»[38], другое – ходившая между Владивостоком и Камчаткой малотоннажная паровая шхуна «Адмирал Завойко». Эти два судна не могли принять на борт большой десант, имелись, следовательно, шансы на успешное сопротивление.
На вершине прибрежной горы Ландор, откуда, как считалось, в хорошую погоду море просматривается на сорок миль, наблюдательный пост выставили по прибытии в Аян, теперь наблюдатели появились и на других окружающих бухту сопках. Оборудовали гнезда для пулеметов. По боевому расписанию ротам Андерса и Рейнгардта следовало занять позицию от складов фирмы «Олаф Свенсон» до так называемой Свиной пади, Сивко, Катаеву и Цевловскому с их людьми – не допустить высадки красных в устье Уйки, а самому Пепеляеву со штабом, комендантской командой и резервом – выдвинуться на береговой обрыв между портом и речкой Аянкой.
В сентябре Вишневский, слабо представляя себе будущий театр военных действий, привез на «Томске» телефонные аппараты и триста верст кабеля. Тащить все это в Якутию было бессмысленно, до весны то и другое без пользы провалялось в Аяне, но сейчас Пепеляев приказал провести связь по линии обороны. Правда, к середине июня работы не были закончены.
Рейнгардт сомневался в возможности сбросить в море десант, который будет поддержан артиллерийским огнем с пароходов, и считал, что в этом случае лучше скрыться в тайге. «У нас нет патронов, – убеждал он Пепеляева. – Единственным способом, по-моему, остается засада и нападение на красных в лесу, в походе, где они не успеют использовать преимущества своего огня».
Разделяя его пессимизм, Пепеляев не чувствовал себя вправе уводить людей в тайгу, на верную смерть от голода. «Мною принимались меры к обороне Аяна, но, – признавался он, – в душе я полагал в случае появления красных сложить оружие».
Тем временем «Ставрополь» и «Адмирал Завойко» перестали обмениваться радиограммами. Из этого заключили, что оба судна вышли из зоны приема радиосигнала и не приближаются к Аяну, а удаляются от него. О них начали забывать.
В начале июня Аянская бухта и прилегающая акватория все еще были покрыты плавающими льдами. Местные жители уверяли, что море очистится к концу месяца, тогда и надо ждать прибытия советских или иностранных судов, но ветер внезапно переменился, льды унесло на юг, к Шантарским островам, и уже 12 июня вход в гавань был свободен. В этот же день, как узнали из очередного «перехваченного радио», какой-то пароход (какой именно, радисты определить не сумели) отправился из Владивостока в направлении Охотска. Предположили, естественно, что на нем и находится красный десант.
«В Охотске его можно ожидать числа 20-го, – записал в дневнике Пепеляев, – а у нас – 22-25-го. Успеем ли уехать? Что-то нас ожидает в скором будущем? Неужели смерть? Так возможно… Или полный голод в тайге?»
На следующий день радио более чем с недельным опозданием принесло другую новость, обнадеживающую: 4 июня из порта Хакодате на острове Хоккайдо в Охотск отплыло за пушниной судно «Кобэмару». Все в Аяне, кому доступна была эта информация, не могли не думать, что теперь их судьба зависит от исхода заочной гонки между японским и советским пароходами. Если бы японец ее выиграл, то при условии, что Вишневский дошел до Охотска и имеет средства зафрахтовать «Кобэмару», можно эвакуировать хотя бы больных и раненых, тогда проще будет спастись остальным.
В эти несколько дней Пепеляева бросает от отчаяния к надежде. То он чувствует себя «приговоренным к казни», то в нем опять ненадолго разгорается «огонек веры в добро жизни». Душевная смута усугублялась тем, что июнь здесь – время белых ночей с их потусторонним покоем и безотчетным томлением. «Волшебным бледно-дрожащим светом они преображают природу и необыкновенно волнуют человека», – писал Строд, по себе знавший, как действуют эти летние северные ночи на растревоженную молодую душу, особенно рядом с большой водой, будь то Охотское море или разлившаяся Лена, по которой как раз в те дни он плыл на юг. Ему с апреля шел тридцатый год, Пепеляеву через месяц должно было исполниться тридцать два.
Вечером 16 июня, после десятичасовой работы на строительстве кунгасов, не избавившей его от невеселых мыслей, Пепеляев пишет о том же, что и всегда: «Тяжело, грустно. Часто приходят думы о далеком прошлом. Иногда кажется, что все уже прожито, и не хочется ничего, а иногда еще хочется жизни, счастья… Оно маячило передо мной мимолетно, и было это давным-давно».
Эта запись – одна из последних в дневнике и последняя, которую он сделал на свободе.
Радисты ошиблись: шифр «ЗД» действительно принадлежал «Ставрополю», но вторым судном был не «Адмирал Завойко», а гораздо более солидный пароход «Индигирка» с тремя сотнями пассажирских мест только в третьем классе, не считая первых двух. Переговоры между ними были перехвачены в мае, с тех пор новых сигналов от них в эфире не появлялось, но не потому, что они двигались в противоположную от Аяна сторону, а потому что на «Индигирке» сломалась радиостанция. После этого «Ставрополь» тоже замолчал – говорить ему стало не с кем.
Отрядом из двух пароходов командовал военный моряк Азарьев, но он подчинялся командующему экспедиционным отрядом Степану Сергеевичу Вострецову. Под его началом находилось свыше семисот красноармейцев, командиров и политработников. Перед экспедицией стояла задача «в кратчайший срок ликвидировать белогвардейскую банду Пепеляева в Охотско-Аянском районе».
Вострецову было почти сорок лет. Он родился в Приуралье, в семье сельского писаря, подростком ушел на заработки в Уфу, выучился на кузнеца, под влиянием ссыльных студентов увлекся марксизмом, вступил в РСДРП, но стал не большевиком, а меньшевиком, как многие квалифицированные рабочие. В 1914 году был мобилизован, служил в кузнице при штабе дивизии, где однажды предостерегающе помахал раскаленными щипцами перед матерно оравшим на него офицером. Вострецова отправили на передовую, и ко времени выхода России из войны он имел три ранения, три Георгиевских креста и чин прапорщика. Февральскую революцию встретил с восторгом, но с большевиками не поладил, вернулся в родное село и организовал коммуну. Колчаковцы ее разогнали, а главного коммунара засадили под арест. При первой возможности он убежал к красным, воевал с Колчаком, с поляками, в должности помощника начдива участвовал в разгроме Земской рати Дитерихса под Волочаевкой и Спасском, затем служил при штабе 5-й армии. Когда встал вопрос о том, кому доверить руководство северной экспедицией, командарм Уборевич остановил выбор на знакомом ему Вострецове.
Пепеляеву повезло, что его последним противником оказался этот немолодой краском из рабочих, деловитый храбрец с вечной трубкой в зубах, в котором нетрудно было угадать крупного военачальника, кем он станет в конце жизни, но невозможно – будущего самоубийцу. Самоучка и правдоискатель, Вострецов найдет в Пепеляеве важного для себя собеседника, будет отзываться о нем с неизменным уважением и не станет скрывать, что темой их разговоров служила, в частности, религия. Они, разумеется, спорили, но это явно не был подневольный диспут пленного христианина с торжествующим безбожником.
«Индигирка» и «Ставрополь» покинули Владивосток 26 апреля 1923 года. Через трое суток вошли в пролив Лаперуза. Двигались ночью, на малой скорости и с погашенными огнями, чтобы ни с Сахалина, ни с Хоккайдо их не заметили и не послали в Аян и в Охотск радиограмму с предупреждением об идущих на север пароходах. В советских газетах о Пепеляеве писали как о «наймите Токио», и как бы ни относился к этому Вострецов, следовало принять меры предосторожности на тот случай, если японцы захотят помочь своему ставленнику. В темноте миновали чуть видный в тумане маяк на мысе Соя, наутро перед шедшим впереди «Ставрополем», на котором плыл Вострецов, открылось Охотское море. 1 мая пароходы по радио поздравили друг друга с Международным праздником трудящихся, но уже на следующий день повалил снег, стали попадаться льдины.
Азарьев с самого начала рекомендовал отложить поход, однако Вострецов бессилен был изменить назначенную самим Уборевичем дату отплытия. В первом пункте изданного командармом приказа Вострецову предписывалось не только покончить с «бандой Пепеляева», но еще и «отобрать захваченные ею золото и пушнину». Это вторая главная цель экспедиции. Мифическое пепеляевское золото – продукт пропаганды, жертвами которой стали сам Уборевич и его советники, зато пушнина с никифоровских складов была реальностью, вот почему приказывалось занять сначала Охотск и лишь потом – Аян, хотя именно туда отступили основные силы Сибирской дружины. С открытием навигации пушнину могли вывезти японцы или американцы, Вострецову предстояло их опередить. Срок упреждения Уборевич определил с большевистским размахом, не принимая в расчет, что чем раньше корабли войдут в Охотское море, тем больше вероятность, что до цели они вообще не доберутся.
Льдины становились крупнее, шли гуще, то и дело пробивая изношенную обшивку старых судов. «Индигирку» построили в 1895 году, «Ставрополь» был ненамного младше. Ежедневно то на одном, то на другом судне заделывали течи в трюмах. Вострецов как бывший кузнец собственноручно ставил заклепки.
Наконец оба парохода были намертво стиснуты льдами, пришлось застопорить машины.
Азарьев отмечал в судовом журнале:
«12 мая. Стоим во льду.
13 мая. В 9 час. 05 мин. по настоянию начальника экспедиции т. Вострецова (это подчеркивается, дабы снять ответственность с себя и капитана. – Л. Ю.) дали ход. В 10 час. ввиду невозможности двигаться дальше застопорили машины. Снег, пурга.
14 мая. Прошли около трех миль.
15 мая. В 8 час. обнаружили на «Ставрополе» течь. Откачали воду.
16 мая. Стоим во льду.
17 мая. В 10 час. по приказанию Вострецова дали малый ход, пытаемся пробиться среди крупных полос льда. В 11 час. 30 мин. обнаружена на «Ставрополе» течь в трюме. В 14 час. исправили повреждение».
Через день встали окончательно. Чтобы чем-то занять изнывающих от безделья красноармейцев, политработники организовали лыжные соревнования. Работали кружки по ликвидации неграмотности. Всем желающим разрешили охотиться на нерпу.
Только в последних числах мая выбрались на чистую воду и двинулись вдоль берега. В одну из бухт вблизи Охотска вошли 4 июня, после почти полуторамесячного плавания, хотя для судов такого класса этот путь занимал чуть дольше недели. Впоследствии поход «Индигирки» и «Ставрополя» сделался образцом героизма красных моряков, бойцов и командиров, неустрашимо идущих сквозь льды во имя установления власти Советов на далеком севере, двадцать девять его участников, среди них Вострецов, были награждены орденом Красного Знамени, а о том, что нужно было отплыть на месяц позже, и о пушнине как причине спешки умалчивалось.
Якорь бросили в двадцати верстах от Охотска. Высадили десант, на рассвете авангард во главе с Вострецовым вступил в спящий город. Пепеляевцы были застигнуты врасплох. Михайловский сдался сразу, остальные полсотни человек засели в казарме, но сложили оружие после недолгой перестрелки. Яныгин, сделавший своей базой один из пригородных поселков, и присоединившийся к нему Худояров бежали в тайгу и позже погибли в бою с красноармейцами. Ракитина в этот день не было в городе. Рано утром, еще до появления десанта, он ушел на охоту, а на обратном пути, услышав от кого-то из беглецов о появлении красных, застрелился из ружья. Незадолго перед тем он в ярости убил механика Бозова, испортившего единственный в Охотске моторный катер, и знал, что его не пощадят. После того как тело привезли в город и Вострецов убедился, что генерал мертв, охотчанин, у которого Ракитин стоял на квартире, увез его к себе, и хотя тот покончил с собой, похоронил на церковном кладбище. Ракитин – едва ли не единственный из погибших участников Якутской экспедиции, кто был погребен не в общей могиле, а обрел свое личное посмертное пристанище.
Удалось ли Вострецову захватить пушнину, и если да, то в каком количестве, не известно. Сам он об этом не писал, но, похоже, какая-то добыча ему досталась, и «Кобэмару» пришлось ни с чем возвращаться в Хакодате. Иначе не понятно, почему вдруг от Вострецова по радио потребовали, чтобы «Ставрополь», не заходя в Аян, из Охотска срочно шел прямо во Владивосток. Возможно, там беспокоились за сохранность принятого на борт ценного груза.
Для Вострецова это было неприятной неожиданностью. Отряд не мог полностью разместиться на «Индигирке», часть красноармейцев перевели на «Ставрополь», на него же погрузили больных, раненых и пленных, за исключением полковника Варгасова – тот вызвался пойти парламентером к Пепеляеву и уговорить его сдаться. После взятия Амги Соболев обещал Байкалову то же самое, однако Варгасов с большим основанием мог рассчитывать на успех.
11 июня пароходы один за другим вышли из гавани, обменялись прощальными гудками и разошлись: «Ставрополь» взял курс в открытое море, «Индигирка» – вдоль побережья на юг.
На следующий день ее с берега заметили Вишневский, Грачев и их спутники.
Неделей раньше они совсем немного не дошли до Охотска, когда навстречу начали попадаться группы бежавших оттуда якутов и тунгусов из числа бывших повстанцев, осенью ушедших на восток после разгрома Коробейникова. Встречались и местные русские. Беженцы сообщили о вчерашнем бое, но кто с кем дрался, точно сказать не могли. Последние годы власть в Охотске менялась так часто, что люди твердо знали одно: в такие моменты лучше податься в тайгу и пересидеть там смутное время становления нового режима.
Вишневский, так и не разобравшись, что, собственно, произошло в Охотске, решил туда не идти, но у него оставалась слабая надежда, что это был бой не с приплывшими из Приморья красными, а назревавшее с конца апреля вооруженное столкновение между сторонниками Ракитина и Яныгина.
Лишь 12 июня ему все стало предельно ясно.
«В 4 часа мимо нас из Охотска в направлении на порт Аян прошел пароход Добровольного флота, – записал он в дневнике. – Сомнений больше нет. Охотск занят красными, теперь они пошли ликвидировать голодный гарнизон Аяна, Сибирскую добровольческую дружину».
Далее – редкое у него многоточие, означающее, что здесь автор испытал некие сильные чувства, в данном случае – скорбные. В отличие от своего младшего друга, Вишневский не умел или не любил изливать их на бумаге.
Публикуя дневник, он давно знал об участи Пепеляева и других добровольцев, но когда мимо него в тумане («день пасмурный, ночью был дождь, в море туман») прошла «Индигирка», они с Грачевым при всем сочувствии товарищам не могли не порадоваться своему везению. То, каким причудливым путем удалось им пройти меж двух огней, было похоже на чудо.
Агнцы и беглецы
За вычетом назначенного в Охотск гарнизона и красноармейцев, которые перешли на «Ставрополь», у Вострецова осталось четыреста шестьдесят восемь бойцов. У Пепеляева было немногим меньше, но разбросанных на большом пространстве и не готовых к нападению с суши. Он предполагал, что советские пароходы войдут в Аянскую бухту, здесь же будет высажен десант, а «Индигирка», подождав, пока рассеется упомянутый Вишневским туман, встала на якорь в шестидесяти верстах севернее, в Алдомской губе. Взяв проводников из живших на берегу тунгусов и временно арестовав остальных, чтобы не известили Пепеляева о его появлении, Вострецов выступил к Аяну.
По дороге навстречу попался аянский священник, на десяти оленях объезжавший свой необъятный приход. В отличие от тунгусов, которые не сумели ничего рассказать ни о численности, ни о расположении отдельных частей Сибирской дружины, священник сразу сообщил все, что от него требовалось. Вострецов получил полное представление о том, где именно и с каким противником ему предстоит встретиться.
Шли без троп, местами по болотам или по такому глубокому снегу, что лошадей приходилось тянуть на веревках, а вьюки нести на себе. Вечерами людям выдавали по сто граммов водки «ввиду сильного утомления и мокроты ног». На третий день вышли к речке Няча, по-русски – Нечаю. Здесь расположились лагерем якуты из отряда Рязанского. Некоторые сдались, но большинство, в том числе сам Рязанский, успели бежать в тайгу. Вострецов оставил против них заслоны – с той же целью, с какой были арестованы алдомские тунгусы, и двинулся дальше. Он уповал на внезапность нападения. От двоих захваченных по дороге офицеров узнали, что оборонительный план Пепеляева рассчитан на борьбу с морским десантом, с других направлений он опасности не ждет и не подозревает, что «Индигирка» четвертые сутки стоит в Алдомской губе. Вострецов решил атаковать сначала Аян, а после – те части, которые находились в деревне Уйка.
Вечером 17 июня отряд остановился в двух верстах от порта, в лесу. Разведки не высылали, чтобы случайно не выдать себя. Ночами темнело лишь на пару часов, в это время Вострецов и хотел подойти к Аяну, чтобы внезапно атаковать на рассвете, но вскоре сопки покрыло пришедшим с моря туманом. Под его прикрытием движение начали в половине первого ночи, когда было еще светло. Через час оказались в центре поселка. Вострецов приказал своему заместителю захватить палатки, а сам стал окружать землянки и дома. Пленные указали на дом Борисова как на резиденцию генерала.
«Я, – позже рапортовал Вострецов, – лично окружил штаб, где находился Пепеляев, стал требовать, чтобы мне открыли, и приказал взятому с собой полковнику Варгасову передать через дверь, чтобы они сдавались, так как дома окружены, нас много, и я даю им гарантию сохранения жизни до народного суда. Через 10 минут открыли двери, я забежал и увидел около 10 человек. Часть была в одном белье, генерал же одет. На вопрос мой, кто Пепеляев, он ответил: «Я». Я подал ему руку и предложил сейчас же приказать гарнизону сложить оружие, на что он с колебанием дал согласие».
Через пять лет Вострецов рассказал корреспонденту «Огонька» почти то же самое, но прибавил ряд выразительных подробностей:
«Стучусь. Дверь приоткрыл полковник. Увидел меня и торопливо захлопнул, придавив мне руку.
Кто там? – слышу голос за дверью.
Отвечаю: “С вами говорит командир красной дивизии. Я высадил десант в полторы тысячи штыков (на самом деле втрое меньше. – Л. Ю.). Отпирайте немедленно! Рядом со мной – взятый в Охотске Варгасов… Говорите!” – приказываю ему.
“Я полковник Варгасов, – говорит он пепеляевцам. – Вы меня знаете. Охотск взят красными. Обращение с пленными хорошее. Командир – честный человек, советую сдаться.
Минута проходит в молчании. Очевидно, совещаются там, за дверью. Наконец дверь открывается.
Я вхожу в комнату: “Где генерал Пепеляев?”
Большая комната, много кроватей, человек десять офицеров. У печки стоит генерал.
“Я Пепеляев…”
“Генерал, пошлите предписание вашим частям немедленно сдаться!”
Он выполняет мое требование и тут же пишет приказ о сдаче».
Однако из рапорта Вострецова следует, что все прошло не так гладко. Пока он говорил с Пепеляевым, уверяя его, что над пленными «не будет совершено никаких насилий», снаружи послышалась стрельба – дружинники, заметив красноармейцев, стали выпрыгивать из окон домов, выскакивать из палаток и землянок. Одни сразу же бросали винтовки, другие, отстреливаясь, разбегались, пропадали в тумане, в наступившей наконец недолгой спасительной темноте. Кто-то бежал в тайгу, но многие сбивались в группы, готовясь к бою.
Красноармейцы не стреляли. Вострецов «категорически» запретил открывать огонь без его приказа и даже заряжать винтовки, чтобы «не вызывать у осажденных в домах белогвардейцев злобу к нам». В ответ на «более ста выстрелов» красные не сделали ни одного.
Очевидно, услышав стрельбу, Пепеляев встревожился и спросил кого-то из красных командиров (Вострецов в это время вышел на улицу), какая участь ожидает тех, кто убежит и будет пойман или попытается оказать сопротивление. Иначе его не стали бы заверять, что никаких издевательств над пленными не допустят и никого не расстреляют, разве «один процент, если будут уголовные».
Таковых не нашлось, и расстрелов не было.
На следующий день, подтверждая рассказ Вострецова, но уточняя его важными деталями, а иногда и поправляя, Пепеляев по свежей памяти написал в дневнике: «В ночь на 18-е был неожиданно атакован красным отрядом силою 500–550 штыков. Атака отряда прошла впустую, взяли в плен только часть 3-й роты, и группы красных подбежали к моему дому. Я со штабом успел одеться, взял и зарядил оружие и хотел пробиваться к комендантской команде (28 чел.). Она уже рассыпалась на горке, готовясь выручать меня. Затем я услышал голос полковника Варгасова и как-то сразу решил не сопротивляться. Борьба закончена еще в Петропавловском районе. Если красные в Аяне, я исключаю для себя возможность вывести дружину в полосу отчуждения. Цель – сохранить жизни остатков борцов за свободу. Только из-за этой цели не стоило давать бой. Он был бы жесток и не достиг бы ничего. Будь что будет».
В письменных показаниях Пепеляев чуть иначе рассказал о том, что произошло после того, как дом Борисова был окружен и раздались крики: «Сдавайтесь!»
«Первой моей мыслью, – писал он, – было броситься из дому и бежать к комендантской команде, которая уже рассыпалась в цепь, но, посмотрев в окно и увидев возбужденные лица молодых русских солдат, я решил не драться…»
Дело тут не в растерянности, не в недостатке решимости, а в сознании, что война все равно проиграна. Он не хотел брать на душу грех бессмысленно пролитой крови.
Свое решение Пепеляев объяснял абсолютно неправдоподобной, будь она высказана кем-то другим, но органичной для него причиной: «Как-то сразу мелькнула мысль, что преступно вести бой бесцельно (то есть без высокой цели. – Л. Ю.), лишь для сохранения собственной жизни».
В его устах это не кажется ни рисовкой, ни запоздалой попыткой самооправдания.
И затем: «Тут я услышал голос полковника Варгасова, которого считал погибшим…»
Чувствуется страшное напряжение этих минут. Никто не трогается с места. Все, должно быть, смотрят на Пепеляева, ожидая от него каких-то слов. В мертвой тишине он медленно направляется к двери, берется за дверную ручку.
У Вострецова сказано, что дверь открыл какой-то полковник, и когда он вбежал в комнату, генерал стоял у печки. Пепеляев утверждает, что открыл дверь сам.
«Открывая ее, – признается он, – я думал, что первая пуля будет мне».
Дальше все как у Вострецова: «Командующий отрядом спросил: “Кто тут генерал Пепеляев?” Я ответил: “Я”. Я всем (имеются в виду находившиеся с ним в доме офицеры – Л. Ю.) еще раньше сказал, чтобы никто не стрелял и не пытался бежать. Командующий красным отрядом предложил мне дать приказание моим частям сложить оружие. Я приказал».
«Приказание» было устное. Комендантской команде и всем, кто готов был драться, его объявил Емельян Анянов, напарник Пепеляева по ломовому извозному промыслу в Харбине, прежде – его ординарец, а в недавнем прошлом – простой крестьянин. После отставки Малышева он стал генеральским адъютантом и из прапорщиков был произведен сразу в поручики. Никому не пришло бы в голову заподозрить, что от лица боготворимого им начальника Анянов излагает нечто такое, чего тот не говорил.
Стрельба постепенно утихла, бой не начался. Свой бескровный успех (ранен был один красноармеец) Вострецов честно приписывал громадному авторитету Пепеляева у подчиненных, а Вишневский объяснял все случившееся «апатичным, безразличным состоянием» людей. Правы и тот, и другой.
К трем часам пополуночи, когда уже начало светать, сдавшиеся были построены и окружены цепью красноармейцев. Тогда Вострецов предложил Пепеляеву письменно приказать сдаться тем частям, что находились в Уйке. Тот согласился и на это. После первого шага ему пришлось идти до конца.
«Братья офицеры и добровольцы, – написал он, – я пишу из плена. Взят регулярной Красной армией. Я уже говорил, наша борьба окончена, моя цель была вывезти пушнину, дабы каждый мог выйти на свободу со средствами. Бог судья, мы взяты, но, слава Богу, без крови. Суда я не боюсь и, думаю, каждый из вас, смотревших не раз смерти в лицо, его не боится. Прошу всех сложить оружие без боя и отдаться в руки Красной армии. Посылаю к вам Анянова и прошу вместе с ним прийти ко мне. Думаю, что имею авторитет, и вы исполните мою последнюю просьбу»[39].
Анянову дали лошадь, и он в сопровождении отрядного комиссара Безродного поскакал за восемь верст, в Уйку, где стояла рота Сивко. Однако чуть раньше туда прибыли прошедшие это расстояние пешком десять офицеров во главе с Андерсом. Люди уже не спали, разбуженные доносившимися от порта выстрелами. Сивко повел сто пятьдесят своих бойцов на выручку товарищам, но едва тронулись, примчался Анянов с пепеляевским письмом.
Прочитав его, Сивко сказал: «Раз генерал приказывает, надо исполнять». Эти слова приводит Вострецов, которому их передал Безродный, и если даже сказано было не совсем так, суть от этого не меняется. Сивко, как он сам позже рассказывал, «приказал разрядить винтовки и составить их в козлы, а все четыре пулемета положить к винтовкам».
С разоруженной ротой он направился в Аян, перед тем отослав привезенное Аняновым письмо стоявшим немного дальше отрядам Катаева и Цевловского, но эти двое оказались не столь послушны. Оба они и около тридцати офицеров и солдат, в том числе Шнапперман и Малышев, самые, пожалуй, близкие друзья Пепеляева, не подчинились его приказу и бежали, забрав все имевшееся продовольствие. Андерс со своей группой тоже предпочел уйти в тайгу.
День спустя, 19 июня, сидя под караулом в том же доме, где он был арестован, Пепеляев написал в дневнике: «Обращаются хорошо. Оскорблений нет. Люди порядочные. Рад, что не пролилась кровь. За себя не боюсь, на все воля Бога. Если будет судить власть народная, она поймет мое стремление к добру и истине. Если же не поймут, значит, не дороги этой власти честные люди – убьют тело, а душу, идею не убьют, они бессмертны».
И еще через день: «Семью жаль. Идеалист я – зачем бросил их на произвол судьбы? Все чего-то ищу, какой-то правды, а они там голодают, может быть. А кто поймет? Красный командир сказал, что у меня было на 5 млн. золота, а у меня осталось всего в кармане 5 монет серебряных. Никогда не брал ничего чужого. Тяжело – один».
Изъятый у него дневник чуть позже опубликовали в иркутском журнале «Красные зори». Разрешение у автора никто не спрашивал, правда, был опущен ряд записей сугубо личного характера – не из деликатности, а как не имеющих общественного интереса. При этом упоминание об оставшихся у Пепеляева пяти серебряных монетах подверглось редактуре. Публикаторы сочли, что не стоит выпячивать бедность белого генерала, поэтому вторую половину фразы напечатали в следующем виде: «А у меня оказалось всего в дружине 5 тысяч монет серебром».
Вряд ли Пепеляеву доложили результаты подсчета отобранных у его людей денег, да и сама идея считать их не по номиналу, а по числу монет, кажется сомнительной, но в такой редакции картина его личного финансового положения несколько затушевывалась и казалась более приемлемой[40].
Пока Пепеляев сидел под арестом, Вострецов ловил тех, кто скрылся в сопках. К нему попал архив штаба дружины, и, сравнивая ее списочный состав с наличными пленниками, установили, что недостает ста сорока человек. Из них десятеро угодили в засаду, тридцать вернулись сами, прочие исчезли. Высланные в погоню взводы и роты ни с чем вернулись назад «ввиду отсутствия населенных пунктов и троп, густоты леса и сильно пересеченной местности».
У Вострецова заканчивалась мука (приходилось кормить еще и пепеляевцев), и он приказал прекратить поиски. «Индигирка» уже стояла в Аянской бухте. Утром 24 июня она взяла курс на Владивосток.
В дороге Вострецов был занят меньше, чем на берегу. Во время недельного плавания они с Пепеляевым подолгу разговаривали, причем инициатором этих бесед выступал, конечно, победитель, а не пленник. Темы обсуждались разные, в том числе отвлеченные, не то Пепеляеву не было бы нужды апеллировать к «Жизни Иисуса» Ренана. Вострецов потом напишет, что генерал особенно хорошо знал эту книгу, которую сам он тоже, видимо, читал.
В дневнике Пепеляева об их разговорах не упомянуто, для него они были менее важны, чем для Вострецова, стремившегося доказать идейному врагу свою правоту и обнаружившего в нем близкого по духу человека. Из симпатии к нему недавний меньшевик Вострецов невольно подгонял его взгляды под свои собственные, не афишируемые, но и не отвергнутые, иначе не написал бы, что главная идея Пепеляева – «меньшевистская», хотя тот был вовсе не марксистом, а классическим народником.
Скорее всего, Пепеляеву отвели отдельную каюту, остальных пленных заперли в трюме. У Кронье де Поля еще не отняли записную книжку с цитатами из Метерлинка и вложенной в нее фотографией некрасивой большеротой «жены», которой он временно обзавелся в Приморье, как тогда поступали многие (в следственном деле его семейное положение характеризуется словом «холостой»), но на этот раз во время плавания в книжке не было написано ни слова.
Во Владивостоке пепеляевцев поместили в домзак ГПУ Начались допросы. На них вскрылось, в частности, что Кронье де Поль одно время служил у Семенова, чего Пепеляев о нем не знал. По его распоряжению атамановцев в дружину не брали, а владелец книжки с выписками из автора «Синей птицы» еще и участвовал в карательных экспедициях, причем проявил «крайнюю жестокость к населению». Образованность и философский склад ума не помешали ему расстрелять трех крестьянок, вся вина которых состояла в «выражении недовольства поведением офицеров 2-го Маньчжурского полка». Нетрудно представить, что они вытворяли. Полк был одной из самых привилегированных семеновских частей, его офицеры считали себя атаманской гвардией и развлекались в соответствии со своим статусом.
Совет Метерлинка «смотреть смело смерти в глаза и стараться понять ее, тогда она не покажется ужасной» Кронье де Поль способен был трактовать и в том расширительном смысле, что не следует избегать наблюдений за чужой смертью. Кажется, все, что о нем стало известно, перекликается с его интересом к формам посмертного существования и с оставшимися в той же книжке рисунками несущихся в пустоте лошадей и странных птиц, словно бы намекающих на эти недоступные нашему нынешнему сознанию формы. Может быть, он сделал эти рисунки не на «Защитнике» по пути из Владивостока в Аян, а на «Индигирке», уже пленником, догадываясь, что придется отвечать не только за управление аянской кузницей. В те дни вопрос о жизни после смерти обрел для него пугающую актуальность.
К концу июля пленных рассортировали. Всех якутов и примерно двести рядовых добровольцев отпустили на свободу, более полутора сотен солдат и офицеров с «маленькими погонами» без суда отправили в ссылку, а Пепеляева, около семидесяти полковников, подполковников и всех тех, кто активно участвовал в организации Якутского похода или подозревался в расправах над населением во время Гражданской войны в Сибири, на поезде перевезли в Читу. Сюда недавно были переведены из Иркутска штаб и политуправление 5-й армии, тут и решили провести показательный судебный процесс.
2 августа 1923 года, в читинском домзаке, Пепеляев написал в своем блокноте: «Мучаюсь, томлюсь – что-то будет? Бросил семью, все бросил самое дорогое – во имя чего?
Видел сон, два сна – как мне кажется, вещих. Первый – несколько дней назад. Ночью – тяжело заснул, настрадавшись за день, – будто смерть идет, но тут мама появляется и благословляет меня иконой. Я встал на колени – как-то легко стало.
Второй сон – будто земля подо мной расступается, какая-то яма, и я ухожу в землю глубже и глубже. Вот уже ушло туловище, земля до пояса, но руки еще на твердой почве. Земля колеблется – вот-вот провалюсь. Ужас овладевает мною. Я кричу и просыпаюсь… Не утонул, не провалился – вещий ли сон?»
Эта запись – последняя, хотя в блокноте еще оставались чистые страницы. В Чите дневник у него изъяли и присовокупили к материалам следствия.
Он был не подшит к следственному делу, а просто вложен между листами. Я начал читать его, сидя за фанерной перегородкой в военной прокуратуре СибВО. В шесть часов рабочий день заканчивался, и я должен был уходить вместе со всеми, чтобы вернуться на следующее утро. Волнение мешало сосредоточиться, разбирать слепой карандашный текст с множеством сокращений оказалось нелегко, а через три дня мне предстояло улетать из Новосибирска. Прикинув, что чуть ли не все эти дни уйдут у меня на расшифровку, я украдкой сунул блокнот в портфель, унес к себе в гостиницу и там, в номере, засиживаясь до полуночи, за два вечера переписал дневник Пепеляева в свою рабочую тетрадь, чтобы сэкономить дневное время на копирование других документов. Был сильный соблазн не возвращать его, а увезти в Москву. Никто бы не заметил пропажи, бояться было нечего, но я совладал с искушением и перед отъездом вернул дневник на место.
Андерс и бежавшие с ним из Аяна офицеры ушли на север, в сторону Охотска, а Малышев, Катаев, Цевловский с частью своих людей и возглавивший всю группу Шнапперман двинулись в противоположном направлении – на юг, в сторону Удской губы и порта Чумикан. Пепеляев намеревался вести туда дружину, если красные появятся раньше, чем будут готовы кунгасы, и Шнапперман, не подчинившись его приказу, двинулся по намеченному им пути. Предполагалось добыть кунгасы в Чумикане, но не такие, как они строили, а большие, грузовые, на них доплыть до японской части Сахалина или выйти в Амур, а оттуда – в полосу отчуждения КВЖД.
По пути к Шнапперману присоединялись другие беглецы, под его началом собралось около сорока человек. Удалось найти проводника из тунгусов, но тот сбежал на третьем ночлеге. Похоже, следствием его исчезновения стала засада, на которую они наткнулись на реке Кирене. Кто ее устроил, ни рассказавший об этом Малышев, ни его товарищи так и не поняли. Это могли быть родичи сбежавшего проводника, думавшие поживиться их снаряжением и винтовками, но не исключались и якуты Рязанского, которые намеревались явиться к властям с повинной, а в доказательство раскаяния принести снятые с мертвецов трофеи. Двое из отряда Шнаппермана погибли, остальные рассеялись, на другой день вновь собрались и пошли дальше.
В Уйке взяли единственный имевшийся там куль муки, из нее пекли лепешки, но мука скоро кончилась. Последние продукты вышли через две недели, на Мае. Здесь по настоянию Шнаппермана разбились на группы человек по десять в каждой. Это, во-первых, уменьшало риск, что их выследят, а во-вторых, так проще было добывать еду. Шнапперман, Малышев и еще несколько офицеров продолжили путь к Удской губе, избегая троп и держа приблизительное направление по солнцу. Как выразился Малышев, их «гнал вперед голод, и он же выбирал маршрут». Через реки переправлялись вплавь или на примитивных плотах.
В группе Шнаппермана кто-то умер, кто-то отказался идти дальше и был оставлен в тайге. Еще двоих застрелили тунгусы при неудачной попытке отнять у них что-нибудь съестное. В живых осталось пятеро, в том числе Шнапперман, Катаев и Малышев, при нападении на тунгусское стойбище раненный в руку, в ногу и в голову. Ранения были не слишком тяжелые, иначе он не мог бы идти.
В его рассказе отсутствуют даты. Он их не помнил или за месяц скитаний просто потерял счет дням. Не понятно, когда они вышли почти к цели – к реке Уде. Впереди была самая легкая часть пути: сплавиться по течению до поселка Удского или Чумикана, где имелись вожделенные «морские посуды», и уговорить кого-то из местных переправить их на Сахалин. Возможно, они имели при себе какие-то небольшие деньги, чтобы заплатить перевозчику, но до этого не дошло – на Уде их с лодки заметила «речная охрана». Чекист Липский предупредил служивших в ней здешних жителей о возможном появлении в этих краях беглецов из Аяна.
Впрочем, лодка проплыла бы мимо, если бы Шнапперман и его спутники сами не окликнули сидевших в ней людей в радостной надежде доплыть с ними до Удского. Близость цели пьянила и заставляла забыть об осторожности.
Охранники не испугались похожих на тени оборванцев с ружьями и причалили. Узнав или сообразив, с кем имеют дело, они притворились удивленными: «Чего вы блуждаете здесь? Ваши товарищи гуляют по Владивостоку».
Так, опуская содержание предыдущего разговора, передает их слова Малышев.
Аргумент найден был точно. Обнадеженные этой информацией беглецы решили не испытывать судьбу и сдались.
Другие группы, с которыми они расстались на Мае, тоже частью погибли, частью были выловлены завербованными Липским тунгусами. Обстоятельства их поимки темны, но Липский в донесении всю заслугу приписывал себе: якобы сформированный им тунгусский партизанский отряд под его непосредственной командой устроил засаду и разгромил отряд Шнаппермана, при этом десять человек были убиты, девятнадцать взяты в плен. Малышев, которому врать не имело смысла, излагал события совершенно иначе.
Его, Шнаппермана, Катаева и Цевловского отправили в Читу, где уже шло следствие, а спустя некоторое время Липскому сообщили, что в районе Удской губы, на заимке у местных богачей, братьев Третьяковых, живут какие-то пришлые люди. Они называли себя геологами, но это, по всей видимости, были избежавшие плена и гибели пепеляевцы. Что с ними случилось потом, не известно.
Андерс и его офицеры разбили лагерь на побережье к северу от Аяна, в устье реки Кекры. Они надеялись попасть на какое-нибудь судно, а пока ловили рыбу и били нерпу с выпрошенной у тунгусов лодки. В середине июля в приморские реки пошла кета, жизнь стала сносной, но к тому времени о них узнали в Охотске. Когда красноармейцы начали окружать стоянку, никто не сопротивлялся, один Андерс, хотя море в тот день было неспокойно, прыгнул в лодку и погреб прочь от берега. С тех пор его никто никогда не видел.
Большинство беглецов разделило участь оставшихся в Аяне товарищей, но некоторым повезло добраться до Харбина. Среди этих счастливчиков – двенадцать человек из группы полковника Леонова. В последние месяцы Пепеляев ему не доверял и фактически отстранил от должности начальника штаба дружины. Причина, скорее всего, была в том, что Леонов и несколько близких к нему офицеров еще во время похода к Амге тайком выменивали у якутов пушнину. Она и открыла им путь на какое-то японское судно.
Вишневский, Грачев и четверо их спутников нанялись рабочими к рыбакам-японцам, имевшим постоянную базу на Улье. Каждый год в начале лета они на моторной шхуне приплывали сюда на промысел, а осенью с засоленным на месте уловом возвращались домой. В качестве платы хозяин обещал кормить работников и в конце сезона забрать всех шестерых с собой на Хоккайдо. Вишневский не раз обращался к нему с просьбой принять на работу еще кого-то из разбредшихся по побережью пепеляевцев, но получал отказ.
Однажды к нему на «рыбалку» пришел Андерс, живший тогда на Кекре. Он сказал, что в окрестностях видели красных милиционеров, и, вероятно, отдал на сохранение Вишневскому дневник, который вел год назад, в походе на Нелькан. Во всяком случае, Вишневский напечатал его в одной книге со своим собственным. Все лето он продолжал делать в нем записи.
16 июля. В первые дни я сколачивал ящики, вчера попробовал самую тяжелую работу – погрузка якорей на кунгас для неводов. Пронес в числе 4 рабочих на плечах один якорь весом 13–14 пудов и этим ограничился. До сегодняшнего дня плечо болит…
29 июля. Шторм. Невода порвало, кунгас сорвался с каната, наполовину залило водой и унесло в море. Наши работают сегодня весь день под дождем. Кеты по-прежнему ловится немного. Преимущественно попадает майма, которая засолу не подлежит и разбирается рабочими. На нашу долю в последние три дня досталось 150 штук. Устроим коптилку и заготовим рыбу на дорогу…
20 августа. Когда же закончатся наши мытарства? Дневник мой может прерваться, если нас врасплох застанут красные, может прерваться в случае выезда отсюда на шхуне. Тогда зафиксирую этот счастливый день…
24 августа. Сгорела наша коптилка с запасом рыбы, которую готовили на дорогу… Наши бывшие офицеры превратились в настоящих рабочих. Взглянуть, например, на штабс-капитана Васякина – он собирается на работу, таскать огромные тюки с солью, зашитой в рогожные мешки: на нем клетчатые штаны, ноги обуты в какие-то тряпки и японские лапти, пиджак горохового цвета (американский), вместо рукавов буквально лохмотья, голова и шея покрыты платком и поверх него – желтого цвета, порыжелая от долгого употребления суконная шляпа…
3 сентября. В 12 час. дня снялись с якоря и уплыли, оставив позади себя голодное, холодное и неприветливое побережье Охотского моря.
Благодарю тебя, Боже…
Из-за непогоды плавание продлилось без малого месяц. Наконец прибыли в Хакодате. Здесь русский консул добился для Вишневского и Грачева с товарищами разрешения сойти на берег, получил от властей точный маршрут, не отклоняясь от которого следовало проехать в Китай через японскую территорию (Цуруга – Кобе– Симоносеки – Пусан в Корее), и снабдил деньгами на дорогу.
12 октября 1923 года, через год и три недели после того, как он на «Томске» покинул Владивосток, Вишневский в своей тетради, где уже не осталось свободного места, сделал заключительную запись: «Выехали из Хакодате в Харбин по указанному выше маршруту».
А в 1932 году, к десятилетнему юбилею Якутской экспедиции готовя дневник к изданию, приписал в конце: «Эпопея аргонавтов Белой мечты закончилась».
Суд. Вторая встреча
В Иркутске Строд получил должность командира батальона в 103-м стрелковом полку. Полком командовал Курашов, с боями прорвавшийся к нему в Сасыл-Сысы и отчасти благодаря этому быстро пошедший на повышение.
Через два месяца штаб округа направил Строда в Москву, на тактические курсы «Выстрел», после которых перед ним открылась бы военная карьера, но в Новосибирске его нагнала телеграмма Курашова: тот просил помочь в ликвидации банды Дмитрия Донского на юге Иркутской губернии, в Черемховском уезде. Тезка победителя Мамая зверски расправлялся с советскими работниками, но не щадил и крестьян. Строд пересел на обратный поезд, вернулся и для начала, как в таких случаях привык делать в Якутии, один, без конвоя и без оружия, дважды выезжал на встречу с Донским, предлагая сдаться и обещая сохранение жизни до суда. Он знал, что пойманным «коммунарам» Донской отпиливал руки и ноги, тем большее мужество требовалось для одиноких поездок в его логово. При втором визите к нему Строд едва не погиб, после чего прервал переговоры и начал преследование.
«Часто теряю след, – доносил он в ходе погони. – Банда то идет по дороге, то пересекает поле, то углубляется в лес, разбивается по одному всаднику, которые разъезжаются в разные стороны, вновь соединяются, опять движутся дорогой, снова сворачивают в тайгу, пересекают хребет – и так повторялось много раз».
Лишь в декабре он настиг банду и разгромил ее в ночном бою. Утром среди убитых был опознан сам Донской. Труп возили по селам, чтобы крестьяне, удостоверившись, что он мертв, перестали его бояться. Это было не глумление над мертвым, а мера предосторожности: такие покойники имели обыкновение воскресать и приниматься за старое. Находились желающие взять себе их имена заодно с внушаемым ими ужасом.
Вернувшись в Иркутск, Строд узнал две новости. Первая: за ликвидацию банды Донского он представлен к награждению третьим орденом Красного Знамени. Вторая: ему предстоит выехать в Читу, чтобы выступить свидетелем на судебном процессе Пепеляева и его ближайших соратников.
Процесс открылся в десять часов утра 15 января 1924 года, в здании штаба 5-й армии, которое при Семенове занимали юнкерские курсы, а до курсов – упраздненная атаманом Духовная семинария. Ее актовый зал именовался теперь «залом 7 ноября». Здесь проходили праздничные мероприятия, колонны были обвиты полосами цветной бумаги, а под потолком, напоминая о недавнем Новом годе, тянулись гирлянды бумажных флажков. Для судебного процесса обстановка была несколько легкомысленная, но устроителей это не смущало: торжество революционного правосудия – тоже праздник.
Трое судей военного трибунала под председательством некоего Беркутова, двое обвинителей, восемь «членов коллегии защитников» и технический персонал разместились за столами на авансцене, под висевшим на занавесе портретом Ленина. Перед сценой, отделенные от публики пустым пространством, рядами стояли скамьи для семидесяти восьми подсудимых. Пепеляева усадили на первую, в центре. Прочих распределили по принципу: чем ближе к сцене, тем тяжелее обвинения. Кое-кто в тюрьме отпустил бороду и длинные волосы, но в целом все выглядели довольно прилично – кители, пиджаки, чистые гимнастерки. Очевидно, перед судом одежду им постирали, а некоторым и поменяли. Не похоже, чтобы они попали к Вострецову в столь презентабельном виде.
За ними и по бокам от них стояли красноармейцы с винтовками, дальше – публика. На фотографии видно море смутно очерченных лиц и голов. Как подсчитал один из журналистов, зал вместил около тысячи зрителей. Постановочные суды над реакционными деятелями прошлого (годом раньше по всей стране судили давно мертвого «попа Гапона») или пребывающими вне досягаемости различными врагами советской власти были в почете у агитпропа, как у интеллигенции когда-то – суды над литературными героями вроде студента-насильника из «Бездны» Леонида Андреева, но процесс над настоящим белым генералом стал событием исключительным.
Пускали по билетам. Они распределялись по воинским частям, учреждениям, заводским парткомам. Кто достоин их получить, решало начальство; это гарантировало соответствующий состав публики в зале. Билеты были бесплатными, всем желающим их не хватило, и армейская газета «Красный стрелок» строго предупреждала охотников нажиться на этом дефиците: «Перепродажа билетов будет преследоваться».
Заседание открыл председательствующий. Он объявил о начале слушаний по делу «бывшего генерала Пепеляева» и его ближайших сподвижников, обвиняемых в создании «контрреволюционного отряда под названием Сибирская добровольческая дружина и руководстве вооруженными действиями против Красной армии и Советской власти в Якутии». То и другое подпадало под статью 58 Уголовного кодекса РСФСР.
Затем начался опрос подсудимых – о происхождении, возрасте, образовании и прочем. «При ответах чаще всего слышится: дворянин, сын военного чиновника, инженера, врача, агронома. Редко услышишь о принадлежности к рабочему классу или крестьянству», – констатировал корреспондент «Советской Сибири».
На вопрос, признает ли он себя виновным, Пепеляев ответил, что да, признает, но просит позволить ему объясниться по некоторым пунктам обвинения. То же говорили и другие.
На этом утреннее заседание завершилось. На вечернем (с 17 до 22 часов) слово для объяснений предоставили Пепеляеву, и он, как, очевидно, было оговорено при подготовке процесса, подробно начинает излагать свою биографию. Когда она доходит до возвращения с фронта в Томск и вступления в подпольную организацию, Пепеляев говорит: «Я отрицаю посягательство на свободу…»
Докончить фразу ему не дают. Председатель суда перебивает его и предлагает рассказать о своем участии «в жестокостях и расстрелах в Белой армии».
«Не отрицаю, – отвечает Пепеляев, – моей упорной борьбы с Советской властью и Красной армией, но решительно отрицаю приписываемые мне жестокости и расправу над пленным противником, населением и арестованными советскими деятелями. В Перми было взято в плен двенадцать тысяч человек, я распустил их по домам. Там же было взято восемьсот красных командиров, большинство – царские офицеры. Несмотря на приказ штаба главкома я не предал их суду. Я принимал все меры к недопущению расстрелов. Лично я не подписал ни одного смертного приговора. В Томске (в мае 1918 года. – Л. Ю.) было арестовано семнадцать человек крупных советских работников – Вегман, Наханович, Жукова и другие. Мне было предложено подписать им всем смертный приговор, но я взял их в свой эшелон и увез в Екатеринбург, где под честное слово передал Гайде, а он их отпустил».
Оспорить это невозможно. Вениамин Вегман, первый историк революции в Сибири, жив, живет в Омске и мог бы все подтвердить, но в Читу его не пригласили.
Направляемый вопросами председательствующего, Пепеляев рассказывает об отступлении его армии в 1919 году, о том, как заболел тифом, о службе у Семенова, о жизни в Харбине, об отказе примкнуть к звавшим его к себе красным и белым. Его постоянно прерывают, норовя уличить то опять в «причастности к расстрелам», то в связях с японцами. Пепеляев это «решительно отрицает».
16, 17 и 18 января его допрос продолжается, и по мере того, как дело доходит до формирования дружины и событий в Якутии, рассказ становится все более детальным. Параллельно расспрашивают других подсудимых, стараясь уличить их в «насилиях над населением». Всплывает разобранная на дрова кузница в Нелькане (на суде она фигурирует как «амбар»), за ней – три изнасилованных якутки (виновные были наказаны) и совсем уж жалкое «похищение телки», но ничего более впечатляющего трибунальские следователи за полгода работы раскопать не смогли. Из всех военных кампаний пятилетней Гражданской войны с расстрелами пленных, сожжением деревень, массовыми экзекуциями и повальными грабежами Якутская экспедиция Пепеляева оказалась самой в этом смысле невинной.
Пятый день процесса, 19 января, отведен показаниям двух главных свидетелей – Байкалова, еще летом вытребованного в Читу для работы в трибунале, и Строда. Первый выступил на утреннем заседании, второй – на вечернем.
Байкалов сразу встал в позицию обличителя. Он хорошо изучил материалы следствия, читал дневник Пепеляева, и, приведя его слова о том, что Интернационалу следует противопоставить любовь к Родине, иронизировал: «Интернационал рабочих для него неприемлем, зато приемлем другой интернационал – японские сапоги, английские шинели, американские ружья и гранаты». Не пренебрегал он и прямой ложью, если это было в его личных интересах. Чтобы смерть Куликовского не поставили ему в вину, ибо такого важного пленника не следовало оставлять без присмотра, Байкалов сообщил о его самоубийстве не совсем так, как рассказывал раньше: «Он был морфинист. Когда его привели ко мне в штаб, он находился уже во второй стадии отравления и через короткое время умер». На самом деле Куликовский перед арестом ждал крестьянина, обещавшего ему еду и подводу, и желание покончить с собой у него тогда возникнуть не могло. Отравился он позже, на квартире у священника.
По-своему подошел Байкалов и к теме «жестокости белых»: он предложил считать, что вина за преступления повстанцев, совершенные до появления Сибирской дружины в Якутии, тоже ложится на Пепеляева. Убийства активистов, сожженные школы и больницы, разграбленные лепрозории, забитые колотушками чурапчинские крестьяне и даже изрубленные шашками Брайна Карпель и Екатерина Гошадзе – за все должен отвечать Пепеляев как преемник Коробейникова и Дуганова, продолжатель их дела.
Мало того, он еще и монархист. В подтверждение Байкалов рассказал позаимствованную у перебежчика Вычужанина историю о том, как на «пирушке» в Аяне «пьяный» Пепеляев якобы призвал офицеров до поры затаить свои монархические убеждения, а потом предложил хором спеть «Боже, царя храни».
Вычужанин и Наха вообще много чего о нем порассказали в расчете на расположение новых покровителей. Наха, например, когда Байкалов заговорил с ним по-латышски, воспринял это как знак доверия и в порыве благодарности поведал, что Пепеляев повсюду возит с собой «погребок» с бутылками вина особо ценимых им марок. О «погребке», впрочем, Байкалов на суде не упомянул.
После того, как он закончил, председательствующий спросил его, практиковались ли в Сибирской дружине расстрелы. Байкалов ответил в своем духе: «Расстрелов Пепеляевым пленных не было, но я считаю эту гуманность тактическим приемом».
Пепеляев, получив слово для объяснений, спорить с ним не стал, ограничившись краткой репликой: «С военного училища я совершенно не пью и речей о монархии не говорил».
Выступление Строда было выдержано в ином ключе – никаких обобщений, тем более политических, просто рассказ обо всем, что ему и его бойцам пришлось пережить при осаде Сасыл-Сысы. О Пепеляеве – ни одного дурного слова.
Строд не встретился с ним, когда был послан на переговоры в Нелькан, и за три недели осады ни разу не увидел его вблизи, разве что с дистанции в несколько сот шагов, и то без уверенности, что это он. Теперь между ними всего несколько метров. Они могли наблюдать за выражением лиц друг друга.
О перипетиях осады Строд повествовал уже множество раз, у него выработался трафарет, по которому излагалось примерно одно и то же с небольшими вариациями, но для публики все это явилось новостью. Как отметил один из журналистов, рассказ «был выслушан с захватывающим вниманием, тысячная аудитория замерла».
Судьи, однако, упорно искали доказательства «жестокости» пепеляевцев. Строду пришлось подчеркнуть, что стрельба разрывными пулями, о чем он сам же и рассказал, была вызвана не садизмом белых, а их стремлением заглушить орудийные выстрелы и скрыть от осажденных начавшийся штурм Амги. «Повстанцы допускали зверства, но после прибытия Пепеляева зверства прекратились, – резюмировал он, по сути дела выступая в роли свидетеля защиты, а не обвинения, как Байкалов. – Пепеляев издал приказ не трогать пленных. Я считаю его гуманным человеком».
С его регалиями он мог позволить себе многое, и все же соотнести слово «гуманность» с виднейшим контрреволюционным генералом даже на его месте решился бы не всякий.
Пока Строд, закончив давать показания, оставался на сцене, подсудимые на передних скамьях начали перешептываться.
Затем Пепеляев встал и обратился к суду с просьбой разрешить ему сделать «небольшое заявление».
«Мы, все подсудимые, – получив согласие, сказал он, – знаем о необычайной доблести отряда гражданина Строда и выражаем ему искреннее восхищение».
И, вероятно, после паузы, в стенограмме процесса не отраженной, добавил: «Прошу это мое заявление не посчитать попыткой облегчить нашу участь».
После таких слов они со Стродом вполне могли бы пожать друг другу руки. В тех обстоятельствах это было невозможно, но фактически примирение между ними состоялось.
Зимой 1883 года Короленко из Иркутска везли в якутскую ссылку, в Амгу. Он, рассказывается в его «Истории моего современника», тогда еще не бросил писать стихи и в пути, мысленно, посколько записывать было нечем и не на чем, сочинял поэму о посмертном примирении Александра II и народовольца Андрея Желябова. В возке Короленко «не спал ночи, протирая обмерзшие стекла и следя, как над мрачными скалами неслась высоко холодная луна». В «высоком холодном небе» над заснеженной Леной ему мерещились эти «два образа»; спустя два года после их гибели, «когда трагедия дошла до конца», он видел обоих «понявшими и примиренными». Вот, думалось ему, они «смотрят с высоты на свою родину, холодную и темную, и ищут на ней пути той правды, которая сделала их смертельными врагами, но когда-то одушевляла и царя, и революционера». Потом эта правда «затерялась среди извилистых путей жизни», потому что «русская толпа» всегда видела лишь одну ее половину. «А между тем, – уже в старости вспоминал Короленко не саму эту так и не написанную поэму, а свое тогдашнее чувство, – есть где-то примирение, и мне чудилось, что оба – и жертва, и убийца, ищут этого примирения, обозревая темную родину».
Строд и Пепеляев нашли его не на небесах, а при жизни, когда их трагедия еще не успела дойти до конца.
В понедельник, 21 января, после воскресного перерыва, трибунал продолжил работу. До обеда суд заслушивал показания второстепенных свидетелей, уличавших не самых важных подсудимых в давнишних преступлениях: кто-то участвовал в Ярославском мятеже в 1918 году, кто-то – в экзекуциях при Колчаке.
Вечернее заседание открылось в 17.00. За десять минут до его начала под Москвой, в Горках, умер Ленин, о чем еще никому не было известно. К вечеру в Чите об этом будут знать многие, но официальное сообщение о смерти вождя появится в газетах лишь через двое суток. Пока что все идет обычным порядком.
На другой день выступил читинский прокурор Дебрев. Основной упор он сделал на том, что Пепеляев ввел суд в заблуждение, говоря о признании своего похода «ошибкой», ведь после ухода в Аян он отнюдь не собирался складывать оружие; это доказывается его письмом в Охотск, целью которого было «получение пушнины для дальнейшей борьбы с советской властью». Вину Пепеляева утяжеляет и связь с сибирскими областниками – «консервативнейшим общественным течением во главе со стариком Потаниным». Дебрев назвал их «сепаратистами», тем самым перенося на Пепеляева это неожиданное и опасное обвинение.
Вывод таков: учитывая не столько вину, как «меру социальной опасности» каждого из подсудимых, сорок человек приговорить к пяти или десяти годам заключения, оставшихся тридцать восемь – к высшей мере наказания.
Тем временем в Москве составляется заключение о причинах смерти Ленина. Через сутки миллионы людей прочтут: «Вскрытие обнаружило резкие изменения кровеносных сосудов головного мозга, а также свежее кровоизлияние из сосудов мягкой мозговой оболочки в область четверохолмия…» В этот же день Троцкий написал статью: «Вперед – с фонарем ленинизма!» Она будет опубликована вместе с медицинским заключением. Зная его выводы, Троцкий пишет, что жизнь Ленина оборвали «темные законы, управляющие работой кровеносных сосудов», кончина вождя – это «чудовищный произвол природы». Очень похоже в «Ленском коммунаре» рассуждали о гибели Каландаришвили, с той лишь разницей, что роль неразумных сосудов там сыграли «темные якуты», не понимавшие, какую «яркую жизнь» они обрывают.
О смерти Ленина подсудимые узнали 23 января. Что бы каждый из них ни чувствовал, им должна была передаться общая тревога. Они не знали, чего теперь ждать, как скажется на них эта смерть. Она могла смягчить наказание, но могла и ужесточить.
Наутро с многочасовой речью выступил приморский губ-прокурор Хаит. Градус его демагогии связан и с ценимым на таких должностях умением легко вводить себя в шаманский транс, и с навыками законника талмудической выучки, способного виртуозно истолковать любую цитату в нужном духе, но, несомненно, и с истерической атмосферой тех дней. Жертвоприношение над гробом вождя многим тогда казалось весьма желательным.
Хаит последовательно отверг все, что утверждал о себе сам Пепеляев.
Во-первых, он не демократ, не то, зная о крестьянских восстаниях против Колчака, перешел бы на сторону крестьян.
Во-вторых, назвать его народником нельзя, ибо «он идет за народ, который можно придавить сапогом и экплуатировать».
В-третьих, он не патриот, иначе вступил бы в Красную армию по одной той причине, что «во всей истории русской дореволюционной государственности не было момента, когда бы последняя осмелилась выступить против всего мира», как было во время борьбы Советской России с Антантой.
В-четвертых, «весь его поход – это река крови и слез».
Речь Хаита заняла целый день и вышла далеко за рамки регламента. За час до полуночи он закончил ее требованием приговорить к смертной казни как Пепеляева, так и всех без исключения его «сообщников».
Теперь очередь доходит до защитников. У каждого из них есть свои подопечные, Пепеляева защищает человек с говорящей фамилией Трупп. Он, впрочем, повел себя довольно смело. Провозгласив свое кредо («пусть сидящие здесь получат по заслугам, но не больше того, что заслужили»), Трупп позволил себе даже высмеять Хаита, который назвал Якутский поход «кровавым разбоем» и заявил, будто «Пепеляев хуже Семенова».
«Пепеляевщина, – возражал Трупп, – это идейное движение без примеси авантюристических элементов, гревших руки на гражданской войне, и только невольно соприкасавшееся с этими элементами… Только идею можно защищать столь упорно. Только борьба за идею очищает движение от грязи».
И резюме: «Если обвинение говорит, что никогда еще Советская Россия не была так сильна, как сейчас, и делает из этого вывод, что подсудимых нужно расстрелять, то мы, защита, думаем иначе. А именно: Советской России сейчас не нужны эти жертвы, она не станет топтать побежденных».
Коллеги Труппа подчеркивали, что большинство подсудимых – «выходцы не из родовой знати, а из интеллигентской среды», что «их раскаяние чистосердечно», а защитник Малых пошел еще дальше. «Судить этих людей, – сказал он, – нужно за Якутский поход, но не за участие в Гражданской войне в Сибири. Обеими сторонами было тогда пережито много мук, пролито много крови, много горьких жгучих слез. Судить этот период трудно – это исторический сдвиг двух миров, это историческое прошлое. Это дело истории, общественная совесть не судит его».
27 января, в день похорон Ленина, по городу прошли траурные шествия. На вечернем заседании председательствующий, не зная или позабыв от волнения о саркофаге и мавзолее, объявил: «Товарищи! Сейчас опускается в могилу тело нашего горячо любимого вождя, товарища Ленина».
В 20 часов 33 минуты в зале гасят свет, в темноте все встают и поют хором: «Вы жертвою пали…» Аккомпанемент – прощальный салют в исполнении красноармейской роты, выстроенной на главной городской площади.
Подсудимых, чтобы не диссонировали с атмосферой надгробного единения, выводят в коридор. Они слышат доносящиеся с улицы «глухие раскаты залпов».
В последующие дни процесс возобновляется в прежнем режиме, без видимых отклонений от нормы.
За день до его завершения подсудимым дают последнее слово. Все, включая Пепеляева, признают вину и просят о смягчении своей участи.
В полдень 2 февраля суд удаляется на совещание.
Через сутки оглашен приговор: двенадцать человек – к пяти годам заключения с поражением в правах еще на год, сорок один – к десяти, Пепеляев и остальные – к высшей мере наказания.
Задолго до окончания процесса было зачитано подписанное всеми семьюдесятью восемью подсудимыми «Обращение к оставшимся за границей офицерам и солдатам русской армии».
«Мы, – говорилось в нем, – обращаемся сейчас не к тем, кто вел, ведет или собирается вести гражданскую войну ради своей выгоды и наживы, и не к тем, кто мечтает о возврате к разбитому старому… Мы обращаемся к тем, кто, как мы, хотел счастья своему народу, кто, как мы, искренне и глубоко любит родину и кто заблуждается до сих пор, как заблуждались и мы. И мы говорим им: вдумайтесь в это наше последнее обращение, вернитесь в Советскую Россию, отдайте себя на ее суд, идите сюда работать и выковывать здесь, рука об руку с Советской властью, то благополучие и счастье народа, за которое мы так долго и так неумело боролись…»
Здесь еще можно отыскать следы искреннего чувства, но из дальнейшего видно, что сочиняли этот документ не те, кто его подписал. Трудно поверить, что пепеляевцы сами додумались именовать себя людьми из «неподвижного болота мещанской среды дореволюционного безвременья», которые «уцепились за жалкие обломки разметанного революцией старого строя и старались склеить из них храмину своего обывательского демократизма». Еще сомнительнее, что их осенила бы мысль объяснить свое решение отправиться в Якутию доверием к «систематической лжи продажной зарубежной печати» о положении в СССР. Чтобы знать эти пропагандистские клише, нужно было регулярно читать советскую прессу.
Они подписали обращение в надежде, что им сохранят жизнь и дадут небольшие сроки заключения, но одни подошли к делу цинично, а другие в той или иной степени разделяли идеи этого документа. В Гражданской войне победили красные, и хотя «Божий суд», то есть поединок, определявший, кто из двух противников прав, столетия назад стал историческим казусом, его смысл не умер – подсознательно победа по-прежнему ассоциировалась с правотой.
За полгода до суда, на «Индигирке», через день после отплытия из Аяна, Пепеляев под впечатлением бесед с Вострецовым и, может быть, предъявленных ему каких-то примет новой жизни вроде кружков по ликвидации неграмотности среди красноармейцев, записал в дневнике: «Душевный кризис. Все переоцениваю, но правда и истина вечны. Если то благо народное, во имя которого я боролся, осуществлено или осуществляется другими, все силы жизни отдам служению новой России. Если нет, если царствуют зло и неправда, никакими силами не заставить меня признать эту власть».
Во Владивостоке, через который его провезли в домзак ГПУ, или по дороге в Читу, где на станциях из окна вагона он мог наблюдать за людьми, в его дневнике появилась еще одна запись, без даты: «Всюду вижу мир. Злоба, война улеглись… Боже! Но почему же Куликовский, этот старый революционер-народник, не оценил положение?.. Роковая ошибка, за которую я поплачусь. Поймут ли меня?»
Тогда же, в своей биографии-исповеди, Пепеляев написал, что увидел в Советской России пусть не то, о чем мечтал, но, во всяком случае, попытку воплощения этого в жизнь. И закончил не без пафоса: «Да не подумают, что я пишу это под страхом ответственности – нет, ее я не боюсь, не раз смерть своими страшными глазами заглядывала мне в глаза в бесчисленных боях Германской и Гражданской войны, и там, в суровых полях далекой Якутии. Говорю и пишу как думаю».
Вопрос не в том, лицемерил он или писал правду или в какой пропорции смешивалось одно и другое, а в том, насколько желание жить и страх за семью заставили его убедить себя, что он действительно так думает.
После того, как огласили подписанное подсудимыми обращение, мало кто сомневался, что они получат незначительные сроки или будут амнистированы. В противном случае лишался смысла их призыв к бывшим товарищам по оружию вернуться на родину и «отдать себя на ее суд». Вероятно, так все и было задумано, приговор предполагался максимально мягкий, но из-за смерти Ленина руководящие инстанции дали обратный ход. В итоге все пошло по другому сценарию: дальневосточный ревком постановил «приветствовать приговор как революционно правильный и соответствующий духу советского законодательства», но одновременно ходатайствовал перед Москвой «о неприменении к Пепеляеву и его сообщникам высшей меры наказания».
Через десять дней председатель ВЦИК Енукидзе это ходатайство удовлетворил – смертную казнь заменили десятилетним заключением, в прочем все осталось без изменений.
Разные судьбы. Столяр и писатель
«Обращение к оставшимся за границей офицерам и солдатам русской армии» было опубликовано в харбинской просоветской газете «Вперед», выдержки из него со злобными комментариями печатали другие эмигрантские издания. Это вызвало разочарование в участниках Якутского похода. Над Пепеляевым, раскаявшимся на суде и все равно угодившим на много лет в тюрьму, откровенно издевались; публицист Всеволод Н. Иванов именовал его «каким-то наполеонистым Фигаро».
«Прожил он свой век при монархии, не понимая ее смысла, и в смутную годину оказался таким же темным человеком, руководимым политическими фантазерами и мошенниками. То, что принес покаяние советской власти, еще не означает, что он встал на ее сторону. У таких людей, не привыкших действовать принципиально, – витийствовал Иванов, вскоре ставший секретным агентом ГПУ в Харбине, – нет сторон. Они – листья, облетающие с дерева дореволюционного российского общества, подточенные червем интеллигентщины».
Свойственная Пепеляеву зыбкость политических убеждений, его неспособность безраздельно примкнуть к какой бы то ни было партии – черта не столько даже интеллигента, сколько взыскующего Божьего Града русского праведника. Ни жертва «мошенников», ни тем более авантюрист в стиле Наполеона или Фигаро, каким Пепеляева изображал Иванов, словно речь шла о трех разных людях, не мог бы, как он, из ледяной якутской бездны в отчаянии воззвать к безответным небесам: «Господи, научи меня понимать благо народное, укажи пути доброго служения Родине, укажи правду, дай твердо идти по пути добра и счастья народного!»
Устрялов чуть ли не единственный написал сочувственную статью о друге, но и в ней говорилось, что «пафоса государственного он вообще чувствовать не умел», что «суровый дух автократического водительства ему не мог не быть враждебным», и Пепеляев пал жертвой собственного «поверхностного демократизма, усвоенного из вторых и третьих, да к тому же весьма захолустных рук»; этим объяснялось его недовольство и Колчаком, и советской властью, а то, что в конце концов он принес ей повинную, стало, по Устрялову, таким же следствием непонимания ее природы, как и борьба с ней.
Подобные оправдания Нине Ивановне непросто было отличить от обвинений.
Жены пепеляевских офицеров и те, должно быть, считали, что их мужья пострадали из-за ее мужа. Одинокие реплики в его защиту тонули в хоре негодующих голосов.
Нина Ивановна осталась одна с двумя детьми на руках, без профессии, без денег и без надежды на помощь родственников, которые сами еле сводили концы с концами. Оставленную ей Пепеляевым тысячу рублей она давно потратила, единственным ее козырем был диплом об окончании верхнеудинской гимназии. Нина Ивановна пошла работать корректором в газету, потом кто-то из знакомых, Вишневский, может быть, по возвращении вновь ставший главой харбинского отделения РОВСа, пристроил ее в управление КВЖД на мелкую канцелярскую должность. Это позволило ей выжить и вырастить сыновей.
Писем от мужа она не получала и не знала о нем совсем ничего. Переписку с семьей ему разрешили только через два года.
Единственный из всех осужденных в Чите, Пепеляев с первого до последнего дня заключения просидел в Ярославском политизоляторе ОГПУ, в просторечии – «Коровники». Эта старинная губернская тюрьма находилась в Коровницкой слободе и была известна песней:
- В Ярославскую тюрьму
- Залетели гуленьки.
- Залететь-то залетели,
- А оттуда – х…леньки.
Сюда свозили участников крестьянских восстаний и различную «контру». Первое время Пепеляева держали в одиночной камере, потом режим смягчили. «Полтора-два года, – рассказывал он, – я был оторван от внешнего мира, но в конце 1925 года получил разрешение работать в тюрьме». Стекольщик, плотник и, наконец, столяр – вот его тюремные профессии. Столярному ремеслу он обучился в мастерских у товарищей по несчастью.
Из жизни страны Пепеляев исчез. В настоящем для него места не было, его имя упоминалось в советской печати лишь в рассказах о былых победах над ним или о проводившихся им репрессиях против рабочих и крестьян. Маяковский, посетив Свердловск, отчитался за творческую командировку стихами об индустриальном Урале с ретроспективой его тяжелого прошлого:
- Порол Пепеляев.
- Свирепствовал Гайда.
- Орлом
- Клевался
- Верховный Колчак.
На самом деле пороли другие.
Вострецов, прекрасно об этом знавший, сохранил о своем аянском пленнике самые теплые воспоминания, хотел ему помочь и в 1928 году, будучи командиром 27-й Омской Краснознаменной стрелковой дивизии, направил письмо в Москву, адресовав его члену Верховного суда РСФСР и главе юридического отдела Рабоче-крестьянской инспекции, старому большевику Арону Сольцу.
Коротко объяснив, почему судьба Пепеляева ему небезразлична, Вострецов с откровенной симпатией охарактеризовал его взгляды и «личные качества»: «Очень честный, бескорыстный, жил наравне с остальными подвижниками боев (солдатами). Лозунг их – все братья: брат генерал, брат солдат и т. д. Мне утверждали его сослуживцы с 1911 года, что Пепеляев не знает вкуса вина (думается, этому можно верить). Имел громадный авторитет среди подчиненных: что сказал Пепеляев – для подчиненных был закон».
Наконец Вострецов перешел к тому, ради чего он и взялся за это письмо: «У меня есть такая мысль: не время ли выпустить его из заключения? Думается, он нам сейчас абсолютно ничего сделать не может, а его можно использовать как военспеца (а он, на мой взгляд, неплохой), если у нас есть такие бывшие враги, как генерал Слащев, который перевешал нашего брата не одну сотню, а сейчас работает в «Выстреле» преподавателем тактики. Вот те мысли, которые я имел и изложил вам как лицу, который этим заведует».
Сольц носил почетный титул «совести партии», но требовал строжайшего соблюдения законности лишь применительно к ее членам. На прочих это требование распространялось по обстоятельствам. Белый генерал, не отбывший свой законно полученный срок, не должен был его заинтересовать.
Пепеляев остался в тюрьме, а Вострецов, через год отличившись в боях во время советско-китайского конфликта на КВЖД, был назначен командиром корпуса. Ему прочили блестящую карьеру, но в 1932 году, в Новочеркасске, он ночью, один, ушел на кладбище, как в Харбине когда-то уходил Пепеляев, и застрелился из нагана.
Причиной самоубийства будто бы стал рецидив старой душевной болезни, но эти слухи могли инспирироваться сознательно и скрывать за собой все что угодно.
Предсмертной записки Вострецов не оставил.
В конце лета 1924 года Строд со второй попытки доехал до Москвы и был зачислен на Стрелково-тактические курсы усовершенствования комсостава РККА «Выстрел», они же – имени III Коминтерна. Лекции по тактике ему читал прототип Хлудова из пьесы Булгакова «Бег» – вернувшийся в СССР врангелевский генерал Яков Слащев. На его пример Вострецов ссылался в письме к Сольцу.
Курсы были полугодичные, но под новый, 1925 год Строд, бросив учебу и не получив документ об окончании курсов, открывший бы перед ним путь к военной карьере, срочно выехал в Якутск. Причина – телеграмма ЯЦИК с просьбой помочь в борьбе с очередной волной повстанческого движения.
На этот раз восстали приморские тунгусы. Они всегда жили по своим родовым законам, а теперь власти обложили налогом их оленей, собак и даже каждое дерево, срубленное на жердь для урасы или на бересту для лодки, что для тунгусов было примерно то же самое, как если бы их заставили платить за воздух, которым они дышат. Правила регистрации пушнины дошли до полного абсурда: на тысячеверстных таежных просторах охотник обязан был прибыть непременно в Аян или Нелькан, найти представителя власти (тот мог быть пьян, или не в духе, или уехать по делам), предъявить разрешение на охоту вкупе с квитанцией об уплате пошлины за таковое разрешение и добытые шкуры, причем их головную часть следовало предварительно очистить от жил и прожилок для удобства наложения на нее печати, затем с помощью человека, знающего тунгусский язык и умеющего писать по-русски, что вместе встречалось нечасто, заполнить анкету с точным указанием, в каком месте и в какой день какого месяца был убит тот или иной зверь, и еще уплатить пятипроцентный сбор с гипотетической стоимости каждой шкуры. При ее продаже приходилось заново проходить аналогичный, бессмысленный и мучительный для лесных жителей бюрократический лабиринт. Доведенные до отчаяния тунгусы с боем захватили Аян, арестовали с десяток милиционеров и советских уполномоченных и объявили Аяно-Нельканский район независимой Тунгусской республикой, чтобы лишить пришлых людей власти над ее гражданами. План этот созрел у тунгусских старейшин еще год назад, когда они предлагали Пепеляеву стать у них кем-то вроде военного министра.
О причинах восстания Строд мало задумывался. Ему достаточно было знать, что оно «контрреволюционное» и «вооруженными силами» мятежников численностью в пару сотен человек командует не кто иной, как Артемьев. Прошлой весной он расстался с Вишневским на Джугджуре, позже был прощен, обещав не поднимать оружия на советскую власть, но посчитал, что она первой нарушила свои обещания.
В Якутске Строд сформировал отряд и двинулся на восток, но по пути узнал, что красный десант, прибывший на пароходе из Владивостока, захватил Аян и Нелькан. Артемьев со своими тунгусами и якутами ушел в центр Якутии, в район Петропавловского. Строд послал ему письмо, получил ответ и один, как всегда, без револьвера и даже без шашки, выехал на переговоры – у него имелась «установка ЯЦИК» обещать амнистию всем сложившим оружие. Артемьев сдался, прибыл в Якутск, сочинил там покаянное письмо, опубликованное в «Автономной Якутии», и на память сфотографировался вместе со Стродом. На обороте снимка тот в знак примирения написал бывшему врагу несколько слов, не подозревая, как дорого обойдется ему эта надпись.
Тогда же Строд женился на двадцатидвухлетней Клавдии Андриановой, уроженке Витима. Она служила фельдшером в его отряде, и роман, надо думать, завязался во время похода. В ней, как у большинства здешних старожилов, текла смешанная, русско-якутская кровь. Светловолосая, женственная, чуть курносая, с длинной шеей и нежным, по-девичьи округлым лицом, она до старости сохранит копну пышных волос, но с возрастом, судя по фотографиям, все сильнее будет походить на якутку. Этим браком Строд скрепил отношения со своей второй родиной.
Через год Клавдия Георгиевна родила сына, получившего имя Новомир. Впоследствии она говорила ему, уже взрослому, что его отец всегда о ней заботился, берег от тяжелой работы по хозяйству, но это лишь часть правды. Жизнь с нервным, неуживчивым, выпивающим Стродом была для нее нелегкой.
Жили в Иркутске, Строд служил заместителем командира полка. После семи ранений он часто болел (полученная в Сасыл-Сысы пуля навсегда осталась у него в правом легком) и летом 1927 года был уволен из армии по состоянию здоровья. В качестве компенсации его наконец приняли в ВКП (б).
Тем временем в Якутии началось последнее из национальных движений смутного десятилетия – «ксенофонтовщина». Оно считалось антисоветским «восстанием», хотя, в сущности, таковым не было. Павел Ксенофонтов, его идеолог, юрист с дипломом Московского университета, работал в наркомате финансов ЯАССР и не имел конфликтов с властью, пока не попытался вынести на публичное обсуждение вопрос о том, что Якутия должна быть не автономной, а союзной республикой с теми же правами, какие имеют Узбекистан или Белоруссия. Летом 1928 года Ксенофонтов с группой последователей ушел в тайгу, скитался от улуса к улусу, пропагандируя свою диссидентскую идею и критикуя «произвол ГПУ», при котором «советская конституция превратилась в клочок бумаги», а «личность трудящегося низведена до положения бесправной скотины».
Неукротимый Артемьев, после второй амнистии служивший в Нелькане счетоводом, немедленно влился в ряды его сторонников, называвших себя «конфедералистами». Простые якуты плохо понимали, чего хочет лидер движения, но из-за недовольства новыми налогами его проповедь, как и радикальные призывы Артемьева «освободиться из власти русских», имели некоторый успех. Ксенофонтовцев объявили «бандитами», хотя они избегали насильственных действий (за полгода «восстания» был убит всего один милиционер), и решили применить против них силу.
Гарнизон Якутска был невелик, в помощь ему начали вербовать добровольцев. Возглавить их позвали Строда. Он с радостью согласился и, забыв о болезнях, с небольшим отрядом выступил в сторону Усть-Маи, но в это время Ксенофонтов, решив, что его идеи уже проникли в массы, явился в Якутск и призвал сторонников последовать своему примеру. От имени правительства ЯАССР всем им посулили амнистию.
Руководствуясь этой генеральной линией, Строд вступил в переписку с предводителями двух крупнейших «конфедералистских» отрядов – Артемьевым и бывшим командиром Нарревдота Михайловым. При личной встрече он убедил их выслать троих человек в Якутск – удостовериться в правдивости его заверений о милости к падшим, и договорился, что если все обстоит так, как он сказал, оба со своими людьми выйдут из тайги.
Разведчики уехали, дело шло к капитуляции, как вдруг Строд получил от уполномоченного ОГПУ Буды приказ, прямо противоречивший прежним: «Использовать переговоры для нападения и уничтожения банды».
Эту директиву он проигнорировал, посчитав, что она вызвана незнанием сложившейся обстановки, но даже и допуская, что приказ Буды продиктован какими-то не доступными его пониманию резонами, нарушить свое честное слово Строд не мог. Он неизменно вел себя по-рыцарски, гордился этим и не готов был отказываться от того, на чем зижделось его самоуважение.
Переговоры были продолжены. Артемьев с Михайловым сдались, их люди были распущены по домам, а сами они отправились в Якутск, где, вопреки обещаниям Строда, искренне полагавшего, что недоразумение с приказом Буды разрешится в пользу здравого смысла, обоих арестовали. Времена изменились, националист становился опаснее классового врага. Непродолжительное следствие завершилось молниеносно приведенным в исполнение приговором: Ксенофонтов, Артемьев, Михайлов и еще 125 «конфедералистов» были расстреляны, до двух сотен разослали по лагерям.
За неподчинение приказу Строда отстранили от должности, обвинив его в близких отношениях с «бандитами» и сочувствии идеям Ксенофонтова. Подозрения вызвала найденная у Артемьева их общая фотография с дарственной надписью Строда и приятельские по тону письма, которые в процессе переговоров о капитуляции он писал своим старым знакомым, ныне – «вожакам банд». Встал вопрос об исключении его из партии, но слава героя Сасыл-Сысы исключала возможность принять решение на местном уровне. Дело передали на рассмотрение ЦКК – Центральной Контрольной комиссии ВКП(б), ведавшей чистотой партийных рядов.
Строд приехал в Москву и предстал перед ней лично. Защищаясь, он отрицал обвинение в симпатии к «бандитам», а отказ их уничтожить объяснял тем, что не в силах был это сделать из-за малочисленности и небоеспособности своего отряда. «У меня были такие трусы и подлецы, каких я никогда не имел, – сетовал Строд, но доводы, свидетельствующие об их нравственной низости, приводил довольно странные: – Они теряли патроны, гранаты и даже винтовки».
Это говорит о расхлябанности его недотепистых бойцов, но никак не об их моральном облике. Кажется, эмоциональность первой фразы связана с тем, что слова «трус» и «подлец» постоянно присутствовали у Строда в мыслях: они характеризовали его самого, каким он мог стать, если бы подчинился приказу Буды. Эти два слова – знаки опасности, которой ему удалось избежать.
Оправдания выглядели не слишком убедительно, тем не менее, учитывая его заслуги и три ордена Красного Знамени, с ним обошлись относительно мягко: из партии не выгнали, ограничившись взысканием, но на три года запретили ему въезд в Якутию, недавно им же и спасенную от вражеского нашествия. Клавдия Георгиевна рассказывала, что муж воспринял это как вопиющую несправедливость.
В 1928 году Строд поселился на родине Пепеляева, в Томске: он был назначен «секретарем» здешнего отделения ОСОАВИАХИМа[41], а по совместительству – заведующим гарнизонным Домом Красной армии в здании бывшего Дворянского собрания.
В Томске жил один из двух уцелевших и оставшихся на свободе братьев Пепеляевых, Михаил (второй, Аркадий, военный врач, спасенный от расстрела в ЧК квартировавшим в одном с ним доме Ярославом Гашеком, осел в Омске). Михаил Николаевич в чине капитана служил в армии Колчака, несколько лет провел в концентрационном лагере и в исправительно-трудовой колонии, затем вернулся в родной город. Здесь оставались его жена и дочь. Он хорошо рисовал, и чтобы прокормить семью, готов был послужить своим талантом чему угодно вплоть до дела революционной агитации масс, на что в те годы был большой спрос, но за ним стояли тени двух старших братьев – расстрелянного вместе с адмиралом председателя Совета министров Омского правительства и знаменитого белого генерала. Принять его на работу никто не осмеливался, Михаил Николаевич перебивался случайными заработками, семья бедствовала. Единственным человеком, не побоявшимся взять его к себе на службу, оказался Строд.
Почти два года Пепеляев-младший проработал у него штатным художником – рисовал плакаты и портреты вождей, украшал актовый зал к праздникам, расписал фресками парадные помещения в Доме Красной армии, но вскоре после того, как Строд навсегда покинул Томск, Михаила Николаевича арестовали. В заключении он оформлял лагерные клубы, а в 1937 году на него завели новое дело и увезли в Новосибирск. Там же находился тогда и старший брат, но маловероятно, что они увиделись перед смертью.
После разгрома «ксенофонтовщины», ожидая начала навигации по Лене, Строд с февраля по июнь просидел в Якутске. В эти месяцы вынужденного безделья он написал свою первую книгу – «В тайге», посвященую событиям в Якутии с начала Гражданской войны до разгрома восстания Коробейникова.
Центральное место занимали эпизоды боев с повстанцами, гибель Каландаришвили и Широких-Полянского, экспедиция самого Строда в Вилюйск и Сунтар.
Вообще-то «В тайге» – второй его литературный опыт. Первым был очерк «Унгерновщина и семеновщина», напечатанный в журнале «Пролетарская революция» в 1926 году. Содержание ясно из заголовка – Строд рассказывал о своем участии в борьбе с Семеновым и Унгерном в Забайкалье и, между прочим, о преследовании партизан-анархистов советским командованием. У него оказалось легкое перо, слух на живую речь и память прирожденного литератора, автоматически отбирающая из хаоса жизни все то, о чем когда-нибудь можно будет написать.
В очерке много ярких, иногда страшных подробностей – например, в рассказе о сожженной унгерновцами Кулинге: «На отлете, саженях в трехстах от станицы, стояла единственная водяная мельница, тоже сожженная. Сразу никто из нас не заглянул туда, и только спустя некоторое время несколько человек пошли к ней. Не мельница интересовала их, а два человека, нагнувшихся над продолговатым, больше аршина, ящиком и будто бы ведших между собой беседу. Решили узнать, что за люди тут появились и откуда пришли. Странно показалось, что собеседники ни разу не оглянулись, даже не пошевелились, словно не слышали дружного ясного топота десятков ног. Загадка скоро разрешилась – оба были мертвы. Опять тяжелая мучительная картина – старики 70 и 65 лет заколоты штыками. Прежде чем поджечь мельницу, унгерновцы вытащили оттуда мучной ларь, наполовину заполненный мукой, и к нему за вбитые в стенку гвозди привязали седовласых старцев. Одному вложили в руки пустой мешок, другому – совок. Их нагнутые трупы закоченели в таком положении. Издали получалось впечатление, что один насыпает перемешанную с кровью муку другому. Изодранные, с кровавыми пятнами, брюки у обоих были спущены, икры изгрызены свиньями или голодными собаками».
По объему очерк «Унгерновщина и семеновщина» годился для отдельного издания, но остался только журнальной публикацией из-за того, вероятно, что анархисты в нем изображались как важнейшая сила в борьбе с забайкальской контрреволюцией. Зато второй опус Строда в 1928 году вышел книжкой в Москве, в Госиздате. Положительной рецензией на нее в «Сибирских огнях» отозвался тот самый Вегман, которому когда-то, в Томске, Пепеляев отказался подписать смертный приговор.
Путь первой книги Строда к печатному станку был необычайно короток, и без влиятельного покровителя тут явно не обошлось. Его имя перестает быть тайной, если вспомнить, что, когда Строд впоследствии начал сильно пить, Клавдия Георгиевна, как она сама признавалась на допросе в ГПУ, хотела пожаловаться на него Емельяну Ярославскому, дабы тот призвал мужа к порядку. Следовательно, главный советский атеист был для нее не чужим человеком.
Перед революцией ссыльный Ярославский заведовал музеем в Якутске, там Строд мог познакомиться с ним еще в 1918 году, но, скорее всего, знакомство произошло во время разбирательства его дела в ЦКК, членом которой состоял Ярославский. Слово «Якутия» не было для него пустым звуком, поэтому именно ему Строд и решил показать свой труд. Возможно, рукопись стала лишним аргументом в его защиту, но в любом случае она была прочитана, одобрена и с весомой рекомендацией передана нужным людям. Иначе начинающему автору долго пришлось бы обивать издательские пороги.
Опала сделала Строда писателем, а насильственная разлука с Якутией, местом его силы и славы, вдохнула ностальгическую страсть в написанную им в Томске вторую, лучшую книгу – «В якутской тайге». В 1930 году она вышла в Москве, но уже не в Госиздате, а в «Молодой гвардии».
В первой книге действие происходило там же, Строд писал их как две части единого повествования, однако вторая половина оказалась несравненно талантливее. Издательство выпустило ее под похожим, чтобы подчеркнуть преемственность с предыдущей книгой, и все же другим заглавием: одно добавленное слово уточняло, о какой конкретно тайге идет речь. Едва ли этот удачный маркетинговый ход был придуман самим Стродом.
Редактировал книгу влиятельнейший в издательском мире Георгий Литвин-Молотов (настоящая фамилия Литвинов). По происхождению донской казак, он с юности жил в Воронеже, выпускал там газеты «Красная деревня» и «Воронежская коммуна», в которых сотрудничал молодой Андрей Платонов, дал ему рекомендацию при вступлении в РКП(б) и всю жизнь оставался его другом. Перебравшись в Москву, Литвин-Молотов сделал стремительную карьеру – стал членом правления Госиздата, председателем правления «Молодой гвардии», и одно то, что книга малоизвестного провинциала вышла под его редакцией, говорит о многом. Литвин-Молотов, значит, сразу понял, какой алмаз случайно попал ему в руки и как ярко он может сверкнуть при умелой огранке.
Книг о Гражданской войне выходило тогда несметное множество, но это была или сомнительная в плане фактологии беллетристика, или не интересные широкой публике труды военных историков, или мемуары полуграмотных участников событий. Строд счастливо сочетал в себе героя и одаренного литератора. Современных писателей он знал плохо, но писал в той же манере, интуитивно чувствуя стилевую стихию эпохи. Таким автором был разве что чапаевский комиссар Фурманов, и то не в полной мере. Военного героизма ему все-таки не хватало.
В предисловии Строд честно указал, что использовал в книге записки пепеляевского офицера, ротмистра Эраста Нудатова – «путем частичного пересказа или заимствования некоторых фактов», причем подчеркивалось: Нудатов сам этого хотел, для чего и прислал автору свою рукопись. Чтобы ему в тюрьме позволили писать воспоминания, Строду, должно быть, пришлось ходатайствовать за него перед администрацией Александровского изолятора под Иркутском. Почему из всех пепеляевцев выбран был он, понятно: Нудатов из Аяна попал с Михайловским в Охотск, где и прожил вплоть до появления Вострецова, а Строд об охотских делах почти ничего знал. Из этих записок он почерпнул еще и рассказ о жизни Пепеляева в Харбине, о подготовке экспедиции во Владивостоке и первых днях по прибытии ее в Аян. Для Нудатова их сотрудничество оказалось не менее выгодным – он был досрочно освобожден, и наверняка не без участия Строда.
Как многие неофиты, Строд хотел быть сразу и писателем, и историком. В его книге приведены разного рода документы, в том числе из захваченного в Амге архива Сибирской дружины, но интересна она не претензиями на объективность, а ярчайшим описанием пережитого в Сасыл-Сысы самим Стродом и его бойцами. Человеческие страдания, если они не являлись результатом злой воли классового врага, к началу 1930-х все реже изображались в советской литературе, а у Строда о них прежде всего и рассказывалось. Конечно, он не забывал напоминать читателям главное: красноармейцы сумели вынести невыносимое, потому что отстаивали «дело Ленина», но идеология меркла рядом с ужасами осады. Идейная правота защитников Сасыл-Сысы воспринималась как производное от их мужества, а не наоборот.
Изуродованные пулями трупы белых и красных вперемешку с плитами мерзлого навоза; измученные голодные люди, на четвереньках ползающие среди собственных испражнений или ночью распиливающие окоченелые конские туши, чтобы не испортились от разлагающихся и на морозе внутренностей; «миллионы вшей», снег с кровью вместо воды, обгорелые лохмотья вместо шинелей, повязки из вываренного цветного ситца на гноящихся из-за отсутствия медикаментов ранах; доводящий до равнодушия к смерти холод, а одновременно – чувство, что осажденные и осаждающие обречены сражаться друг с другом не потому, что друг друга ненавидят, а потому что над теми и над другими властвует даже не долг, а Рок в личине долга.
Василь Быков, подростком прочитавший «В якутской тайге», говорил, что «долго не мог забыть военного трагизма книги». В этом и заключался секрет ее воздействия. Строд, сам того не желая, написал не мемуары, а трагедию, вернее трагедийный по природе героический эпос, где не добро борется со злом, а одни герои – с другими, и каждый из противников – лишь орудие высшей силы в лице «мирового капитала» или «мирового интернационала», враждующих между собой, как две партии олимпийских богов при осаде Трои. Космический мороз, инопланетные пейзажи с голыми скалами по берегам ледяных рек и бескрайняя снежная тайга – подходящий фон для вселенской битвы.
При всем том формально это было автобиографическое, причем документально подтвержденное повествование о красных героях. Книга вышла большим тиражом и имела шумный успех. На национальных языках ее выпустили в Якутии, в Белоруссии, где автора как уроженца Витебской губернии числили земляком (возможно, этот перевод и читал Быков), и с пропагандистскими целями перевели на английский, чтобы распространять за границей. Воинские части и пионерские организации присылали в издательство заявки на встречу с автором. Имя Строда прогремело по стране. О нем слагали стихи, в его честь называли клубы, колхозы (к середине 1930-х таких будет девять), шахты и пароходы. Его портрет висел в Центральном Доме Красной армии в Москве рядом с портретами Тухачевского, Уборевича и Буденного. Самые знаменитые писатели становятся литературными персонажами только после смерти, а Строд при жизни успел прочесть роман о себе «Ледовая осада», оперативно сочиненный неким Яном Круминем и изданный в Ростове-на-Дону.
«В якутской тайге» вышла из типографии в начале 1930 года, а уже осенью окрыленный Строд с семьей переезжает из Томска в Москву и, как выражается его единственный биограф, «целиком посвящает себя литературной деятельности».
Убить Сталина
На литературном поприще Строд сделал впечатляющие успехи, но его руководство томским ОСОАВИАХИМом и Домом Красной армии оставляло, видимо, желать лучшего. Нового назначения ему не дали, зато теперь он мог писать не только в свободное от службы время. Вопрос о заработке и крыше над головой перед ним не стоял, в тридцать шесть лет он получил персональную пенсию РККА и отдельную квартиру в Москве, в Ново-Басманном тупике. Клавдия Георгиевна поступила в мединститут.
На гребне успеха второй книги Строда – «В якутской тайге» вышло второе издание первой – «В тайге». Через год в «Молодой гвардии» переиздали вторую, но в сильно переработанном варианте. Ситуация в стране быстро менялась, и чуткий к новым веяниям Литвин-Молотов, который скоро забросит издательские дела и начнет делать карьеру профессионального теоретика марксизма-ленинизма, усмотрел в книге немало изъянов. Основных было два – избыток натурализма и недостаток идеологии.
Строд послушно убавил лишнее и добавил недостающее. По-прежнему не упоминалось, что охотские ревкомовцы на телеграфной станции Алах-Юнь дошли до людоедства, зато во втором издании появился развернутый эпизод с пытками, которым их подвергли люди Яныгина. Приводились разговоры мучителей с жертвами и между собой, словно автор при этом присутствовал. Если речь шла о зверствах белых, натурализм приветствовался, но в главах об осаде Сасыл-Сысы исчезли многие жутковатые, а соответственно и малоэстетичные подробности; была урезана сцена, где Строд при ярком солнечном свете смотрит на баррикады из трупов, перечисляет увечья мертвецов, узнает погибших друзей. Страдания красноармейцев остались, но еще сильнее были просветлены сознанием жертвенности во имя Коммунистической партии. Бойцы Строда умирали с клятвами верности ей на холодеющих устах и просьбами передать об этом по начальству. Кажется, на весь текст был наброшен некий флер, не очень вроде бы и заметный, но ощутимый при внимательном чтении.
Наверняка под нажимом Литвина-Молотова в предисловии была вычеркнута фраза о заимствованиях из записок ротмистра Нудатова. Советскому писателю не к лицу было иметь такого соавтора, к тому же на слуху оставалась скандальная история с Шолоховым, обвиненным в использовании рукописи некоего белого офицера при работе над «Тихим Доном». За двумя подобными случаями просматривалась угрожающая тенденция.
Какие-то изменения Строд мог внести по совету редакционных работников, но некоторые – и по собственной инициативе. Ему хотелось быть настоящим писателем, а «В якутской тайге» – это все же не совсем проза. Он убрал часть приведенных в первом издании документов, поработал над стилем, местами проредил нагромождение замедляющих действие деталей. Разрослись диалоги, беллетрист оттеснил на задний план историка и мемуариста. Это пошло на пользу книге, она стала занимательнее и проще, но отчасти утратила первоначальную тяжелую, суровую силу.
Незадолго перед тем Строд впервые после пятилетнего перерыва побывал в Якутии, а по возвращении в Москву издал брошюру об этой поездке. Его приглашали на торжества в честь десятилетней годовщины образования ЯАССР. Там он заседал в президиумах, посетил «кряжевую биржу», выступал перед пионерами, рабселькорами, колхозниками, по осоавиахимовской привычке предупреждая слушателей о «важности усиления боевой и политической подготовки в армии, авиации и флоте в связи с нарастающей угрозой со стороны империалистических держав». Увидев «свежие приношения жертвенному дереву над спуском в долину Лены», Строд разразился гневной тирадой о «живучести пережитков суеверия, поддерживаемого мракобесами шаманской религии». Раньше за ним такого не водилось.
Новый язык давался ему тяжело, и вместо книги «Якутия в прошлом и настоящем», которую он, выступая на юбилейных мероприятиях, обещал написать, из-под его пера вышла только эта брошюра с ненатуральными восторгами по поводу колхозов и лесопилок. Она стала последней попыткой Строда примириться с действительностью, которая нравилась ему все меньше.
Условия для работы у него были идеальные, а денег – даже с излишком. Помимо гонораров за переиздания, ему как персональному пенсионеру РККА ежемесячно платили 200 рублей, за ордена – 80, еще 120 составляла пенсия Якутского правительства. Вдобавок Курашов, по линии ГПУ тоже перебравшийся в столицу, пристроил его на должность председателя правления артели «Топроиз» («Товарищество производителей-изобретателей»), изготавливавшей радиоаккумуляторы. Строд появлялся там редко, но в месяц получал 300–400 рублей. При таких доходах он мог жить безбедно и содержать нигде не работавшую жену-студентку. Отношения в семье были нормальные, писать ему никто не мешал, тем не менее книга «В якутской тайге» завершила его путь в литературе.
Однажды Строды всей семьей пришли в гости к родной сестре Клавдии Георгиевны, Нине, и ее мужу, Якову Ахизарову. Пока взрослые сидели за столом, семилетний Новомир играл с двоюродным братом, своим сверстником. Тогда-то Нина и услышала, как племянник заявил ее сыну: «Моему папе все нипочем. Хоть Сталин и главный, но папа его убьет».
На застолья в коммунальных квартирах нередко приглашали соседей. Непонятно, был ли в комнате кто-то еще, кроме Строда с женой, его свояченицы с мужем и их детей, но скоро супруги Ахизаровы дали показания в ГПУ.
Как выяснилось, Клавдия Георгиевна неоднократно жаловалась сестре, а та, естественно, передавала мужу, что весной 1933 года Строд запил и пьет уже полгода. Выпить он любил всегда, Байкалов не преувеличивал, говоря о его «пристрастии к спиртному», но теперь это приобрело характер хронической болезни. В писательской среде близких знакомств у него не завелось, пил он в компании военных, с Курашовым в том числе, и с сотрудниками московского представительства ЯАССР. Строд платил за всех. Он в месяц получал больше, чем Пепеляев сумел скопить за год.
Его запои легко списать на то, что не выдержал испытания славой и деньгами, но причина была не только в этом. Еще раньше, снявшись с учета в одной партийной организации, к другой он не прикрепился, не платил членские взносы, не посещал собраний и фактически выбыл из партии, что было равносильно гражданской смерти. На просьбы жены как-то исправить это нетерпимое положение Строд отвечал: «Плевать мне на партию!»
В пьяном виде он предсказывал скорый конец советской власти, оппонентов в спорах ругал «сталинскими подхалимами», кричал, что «ГПУ – та же полиция», возмущался плохим снабжением рабочих и закрытыми столовыми для начальства, при этом допускал высказывания типа следующего: «Что только думает Сталин! Наверное, он снабжается лучше, чем рабочие массы».
Или еще грубее: «Сталин не ест, наверное, того, что мы едим».
Такого рода обывательские разговоры не представляли собой чего-то экстраординарного и могли остаться без последствий, если бы Строд, державший у себя дома именной револьвер, не грозился застрелить Сталина. Нина Ахизарова знала от сестры, что, напившись, он твердит об этом с маниакальным постоянством.
После Ахизаровых в ГПУ вызвали Клавдию Георгиевну. Она всячески выгораживала мужа, но на очной ставке с сестрой вынуждена была признать, что кое-какие из приписываемых ему высказываний – правда. Лишь намерение убить Сталина она отрицала, а слова Новомира объяснила богатой детской фантазией: «Мой сын считает отца самым великим человеком на свете, я допускаю, что он такие вещи говорил. Такие мысли об убийстве Сталина могли родиться в голове мальчика, преклоняющегося перед отцом».
Оснований для ареста Строда было уже более чем достаточно. Во времена «ксенофонтовщины» он взял Ахизарова к себе адъютантом, и теперь на правах очевидца тот показал, что приказ Буды об уничтожении «бандитов» не был выполнен из-за подозрительно дружеских отношений с ними Строда, а не потому, что отряд был якобы небоеспособен. Симпатию свояка к ксенофонтовцам Ахизаров, хотя никто его за язык не тянул, совсем уж опасно увязал с тем, что видел у него троцкистскую литературу, в частности «Платформу 83-х»[42].
1 ноября 1933 года Строда арестовали и посадили в одиночную камеру следственного изолятора ГПУ.
На допросе он сказал, что, может быть, во хмелю что-то такое и говорил, но ничего не помнит.
Ему указали, что свои пьяные речи он должен знать от жены. О чем он думал, когда она потом их пересказывала?
«Я думал, – ответил Строд, – она так говорит, чтобы отвадить меня от пьянства».
Отговорка не подействовала. Припертый к стенке показаниями родственников, он все-таки вынужден был рассказать о причине своих «антисоветских настроений»: «В 1932 году я проезжал из Москвы через Сибирь на поезде. Из окна вагона, если так можно выразиться, я видел на станциях попрошаек из крестьян, слышал недовольство крестьян, ехавших вместе со мной в поезде, и приходил к выводу, что партия и правительство обижают крестьянство».
Потом, уже в Москве, от разных людей он начал узнавать о голоде на Украине, где у крестьян подчистую выгребали все зерно, вынимали даже «готовый хлеб из печи».
Когда Вострецов как раз в то время прибыл в Новочеркасск, он должен был видеть и слышать то же самое. «Душевная болезнь», на подъеме карьеры приведшая его к самоубийству, и запои, которыми на вершине литературного успеха начал страдать Строд, имели общий исток – оба они тем острее ощущали стыд и вину за происходящее, что были обласканы властью.
«Все эти моменты, – говорил Строд, – я воспринимал довольно болезненно, они и явились причиной моих контрреволюционных высказываний… Я читал газеты и не находил в них ответов на мои вопросы».
Ему тяжело было выносить то, с чем уживались другие, менее совестливые или более толстокожие. «Отзывчивость» признавал за ним даже не любивший его Байкалов. То место из «В якутской тайге», где Строд слышит, как пули звякают о лежащие на баррикаде вокруг Сасыл-Сысы мерзлые тела, и представляет, что мертвецы сейчас закричат «Ой, больно мне! Больно!», рождено сердцем, а не заботой о том, чтобы усилить эффектность этой сцены.
Строд привык говорить на языке эпохи, а слово «сострадание» исчезало из ее словаря. Жертвы порожденного коллективизацией голода вызывали у него именно это чувство, но он предпочел объяснить свои «настроения» тревогой не о них, а о завоеваниях революции: «Я думал, что в случае войны крестьянство не пойдет защищать советскую власть, отсюда у меня возникала мысль о возможной ее гибели, в особенности на Украине. Я считал виновным в этом руководство ВКП(б) во главе со Сталиным».
Относительно «Платформы 83-х» он сказал, что, когда в 1928 году его дело разбиралось в Москве, в ЦКК, ему дал ее Карпель, учившийся в Военной академии. Строд прочел этот документ, но якобы ничего в нем не понял, так как вообще читает мало и не обладает нужными для осмысления таких сложных проблем знаниями. Помнит только, что там было «что-то про хлопок». Для автора двух книг это звучало не очень правдоподобно.
Понимая, что дело худо, Строд попросил разрешения написать Ягоде. Ему это позволили.
«Я издерган страшно, – начал он с оправданий своего нынешнего «плачевного» состояния. – Германский фронт – ранен в голову, в левое предплечье, контужен. Красная Армия с 1918 по 1928 год – ранен в щеку, в шею, в левое плечо, в правый бок, в грудь. Всего за две войны семь ранений, контузия, плюс больше года тюрьмы»[43].
Затем излагались выдвинутые против него обвинения: «связь с троцкистами», «антисоветские настроения» и «самое ужасное для меня – что я будто бы говорил, что убью т. Сталина».
Строд частично признал свою вину, свалив все на проклятое пьянство, не преминул назвать все свои титулы («почетный колхозник», «почетный забойщик» и пр.), дающие ему право на снисхождение, и напомнил о своей писательской известности: «Я написал две книги. Вторая, “В якутской тайге”, выдержала четыре издания, переведена на якутский, белорусский и английский языки. У меня намечено написать еще четыре книги: “Александровский централ”, “По следам минувших дней”, “Эпизоды” и “Кто автор?”».
Напоследок Строд обещал Ягоде: «Я брошу вино и снова займусь литературной работой, снова стану человеком и на всем моем тяжелом прошлом поставлю крест навсегда».
Письмо помогло. После трех месяцев заключения его освободили, но оставили под следствием. Дело не было закрыто. С тех пор он жил с чувством висящего над головой меча, который может опуститься в любую минуту.
Строд провел на свободе еще три года, пить бросил, но второе обещание не сдержал – ни одна из книг, перечисленных им в письме Ягоде, не была написана.
Материал для них он собирал в Томске, куда перевезли из Читы архив ликвидированной в 1922 году Дальневосточной республики. Как рассказывал сам Строд, им было просмотрено около тридцати тысяч «белогвардейских газет разных направлений», сделанные выписки составили «тысячу машинописных страниц». Результат этого труда он отправил Петру Крючкову, секретарю Горького, для затевавшейся тогда Алексеем Максимовичем многотомной «Истории Гражданской войны», а второй экземпляр оставил себе, но так им и не воспользовался.
Ничего, что могло бы его реабилитировать, Строд сочинить не сумел, если даже и пытался. Муза, водившая его пером, когда он писал «В якутской тайге», покинула его вместе с верой в справедливость нового строя и вдохновляющим сознанием собственной избранности. Какие-то рукописи конфисковали у него при следующем аресте, но поскольку на допросах они не фигурировали, и сам он никогда о них не упоминал, это, скорее всего, были черновики его прежних книг.
Через тридцать лет, делясь тем немногим, что осталось у него в памяти о рано погибшем отце, Новомир говорил о его страстной любви к рыбалке. Очевидно, эта страсть пробудилась в нем в последние годы жизни; раньше с его характером на такое занятие ему недостало бы ни терпения, ни времени. Вода успокаивала, одиночество давало ощущение свободы, а рыбацкий азарт – суррогат былых состояний души, отвлекал от тяжелых мыслей. Так Пепеляев когда-то, разочаровавшись в Белом движении, часами просиживал с удочкой на Сунгари.
Свобода
Некоторых пепеляевцев отправили в Соловецкий лагерь особого назначения, о чем Пепеляев случайно узнал из выходившего там и распространявшегося по всем тюрьмам страны журнала «СЛОН», кого-то – в губернские домзаки, а наиболее важных держали в Александровском изоляторе, до революции – каторжном централе с особенно мрачной славой. Среди них сразу составились две партии – «правые» и «левые», как называла их тюремная администрация. Одни остались непримиримы к советской власти, другие, пусть с оговорками, готовы были ее признать. У первых вождем был Михайловский, во многом испортивший отношения Пепеляева с якутами, вторые общепризнанного лидера не имели. Вражда партий дошла до того, что пришлось рассадить их членов по разным камерам, но скоро всем стало не до дискуссий. Выжить здесь оказалось труднее, чем на якутском морозе.
В 1926 году Кронье де Поль подал ходатайство о досрочном освобождении. Ему отказали, поскольку, как указывалось в аттестации, он «имеет характер скрытно-замкнутый, признаков исправления нет и таковому не поддается».
А в конце – корявая по форме, но верная по сути характеристика его мироощущения: «Твердо верит в свое прошлое».
К тому времени Кронье де Поль провел под арестом сорок три месяца (срок заключения исчисляли с 18 июня 1923 года, дня капитуляции Сибирской дружины в Аяне). Об условиях, в которых он содержался, свидетельствует приложенная к делу медицинская справка с перечнем его недугов: «Одержим незаживающим свищом бедренного сустава левой ноги, перфорацией барабанных перепонок обоих ушей, общей неврастенией и катаром желудка».
Зато сидевшему вместе с ним Малышеву посчастливилось выйти на свободу. Правда, ценой потери рассудка – врачи признали его психически больным.
В Перми, вскоре после взятия ее Средне-Сибирским корпусом Пепеляева, газета «Освобождение России» напечатала стихотворение Малышева «Цыганка»:
- Сквозь лохмотья светит солнце,
- Говор весел, быстр и дик,
- Словно звонкие червонцы
- Без конца кует язык…
Теперь его язык ковал бесконечные жалобы: он «высказывал бредовые идеи преследования», сутками отказывался от пищи, заявляя, что она отравлена, в больнице обвинял врачей, будто ему «впрыснули яд прогрессивного паралича и заразу бешенства».
Тюремной администрации надоело с ним возиться, и его передали на поруки приехавшей из Харбина жене, Алле Александровне. В те годы такое еще случалось.
Может быть, именно к ней Малышев обращался в другом своем пермском стихотворении: «Целуй меня, ты – женщина, я – воин. Я шел к тебе…» Если так, то через девять лет роли поменялись: она пришла к нему.
С Аллы Александровны взяли расписку, что предупреждена о болезни мужа и принимает всю ответственность за него, и она увезла его с собой. Куда – неизвестно.
Не известно также, что с ними случилось потом и действительно ли Малышев страдал психической болезнью или чрезвычайно искусно ее симулировал. К сожалению, первое вероятнее.
О женщине, которой Кронье де Поль «дал имя Мимка», в его деле сведений нет. О дальнейшей судьбе его самого – тоже[44].
Общий для шестидесяти шести пепеляевцев десятилетний срок заключения истек в июне 1933 года. Кого-то выпустили с поражением в правах, некоторым повезло выйти на свободу раньше, кто-то не дожил до освобождения, а многих оставили в тюрьме по другим обвинениям или как лиц, признанных «социально опасными». Пепеляев принадлежал к последним. По ходатайству коллегии ОГПУ президиум ВЦИК добавил ему еще три года.
Кажется, все, о чем он постоянно писал в дневнике – о «тоске небывалой», о тяге к самоубийству, о том, что «страсть, мечты, желания отошли куда-то» и предстоящая жизнь лежит перед ним как «унылая, длинная-длинная зимняя дорога», рождено было предчувствием его теперешнего существования. Пепеляев не мог надеяться, что эти три года – последние, но когда новый срок начал подходить к концу, его судьбой внезапно озаботился нарком внутренних дел Генрих Ягода.
В начале своего письма к Сталину он напомнил ему, кто такой генерал Пепеляев, хотя это было совершенно излишне. Сталин не мог его забыть – в 1919 году, после разгрома 3-й армии и падения Перми, он выезжал на Восточный фронт во главе комиссии ЦК по расследованию обстоятельств «Пермской катастрофы». В те дни имя Пепеляева звучало громче имени Колчака.
Далее Ягода писал: «Пепеляев к настоящему моменту пробыл в заключении 12 лет и 7 месяцев, содержась все время в условиях строгой изоляции (это преувеличение. – Л. Ю.) в Ярославской тюрьме особого назначения. Считал бы необходимым освободить и запретить ему проживать в столичных центрах, Западной и Восточной Сибири, а также в ДВК»[45].
О своих связанных с Пепеляевым планах Ягода не обмолвился даже намеком. Можно только предполагать, знал ли о них Сталин, но на письме осталась помета, сделанная его секретарем Поскребышевым: «Тов. Сталин – за».
В январе 1936 года до окончания срока Пепеляеву оставалось еще пять месяцев. Неожиданно, ничего ему не объясняя, его из Ярославля доставили в Москву, сутки продержали в одиночной камере Бутырской тюрьмы, а наутро перевели во внутреннюю тюрьму НКВД на Лубянке.
«Я считал себя погибшим», – признавался он. Ему известно было, что сюда привозят на расстрел.
Об этом эпизоде Пепеляев рассказал через два года, в другой тюрьме. Все, о чем сообщается в многостраничном протоколе его позднейшего допроса – бредовое, но по-своему логичное сплетение самооговора и правды, которая толковалась им в нужном следователям ключе, поэтому на первый взгляд кажется ложью. Он был сломлен и говорил то, что от него требовали, но даже самые, казалось бы, фантастические узоры расшивал все-таки по канве реальных событий. Эту реальность можно попытаться восстановить, если следовать за рассказом Пепеляева, опуская внесенные туда задним числом трактовки разговоров и встреч, а также ряд деталей, сочиненных в угоду следствию или добавленных теми, кто его вел, с целью угодить вышестоящему начальству.
Итак, в тот же день Пепеляева из внутренней тюрьмы НКВД привели в кабинет начальника Особого отдела, комиссара госбезопасности 2-го ранга Марка Гая (Штоклянда).
«Гай в кабинете был один, – рассказывал Пепеляев. – При моем входе в кабинет он встал со стула, крепко пожал мне руку, пригласил сесть в стоявшее у стола кресло, а затем, обращаясь ко мне, заговорил: “Вот вы сидите у нас уже тринадцатый год, а мы вас, собственно, не знаем. Я вызвал вас к себе узнать ваши взгляды и определить вашу дальнейшую судьбу”. Я не понимал, чего он от меня хочет, и сдержанно ответил ему, что мои взгляды излагались мной в заявлениях в ЦИК и прокурору[46]. Гай, улыбнувшись, сказал, что в личной беседе лучше рассмотрит и узнает меня».
Он стал расспрашивать об участии Пепеляева в Первой мировой войне, о наградах, после чего «доброжелательно» заметил: «Мы ценим боевых военных людей. Вас можно было бы использовать в армии, но вы, вероятно, технически отстали, многое забыли».
Гай поинтересовался, может ли Пепеляев вести занятия, скажем, по тактике. Тактика, наверное, первой пришла ему на ум в связи с давно мертвым Слащевым и курсами «Выстрел»[47].
Узнав, что Пепеляев «преподавал этот предмет» в 1916 году, в прифронтовой школе прапорщиков, Гай спросил, не хотелось бы ему повторить свой опыт в каком-нибудь военном училище.
«Меня это смутило», – вспоминал Пепеляев. Он не мог понять, насколько серьезно предложение Гая.
«Ну, а сами-то вы, – продолжал тот, – что собираетесь делать, выйдя на волю?»
Пепеляев ответил, что пошел бы на военную службу, если его примут, а «если нет – поступил бы в столярную мастерскую».
«Ну хорошо, – завершил Гай разговор, – мы посмотрим, что можно сделать с вами».
Пепеляева вернули в тюрьму НКВД. Гай обещал, что завтра они снова встретятся, но вызвали его только через месяц. На этот раз с ним беседовал помощник Гая, капитан Кононович, сказавший, что он будет освобожден точно в срок, 18 июня. Затем его отправили обратно в Ярославль, но ни в названный день, ни в последующие две недели ничего не произошло. Он уже начал терять надежду, как вдруг 4 июля начальник изолятора объявил ему об освобождении и на случай проверки документов выдал удостоверение личности сроком всего на один день. С полуночи оно становилось недействительным. До этого часа Пепеляев обязан был прибыть в Москву, явиться к агенту транспортного отдела НКВД на вокзале и заявить о себе.
Так он и сделал. Агент по телефону доложил о нем начальству, за ним прислали автомобиль, привезли на Лубянку и доставили в кабинет Гая. Сидевший там старый знакомый, Кононович, предложил ему выбрать для жительства какой-нибудь из областных центров за вычетом Москвы, Ленинграда и тех территорий, о которых Ягода писал Сталину.
Пепеляев выбрал Воронеж.
Почему именно его, он не объяснял, но, видимо, сыграло роль то обстоятельство, что в годы Гражданской войны это была зона действий не колчаковских, а деникинских войск, здесь имя Пепеляева мало кто знал. По той же причине отпадали Пермь и Свердловск, хотя они лежали за пределами запретной для него Сибири. Может быть, в Воронеже жили родственники кого-то из его тюремных друзей, он рассчитывал на их помощь при поисках жилья и устройстве на работу; сочетание этих двух факторов могло заставить его отмести такие варианты, как более близкая к столице Тула или более теплые Ростов и Краснодар. Впрочем, нельзя исключить, что Кононович и Гай по своим соображениям рекомендовали ему относительно недальний Воронеж, и это был не тот совет, который можно игнорировать.
Когда место жительства было определено, происходит событие, самое, казалось бы, невероятное в этой и без того странной истории, но, если вдуматься, не только возможное, а почти наверняка реальное. Люди оставались людьми даже на высших постах в НКВД, и ничто человеческое не было им чуждо.
В разговоре Пепеляева с Кононовичем и подошедшим чуть позже Гаем случайно выяснилось, что белый генерал, в 1919 году ближе всех других колчаковских военачальников подошедший к Москве, сам ни разу в ней не бывал. Юнкером Павловского училища он лишь проезжал через нее по дороге из Петербурга в Томск и обратно, как и по пути из Сибири на фронт в 1914 году, а после Брестского мира – с фронта.
Вне зависимости от конкретной цели, которую преследовало НКВД, выпуская Пепеляева на свободу, Гаю захотелось поразить его обликом современной социалистической Москвы в блеске солнечного июльского дня. Это было тщеславное, не без примеси злорадства и все же естественное желание похвалиться своими сокровищами перед тем, кто тоже имел шанс ими обладать, но упустил его из-за собственной глупости. Гай вызвал машину с шофером, приставил к Пепеляеву какого-то «сержанта», крымского татарина по национальности (такие детали убеждают в правдивости рассказа), и тот прокатил его по центральным улицам, показал Кремль и метро.
Вечером, в сопровождении того же сержанта, с тысячей рублей в кармане, выданных ему по распоряжению Ягоды, Пепеляев отбыл на поезде в Воронеж. Смутные подозрения, что все с ним случившееся слишком уж фантастично, чтобы за этим совсем ничего не стояло, его, наверное, тревожили, он был все-таки не настолько наивен, но не могло не быть и радости, что прошлое забыто, ему верят, его готовность служить России в лице СССР наконец-то оценена. Он, в общем-то, не кривил душой, когда писал об этом во ВЦИК, Калинину, добиваясь смягчения приговора. По словам Всеволода Анатольевича, в письмах отца к матери имелись приписки для него и для брата Лавра – в них Пепеляев просил сыновей не вступать ни в какие эмигрантские организации. Писалось это не только в расчете на тех, кто будет читать его письма, прежде чем они попадут в Харбин.
Выданные Ягодой подъемные и то, что в Воронеже его поселили в лучшей городской гостинице «Бристоль», в шикарном номере, постоянно резервируемом для НКВД, Пепеляев, конечно, воспринимал как знаки особого к нему отношения. Не известно, какие мысли были у него на этот счет, но после тринадцатилетнего заключения он не мог не наслаждаться тем, что спит в чистой постели, волен гулять по городу, с деньгами в кармане заходить в магазины. Огромную радость должно было приносить ему посещение единственной действовавшей тогда в Воронеже церкви Николая Чудотворца, если только он не избегал там бывать из желания солидаризироваться с властью во всем вплоть до ее антирелигиозной политики.
В то время в Воронеже жил ссыльный Мандельштам, но вряд ли они что-то слышали друг о друге. Между тем судьба вела их по схожему маршруту, только с разных концов: у одного Вторая Речка была позади, у второго – впереди.
Пепеляева выпустили не просто так, виды на него у Ягоды были вполне определенные, но исполнить задуманное он не успел – через два месяца Сталин снял его с должности, заменив Ежовым. В наступившей кадровой чехарде органам стало не до Пепеляева, из «Бристоля» его выселили, и он оказался предоставлен самому себе. Произошло чудо: ему выпало немыслимое для человека с его прошлым счастье пусть весьма условной, но все же свободы и даже такая роскошь, как возможность строить планы на будущее.
Столяров в Воронеже хватало, да и квалификация у него была, видимо, скромная. На первых порах он работал грузчиком, как в Харбине после ссоры с Семеновым и отъезда из Забайкалья, а осенью с помощью НКВД устроился помощником начальника конного парка в «Воронежторг», принимал заявки на товары и выписывал наряды возчикам.
Подыскав квартиру, он написал жене, что ждет ее и сыновей к себе в Воронеж. Нина Ивановна жила одна, надежда когда-нибудь снова быть вместе при всей ее эфемерности не могла не присутствовать в их переписке, и Пепеляев, считая приезд семьи делом решенным, начал копить деньги на предстоящие расходы.
Часть полученной от Ягоды тысячи рублей он потратил, пока искал работу, потом пришлось платить за съемное жилье, покупать зимнюю одежду. К следующему лету в его копилке наберется немного больше той суммы, которую ему за год перед тем выдали на Лубянке, но в тогдашнем СССР это средняя зарплата за три-четыре месяца, немалые для него деньги.
«Отец не допускал и мысли, что мы не приедем», – вспоминал Всеволод Анатольевич, но все оказалось не так просто.
По соглашению, заключенному между СССР и Китаем в 1926 году, на КВЖД могли служить или советские, или китайские подданные. Нину Ивановну уволили вместе с другими эмигрантами. Ее поддерживали сестры Пепеляева, потом, окончив Коммерческое училище, кормильцем семьи стал старший сын. К двадцати трем годам, когда отец позвал их к себе, он успел поработать матросом в городском яхт-клубе на Сунгари, бухгалтером, инкассатором в страховой компании, сельскохояйственным рабочим и вольным ловцом форели, которую они с братом сбывали в магазины и рестораны.
Жили трудно. Маньчжурия недавно была оккупирована японцами, перспектив – никаких. Главный кормилец решил, что нужно ехать. Так, во всяком случае, утверждал он сам.
Для разрешения на въезд таким, как они, требовалось получить советское гражданство. Следовало явиться в консульство и подать заявление, но тут от добрых людей узнали, что японцы берут на учет, а нередко и арестовывают всякого, кто туда заходит. «Здравый смысл подсказал: ехать нельзя, опасно», – объяснял Всеволод Анатольевич, почему его желание не исполнилось, но сам же говорил, что как раз тогда, осенью 1936 года, впервые нашел хорошую работу в «магазине автозапчастей» в Цицикаре. Удача могла охладить его решимость ехать к отцу, а японская опасность стала последней гирькой на колеблющихся чашах весов. Не исключено, что после этого Нина Ивановна вздохнула с облегчением.
По сравнению с их разлуками до приезда Пепеляева в Харбин эта тянулась куда дольше, и если даже тогда после расставаний ей нелегко было находить с мужем общий язык, то сейчас у нее не могло не быть сомнений, что такое вообще возможно. Нина Ивановна была не в том возрасте, чтобы уповать на любовь, которая воссоединит их поверх всех барьеров. За четырнадцать лет она не стала красивее, молодость ушла, взаимное разочарование грозило оказаться сильнее былой привязанности, а груз раздельно прожитой жизни должен был тянуть каждого в свою сторону. Выросшие без отца дети – не самый прочный цементирующий материал для возобновленного брака.
К тому же из эмигрантской печати Нина Ивановна знала о жизни в СССР много такого, о чем не подозревал ее недавно еще оторванный от внешнего мира муж, и побаивалась к нему ехать. В Воронеже у нее не было никого, а в Харбине жили свекровь, золовки с мужьями и какая-то ее собственная верхнеудинская родня.
В любом случае, написала ли она мужу о принятом решении или тянула время в надежде, что он догадается сам, Нина Ивановна могла бы повторить те слова, которые когда-то, в Нелькане, Пепеляев прочел в ее привезенном Вишневским письме и процитировал в своем, ответном: «Прости меня за все».
Он прожил на свободе больше года. За ним велась слежка, в НКВД все о нем знали, но никаких известий о том, что за эти тринадцать с половиной месяцев у него появилась какая-то женщина, в его втором следственном деле нет.
Пепеляев не терял надежды, что Нина Ивановна передумает и приедет, поэтому продолжал экономить. Накопленные им за год 1195 рублей конфискуют при аресте.
Конец пути
О последних годах жизни Строда есть два свидетельства. Первое принадлежит Новомиру, тогда мальчику. В 1962 году он посетил родину отца, Лудзу, выступал по местному радио и упомянул о присущей отцу скромности. В доказательство приводился тот факт, что Строд, приходя в ближайшую к их дому парикмахерскую возле Красных ворот, стригся в общем порядке, хотя кавалеров ордена Красного Знамени обслуживали без очереди.
Второе воспоминание о нем оставил некто Срулевич, вставивший в свою неблагозвучную фамилию букву «т» между «с» и «р» и ставший Струлевичем. Он знал Строда с 1918 года, потом встречался с ним в Якутии, где служил в ГПУ. Уволившись «по болезни», Струлевич жил в Кисловодске, но чем он там занимался, из его уклончивых мемуаров понять сложно. Еще менее понятно, почему, не видевшись со Стродом много лет, в 1936 году он разыскал его адрес и послал ему приглашение отдохнуть на водах – скорее всего, просто хотел повысить свои акции дружбой с известным человеком, писателем. Слава Строда, как и других героев Гражданской войны, быстро увядала, но до провинции эти веяния еще не дошли.
Строд с радостью откликнулся и приехал. Струлевич, употребив свои связи, определил друга в санаторий «Горняк», но «не в натуре Строда было почивать у тихой пристани, соблюдать санаторный режим». Он, пишет Струлевич, «ушел из санатория и гостил месяца полтора у нас в семье».
Расшифровать это иносказание нетрудно: без жены Строд снова запил и был изгнан из санатория. В Москве уже вовсю шли аресты, и, предчувствуя, что скоро настанет его черед, возвращаться туда он не хотел, иначе не околачивался бы полтора месяца у полузабытого приятеля.
Должно быть, настроение у него было неважное. Чтобы его развлечь, а заодно отвлечь от бутылки, Струлевич предложил гостю выступить в клубе санатория имени Серго Орджоникидзе. Видимо, в «Горняке» Строд оставил по себе такую память, что ему лучше было там не показываться.
Упрашивать его не пришлось, он с удовольствием выступил перед отдыхающими «с рассказом об участии в Гражданской войне» и при следующем заезде не отказался повторить этот номер с другой публикой. В надежде удержаться на плаву Строд цеплялся за свои поросшие быльем подвиги, не понимая, что играет роль в снятой из репертуара пьесе и как ее персонаж тоже должен сойти со сцены.
Арестовали его в феврале 1937 года, вскоре после возвращения из Кисловодска. Строд был обвинен в троцкизме и в «террористических намерениях против руководства ВКП(б)», причем он якобы вынашивал их уже не в одиночку, как раньше, когда грозился убить Сталина, а в качестве активного члена «повстанческо-террористической организации красных партизан». Основанием для обвинения стала его подпись под письмом, которое в 1929 году, во время конфликта на КВЖД, направила в Москву, Ворошилову, группа ветеранов партизанского движения в Сибири – они предлагали создать из бывших партизан отдельную дивизию для помощи Красной Армии в борьбе с «белокитайцами», но, по версии следствия, подлинной целью формирования такой дивизии было свержение советской власти на Дальнем Востоке.
Все допросы проходили по одному сценарию, напоминающему методику сеанса у психоаналитика: для подтверждения того или иного обвинения брался реальный факт из жизни Строда, а затем под его видимой, заурядно-житейской, но якобы иллюзорной поверхностью вскрывалось кишащее чудовищами второе дно.
Вот один из таких диалогов.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: «В 1928 году вы давали Карпелю в Москве деньги на троцкистскую работу?»
СТРОД: «Нет, не давал».
СЛЕДОВАТЕЛЬ: «Неправда. Нам известно, что при второй встрече вы дали ему десять рублей для троцкистской организации».
СТРОД: «Я дал их Карпелю не для троцкистской организации, а для него лично».
СЛЕДОВАТЕЛЬ: «Это ложь. Карпель показал, что деньги вы дали ему для троцкистской работы».
Зачитывается выбитое, очевидно, из Карпеля соответствующее признание.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: «Вы и после этого будете запираться?»
СТРОД: «Я не запираюсь и повторяю, что деньги дал лично Карпелю».
В таком духе продолжалось еще долго, тем не менее в протоколе допроса эти десять рублей так и остались всего лишь одолженной старому другу десяткой.
Трудно судить, применялись ли к нему «физические методы воздействия», но как бы то ни было Строд отверг все выдвинутые против него обвинения и, что бывало в редчайших случаях, стоял на этом до конца. Судимый «тройкой», он ни в чем не признал себя виновным, при чтении приговора перебивал председательствующего, называя его слова «ложью» или «гнусной ложью», и был казнен в тот же день, 19 августа 1937 года.
После первого ареста Строд сознавал свою обреченность, хотя старался об этом не думать, но Пепеляев, похоже, верил, что худшее для него – позади. Через год после освобождения он сдал вступительные экзамены в Воронежский пединститут и в сорок шесть лет был зачислен на заочное отделение истфака. Ему хотелось быть школьным учителем истории. При подготовке к экзаменам он не мог не понять, что история в СССР – наука партийная, и желание пустить именно такие корни в новой жизни надежнее всего свидетельствует о его смирении. Однако выданная студенту Пепеляеву зачетная книжка так и осталась чистой: когда через два дня после расстрела Строда он был арестован, учебный год еще не начался.
Из Воронежа его отправили в Новосибирск. Там он узнал, что, оказывается, еще с тюремных времен стоит во главе «белогвардейской эсеро-монархической организации», готовившей вооруженное свержение советской власти в Сибири и передачу ее под протекторат Японии. Через пятнадцать лет Пепеляеву аукнулся эфемерный проект Сазонова создать прояпонскую Сибирскую республику.
Неизвестно, что пришлось ему вынести на допросах, но важнейшие «признательные показания» он дал только 9 декабря 1937 года. Из них можно заключить, что идея, воплощенная в жизнь начальником УНКВД по Новосибирской области Горбачом, принадлежала Ягоде. Почти два года назад он самостоятельно или с одобрения Сталина задумал сфабриковать дело об очередном «заговоре», чтобы под этой маркой ликвидировать оставшихся после Гражданской войны в СССР офицеров белых армий заодно с близкими им по духу другими «вредными элементами», на чью лояльность нельзя было положиться в случае войны с Японией. Такого рода массовые зачистки скоро станут заурядной социально-гигиенической процедурой, но эта, одна из первых, если не первая, рассматривалась как экспериментальная и предполагала сложные прово-кативные ходы, которые потом сочтут излишними.
Тогда же, вероятно, у Ягоды возникла мысль сделать Пепеляева главным фигурантом будущего процесса. Он идеально подходил на это амплуа, если бы не сидел в тюрьме. Утверждать, будто из заключения ему удалось создать на воле разветвленную подпольную организацию, было бы странно, тем более что Ярославский изолятор находился в ведении НКВД (Ежова и Горбача подобные несуразности уже не смущали), поэтому его выпустили и поселили или позволили поселиться в Воронеже. Не имело значения, в каком из соседних с Москвой областных центров он будет жить, но, кроме обычного запрета на проживание в столицах, из доступных для него мест обитания исключались Сибирь и Дальний Восток. В тех краях скрыться из-под надзора ему было проще, а использовать его там – сложнее.
В задуманной провокации Пепеляеву отводилась не только пассивная роль. Трудно сказать, понимал ли он, что потребуется от него в обмен на свободу, или всего лишь догадывался об этом, или тешил себя какими-то иллюзиями насчет причин своего освобождения, но в любом случае операция не состоялась, и Пепеляева на год оставили в покое. К моменту его ареста Гай был расстрелян, а Ягода сидел в тюрьме в ожидании показательного суда. Те, кто занял их кабинеты, не отказались от инициативы предшественников и «раскрыли» запланированный ими заговор, однако повернули дело так, что Ягода и Гай сами оказались в числе главных заговорщиков.
Якобы они, узнав о секретной деятельности Пепеляева в тюрьме, решили его поддержать, поскольку стремились к тому же, что и он – путем военного переворота захватить власть и реставрировать «буржуазный строй». Не случайно на процессе «троцкистско-зиновьевского блока» в 1938 году Ягода отрицал обвинение в шпионаже, но участие в подполье – признавал. Улики для режиссеров этого спектакля Горбач и добывал в Новосибирске.
Пепеляев мог подписать готовый протокол допроса, но мог и сам приспособить свои показания к требованиям следователей. Чтобы все выглядело сколько-нибудь правдоподобно, пришлось проявить немало изобретательности, зато наградой была возможность без мучений прожить последние недели перед смертью.
Он рассказал, что когда в 1925 году ему разрешили переписку, стали приходить письма от Цевловского, Михайловского, еще кого-то из старых товарищей. Некоторые, освободившись, установили контакт с Вишневским, вновь ставшим главой харбинского отделения РОВСа, и связали его с Пепеляевым. Вишневский, скажем, писал Михайловскому: «Привет Толе» (Пепеляеву. – Л. Ю.), а тот в свою очередь передавал Пепеляеву: «Кондратьич (Вишневский. – Л. Ю.) шлет привет, желает успеха».
Что-то такое, может быть, и бывало, но в дальнейшее поверить невозможно. Пепеляев будто бы завербовал одного инженера, который курировал работы в тюремной столярной мастерской от ярославской фабрики «Красный древообработчик», через него Вишневский прислал Пепеляеву инструкцию, как создать на воле конспиративную организацию «по системе троек и пятерок», и он, находясь в заключении, подготовил «диверсионные кадры» для покушений на ответственных работников, «разрушения центров связи, мостов, радиостанций и, в случае нужды, электростанций». Под руководством вооруженного рубанком Пепеляева численность организации достигла «нескольких тысяч членов», ее сетью были охвачены Кузбасс, Алтай, Новосибирск, Нарымский округ.
Наконец дело дошло до его покровителей.
«В 1936 году, – заявил Пепеляев, – мне сделалось понятно, что некоторые руководящие работники НКВД особенно заботятся о моем благополучии».
На вопрос, кто же это был, он назвал Ягоду и Гая, рассказал о лубянских чудесах, об устроенной для него автомобильной прогулке по Москве, но якобы и тогда, при виде Кремля, его мысли текли строго в русле владевшей им главной идеи: «Вот она, Москва! – думал я, смотря в окно машины. В эти минуты (понимая, что Ягода и Гай с ним заодно. – Л. Ю.) реальной близкой действительностью казалась мне моя заветная мечта – во главе полков триумфальным маршем вступить в столицу русской земли».
Как выяснилось, участником заговора являлся и замначальника воронежского УНКВД Эстрин, выполнявший задания Ягоды и Гая. Даже письмо жене, в котором Пепеляев звал ее к себе, было будто бы написано по его указанию. Цель – через Нину Ивановну открыть дополнительный канал связи с Вишневским.
Эстрин был уже арестован, а чтобы снять подозрение с его оставшиеся на своих постах коллег, не разглядевших у себя под боком вождя столь грандиозного подполья, Пепеляев, видимо, с подсказки следователей сообщил, что однажды ночью, предварительно постучав условным стуком в окно, к нему домой явился незнакомец «в солидном черном костюме гражданского покроя» и передал устный приказ Вишневского: «прекратить всякие связи с членами организации», дабы уберечь ее руководителя «от провала до момента вооруженного выступления Японии против СССР».
Показания Пепеляева были настолько важны, что уже на следующий день Горбач под грифом «совершенно секретно» изложил их содержание в телеграмме Ежову, а тот еще через сутки направил копию Сталину.
Судя по всему, Ягода планировал провести открытый судебный процесс Пепеляева и его «сообщников», но Сталин отказался от этой затеи, не желая, видимо, реанимировать память о Гражданской войне и отвлекать внимание масс от готовившегося как раз в те месяцы более актуального процесса «троцкистов» и «зиновьевцев». Люди, которые и так-то вели призрачное существование, должны были исчезнуть, не выходя из тени.
Число арестованных по сибирскому «делу РОВСа» перевалило за пятнадцать тысяч. Пепеляев, претендовавший только на то, чтобы стать школьным учителем, опять очутился во главе армии, правда на этот раз – фантомной. Ее солдаты и офицеры не знали, что вновь собрались под бело-зеленым знаменем, но в своем последнем походе их командующий потерял едва ли не больше бойцов, чем за все сражения Гражданской войны, и погиб сам.
Второй вынесенный ему смертный приговор был приведен в исполнение 14 января 1938 года в Новосибирске.
Там же и в один день с ним казнили многих осужденных по его делу, среди них – брата Михаила, некогда пригретого Стродом в томском Доме Красной армии.
Есть мнение, что не все в признаниях Пепеляева – ложь, и в момент будто бы готовившегося верхушкой ОГПУ дворцового переворота, целью которого было устранение Сталина, ему как боевому генералу предстояло возглавить ударную группу неопытых в военном деле заговорщиков, но это не более чем фантазия. Чтобы убедиться, насколько далека она от реалий воронежской жизни Пепеляева, достаточно прочесть список изъятых у него при аресте вещей и документов:
«1. Временное удостоверение № 4238.
2. Профбилет союза шоферов № 198165.
3. Зачетная книжка студента-заочника пединститута.
4. Пропуск на вход в контору Воронежторга.
5. Облигации займа Второй пятилетки на сумму сорок (40) рублей.
6. Деньги совзнаками на сумму тысяча сто девяносто пять (1195) рублей.
7. Часы карманные металлические.
8. Крест золотой».
К последнему пункту учетчики финотдела НКВД, куда передавали изъятые у арестованных ценности, добавили упущенную по недосмотру важную деталь: «С серебряной цепочкой».
После жизни
В августе 1996 года я вернулся из Новосибирска, где читал первое следственное дело Пепеляева, а в сентябре в Москву прилетел Майкл Джексон. Перед его единственным концертом в Лужниках к нему явился генерал-майор Александр Коржаков, начальник службы безопасности президента Ельцина, и преподнес ему в дар русскую офицерскую шашку времен Первой мировой войны с надписью «За храбрость» и знаком ордена Святой Анны на рукояти.
Чтобы повысить ценность подарка стоимостью «всего в 900 долларов» (для дарителя сумма ничтожная, но для простого человека в то время – громадная), Коржаков, как он пишет, сказал Джексону, что эта случайно доставшаяся ему «сабелька» – оружие его деда. Растроганный Джексон принял семейную реликвию «дрожащими руками», однако на следующий день ее отобрали у него в аэропорту, на таможне[48].
Коржаков уверяет, что это было сделано по личному указанию Чубайса, но тот отрицал свое вмешательство.
Через год Всеволод Анатольевич написал мне: «Это шашка моего отца». О том же сказал и единственный внук Пепеляева, Виктор Лаврович, когда я с ним встретился в Москве и поразился его сходству с дедом.
Основания так думать у них были.
В 1915 году Пепеляева наградили подобной шашкой, и если бы, отплывая в Якутию, он оставил ее в Харбине, Всеволод Анатольевич с детства бы о ней знал, а он не помнил, чтобы дома у них была отцовская шашка.
В походе на Якутск с ней нечего было делать. Последний раз Пепеляев мог надеть ее в Аяне, когда наутро после высадки проводил смотр дружины, там она, значит, и осталась. Вострецов с другими трофеями должен был привезти ее во Владивосток, оттуда она попала в Читу и с тех пор будто бы хранилась в музее ЗабВО, а в газетах сообщалось, что в середине 1990-х, во время визита Коржакова в Читу, командующий округом подарил ему какую-то старинную офицерскую шашку. Всеволод Анатольевич думал, что это она и есть.
Я тоже долго так считал, пока не увидел фотографию, на которой Коржаков, держа шашку эфесом вверх, демонстрирует свой подарок благоговейно взирающему на него Джексону.
На фотографии молодого Пепеляева с шашкой на боку форма эфеса у нее совсем другая.
Всеволод Анатольевич после войны перебрался из Харбина в Читу, где его и арестовали. Он сидел на Колыме, после освобождения подался в теплые края, в Гагру, а во время грузино-абхазской войны, бросив дом, сад и могилу матери, которая последние годы прожила с ним, уехал к родственникам жены в Черкесск. Мы переписывались почти до самой его смерти в 2002 году.
Двумя годами раньше, зимой, умер мой отчим Абрам Давидович, усыновивший меня и заменивший мне отца, – утром вышел погулять с собакой и упал. Когда к нему подбежала увидевшая это соседка, он был уже мертв.
Всю жизнь он проработал на Мотовилихинском пушечном заводе в Перми, был начальником ствольного цеха, потом занимался ракетами, а в старости, жалея истребляемых китов, переживал, что когда-то делал гарпунные пушки для китобойной флотилии «Слава».
Его смерть была смертью праведника – мгновенной. Я понял это, заметив у него, лежавшего на снегу, перчатки на обеих руках. Тяжелый сердечник, он всегда носил в кармане лекарство, но не успел снять перчатку, чтобы сунуть руку в карман.
Через какое-то время, оправдываясь за долгое молчание, я написал о его смерти Всеволоду Анатольевичу.
«Вечером, – посоветовал он мне в ответном письме, – встаньте один в темной комнате и скажите вслух: да будет воля Твоя. Увидите, вам станет легче».
Я знал, первые годы в Ярославском политизоляторе Пепеляев отказывался от газет и даже от книг, читал лишь оставленное ему после суда Евангелие, и возникло чувство, что совет Всеволода Анатольевича – это совет его отца.
Лавр Анатольевич после лагеря осел в Ташкенте, умер в 1991 году. Его сын и внуки живут в Москве. У Всеволода Анатольевича детей не было.
Мать Пепеляева, полная тезка жены Строда, умерла в Харбине в 1938 году.
Нина Ивановна вернулась в СССР вместе с сыновьями, но не была арестована. Не тронули и ее золовок. Старшая, Вера, уехала с мужем на Украину, там ее следы затерялись; Екатерина была актрисой драмтеатра в Чите, потом – в Якутске, куда так и не сумел дойти ее брат. Из пятерых братьев Пепеляевых дольше всех оставался на свободе Аркадий Николаевич, известный в Омске врач-отоларинголог, но во время войны взяли и его, он умер в тюрьме.
Жена Строда, Клавдия Георгиевна, после ареста мужа уехала с сыном из Москвы и до конца жизни работала врачом в Вышнем Волочке. Новомир, как и она, окончил мединститут, позднее поселился в Якутске, где его фамилия открывала многие двери, защитил диссертацию, был научным сотрудником в Институте туберкулеза[49]. Бывая в театре, он мог видеть на сцене сестру Пепеляева, но не знал, что это она. Екатерина Николаевна носила фамилию мужа. Вряд ли у нее возникло желание поглядеть на Сасыл-Сысы, но Новомир Иванович не раз туда ездил, осматривал «продырявленную в тысяче мест» юрту Карманова и говорил, что не в силах понять, каким образом отец восемнадцать дней продержался на этом простреливаемом с трех сторон пятачке под холмами.
Кропачев тоже обосновался в Якутске. Писателем он не стал, но регулярно печатал в газетах воспоминания о Сасыл-Сысы, под старость почти дословно пересказывая книгу своего командира, вытянувшую из него собственную память о тех днях. В 1962 году, когда отмечалось сорокалетие ЯАССР, Кропачев опубликовал в «Красной звезде» очередную статью о «ледовой осаде». Прозрачно намекая на самого себя, он писал, что по случаю юбилея хорошо бы дать какие-нибудь правительственные награды еще живым участникам героической обороны, но его призыв не был услышан.
Карпель после Военной академии дослужился до командира полка. В 1937 году его расстреляли.
Курашов военным пенсионером жил в Москве, где и умер вскоре после войны.
Матвей Байкалов, юношей приехавший с отцом в Якутск, окончил Оренбургское летное училище, воевал, стал летчиком-испытателем и в 1949 году разбился во время демонстрационного полета на вертолете Ми-1.
Его отец до ареста в 1936 году успел побывать секретарем Якутского обкома ВКП (б), членом Комитета по делам Севера в Москве и Хабаровске, управляющим «Якутлестрестом», председателем трибунала Внутренней охраны ЯАССР. Отсидев пять лет в лагере, свои последние годы он провел с женой в Мегино-Кангаласском районе, в селе Нижний Бестях между Амгой и Чурапчой, работал счетоводом в леспромхозе, писал оставшиеся в рукописи воспоминания и статьи с рекомендациями по решению насущных местных проблем – «О борьбе с комаром», «О реконструкции курорта Абалах», но районная газета печатать их не хотела, они так и остались в рукописи. Сына он пережил на год. В середине 1960-х в Нижнем Бестяхе установили его бюст, а в Монголии, возле озера Тулбо-Нур, где в 1921 году, в монастыре Сарылгун, Байкалов с отрядом красноармейцев и «красных монголов» стойко держался против генерала Бакича и атамана Кайгородова, дряхлеет под степными ветрами его громадная, без туловища, бетонная голова на постепенно ветшающем монументе в честь монголо-советского боевого братства.
Вишневский в возрасте семидесяти лет был арестован в 1945 году, когда в Харбин вошла Советская армия. В биографических статьях о нем, там, где за прочерком после даты рождения должна стоять дата смерти, стоит вопросительный знак.
Соболев, герой стихотворения Пепеляева «Начполитотдел», избежал суда, но где и как он окончил свои дни, я не знаю. Как не знаю о судьбе стихотворца Сейфулина, «наездника» Цевловского, «сурового воина» Рейнгардта, других пепеляевцев. Мне лишь известно, что некоторые из них, в том числе Шнапперман и соавтор Строда, Нудатов, после освобождения живший в Саратове, были расстреляны по одному делу с их бывшим командующим.
Настенные росписи, сделанные Михаилом Пепеляевым в томском Доме Красной армии, не сохранились.
«Печальным героем контрреволюции» назвал Пепеляева один из его харбинских обличителей, имея в виду, что он так и не пристал ни к одному берегу, поэтому плохо кончил, но определение, какой бы смысл ни вкладывал в него автор, на редкость точное. После всего, что я узнал о моем герое, у меня связывается с ним не раздвоенность души, не растерянность, не уныние неудачника, а именно странная для человека с такой биографией печаль – она мягко окутывает его удаляющийся во времени облик.
«Господи, – просил он в дневнике, – всех, всех погибших, убитых в дни смуты, прости, упокой в вечном царствии Твоем, ибо не ведали, что творили мы, люди».
На кладбище в Томске ему поставлен надгробный памятник. Он стоит рядом с новым надгробием над могилой его отца, но это – кенотаф, останков «мужицого генерала» под ним нет.
Прах Строда, если он там вообще есть, рассеян в братской могиле № 1 на Донском некрополе в Москве, в земле, смешанной с пеплом тех, кого после расстрела сожгли в здешнем крематории.
В начале 1960-х именем Строда назвали улицы в Якутске и других городах, в Сасыл-Сысы открылся музей с его бюстом, лесовоз «Иван Строд» с портом приписки в Магадане заменил ходивший раньше по Лене колесный пароход с тем же названием, сначала переименованный, а потом сданный в металлолом. В Лудзе, на доме, где родился Строд, повесили мемориальную доску с надписью на латышском и на русском, и в апреле 1984 года на улице перед ним провели посвященную 90-летию со дня рождения героя-земляка пионерскую линейку. Ее отпечатанный на машинке сценарий мне дала хранительница фондов городского музея по имени Ивета.
Если в тот день мероприятие прошло, как задумывалось, дети декламировали отрывок из поэмы Виссариона Саянова, написанной в то счастливое для Строда время, когда после выхода «В якутской тайге» его имя гремело по стране: это монолог красноармейца, провидящего свою гибель в Сасыл-Сысы, но готового послужить трудовому народу и в виде трупа:
- Мы в битвах несгибаемыми были,
- И после смерти я хотел бы так,
- Чтоб телом моим бруствер укрепили,
- И чтоб над ним взвивался красный флаг.
- Пусть я убит, но отступить смогу ли?
- Прошу на крепость положить меня.
- И даже мертвый вражеские пули
- Остановлю я сердцем, как броня.
Одноэтажный домик, перед которым звучали эти оловянные стихи, теперь обшит сайдингом, на крыше – финская черепица, в огороде – компания садовых гномов. Мемориальной доски нет. Ивета сказала, что хозяин снял ее на время ремонта, но не стал возвращать на место, она хранится у него в гараже.
Мне трудно объяснить, для чего я написал эту книгу.
То, что двигало мной, когда почти двадцать лет назад я начал собирать материал для нее, давно утратило смысл, и даже вспоминать об этом неловко.
Взамен могу привести еще одну цитату из Метерлинка, которую Кронье де Поль в сентябре 1922 года, на борту «Защитника», по пути из Владивостока в Аян выписал в свою книжечку, как если бы думал при этом о Пепеляеве и Строде:
«Мы знаем, что во вселенной плавают миры, ограниченные временем и пространством. Они распадаются и умирают, но в этих равнодушных мирах, не имеющих цели ни в своем существовании, ни в гибели, некоторые их части одержимы такой страстностью, что кажется, своим движением и смертью преследуют какую-то цель».
Библиография
Документы
Материалы следственного дела А. Н. Пепеляева и др. (1923–1927). – Архив УФСБ РФ по Новосибирской области, д. 13069, т. 1–9.
Следственное дело А. Н. Пепеляева (1937–1938). – Архив УФСБ РФ по Новосибирской области, д. 17137.
Следственное дело И. Я. Строда. – Центральный архив ФСБ РФ, д. Р-8140, т. 1 (1937), т. 2 (1928), т. 3 (1933–1934).
Фонд Музея краеведения в Лудзе (Латвия), ед. хран. 104–105.
Борьба за установление и упрочение Советской власти в Якутии.
Часть II. Книга 2. Разгром пепеляевской авантюры (сборник документов и материалов). Якутск, 1962.
Якутское повстанчество. Август 1921 – 1 октября 1922; Тунгусское повстанчество. Май 1924 – 31 мая 1925. Документы. – Илин, 1998, № 1.
Источники и литература
Алексеев Е. Кто вы, Артемьев? – Илин, 1991, № 3.
Артемьев И. К. Эпизоды революции на Дальнем Востоке. Б.м., б.г. Байкалов К. К. Воспоминания. Якутск, 1966.
Вишневский Е. К. Аргонавты Белой мечты. Харбин, 1933.
Грачев Г. П. Якутский поход генерала Пепеляева (под редакцией и с примечаниями П. К. Конкина). – Илин, 2006, № 5.
Грязнухин Э. Ефим Курашов. Якутск, 1974.
Гу сейнов Э., Чародеев Г. Я хотел подарить ему частичку России. – Эхо планеты, 1997, № 5.
«Если не пойдешь с нами, то расстреляем». Кем и как создавалась «национальная Тунгусия». Публ. А. Бочарова. – Источник, 1996, № 6.
Иванов В. Н. Генерал Пепеляев. – В кн. Огни в тумане. М., 1991.
Иохельсон В. Заметки о населении Якутской области. – Землеведение, 1895, № 2–3.
Кириллов А. А. Сибирская армия в борьбе за освобождение. – Вольная Сибирь. Прага, 1928, № 4.
Конкин П. К. Встреча (о В. А. Пепеляеве). – Илин, 1999, № 1–2.
Конкин П. К. Драма генерала. – Илин, 1998, № 1.
Короленко В. Г. История моего современника. М., 1965.
Косвен М. Якутская республика. С пред. Кюлюмнюра. М.-Л., 1923.
Кропоткин П. А. Записки революционера. М., 1966.
Кротов М. Из истории Гражданской войны. – Якутские зарницы, 1927, № 3.
Ксенофонтов Г. В. Хрестес, шаманизм и христианство. Иркутск, 1928.
Лунин Б. Молодежь в осаде. Якутск, 1932.
Макаров Г. Г. К. К. Байкалов – герой Гражданской войны. Якутск, 1985.
Мицкевич С. И. Мэнэрик-эмиряченье – формы истерии в Колымском крае. Л., 1929.
Никифоров-Кюлюмнюр В. В. Вторжение Пепеляева в Якутию. – Полярная звезда, 1996, № 5.
Пепеляев А. Н. Дневник (с сокращениями). – Красные зори. Иркутск, 1923, № 3–4.
Пепеляев В. А. Наказание без преступления. Воспоминания. Рукопись.
Петров П. У Разгром пепеляевской авантюры. Якутск, 1955.
Петрушин А. А. Томск, Аян, Лубянка. Три жизни генерала Пепеляева. – Родина, 1996, № 9.
Потанин Г. Н. Областническая тенденция в Сибири. Томск, 1907.
Потанин Г. Н. Происхождение Христа. – Сибирские огни, 1926, № 4.
Потапов С. Из истории пепеляевщины. – Якутские зарницы, 1927, № 2.
Потапов С. Конец пепеляевщины. – Якутские зарницы, 1928, № 1.
Привалихин В. И. Из рода Пепеляевых. Томск, 2004.
«Россия погибает в волнах новой анархии…». Рапорт генерала А. Н. Пепеляева генералу Р. Гайде. Публ. Н. Д. Егорова и Н. В. Пульченко. – Военно-исторический журнал, 1996, № 6. Сахаров К. В. Белая Сибирь. Мюнхен, 1923.
Серебренников И. И. Мои воспоминания. Тяньцзин, 1937.
Серошевский В. Якуты. Опыт этнографического исследования. М., 1993.
Ситников М. Г. Лазарет имени Пепеляевых. – Пермский дом в истории и культуре края. Под ред. Т. И. Быстрых. Пермь, 2011.
Солодовников Б. Дальневосточные авантюры генерала Гайды. Б. м., б. г. Строд И. Я. Унгерновщина и семеновщина. – Пролетарская революция, 1926, № 9.
Строд И. Я. В тайге. М-Л., 1928, 1931.
Строд И. Я. В якутской тайге. М., 1930, 1932, 1934 и др.
Струлевич А. А. Страницы былого. С пред. М. Кропачева. Якутск, 1975.
«Считал бы необходимым освободить». Публ. Владимира Лебедева. – Источник, 1997, № 1.
Тимофеев Е. Д. Степан Вострецов. М., 1981.
Томский В., Пестун И. Сасыл-Сысы. Якутск, 1925.
Уваровский А. Воспоминания. – Наш современник, 2000, № 11. Устрялов Н. В. Генерал Пепеляев. – В кн. Под знаком революции. Харбин, 1927.
Федосеев Г. В тисках Джугджура. М., 1956.
Чемезов В. Н. Строд. Якутск, 1972.
Газеты
«Автономная Якутия». Якутск, 1922, август-декабрь; 1923, январь-март, август-октябрь.
«Красный стрелок». Чита, 1924, январь-февраль.
«Ленский коммунар». Якутск, 1922, март-июль.
«Советская Сибирь». Новосибирск, 1924, январь-февраль.
