Новичок. Побочный эффект
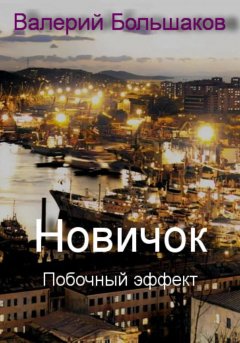
Валерий Большаков
Н О В И Ч О К
ПРОЛОГ
Воскресенье, 2 октября 2022 года. Утро
Приморский край, Липовцы
Дальний Восток – дело тонкое. На берегу Тихого океана не Россия кончается, а вечной, дремотной Азии подступает край. И не стоит пленяться лиричными березками, они в Приморье даже пахнут иначе, нежели за Уралом – «на Западе», как тут говорят.
Долгую неделю надо ехать от Москвы до Владивостока по бесконечному Транссибу, и каждое утро за окном купе забелеет иная порода. А тот вид, что шелестит на склонах Сихотэ-Алиня, зовется «березой маньчжурской»… Нерусь.
И погоды здесь чужбинские. В конце мая задувают тягучие муссоны, нагоняют хмарь – и весь сырой, промозглый июнь льют дожди. А ближе к осени может тайфун нагрянуть. Заденет бочком Уссурийскую тайгу – и разверзнутся хляби! Мутные потоки переполнят реки, хлынут стылой клокочущей лавой, затапливая улицы, снося мосты…
Пушкину с Есениным здесь ловить нечего – тутошние раскосые музы вдохновляют, разве что, сочинителей хокку. Азия-с…
Я сощурился, глядя в запорошенное стекло. Брутальный Витькин «крузак» катился мягко, вздрагивая на ямках и недовольно порыкивая. Унылая лента дороги отматывала назад безрадостную степь – иссохшая трава никак не хотела полечь, всё дожидалась хорошего ливня.
Вялая зелень, что подступала к шоссе, тоже просила косых струй. Узорчатые, поникшие от пыли листья неприятно серели, вызывая ощущение удушья и нечистоты, однако вышние силы не спешили омыть деревца – голые небеса отливали ясной синевой…
– Па-ап! – подала голос Наташка, разморено привалясь к спинке заднего сиденья.
– Чего тебе, дщерь моя? – нарочито окая, пропел водитель.
– Долго еще? – затянуло племя младое.
– Да как тебе сказать… – губы у Виктора дернулись в коварной усмешке. – К выходным точно успеем.
– Папа шутит, – проворчал я, жалея девчонку. – Полчаса, и мы в Липовцах.
– Ну, тогда ладно! – повеселела Наталья. Ерзая, она уставилась за стекло.
– Эх, Даня, Даня… – укорил водила. – Истинно говорю: сердоболие к прекрасному полу тебя погубит!
– Вот за это наш пол и любит дядю Данила, – вступилась девушка наставительно.
– Скушал? – ухмыльнулся я.
– В зобу застряло, – кисло промямлил Витёк.
Сзади хихикнули. Отомщенный, я благодушно глянул на друга. Сам же предложил съездить в Китай, вот пусть и терпит…
«Лендкрузер» визгливо затормозил, переваливая горбатый мосток, а его незадачливый водитель мазнул пальцами по экранчику «Кенвуда», добавляя звуку новостям.
Озабоченная дикторша зачитала сводку СВО, выдавая голосом непокой. На заднем сиденье тяжко вздохнули.
– Не переживай, Наташ, – мягко выговорил я. – Никто твоего Димку на фронт не пошлет. «Учебка» ему светит, а не «передок». Будет за порядком следить где-нибудь в Херсоне.
– Да я понимаю…
– Развалили Союз, с-суки, – неожиданно зло процедил Витя, – а теперь нам боком выходит ихняя сраная демократия! Извини, доча, не сдержался.
– Да всё правильно, папка… Дядь Дань, а вы скучаете по тогдашнему… ну, по СССР?
Я пожал плечами.
– Скучаю, конечно. Ностальгирую. Иногда злюсь на себя…
– За что? – серые Наташкины глаза отразились в зеркальце.
– А за то, что предал идеалы революции! – невесело хохотнул Виктор. – Да все мы такие… – его тонкие губы повело вкривь. – Изменники родины. Голосовали же за демократов! Думали, лучше будет, а оно вон как…
– Но хорошо же стало! Чего ты? – заспорила девушка. – Дефицита нету, и вообще – свобода!
– Ага! – Витькин рот перетянуло ядовитой ухмылочкой. – Сто сортов колбасы из рогов и копыт! Сгущенка из пальмового масла! Бли-ин… – заныл тоскливо водитель. – Наташенька, вот, честное слово, махнулся бы – «Тойоту» на порцию эскимо оттуда, из семидесятых! Да и не в этом же дело… Понимаешь, доча, тогда за детей не было страшно. Малышня гуляла допоздна, где хотела, а если какое чадо заблудится – подойдет к любому мужику и скажет: «Дядь, я потерялась!» И тот отведет ее домой… Не к себе! К маме!
Наперсник ребячьих забав смолк, и лишь резковатые рывки баранки выдавали трепет центральной нервной.
– Тогда по-другому жили, Наташ, – задумчиво сказал я. – А мы все были товарищами…
Девушка беспокойно завозилась.
– Я только читала об этом. Знаете, книги такие есть, про «попаданцев»…
– Ну, а как же! – фыркнул водила. Сквозь остаточную горечь сквозило снисхождение. – Читывали, читывали… Хаживали под впечатлением!
Я согласно кивнул.
– Особо «Квинт Лициний» впечатлил. Вещь.
– Мне тоже понравилось! – оживилась Наташа. – И еще «Целитель»!
– Ну-у, тоже ничего, – милостиво заценил я. – Атмосферненько.
– «Ничего»… Мягко сказано! – Виктор впадал в брюзгливый хейт. – Этот Миха собрал микроЭВМ за пару недель! Хех! Из чего? Ладно, там, интеловский проц хапнул. А остальной комплект? Ну, хотя бы 8224! Да если даже выкручиваться без «родных» микросхем, все равно регистры нужны или, там, шинные формирователи. И где их взять в семьдесят четвертом? М-м? А память? Как программировать ПЗУ без программатора?
– Айтишника слышу суровые речи, – насмешливо продекламировала девушка. – Да какая разница, папка?
– Да как это какая?! – взвился водитель, и машина пугливо вильнула. – Это же фантастика, а не сказка! Ну, ладно там, собрал он комп из того, что было. А софт туда как загнать? И откуда он его, вообще, взял? На бейсике накалякал? А компилятор откуда? Тоже сам написал? Вот так, сразу в машинных кодах? Я бы еще понял, если бы этот… как его… Гарин убил полгода на разработку BIOS, а уж потом за «оську» взялся. Так нет же!
Побурчав, Виктор сбросил скорость, а вместе с нею и негодование. Легкий у него характер. Вспылит, аж клочки по закоулочкам! Минута оттикала – всё, готов улыбаться…
– Подъезжаем!
Я глянул вперед. Шахтерский поселок завиднелся за мелкой, но шумливой речушкой, мрея в полуденной дымке. Обшарпанные пятиэтажки посередке, частный сектор по краям…
Никогда не думал, что вернусь сюда, но вот – потянуло. В Липовцах я прожил всего один год – одна тысяча девятьсот семьдесят девятый. Ну, и восьмидесятый захватив.
Проучился в восьмом классе. Промучился… Дурак был.
Девочкам я понравился – и мальчиши́ дружно сплотились против «новенького». Шпыняли, приставали… А новичок, хоть и не убегал, но и сдачи не давал. Бубнил только: «Я тебя трогаю? Я ж тебя не трогаю…» Жил по завету кота Леопольда.
Поморщившись, мысленно отмахнулся от срамных воспоминаний. Лучше головой верти, высматривай места боевой и трудовой славы…
«Лендкрузер» бойко вкатился на улицу Угольную. Где-то тут стоял наш барак… Да вот же он!
Мои глаза жадно обшарили полуразваленный остов давнишнего жилища – без крыши, без веранд… Невдалеке ворочался желтый бульдозер «Комацу», будто предвкушая снос.
– Даня! – повысил голос Витёк.
– А?
– Тетеря глухая… Куда тебя?
– Тормозни на перекрестке.
Не доезжая до центральной улицы Ленина, джип прошуршал по обочине, рокоча движком.
– Часа тебе хватит? – высунулся из кабины наперсник.
– Более, чем!
– А то я хочу успеть в Суньку1 до темноты, – Виктор заговорил быстрее, смущаясь и будто оправдываясь.
– Да конечно! Буду, как штык.
– Или подходи сразу к кафешке!
– Ладно.
Проводив глазами отъехавший «крузак», я посмотрел вокруг, вспоминая, сравнивая реал былой и нынешний.
«Узнаваемо…»
Направо пойдешь – на шахту попадешь. Налево свернешь – у Дома культуры окажешься. Прямо двинешь – к спорткомплексу выйдешь. А мы вернемся обратно…
Я развернулся, и зашагал вниз по отлогой Угольной, то попадая в тень гигантских тополей, то вновь щуря глаза на солнце. Мысли плыли размеренно и плавно, как бумажные кораблики. Покачивались на волнах памяти, груженые несбывшимися мечтами и тщетными надеждами.
Вон там, где прячется в бурьяне развороченная насыпь, когда-то изгибались поворотом старые рельсы. Уже в семидесятых эта ветка тихо ржавела, зарастая травой. Там я впервые встретился с местными аборигенами, заработав пару ссадин, а после всю свою жизнь боролся с самим собой, лишь бы не впасть во грех трусости.
Зря говорят, будто детские обиды забываются – эта ранка не затянулась до сих пор. Саднит. Только винить в том некого, кроме собственного трясущегося нутра.
Ведь есть же простое и мудрое правило жизни: «Если тебя ударили по щеке, бей обидчика ногой в пах, а затем добавь коленом в челюсть!»
Да куда там…
Канареечного цвета «Комацу» уже не клокотал мощным дизелем – стоял недвижимо, остывая, а мордатый бульдозерист в кабине задумчиво жевал бутерброд, шевеля брылями и горбясь над смартфоном. Прихлебывая кефир, работяга бойко чатился, тыча в экранчик мосластым пальцем.
Ловя равновесие на отвалах перекопанного грунта, я вышел к дому по следу гусеницы, впечатанному в глину, и запрыгнул в дверной проем. Всё, как тогда…
У перегородки громоздится печь, густо крашенная серебрином… Пахнет гнилью и сырой штукатуркой… Заляпанные обои свисают неопрятными фестонами…
У меня ёкнуло в душе. Из-под бумажных слоев выглядывали те самые, в мелкий цветочек – их еще мать доставала. Женщина энергичная, сварливая, она очень гордилась личным знакомством с «работниками советской торговли»…
Мои губы изогнулись в неласковой усмешке. Мы частенько с матерью цапались, но я всегда ей поддавался. Даже в то лето после выпускного. Хотел поступить на прикладную математику, а мне закатили скандал. Дескать, семейный бюджет не выдержит еще пяти лет дармоедства!
«Нечего тут ерундой заниматься, синусами всякими с косинусами! – бушевала маманька. – А жрать ты что будешь? Уравнения? Выучись хоть на инженеришку!»
И я капитулировал.
Подал документы в училище связи. Отслужил, устроился на АТС. Освоил «декадку», потом «координатку». Окончил заочное – и осилил цифровую «сишку».2 А вечерами доставал истрепанную подшивку «Кванта» – и пропадал для мира, погружаясь в восхитительное пространство урматов и дифуров, совершенных в своей законченности.
Но мне все же удалось «отомстить» непреклонным родителям – лет пять назад купил им квартиру во Владике…
Скрипя осколками стекла, я прошел во вторую комнату, опасливо ступая по дранке рухнувшего потолка. Здесь когда-то глыбились два шкафа – старый гардероб, тяжелый и основательный, как валун, мы везли через всю страну в контейнере, когда переезжали из Брянска, а новый, вечно расхлябанный. купили уже здесь, на месте. Отцу сразу выделили «апартаменты» в шлакоблочном бараке.
«Удобства» размещались во дворе, грубо сколоченные из досок и побеленные известкой, однако зимой мы ходили на веранду – в ведро, обязательно накинув на плечи полушубок или фуфайку. Из щелей дуло…
Обвалившаяся штукатурка покорно хрустела под подошвами. Покачнувшись, я дотронулся кончиками пальцев до расщепленной, зверски выкорчеванной оконной рамы, державшейся на единственном ржавом гвозде. Оглянулся, балансируя. Вот тут, справа, покоилось мое «лежбище» – продавленный диван. В углу громоздился фикус в бочонке, а рядом вытягивал ножки и антенные рожки черно-белый «Таурус»…
Это случилось в следующую минуту. Отдаленные матюги строителей, справлявших перерыв, монотонная долбежка отбойного молотка, скрип досок под ногами – всё разом стихло, растворяясь в навалившемся сиреневом мареве. Я одеревенел, словно в игре «Фигура, замри!», и даже, по-моему, не дышал. Однако щека как будто прижималась к грубой ткани… Стоял я или лежал? Понятия не имею.
Словно порыв ветра, налетели новые, неведомые звуки – радостный смех, возбужденный ропот. Смутная мгла, сомкнувшаяся кругом, протаяла – я увидел толпу людей под гигантским прозрачным сводом, отгородившим живое от черноты космоса.
– Говорит и показывает спутник «Цифэй»! – гордо зазвенел высокий женский голос. – Первый в мире гравитабль с временны́м двигателем отбуксирован в стартовую зону…
Будто по заказу, Солнце высветило двояковыпуклый диск, засверкавший, как новогодняя игрушка.
– Хронокоррекция один! – гулко разнеслась команда.
– Эмиттеры поля отталкивания защищают людей и оборудование от спонтанных ретросдвигов и других побочных эффектов… – взволнованно бормотала дикторша.
– Хронокоррекция два! Пуск!
Бледно-фиолетовая вспышка раскрутилась мгновенным вихрем, испаряя мозг и опаляя душу.
Глава 1.
Пятница, 24 августа 1979 года. День
Липовцы, улица Угольная
Протяжные скрипы половых досок… Жалобное позвякиванье ложек с вилками… Гуляющий плеск воды в тазике… Маманька моет посуду.
Полузабытые звуки прокрались в мозг, теребя оголенные нервы.
С резким звонким грохотом, столовые приборы ссыпались в ящик стола, и я вздрогнул, словно проснувшись по будильнику.
Забавная у меня поза… Стою на коленках около дивана, покоясь туловом на мягком валике. Левая рука свесилась до пола, правая под грудью, щека вдавилась в обивку – будешь с оттиском узора ходить…
– Утро красит… нежным светом… – немелодично доносится из кухни. – Ля-ля-ля-ля… Ля! Ля-ля… Утро красит…
Мать обожает напевать первые строчки – нудно, как заевшая пластинка. Мои брови вяло ворохнулись: так я у родителей, на Эгершельда?
Глаза открылись по одному, и заморгали – в поле зрения отливали глянцевые листья фикуса, вымахавшего чуть ли не до потолка. Тускло блестел новенький «Таурус». Сердце дало сбой – и забухало, зачастило.
– Утро красит нежным светом…
Брякнул эмалированный тазик. Разношенные тапки прошаркали к двери, громыхнул мощный запорный крючок, выпадая из кольца… Гулко отозвалась веранда…
– Стены древнего… ля-ля… – гнусавый голос перекрыл шум выплеснутой воды.
Клекоча, я засучил ногами, ворочая непослушное тело и усаживая на скрипнувший диван. Меня колотило от ужаса, от нахлынувшего безумия, а когда расширенные глаза уставились в зеркальную дверь гардероба, я чуть не заорал – в облупленном отражении белело перекошенное ребячье лицо. Подростка! Дани Скопина, перешедшего в восьмой класс!
Я с силой зажмурился – и распахнул свои карие. Ничего не изменилось. Всё та же самодельная книжная полка над телевизором, заставленная томиками в «рамке» и «про шпионов». К ней впритык коробчатый шкаф – мы его вместе с отцом собирали, по неряшливо-затертой инструкции. Сколько мне тогда довелось замысловатых матов услыхать!
А за спиной… Я обернулся. Ну, конечно… Фабричный гобелен, изображающий тройку с бубенцами. Утеплили наружную стену.
Глухо доносился материн голос – пронзительный, с веселыми визгливыми нотками. Родительница перекликалась через весь двор с соседкой из барака напротив. У той было смешное имя – Авдотья Робертовна…
«Да почему было?!» – яростно рванулась мысль.
Я со стоном отер лицо, и бессильно уронил руки на колени. Небывалое бывает?
– Попаданец! – нервическое хихиканье рвалось из меня, переполняя холодеющую утробу. – Попаданька!
Я обхватил непривычно узкие плечи руками, сжимаясь в комок, стиснул зубы – лишь бы унять набухавшую внутри истерику. Сердце колотилось, натужным писком отдаваясь в ушах.
«Побочный эффект…», – всплыло в памяти серебристым пузырьком.
У них там, значит, старт, а у меня – пересадка сознания? Или то был всего лишь сон «по мотивам А. и Б. Стругацких»?
Э, нет, дружок, не финти! Какой, к бесу, сон? Тебя зацепило далекое будущее, дотянулось, как тайфун до приморских берегов, и – дзынь! – побочка…
«Да ты оглянись, – будто вчуже подумалось мне, – вокруг та самая комнатёшка, тот самый мир, то самое время! И всё это – явь!»
Я встал неожиданно легко и шагнул к окну, со смутным раздражением отдернув бахромчатую, выцветшую штору. За стеклом травянел «приусадебный участок» – клочок земли, обнесенный дощатой оградкой. Американец подстригает газон на заднем дворе и жарит барбекю, а мы садим картошку – ровно шесть рядков вмещается. У соседей поменьше, но наша квартира с краю, вот и прирезали рядок.
Желто-зеленая ботва полегла, путаясь с пыреем. Еще недельку, и можно копать…
– Даня! – голос матери тряхнул меня, врываясь в мысли. – Наруби дров! Печку хоть протоплю, а то сыро.
– Ага, – слабо выдавил я.
В балахонистых штанах, перешитых из армейских шаровар (отец со сборов привез), в застиранной фланелевой рубашке с коротким рукавом, я сунул босые ноги в разношенные сандалии и вышмыгнул за дверь.
Меня слегка пошатывало, но нездоровая слабость уходила, как лишняя влага от раскаленной печки.
Споткнувшись на крыльце, я затянул потуже ремешки хлябавшей обувки, и медленно-медленно разогнулся, чуя, как вся моя «взрослая» память покачивается во мне, не расплескиваясь. Учеба, армия, работа, неудачная женитьба, развод, дочка по субботам… Полный сосуд.
«Не вливают вино молодое в мехи ветхие… – текли, струились думки. – А я, значит, влил – вино выдержанное напустил в мехи молодые, сильные и крепкие…»
Желчно фыркнув, согнул руку в локте, напружил бицепс… Задохлик.
– Даня-я…
– Да щас…
Пахнущие свежим деревом чурбаки валялись у веранды в россыпях щепок и ошметков коры – отец вчера распилил пару березовых бревен капризной, оттягивавшей руки «Дружбой». Неясно только, сам ли я помнил о данном эпизоде, или мне передался кэш «настоящего» Данилки, ныне поглощенный ветхой личностью «попаданца»?
Криво усмехаясь, я водрузил на громадную колоду чурку, лоснившуюся берестой, и подхватил увесистый колун. Удар с ближнего краю… С дальнего… И посередке! Колко треснув, чурбан распался надвое. А теперь – на четвертинки…
Замахи живо подняли тонус, сбивая дыхание. Пульс бодро толокся в венах, юная кровь весело журчала, не ведая бляшек. Наколов, я взялся за топор. Охапки должно хватить. Ладно, нарублю две…
…Обрушив поленья у печи, я впервые взглянул на хлопочущую мать.
Когда я последний раз видел ее – там? Неделю… Нет, две недели назад. Как раз картошку поднял из погреба, и подвез старикам целую сетку. «Гуманитарка!» – бодро шутил отец. Ему восемьдесят пять стукнуло, ей – восемьдесят первый пошел. А здесь… Сколько мамуле нынче? Тридцать семь? Ну, да. С ума сойти…
– Уголька еще.
– Угу… – я покосился, охватывая взглядом женскую фигуру.
Грузновата – талии почти не видно, но и не разнесло, как Авдотью Робертовну.
Та, если сядет на лавочку, пузо на колени вывалит. Квашня.
Осторожно, чтобы не измазаться, набрал полное ведро угля, и занес на кухню. Печь гудела, меча из поддувала огневые выблески.
– Мам, я в школу схожу, – соврал мимоходом. – Может, там объявление вывесили?
– Сходи, – родительница мотнула головой, отбрасывая челку набок. – Заодно хлеба купишь. На! – порывшись в кармане балахонистого платья, она выудила тусклую мелочь, копеек сорок или пятьдесят.
– Угу…
Выйдя к Угольной, я сделал крюк – и зашагал к старой железной дороге. Прошуршала щебенкой насыпь, и мои ноги, не знавшие артрита, бойко затопали по черным шпалам, вскоре сбавляя поступь. Хаос, теснившийся в мозгах, надо было хоть как-то упорядочить. Привести в равновесие мысли и чувства.
«К черту панику! – цыкнул я на себя. – Что такого ценного ты оставил в будущем, Даниил Кузьмич? Квартиру-евродвушку? «Паджерик» и дачу на Шаморе? Океюшки, как Витёк говаривал. Но разве юность, здоровье и лет семьдесят жизни не перевешивают потери?»
Семьдесят годиков! Переписанных набело – без ошибок и помарок. Да ты молиться должен, чтобы тебя не выкинуло обратно в будущее! Не дай бог…
Мечтал стать математиком? Океюшки! Хочешь в программисты податься? Кам он, бэби! Зеленый свет!
«Не уступать никому! – ликующе вызванивало в голове. – Не зависеть ни от кого! Не жить под диктовку. Не юлить больше, не лавировать, стараясь всем угодить. Хватит! Разогни спину! У тебя появился великолепный шанс – используй его!»
Вдохновленный нутряными речами, я ускорился – и почуял неприятный холодок. По ту сторону путей, от разбросанного частного сектора, приближалась парочка щуплых отроков. Они брели, засунув руки в карманы, вялые и скучные, но, завидев меня, разом оживились – появилась цель. Я.
А мне вдруг стало смешно – и стыдно. Подходили те самые гаврики, накостылявшие Дане Скопину в порядке развлечения. Ну, или самоутверждения. А Даниил Кузьмич испытал неловкость.
«И вот эти мелкие дрыщи изваляли меня? Ой, позорище…»
Да, я смотрел на «сладкую парочку» глазами пожилого мужчины. Спору нет, подростковая банда опасна, как стая бродячих собак, но двое щенков?..
Мы сошлись. Сопляки смотрели на меня снисходительно и с оттенком нетерпения, однако словесная прелюдия строго обязательна. Тот из плохишей, что был постарше, чиркнул носком ботинка по щебню, словно проводя границу, и выговорил с ленцой:
– Чужие здесь не ходят, по эту сторону – наша половина.
– Да неужто? – улыбнулся я.
В старшем, чернявом и темноглазом, чувствовалась южная кровь, да и звали его в масть – Вася Адамадзе. Он перешел в тот самый восьмой «А», куда вскоре вольюсь и я, новичок. А вот младший, с сосульками рыжих волос…
Этот злой прищур, глумливый изгиб бледных губ, щедрая порция веснушек… Если бы мне вздумалось нарисовать портрет юного живодера, то натурщик – вот он. По кличке «Малёк».
– Не боишься? – Адамадзе скривил уголок рта в подобии улыбки.
– Не-а, – я безмятежно мотнул головой.
Васька выбросил кулак, чувствительно съездив мне в челюсть. Можно было уклониться или выставить блок, но нет, пусть всё будет, как прежде! До определенного момента…
– А теперь? – осведомился чернявый.
В прошлый раз я отделался тем, что потер скулу, роняя: «Ну, и скотина…» А нынче смолчал.
Ударил коротко, без замаха, метя в подбородок. Адамадзе нелепо взмахнул рукой, будто прощаясь, и свалился в траву, а я с разворота врезал «Мальку» – снизу вверх, наискосок, обратной стороной кулака.
Поскуливавшая тушка выстелилась, шурша щебенкой. Нижняя губа у рыжего набухала красной каплей. В тон.
«Первая кровь… Первая победа…»
Я развернулся и зашагал в хлебный.
Там же, позже
Давненько не держал в руках копейки. «Десюнчик», «пятнадцатик»…
– Булочку «Подольского» и две сдобы.
Ловкие пальцы защелкали костяшками счетов.
– Тридцать две копейки в кассу.
Я выбил чек и задержался у овощного, где выстраивалась очередь за вьетнамскими бананами – целые грозди лежали вповалку, зеленые, как трава. Видимо, товарищи из Ханоя не заморачивались вопросами спелости. Выросло? На экспорт!
Помню, помню… Замучишься чистить эту зелень – плотная кожура не отлипала, как у зрелых плодов, приходилось сдирать ее. А вкус… Сладковатый и вяжущий. Шутя, отец называл бананы «мылом» – за скользкость. Позднее бывалые и знающие поделились опытом: «дарам тропиков» надо вылежаться пару деньков. Суешь их в темное место, да хоть под кровать, и пускай себе спеют…
Но зато как пах «Подольский»! Даже остывшая буханка издавала неповторимый хлебный дух, призывно хрустя поджаристой, чуть маслянистой корочкой. В детстве я частенько обгрызал ее, поддаваясь искушению, а вот в будущем не замечал подобного ни за одним дитём.
Такое впечатление, что на какой-нибудь грядущий «Купеческий» впору клеить этикетку: «Рафинированный. Дезодорированный»…
Я раздраженно мотнул головой – опять хитрая натура вильнула, избегая тяжких дум! А поразмыслить было о чем.
Как жить дальше? Ну, на тему школы я не рассуждал – ходить все равно придется. Жаль, конечно, потерянного времени, но ведь его можно организовать, используя с толком. Да и школы бывают разные…
Впрочем, учеба меня как раз не беспокоила – и аттестат получу, и диплом. А дальше что? Ну вот, стану я математиком. Или программистом, как Витёк. Ладно. Поступлю при Брежневе, окончу при Горбачеве. И тут навалятся лихие, «чисто конкретные», они же «святые» девяностые…
Распад. Развал. Разруха.
И куды бечь? Пришли красные – грабють, пришли белые – грабють. Куды ж деваться бедному айтишнику? Валить? Нет уж. Я не «узкий», как та слизь голубоватая пела, я – русский, да еще и «совок». А у нас, у советских, собственная гордость. На поклон к империалистам – ни ногой! Останусь, перекантуюсь как-нибудь.
А если я хочу дожить до «нулевых» и не оскотиниться? Не челночить в Китай за тряпками от кутюр? Тогда что мне «необходимо и достаточно»? Правильный ответ – деньги. И побольше!
Воровать стыдно и неинтересно, капиталец надо заработать. И не когда-нибудь потом, в туманном послезавтра, а сейчас! Вот и займешься «первоначальным накоплением» после уроков, на каникулах и выходных…
Я остановился, покусав губу, и назойливый вопрос всплыл в потоке сознания снова, виясь, как кумачовый транспарант: «А спасать СССР ты думаешь?»
Все попаданцы только тем и заняты – кто к Сталину пробивается, кто к Брежневу. Философы доморощенные, прогрессоры самодеятельные…
Ну, ладно. Допустим, отправился я в Завидово, куда Генеральный секретарь ЦК КПСС наезжает по пятницам – поохотиться, кабанчиков пострелять, выдохнуть пыль кремлевских кабинетов. Только он очередного чушака завалит, а попаданец тут как тут – эффектно являет себя.
«Здрасте, – говорит, – а я будущее знаю!»
Леонид Ильич прищуривается, и спрашивает лязгающим голосом Ивана Данко:
«Какие ваши доказательства?»
И что мне ему предъявить? Ноутбука при себе нету, я в прошлое не то, что без трусов – без телес явился, аки дух несвятый. Хотя…
Нет, конечно, можно козырнуть своим посвящением в военные и гостайны – этого добра в Интернете полно. И что? Много ли ты помнишь из того, что валялось в открытом доступе? С деталями, с цифрами, с датами?
Взять тот же Афган. Когда нам приспичило исполнить интернациональный долг, кто в Кабуле верховодил? Вроде, Тараки. Как звать, забыл. Помню, что усатый, точно Мужик из «Деревни дураков». Мамуля его «Тараканом» звала.
Бабрака Кармаля («Кальмара», в народной версии) Тараки на второй план задвинул, тот и обиделся. Нажаловался в Москву – и въехал в Кабул на танке «шурави»… Хм.
А кто тогда Тараки убрал? «Кальмар»? Тогда почему парни из «Альфы» штурмовали дворец Хафизуллы Амина? Он, что ли, «уборкой» занимался?
Короче, вопросов куда больше, чем ответов, а в голове столько всего намешано… Будущий пипл перекормлен информационным силосом. Или…
Ага… Я задумался. А что такого произойдет в этом году? Хм…
Довольная улыбка заплясала на моих губах. А ведь помню кое-что!
Четвертого ноября в Тегеране захватят американское посольство – аятолла Хомейни нагадит «Большому сатане»… Чем не доказательство для «гостя из будущего»? Стоп… Стоп-стоп-стоп!
– Дебилоид… – потрясенно забормотал я, оценивая свои умственные способности.
Ни один боец ВДВ еще не ступал на землю Афгана! «Ограниченный контингент советских войск» введут под Новый год.3 Еще есть время…
– Для чего? – вырвалось у меня вслух.
Настроение испортилось в край. Несносная досада на собственную памятливость разъедала душу, как кровь-кислота ксеноморфов.
«Ну, зачем, зачем ты вспомнил? – казнился я, отчаянно морщась. – Жил бы себе спокойно, так нет же… Ну, и что теперь делать? Отправляться в Завидово?»
– А толку? – буркнулось вслух.
Оглянувшись – улица пуста – я перешел Угольную, помахивая авоськой. Сетка, огруженная булками, пружинисто растягивалась, пунктирно касаясь увядших злаков.
Вот же ж… Дня не прошло, как я «попал», а клятая, заскорузлая проблема выбора уже пухнет, громоздится передо мною! И почему мне казалось, что мы год, как вошли в Афганистан, и вовсю лупим душманов? Ч-черт… И как теперь быть?
Я же никогда не прощу себе, что не отвел угрозу войны!
«Да кончай ты пафос городить! – замелькали злые мысли. – Кто ты такой, чтобы переубедить Политбюро? С каких козырей зайдешь?»
Миллиарды рублей, бесследно и бессмысленно сгоревших за Гиндукушем… Десять лет ненужной войны, «советского Вьетнама»… Пятнадцать тысяч убитых и замученных парней, целое поле «красных тюльпанов»…
Ну, как, как я всё это докажу?! И кому? Догматику Суслову? Брежневу, подсаженному на барбитураты? Холеному Громыко, что вечно мотается по заграницам? Осторожному, как все чекисты, Андропову, терпеливо выжидающему своего часа? Кому?!
Огорченный и растревоженный, я вышел к «родному» бараку, беленому приземистому зданию, крытому почерневшим шифером. Шесть одинаковых веранд с окнами в мелкую расстекловку выходили во двор, как пирсы от причала. Фасадную сторону тоже огородили, отвоевав лишние метры у общей «придомовой территории». У кого-то за штакетником устроена клумба, у кого-то разрослась великанская сирень. В нашем дворике-загоне угрюмо чернела куча угля, а за соседским забором отливал лаком новенький «Москвич». Важный хозяин прилежно водил тряпкой, надраивая транспортное средство.
Выглядел он довольно смешно, неся объемное чрево на тонких кривых ножках – хоть сейчас пускай на сцену ТЮЗа, играть кума Тыкву из «Чипполино», можно без грима. Лысая голова блестела не хуже автомобиля, а по сторонам тонкогубого рта свисали обкуренные усы, смахивая на клыки моржа.
Я знавал этого персонажа из своего прошлого, жадного и хитрозадого соседа, хотя имя его давно выветрилось из моей памяти. Однако, стоило мне завидеть автолюбителя, как в голове сразу всплыло: «Юрий Панасович». Неужто моя наглая душа, переселившись в юный мозг, не все файлы стерла? Иначе откуда подсказка?
Оглаживая моржовые усы, сосед глянул на меня, и я вежливо поздоровался:
– Добрый день.
– Смотря для кого… – Юрий Панасович скорбно возвел очи горе.
– А чего так?
– Да вон, – сосед махнул в сторону вырытой ямы, откуда выглядывал ржавый бак – половина бочки. Рядом желтел оструганным деревом аккуратный штабель досок. – Договорился тут с одним… – он пошевелил усами, словно замазывая нецензурщину. – Чтоб сортир поставить. За двадцать рублёв! И ни ответа, ни привета!
Будь я собакой, навострил бы уши.
– А вы ему аванс платили?
– Еще чего!
– Ну, давайте тогда я вам туалет выстрою.
Юрий Панасович задрал выгоревшие брови.
– Ты?!
– Я, – мой голос был тверд, выражая уверенность и солидность. – «Червонец» сразу. И еще десятку, как сдам объект. Накосячу если, оплачу.
Оплачивать косяки мне было нечем, но с деревом я дружен.
Заколебавшись, сосед протянул руку:
– Идет!
Мы скрепили наш договор, и я побежал за инструментами. Пять минут спустя зашуршала ножовка, нарезая бруски. Взвыла дрель, дырявя, где нужно. Ударил молоток, заколачивая первый хозяйский гвоздь.
Сначала я сбил прочную основу – устроил нижнюю обвязку из бруса, вывел стояки, взялся обшивать каркас досками. Прошелся по дереву олифой, чтоб красивее желтело, и лишь тогда заметил зрителей – Иннокентьича с другого конца барака и отца. Оба смотрели с интересом, только родительское лицо выражало недоверие, а сосед задумчиво улыбался.
– Что ж ты дома такую красоту не забабахал? – немного ревниво спросил батя.
Я молча достал из кармана хрустящую бумажку – красненькие десять рублей.
– Как дострою – еще «чирик».
Отец выразительно крякнул.
– Понял, Кузьма? – хохотнул Иннокентьич. – Вырос твой!
– Да-а… – затянул родитель. – Ну, да-а… Большенький уже.
Наметив улыбку, я продолжил гореть энтузиазмом. Двадцать рублей – неплохой заработок, особенно в глубинке, да и не корысти ради стараюсь. Когда пилишь-стругаешь-сколачиваешь, все мысли вон. Ни тревог, ни хлопот, ни раздумий всяких…
Начало темнеть, когда я навесил дощатую дверь и отряхнул руки.
– Принимайте работу, Юрий Панасович.
«Кум Тыква» обошел мое творение, восхищенно цокая языком.
– Ну-у, спаси-ибо! Терем-теремок! Хе-хе…
А меня посетило нехорошее предчувствие. Собрав свои железяки, я вопросительно глянул на заказчика, мягко напомнив:
– Мои десять.
– Так я ж тебе дал уже! – ухмыльнулся визави в вислые усы.
– Мы договаривались на двадцать, – медленно выговорил я.
– А ну, давай, давай отсюда! Деньги ему! – озлился Юрий Панасович, грубо толкая меня к калитке.
Я устоял и выцедил:
– Ш-шкура! Да подавись ты ими!
– Ах, ты… – и визгливые маты разнеслись в сумерках по всему двору…
* * *
Ночью я долго не мог уснуть. Тишина опала на поселок. В открытую форточку задувал сквознячок, не донося ни тарахтенья машин, ни пьяного гогота. Лишь из-за прикрытой двери глухо накатывал отцовский храп, да едва слышно тикал будильник – его стрелки отсвечивали зеленым, смыкаясь на единице.
Всегда плохо сплю на новом месте. А нынче… Не знаю, может, я один на свете такой, что запросто смирился с переносом во времени?
А что мне было делать? Орать дурным голосом? Головою об стенку биться? Ну, попал! И что теперь? Есть в моем нынешнем положении и плюсы, и минусы. Но плюсиков куда больше. Вот и радуйся… Чего ты не радуешься?
Я тоскливо вздохнул. Впереди у меня долгий и непростой путь. Не получится у меня исповедовать мещанский принцип «моя хата с краю». Если не попытаюсь выправить тутошнюю реальность, если не предупрежу наших… Ладно! Пусть они всё равно введут войска в Афган! Но на душе будет чуточку спокойнее, если хоть что-то изменю.
И опять стану надоедать, со своим послезнанием! Надо, мол, вывести «ограниченный контингент», пока не поздно!
Как всё это осилить, как смочь – не знаю. С чего начинать – понятия не имею! Подметные письма слать? Тайком прокрасться на госдачу к товарищу Брежневу? Или к Андропову?
А тут еще этот… куркуль! Зла на него не хватает…
Я откинул одеяло, и сел, спустив ноги на коврик. Сколько себя помню, всегда меня отличала опаска, боязнь деяния. В мыслях-то я был крутой мачо, а приходит пора решимость проявить – и начинается… Цепенею и зажимаюсь.
«Тварь я дрожащая или право имею?..»
Дотянувшись до трикушника, натянул его. Подцепил пальцами ног сандалии, и на пуантах – к окну. Через улицу чернели угловатые объемы пятиэтажек. Луна едва выглядывала над их горбатыми крышами, добавляя ночи не света, а тьмы.
– Вперед, – скомандовал я сиплым шепотом.
Шпингалеты поддались легко, рамы отпахнулись с легким скрипом. Спрыгнув на картофельные рядки, я отворил калитку и выбрался в проулок.
«Куркуль» не спал. За плотно задернутыми шторами калился тусклый свет, а магнитофон тянул украинскую народную. Надо полагать, Юрий Панасович накачивался горилкой. Тихо сам с собою.
«Ну, не на троих же соображать?»
С замысловатой щеколдой я справился быстро, и метнулся к смутно белевшему сортиру. Пахнуло стружками.
Олифу, краску, растворители – все пожароопасные банки и склянки «куркуль» сложил в углу туалета. Бутылку с соляркой я выискал на ощупь. М-да…
«Я мстю, и мстя моя страшна! – зашипел мысленно. – А спички из дому прихватить не догадался, мститель?»
Уф-ф! Спасибо «куму Тыкве», пособил, не желая того – на гладком приступочке с вонючей дырой лежала распотрошенная пачка «Беломора», а сверху – коробок. Видать, тестировал новенький клозет перед тем, как обмыть…
Я аккуратно обрызгал доски горючкой, подгреб курчавые стружки и шуршащие, еще не мятые газеты. Чиркнул спичкой.
«Силу действия уравнивают силой противодействия… Для пущей гармонии Вселенной…»
Огонь разгорелся сразу. Ярко спалил «растопку», и едва не угас. Нет-нет… Трепещущие языки пламени жадно лизнули доски, распробовали, изнутри повалил дым… Занялось!
Вернувшись домой, я тщательно вытер подоконник, прикрыл окно, задернул шторы. Бухнулся в постель – и уснул сном праведника.
Глава 2.
Суббота, 25 августа. Утро
Липовцы, улица Угольная
Встали мы поздно, чуть ли не в десятом часу. Отец, по обычаю удалых «кразистов», основательно употребил за ужином, и на завтрак главе семьи полагалось полстакана «Столичной».
Морщась, как тот ежик, что ел кактус, батя влил в себя законную порцию, и жадно набросился на вчерашнее жаркое, смачно захрупал малосольными огурчиками.
Мамуля заботливо подложила ему разваристую куриную ножку, и папуля благодарно промычал.
– Катанянам квартиру дали на Ленина, – сообщила родительница, со злостью ухватывая полосатый шнур электрочайника и втыкая вилку в расколотую розетку. Не помогло. И речь прорвало завистливым нытьем: – Везет же людям! Звали…
– На когда? – поинтересовался отец, соловея.
– Назавтра вечером, часикам к шести.
– Ну, сходим… А чего дарить? Та-ань…
– М-м… – мать на секундочку задумалась, смурнея, и тут же просветлела: – А давай, тот сервиз отнесем? Цветастый, такой?
– Югославский? Жалко как-то…
– Да там уже нечего жалеть! Все чашки побили, одни тарелки остались.
– Ну, давай…
Я скромно сидел сбоку, уплетая картошку с мясом. Отец, сытый и пьяный, отодвинул пустую тарелку, и благодушно заскрипел стулом.
– Накалымил двадцаточку? – подмигнул он мне. – Матери отдай.
– Какую двадцаточку? – задрал я бровь. В груди захолонуло – без сцен из семейной жизни не обойдешься. Но и злой азарт проклюнулся. – Сосед десятку зажилил.
– Вот ведь жлоб! – восхитился батя, и построжел: – Отдай, отдай…
– А зачем? – спокойно поинтересовался я.
– А затем, – завелась мать с пол-оборота, – чтобы деньги на всякие глупости не тратил!
– Но вы же тратите, – мягко пожурил я, кивая на бутылку водки.
– Мал еще, чтобы родителей обсуждать! – повысила голос родительница.
– Как-то нелогично получается… – вздохнул я с деланным расстройством. – Работать могу – уже большенький, а тратить не моги – еще маленький!
– Это что еще за разговоры? – в материном голосе зазвенели угрожающие нотки, предвещающие непогоду в доме. – Тебе в школу скоро, и в чем ты пойдешь? Вон, Лариса передала – им в магазин костюмчики завезли, по семнадцать пятьдесят!
– Вот пусть Лариса сама в нем и ходит, а я хочу купить себе нормальный костюм!
– Ах, норма-альный ему… – с ехидцей затянула маманя. – На такой ты еще не заработал!
– Заработаю, – веско уверил я.
– Вот, когда заработаешь, тогда и поговорим! А пока что извини, походишь и в дешевом. На дорогие вещи у нас денег нет!
– А вы бы гулянки реже устраивали, – огрызнулся я, – тогда бы хватало! Вы, вообще, хоть когда-нибудь мечтали о большем, чем жратва и шмотки? Ну, там, купить машину, для начала… Вступить в жилищный кооператив… Съездить по путевке в Чехословакию… Да хотя бы в Крым! Ну, нет же?
Тут мне сразу стало понятно – «красная линия» пересечена.
– Ах, ты… – выдавил отец сжатым горлом, багровея и набухая гневом. – Будет тут всякое говно меня жизни учить!
– Ладно, – мой голос исполнился кротости, – я – говно. Тогда, может, научишь меня, как жить? Как добиться роскошных палат в вонючем бараке, где моются из тазика! Как культурно проводить досуг, напиваясь в субботу, а в воскресенье лишь опохмеляясь, чтоб на работу, как стеклышко!
Каюсь, был несдержан – ломкая отроческая психика подвела. Можно только представить себе, до чего бы я вообще договорился, но затеянную ссору прервал Юрий Панасович.
Видать, встал ото сна, протопал меланхолически до ветру, а вместо цивильного «пудр-клозета» – зола.
Сначала и без того наэлектризованную атмосферу развеял трубный рев, а затем, роняя злобные маты, к нам ворвался взбешенный «куркуль». Встрепанный, опухший, в замызганной майке и в трениках с пузырями, он выглядел типичным алкашом.
– Ты! – зарычал сосед, тыча в меня трясущейся дланью. – Ты!
– Что, должок принес? – хладнокровно спросил я.
– Да я тебя…
Юрий Панасович рванулся ко мне, и тут уж батя не стерпел – вскочил, опрокидывая стул, и пихнул «куркуля» под заполошные мамины взвизги.
– Чё надо?! – гаркнул он. – Чего орешь?
– Твой… Этот… – забрызгал сосед слюною. – Он мой туалет спалил!
– А ну, пошел отсюда! – рассвирепел отец, и выпихал незваного гостя.
– Да ты… Да я… – злобно пыхтел «куркуль», спотыкаясь от тычков, и завопил срывающимся голосом: – В милицию! В колонию! Я вам еще устрою!
– Кузя, не бей его только! – заголосила маманя. – Дерьмо только тронь – развоняется! – тревожно оглядываясь на меня, она просеменила во двор, я метнулся следом.
Да-а… Огонь порезвился вволю. Недогоревшая крыша «персонального» сортира еле держалась на трех обугленных стояках, а на дверных петлях висели головешки. Финита ля латрина.
Юрия Панасовича нигде не было видно, а вот народ подтягивался. И Авдотья Робертовна приковыляла, и ее усохший супруг – вылитая мумия, а Иннокентьич вырядился, как на парад – брюки отглажены, рубашка накрахмалена, на пиджаке – колодки орденов и медалей. Это он сейчас на пенсии, зато в сорок пятом бравый сержант Панин на рейхстаге расписался.
– А пострадавший где? – ухмыльнулся Иннокентьич.
– За участковым побежал, – хмуро ответил батя, и пристально глянул на меня: – Точно не жег?
Пока я выискивал слова, чтобы извернуться, не соврав, показался «куркуль». Он грузной трусцой кружил вокруг широко шагавшего Михалыча, местного участкового, то отставая, то забегая вперед, в лицах описывая уж-жасное ЧэПэ.
Иван Михайлович слушал рассеянно. Человеком он был спокойным и рассудительным, и всегда «при исполнении». Бросив взгляд на останки туалета, участковый пожал руку Панину, отцу, поприветствовал остальных кивком, а затем всем корпусом развернулся ко мне.
– Ну-с, – начал он в манере Айболита, – излагай.
Нельзя сказать, что меня переполняли спокойствие и невозмутимость. Приходилось следить за собой, чтобы не выдать тайный страх излишней болтливостью или суетой.
– Признаюсь, мотив у меня был, – начал я, замечая, как напрягся отец. – Мы договорились с Юрием Панасовичем, что он заплатит двадцать рублей за туалет. Я свою работу выполнил, но получил только десять.
– Нехорошо, гражданин Кравчук, – серьезно вымолвил Михалыч.
– Так я… – дернулся сосед, но блюститель порядка утишил его движением руки.
– Версии есть? – внушительно спросил он.
– Одна, – улыбнулся я, чувствуя, что «моя милиция меня бережет», – но верная. Заказчик сам спалил туалет! Спьяну. Опробовал, так сказать, новостройку, посмолил «беломорину»… Окурок – в угол. А там – видите, банки лопнули? – и краска, и олифа, и керосин… Или в чем я вчера кисти замачивал? В солярке? Ну, короче, подтянул Юрий Панасович штаны, вернулся… соображать на одного, а от «бычка» и полыхнуло!
– Ой, господи, да видела, видела я! – заверещала вдруг Авдотья Робертовна.
У меня коленки мигом ослабли, а «квашня» с жаром выдала:
– Встала я за полночь, вышла на веранду по надобности, смотрю, а во дворе будто костер горит! Я на улицу – батюшки! А там пожар! Так всё и пылает! Дым столбом, а окно у Панасыча светится, и дверь настежь…
– Это ничего не доказывает! – нервно выкрикнул «куркуль». – Я до суда дойду, я вас всех, всех на чистую воду!
Чувствуя настроение «народных масс», я вкрадчиво проговорил:
– А вы не боитесь, что судья заинтересуется не самим поджогом, случайным или намеренным, а спросит, откуда дровишки? Где вы, гражданин Кравчук, взяли полкуба оструганной «дюймовки»?
Немая сцена. В тишине было слышно, как шлепнули губы «куркуля», смыкаясь в нитку. Ни слова не говоря, Юрий Панасович развернулся, и убрел в дом, аккуратно затворив дверь за собой.
– Будем считать инцидент исчерпанным, – спокойно подвел черту участковый. Учтиво козырнув мне, он сунул папочку подмышку, и отправился по своим милицейским делам.
– Михалыч – человек! – выразился Панин.
– Ну, да… – рассеянно отозвался отец.
– Дань! – оживился Иннокентьич. – А сооруди мне тоже такой! – и быстро добавил: – Двадцать, и деньги вперед!
Воскресенье, 26 августа. День
Липовцы, улица Угольная
В субботу я ударно потрудился, вот и устроил себе выходной в «день веселья», как пела «Пионерская зорька». Пришлось же и яму копать, и стройматериал до ума доводить. Доски у Панина имелись, но обрезные, так что достал я рубанок, и обстругал каждую «дюймовочку». Намаялся вдосталь, зато мой карман приятно грели три красные бумажечки. Растет благосостояние трудящихся…
– Может, и не пригодится… – неожиданно рассудил Иннокентьич, осматривая свеженький, желтенький «объект МЖ». – Но пусть будет! Пошли, покажу кой-чего…
Отсутствием любопытства я никогда не страдал, а Панин пригласил меня в дом, и похвастался своей минералогической коллекцией.
– Так вы геолог? – мои глаза зарыскали, ловя острый, холодный блеск неведомых минералов.
– А то! – горделиво хмыкнул сосед. – Буквально вчера заглядывал в шахтоуправление, звонил в Ленинград одному товарищу, и… – он довольно заулыбался. – Моя судьба скоро сделает изрядный зигзаг – буду преподавать в Горном институте!
– Поздравляю! – искренне пожелал я.
– Благодарю, – церемонно склонил голову Панин. – Вот только камушки свои с собой не повезу, куда столько… Передам в школу. Но кое-что… Вот, например, – он взял в руку неровный, обкатанный голыш. – Нильская яшма! А вот… – увесистый булыжник отливал темно-синим цветом. – Лазурит! В прошлом году привез из Афганистана… Хочешь, подарю?
– Хочу! – выпалил я.
– Бери!
Домой я вернулся с целой коробкой камней. Там и турмалины лежали, и аметисты, и гранаты, и даже редкий, необычный чароит. Было мне немного стыдновато, потому как все эти увесистые подарки я не собирался бережно хранить. Продам одному коллекционеру во Владивостоке. Он как-то рассказывал, что вел в семидесятых «Клуб юных геологов». Наживусь…
* * *
Ближе к вечеру родители ушли на новоселье. Пока отец дымил во дворе, мать наводила красоту перед зеркалом. Пользуясь моментом, я решил поделиться – протянул ей честно заработанные двадцать рэ. Родительница заколебалась, покачивая сережками, но выдержала характер, и пробурчала:
– Ой, да трать, куда хочешь!
– Ладно, я тебе тоже что-нибудь куплю, – мой тон звучал примирительно.
Мамуля посмотрела на меня с каким-то новым чувством, словно удивляясь тому, что рядом с ней выросло. Хотела что-то сказать, но передумала, и торопливо зацокала к выходу.
– Котлеты в холодильнике! – обронила на ходу.
Тяжелая дверь гулко захлопнулась, звякая крючком толщиной в палец – и тишина…
Я встал и бессмысленно походил от окна в комнате до окна на кухне. Телик, что ли, включить? А что там смотреть? Концерт ко Дню шахтера по первой? Или советский телесериал «День за днем» по второй? Не хочу.
И холодильник победил телевизор…
Вторник, 28 августа. День
Владивосток, улица 25 октября
С Уссурийска до Владика я доехал за рубль. И потратил еще пять копеек на автобус, увезший меня от автовокзала. Город за окном узнавался как бы не до конца, словно растеряв ставшее для меня привычным – высотки, эстакады, вечные пробки на дорогах.
Нынче никакой толчеи на улицах краевого центра не наблюдалось, и назойливой рекламы не видать. Правда, хватает идеологии – красные флаги, серпы и молоты, громадные инсталляции на крышах, вроде мантры «Слава КПСС!», попадались частенько. Но я даже радовался «наглядной агитации» – она как будто подчеркивала, что «светлое» прошлое снова стало для меня настоящим. А о том, какое время на дворе, напоминали символы Олимпиады и ее удачный талисман – чижиковский Мишка.
Вышел я напротив железнодорожного вокзала. Здание красивое, в духе русской готики, но я его не любил. Ведь Владивосток – тупик, конец Транссиба.
Вернувшись назад, поднялся до семиэтажной громадины, к которой приклеилось народное прозвище «Серая лошадь». Державный полудом-полудворец в стиле сталинского ампира, действительно был выдержан в пепельных тонах, но вот причем тут непарнокопытное – тайна, покрытая мраком.
Я вошел в гулкий подъезд, где меня «встретили» статуи львов и витые перила. Старенький лифт поднял на несколько этажей, и мой палец вжал кнопку звонка у высокой двери. Здесь всё такое – потолки в три с половиной метра, огромные комнаты, даже свой детсадик есть.
«Всё во имя человека, всё для блага человека».
Правда, в «Серой лошади» изначально селились люди, скажем так, непростые – чины из НКВД, ученые, артисты, адмиралы с генералами…
Замок влажно щелкнул, и створка отворилась, выпуская длинного как жердь парня лет тридцати, обряженного в бело-голубой спортивный костюм «Адидас» и синие кроссовки, столь же дефицитные. С фирменным прикидом контрастировало скуластое славянское лицо, густо присыпанное веснушками. Сквозь линзы очков, посаженных на широковатый нос, смотрели прозрачные глаза в тон спортивке.
Взгляд скакнул по площадке, и сфокусировался на моей персоне.
– Э-э… Здравствуйте.
– Здравствуйте, – отвесил я легкий поклон. – Евгений Петрович?
– Да, это я, – зрачки спортсмена потемнели.
– Мне вас рекомендовали, как минеролога и коллекционера.
Евгений Петрович запустил пальцы в гривку светлых волос, и разлохматил прическу.
– Заходите!
Я перешагнул порог, на ходу вынимая коробку с образцами.
– Мне они достались от одного старого геолога… Так что, никакого криминала.
Хозяин заметно успокоился. Его поведение могло показаться странным, Евгений Петрович будто подозревал меня – вдруг я засланец «органов»? Да только «Евгеша» всегда был таким – не верил никому вообще, даже собственной жене. И не потому ли уберегся от излишнего внимания милиции?
В девяностых этот скромный «собиратель камушков» ворочал миллионами, скупал у горняков минералы за бесценок, те и рады были приработку. А ведь даже завалящий кристалл пирита уходил за сто долларов! Но нынче будущая акула подпольного бизнеса выглядела зашуганной рыбешкой.
– Вот, решил продать подарок, – спокойно договорил я, – чтобы купить другой – маме.
– Понимаю, понимаю… – склонился собиратель, заметно ободряясь. – Ого! Лазурит! Афганский?
– Афганский, – подтвердил я.
– Ах, какой глубокий цвет… – зажурчал Евгений Петрович, любуясь переливами синевы на гладких боках камня. – О, чароит! М-м… – он выпрямился. – Молодой человек, вы в курсе, сколько всё это стоит?
– Четыреста-пятьсот.
– Ну, да… – промямлил мой визави. – Где-то так. М-м… Лазурит я возьму обязательно. И чароит. Сто пятьдесят за оба. М-м?
– Годится, – кивнул я.
– Черт побери… – страдальчески сморщился коллекционер. – Почему-то денег не хватает именно тогда, когда они особенно нужны!
– Закон подлости, – тонко улыбнулся я.
– А знаете, что? – затянул Евгений Петрович, и тут же сменил рассеянный тон на деловитый. – Я вам сейчас напишу записку, и вы отнесете минералы к одному полковнику. Иван Павлович в нашем доме живет, только во втором подъезде… – он начеркал шариковой ручкой на половинке тетрадочного листа, прижимая его к зеркалу трюмо. – Держите! Ах, да…
Собиратель и знаток сунул мне новенькую сторублевку солидных желтоватых тонов, и зеленую пятидесятку.
– Постараюсь выцыганить ваши кристаллы у товарища полковника! – подмигнул он. – Военные люди обычно лишены корысти… Ну, не считая прапорщиков! Хе-хе…
Я откланялся, и живо одолел ступеньки, ощущая, как приятно давит на бедро наличность. Половина отцовской зарплаты!
Подумав, оглянулся, и расстегнул ширинку. А перепрячу-ка я деньжата в кармашек на плавках… Целее будут. На барахолке такие виртуозы крутятся – что ты! Обчистят, и не заметишь. Где ловкими пальчиками, где лезвием «Нева»…
В парадное вошла толстая тетка, обтянутая модным трикотином, а ее локоны цвета соломы, наверняка познавшие пергидроль, пружинили под жуткой шляпой с цветочками. Я мигом отвернулся, и поднес ладонь к лицу – вроде как, нос зачесался. Ни к чему светиться зря, тут изворотливый «Евгеша» прав на сто процентов.
Выйдя на улицу, передернул плечами – ветер с моря сдул духоту, зябко освежая. Шмыгнув в соседний подъезд, я поднялся на второй этаж, и позвонил.
Полковник был орел. Седина и редкие морщины не слишком его старили. Костлявые плечи по-прежнему широки, и выправка чувствуется. А холодные серые глаза отражают легкую иронию, да осторожное любопытство.
– Здравия желаю, товарищ полковник! – отчеканил я, протягивая записку от «Евгеши».
– Вольно, – улыбнулся отставник. Мельком прочтя писульку, он посторонился, впуская меня. – Прошу!
Войдя, я сразу открыл коробку, но хозяин замотал головой:
– Ничего с ними не сделается, молодой человек. Буквально десять минут назад я заварил из-зумительный чай, а выпить не с кем! Гости у меня нечасто бывают… Составите компанию?
Я подумал.
– А к чаю есть что-нибудь?
– Найдется! – засмеялся полковник. – Позвольте представиться: Иван Павлович Кирш.
– Даниил Скопин, – отрекомендовался я, и улыбнулся: – Просто Даня.
– Очень приятно, Даниил.
Переобутого в хозяйские тапки – войлочные, наверняка монгольские, – меня провели в просторную гостиную, обставленную со вкусом. Антикварная мебель не загромождала комнату, подгоняя ее под крикливый купеческий стандарт, а создавала уютную старорежимную атмосферу. Домашнюю.
Порой случается, что помещение, заполненное дорогой мебелью, обретает музейную затхлость, но тут всё по-другому, всё, как надо.
Я присел на резной стул, как бы не работы Гамбса, и полковник взял в руки пузатый фарфоровый чайник. Две янтарные струи пролились в полупрозрачные чашки, а Иван Павлович кивнул в сторону разукрашенного инкрустациями серванта-«горки».
– Моя коллекция!
На мраморных полочках красовались маленькие сокровища недр, посверкивая гранями в дневном свете.
– Я не гонюсь за ценой или редкостью, – журчал Кирш, вскрывая плоскую коробочку «Птичьего молока». – Для меня главное – красота косной материи! Чтобы смотреть, и удивляться – до чего же природа богата на выдумку, даже бездушный камень наделяя великолепием. Как вам чай?
– Восхитительный! – честно признался я. – А запах какой! М-м… – откусив полконфеты, поинтересовался: – А вы в каких частях служили, Иван Павлович?
Прихлебывая чаек, Кирш ухмыльнулся, заговорщицки подмигивая:
– В нелегальных!
Меня чуть смех не разобрал. Не знаю уж, к какому роду войск причислял полковника «Евгеша», этот горе-конспиратор, но, вероятно, ему даже в голову не приходило, что доверяется чекисту.
– Дайте, отгадаю! – булькнул я, подозревая, что радушный хозяин плеснул в чаек коньячку – «для запаха». А то уж больно хорошо пошло. Расслабленно помаргивая, я присмотрелся к старикану. Хотя… Не такой уж он и древний. Лицо гладкое, простодушное, а глаза – сплошной наив. Видать, внуками не обзавелся, вот и привечает, кого попало. Нежась в релаксе, я мурлыкнул отгадку: – ПГУ КГБ?
– В точку! – мелко рассмеялся Иван Павлович, подмигивая. – Может, и отдел угадаете?
– Первый?4– азартно предположил я, лопая конфету с моей любимой – желтой – начинкой.
– Мимо! – хихикнул Кирш. – Второй! Полжизни в Лондоне провел, хотя никаких приключений в духе Джеймса Бонда не испытал. Ни погонь, ни перестрелок, да у меня и пистолета-то не было! Зарывался в скучные бумаги, анализировал всякие разности…
Я понятливо кивал, совершенно расположившись к гостеприимному кагэбэшнику. Прихлебывал чаек – и бессовестно тягал конфету за конфетой.
«И не стыдно тебе? – всплыла разморенная мысль. – Полкоробки схомячил!»
– О, самое время! – подхватившись, полковник прошлепал в прихожую, которую так и тянуло назвать холлом, и вернулся с моей коробкой.
– Ух, ты! – восхитился он, перебирая минералы. – Аметисты… Гранаты… Мелкие, но красивые… А это что? Неужто рубины?
– Скорее, корунды, – авторитетно ответил я, цитируя Иннокентьича, и сделал большой глоток. – Для ювелирки… не годятша.
– Бадахшан?
– Афганистан, – мотнул я головой, мрачнея. – Чертов Афган… Не дает он мне покоя!
– Да что с ним не так? – подивился Кирш, любуясь камнями.
– Война там скоро начнется! – ляпнул я. – Наши, под самый Новый год, додумаются войска туда ввести. И такая кровавая каша заварится… Кабул… Герат… Кандагар… И американцы тут как тут! Завалят моджахедов оружием, лишь бы устроить «советский Вьетнам»… Да и черт бы с ними, так ведь суть-то не в ужасах войны, и даже не в потерях! Надорвется СССР в Афгане, вот в чем дело, а десять лет спустя и вовсе развалится… Знаю – сам всё это пережил! Что вы на меня смотрите? Думаете, у мальчика шарики за ролики заехали на почве пубертата? Не-ет! Я из будущего, понимаете? Перенос сознания во времени! Или этой… как ее… психоматрицы! Да один черт… Я из две тыщи двадцать второго года сюда попал, и мне – не телу, а личности! – пятьдесят восемь. Не верите? Ну, поня-ятно… А, между прочим, мое иновременное происхождение легко доказать – я же работал инженером-связистом, и всё прекрасно помню. Да-а! Чуть только пропадает связь или интернет, все сразу ко мне: «Кузьмич, выручай!» Бывало, даже из отпуска отзывали, ага… А со здешними АТС справлюсь только так!
Я говорил и говорил, ощущая громадное облегчение, пока не выдохся. Утомился, зато внутри – приятная опустошенность. И дышится вольно, и сердце ровно постукивает…
А вот полковник выглядел расстроенным и подавленным. Он даже, по-моему, состарился чуток.
– Что с вами, Иван Павлович? – спросил я участливо.
Не отвечая, Кирш придвинул ко мне свою чашку.
– Выпейте, Даниил… Кузьмич, – пробормотал он, пряча глаза.
– Спасибо, – покачал я головой. – И так уже конфет объелся.
– Выпейте! – в голосе полковника звякнул металл.
Пожав плечами, я отхлебнул крепкий настой, большим глотком осушив изящную посудину из старинного китайского фарфора. Облизывая губы, замер, чуя, как холодеет душа. Вероятно, нечто подобное ощущает пьяница, попадая в медвытрезвитель – и теряя спиртные пары под душем в упор. Мысли беспокойно заворочались, наперебой гвоздя тошной правдой: «Ты раскрыт! Всё пропало! Провал! Болтун – находка для шпиона!»
Без сил откинувшись на спинку, спросил глухим, дребезжащим голосом:
– Я пил не простой чай?
– Да, – неохотно признал Кирш. – Я же говорю, редко кто навещает меня, вот и балуюсь… Подливаю гостю в чай ка-апельку особого эликсира, им пользуются китайские агенты… Та же «сыворотка правды», только никакой химии – натуральная, на тибетских травах. Наши спецпрепараты надо в кровь вводить, а тут – угощай, да слушай…
– И записывай? – усмехнулся я, кривя рот.
– Нет, – качнул полковник головой. – Магнитофон не включен. Я… Я настолько растерялся, слушая вас, что буквально окаменел! – он с силою сцепил сучковатые пальцы, так, что костяшки побелели. -Даниил Кузьмич… Простите меня, ради бога! Понимаю, что они дурацкие, эти мои стариковские забавы, но… О-ох! Что же делать-то?
Я безразлично пожал плечами, продолжая думать о своем.
– А в вашей чашке… что-то вроде антидота?
Кирш виновато кивнул.
«Старик-разбойник…» – подумал я, примиряясь с действительностью.
– Знаете, Иван Павлович… – молвил вслух. – Должен вам спасибо сказать – мне здорово полегчало. Послезнание – это такая морока! И захочешь – не забудешь. Корчишься в душе, а как быть, понятия не имеешь…
– Даниил… – пошевелился Кирш, и закашлялся, нервно-зябко потер ладони. – От этого китайского снадобья спасенья нет, оно вскрывает любую натуру, и вытаскивает на свет правду, только правду, и ничего, кроме правды. И… Знаете, всякого наслушался, угощая… хм… чайком. И про измены жене, и… о всяких девиациях… Но такого… – он развел руками и беспомощно затряс головой. – Честно признаюсь: мне бы очень хотелось махнуть рукой на все услышанное, приписав… Ну, не знаю… Ну, скажем… у эликсира истек срок годности! Так, ерунда же! И теперь… И теперь, раз я имею дело с информацией особой государственной важности, ее нужно донести до того, кому следует. Кто способен не допустить гибельной ошибки. Понимаете?
– Понимаю, – вытолкнул я. – И кому ж ее доносить? Брежневу? Андропову?
– Пока не знаю… – медленно протянул полковник, набираясь решимости. – Но время у нас есть, хотя и мало. Вы со мной, Даниил Кузьмич? – он неуверенно протянул руку.
Подумав, я пожал ее.
Тот же день, позже
Владивосток, улица Баляева
Зашипев тормозами, автобус остановился, и я вышел. Полтораста рублей давили в низу живота, а еще двести с чем-то похрустывали во внутреннем кармане синего пиджака «под вельвет», идеально сидевшего на моей нескладной фигуре. Обновку я купил в комиссионке. Мэйд ин Джапен.
Отойти от всего, произошедшего сегодня, мне еще не удалось. Муть висела в душе, потихоньку оседая. И все же, где-то там, в неясных глубинах моего «Я», кристаллизовалась некая спокойная решимость и даже веселая злость.
Доигрался, старый шпион? Вот, и майся теперь с вонючими тайнами грядущего!
Хотя мне показалось, что Иван Павлович даже доволен – он снова в деле! За всей его задумчивостью, нервозностью и смущением пряталось чисто мальчишеское удовольствие – ура, он встретил настоящего путешественника во времени!
«Слетаю в Москву! – ронял он, оживленно мечась по комнате. – Проверю всё, встречусь… с кем надо, потолкую… А вы обязательно позвоните мне, ладно? Но не раньше воскресенья! Вот мой московский номер…»
Я впервые за последний час улыбнулся. Не скривился в жалкой усмешке, а расплылся, растянул губы, радуясь нежданной перемене в судьбе. Хотя… Ох, и страшновато заглядывать в завтра, в послезавтра! Что сбудется? Чего дождусь? Бог весть…
А юные ноги, ни о чем не беспокоясь, бодро шагали по трамвайным путям. Вскоре завиднелся колхозный рынок, и я внимательно осмотрел торжище. Крепко сколоченные ряды под навесами и без, ломились от овощей и фруктов, дюжие краснолицые колхозницы вступали в товарно-денежные отношения с недокормленными горожанами, а на свободном «пятаке» сновала фарца. Кто с яркими пакетами под мышкой, кто – руки в карманы, но хитрые глазки одинаково шныряют по толпе, выискивая заезжих лохов.
«Кэпа» я вычислил минуту спустя – плечистый мужик в возрасте сидел на лавочке, лениво щелкая семки. Его «мариманское» происхождение выдавала мятая капитанская фуражка.
Я сел рядом, и безмятежно сказал, будто пароль выдавая:
– Мне полковник велел вас найти.
– Чего надо? – «Кэп» наклонился, докидывая шелуху до урны.
– Да так, по мелочи. Духи «Мажи Нуар» и тушь для ресниц «Луи Филипп», набор лезвий «Шик Платинум» и туалетная вода «Даккар».
Морячок прикинул в уме, и выдал сумму:
– Сто десять.
– Сто.
«Кэп» задумался, вздохнул, и сокрушенно вытолкнул:
– Сто десять.
– Ладно, согласен.
– Жди у трамвайного депо, вынесу…
Кряхтя, моряк встал и пропал в толпе, а я неторопливо зашагал с рынка.
В небе ни облачка, травка зеленеет, у девушек платья до середины бедра… Скашивая глаза на стройные ножки, я мягко улыбался светлому будущему.
Полчаса спустя автобус увез меня к вокзалу. «Кэп» не обманул – в моих руках позвякивал пакет с подарками.
Не то, чтобы я подлизывался к родителям, или заглаживал некую незримую вину. Просто… Что, если не отец с матерью плохи… Нет, не так! Что, если не мама с папой плохи, а я – никудышный сын?
«Доеду до Уссурийска на электричке», – пробилась мысль через новое смятение…
…День потихоньку клонился к вечеру. Скоро на улицах привалит суетливой толпы, но никто из владивостокцев, спешащих со смены домой, даже не догадается, что сегодня история дала сбой. Что ничтожный микроб… ладно, два ничтожных микроба влезли между ее клацающих шестерен, отмеряющих секунды и века.
Смешные микробики! Они бросили вызов величавому кружению времен, желая странного…
Глава 3.
Суббота, 1 сентября. Раннее утро
Липовцы, улица Ушинского
В школу я шагал в гордом одиночестве, без родительского конвоя. Отец вышел в смену – побрился с утра, крякнул довольно – и завел болотно-зеленую громадину «КрАЗа», почивавшего во дворе.
А мать и вовсе устроилась на работу – почтальоном в местное отделение. Оживленная и суетливая, она тараторила всё утро, наставляя сыночка, а между делом подводила ресницы и бережно тратила капельку французских духов.
Ну, а мне, наконец-то, удалось обуть «страшенный дефицит» – японские туфли «Чори», мягкие, удобные, но вряд ли за них пострадала хоть одна свинка. Ну, или овечка.
Наверняка кожзам, но мама вполне натурально гордилась добычей «из-под прилавка». А брючки мои и без того хороши – шитые старым Кацманом в Унече, крепкие и ладные, они сидели на мне не хуже всяких джинсов.
Короче говоря, весь упакован и обвязан ленточкой. Ну, хоть букет мама всучить забыла, а я не стал напоминать – цветы выбивались бы из брутального образа…
Вздох мой вышел слегка наигранным. За лето я окреп, и отражение в зеркале уже не так портило настроение, как в седьмом классе. Ну, не Адонис, конечно, не Антиной.
«Надо на секцию записаться», – мелькнуло в голове.
И сразу же переживания унесли мысли, будто волна, смывающая замок из песка. Как там Кирш? Что с ним? И где он, вообще?
Полковник вылетел в Москву, расспросив меня о «перестройке», о восьмидесятых, о шпионах и предателях. Мы даже «легенду» вместе придумали – дескать, о будущем нам залетный медиум рассказал. Общается-де с людьми XXI века. Телепатически.
«И еще, – Иван Павлович строго посмотрел на меня. – Запомни несколько кодовых фраз, поскольку телефон может прослушиваться. Если я скажу: «Всё в порядке» – это сигнал тревоги. «Всё в полном порядке» – провал…»
Я только кивал, соглашаясь и принимая правила игры, а полковник опустил на пол свой походный чемоданчик, и подошел к комоду.
Долго, помню, стоял, гладил пальцами старую фотографию в рамке.
«Дочь, – глухо вытолкнул он. – Жена умерла – рак, а Наташка… Да я ее почти что и не видел, всё загнивающий империализм созерцал. У тети Агаты жила, росла… Без меня пошла в первый класс… Без меня поступила в медицинский… А когда мы встретились, Наташа… Взрослая и чужая! Кто я для нее? Она меня даже на фото не видела, нельзя было. Синдром Штирлица… Наташка лет пять в Африке прожила – моталась по саванне, людей лечила. В Москву буквально на месяц наведалась – внука родить. Антошку… И опять умотала в джунгли. И пропала. Без вести. И дочечка, и внучок… Вот всё, что осталось – «Свидетельство о рождении». Осенью Антошке четырнадцать бы исполнилось… Бери, может пригодиться…»
Я развернул зеленые корочки. Антон Кирш. Безотцовщина.
«Возьми. возьми, – засуетился полковник. – Пользуйся…»
Я взял. А теперь не знаю, что и думать.
Нет, за себя я не боялся. Даже если Иван Павлович нарушит свое обещание, и расскажет о «попаданце», то чекистам нечего мне предъявить, нечем прижать.
Мало ли что им полковник наговорит, схлопотав укол спецпрепарата СП-26! Я-то тут причем? Ну, начитался старикан фантастики, как Дон Кихот – рыцарских романов, вот и бросился на ветряные мельницы, не щадя живота своего… Ко мне-то какие претензии? Писем ни в ЦРУ, ни в КГБ не строчил, «закладок» в условном месте не оставлял… В чем дело, товарищи? Ну да, продал Киршу камушки, хотел матери подарок сделать. Ну и что тут такого? А больше я ничего не знаю! Так и запиши, гражданин начальник…
Мои губы искривились в усмешке. Вот, уже и сдать готов… Да нет, чего зря болтать. Просто… Вышло всё как-то незаметно, а нынче – вполне себе зримо. Я встретил товарища в этом времени, и наше общее дело уже заслонило и учебу, и «предпринимательскую деятельность».
Иные беспокойства холодили нутро. Мелкая тревога за себя, любимого, мелькала порой, вильнув мышиным хвостиком, но ее передавливали тяжкие страхи за Ивана Палыча.
Что я? Я тут, сижу на попе ровно. А он – там, мается между друзей и врагов. Врагов! И не каких-нибудь зловещих «агентов империализма», а вполне себе тутошних, матерых функционеров – будущих предателей, показушно сжигавших партбилеты.
Это наивно – числить в изменниках родины одних лишь Горбачева с Ельциным. А сколько иудушек поддержало первых презиков СССР и Эрэфии? И вся их рать нынче активно тусуется, вплоть до ЦК КПСС, как насекомая нечисть под трухлявой доской на даче…
А уж исчезнуть человеку, хоть и настоящему полковнику, ничего не стоит. Даже если ликвидаторы сработают непрофессионально, и оставят следы, в милиции зафиксируют еще один несчастный случай. Не остерегся старичок, не в том месте дорогу перешел…
…Праздничные марши, разносившиеся со школьного двора, накатили бравурным прибоем, путая мысли и окуная в безалаберный позитив. Я прибавил шагу.
Липовецкая школа не подавляла величиной – скромное двухэтажное здание с фронтоном – зато разудалого шумства хватило бы на пару пятиэтажек. Неровное каре из учеников и учениц походило на потешное войско. Командиры-учителя с достоинством обозревали строй, а родители кучковались в тылу.
По всему видать, я пропустил пафосные речи и напутственные слова – торжественная линейка волновалась перед первым звонком. И вот он задребезжал, пронзительный звень, распуская эхо по этажам и рекреациям. Толпа малолеток и недорослей покачнулась, и смешалась, гомоня, с криками и хохотом втекая в школьные двери. Девочки в аккуратных платьицах, в гольфиках-бантиках-фартучках, возмущенно наподдавали портфелями малость одичалым мальчишкам, а те ломились к источнику знаний в разудалом стайном неистовстве – фойе дрожало от гулкого топота.
Войдя в числе отстающих, я безошибочно поднялся на второй, узнавая скрип деревянных ступеней, и двинулся к последней двери, вздрагивавшей от смеха, визгов и галдежа. 8-й «А».
– Скопин! – догнал меня голос классной.
«Сейчас перепутает имя…» – мелькнуло у меня.
– Давид!
– Даниил, – вежливо поправил я, оборачиваясь.
Маленькая и худенькая Анна Михайловна тряхнула пышной химзавивкой, принимая к сведению, и ввела меня в класс.
– Тихо! Тихо! – прикрикнула она, и десятки юных лиц и личиков обернулись, окутывая флером бесшабашной пытливости и неутоленной жажды действия.
– Анна Михайловна! – взвыл Димка Фастов. – А чё она кидается!
– Щас как дам! – развернулась Ленка Манякина, и мальчиш, изображая крайнюю степень испуга, вжал голову в плечи и прикрылся папкой, толстой от учебников.
– Не придуривайся! – яростно взвился девичий голос.
– Тихо! – повторила классная руководительница, выходя к учительскому столу, как к трибуне. – С этого года с нами будет учиться новичок – Данил Скопин.
Глаза повзрослевших детей уставились на меня. Карие, синие, голубые… В них плескался неподдельный интерес и ехидца, нарочитая скука и угроза. Я оглядел класс, узнавая или пытаясь вспомнить полузабытых-полузнакомых.
В прошлый раз я отучился здесь до весенних каникул, пока родителям не вздумалось снова переезжать – еще дальше в глушь, в таежные дебри, где водятся длинные рубли.
За годы черты одноклассников растворились в памяти, стерлись фамилии и клички. Кого-то помню, а других – хоть убей…
Вон, в первом ряду сидит щуплый Васька Адамадзе. Меня он в упор не видит. Ладно, переживу как-нибудь… Над задней партой, в дурацком клетчатом костюмчике, нависает горбоносый Сашка Глухов, второгодник с повадками гопника.
А вон и Алла Комова. Сидит и смотрит на меня, то ли рассеянно, то ли задумчиво. Место рядом с ней свободно, как и тогда было, в «черновой» жизни – мальчишки не решались подсаживаться к самой красивой девочке в классе. А вот я сяду – хотя бы ради статуса. Ну, и чтобы обострить наметившийся конфликт, углубить раскол – девчонки поглядывают на меня с интересом, глазки начинают строить, а недозрелые особи мужеска полу… Ага, заерзали, забеспокоились! Вон, двое уже зыркают исподлобья…
Да ну их…
Мне, хоть и в юном теле, но шестой десяток, и одноклассники для меня – дети. Встречаться с девочками из класса? А чего для? Ловить робкое дыхание? Увольте – скучно. «Секс с первого взгляда»? С кем? С дитём?
Даже хорошенькая Алла – ребенок, нераспустившийся бутон. Нимфетка со вторым размером груди. Не-е… С Лолитами пускай Гумберты Гумберты резвятся, а мне – мимо и дальше.
– Так что, – жизнеутверждающе заключила Анна Михайловна, – прошу любить и жаловать!
– Будем любить! – хихикнула Манякина, косясь на Димку.
Тот набычился, и буркнул:
– А жаловаться – фиг!
– Ой, балбе-ес… – замотала косичками Лена, строя из бровок горестный домик.
Я подпустил к губам «взрослую» улыбку, снисходя до малышовых шалостей.
– Садись, Скопин!
Мне осталось приблизиться к Алле, с удовольствием следя, как округляются глаза в опуши ресниц, а на щеках выступает нервный румянец.
– Можно? – испросил я разрешения, подпуская в голос обволакивающей бархатистости.
Девушка кивнула, и склонила голову, в третий раз перебирая тетрадки, а я, с удовольствием слыша, как колышут воздух шепотки, достал алгебру. Первым уроком – начала матана…
– Так, прослушайте объявление, ребята! – классная воздела руку, указуя пальцем в потолок. – В понедельник приходим в рабочей одежде. Едем на картошку!
Восьмой «А» ответил зычно, но не общим гласом – одни тянули восторженное «О-о-о!», другие унылое «У-у-у!»
Анна Михайловна процокала к дверям, сталкиваясь с пожилой математичкой. Вероника Матвеевна вошла стремительной, энергичной походкой, шелестя строгой юбкой гимназической длины. Из-под голубой кофты выглядывала белая блузка, а седые космы учительница повязала цветастой косынкой, напоминая постаревшую рабфаковку.
Сразу было видно – Вероника Матвеевна выше мирских забот и всяческой суеты. Больше всего на свете она любила заниматься математикой, а если за это еще и зарплату получать, то чего же лучше.
– Подросли? – задала математичка дежурный вопрос, небрежно сгружая на стол журнал и деревянный транспортир. – Загорели?
– Ага! – ответил класс вразнобой.
– А у нас новенький! – доложил одинокий голос.
– Да ну? – учительница порывисто отошла к окну, отворяя форточку, и достала сигареты «Стюардесса». – И кто же это?
Я встал, выйдя из-за парты, и представился:
– Даниил Скопин. Ну, или Данил.
Вероника Матвеевна ловко прикурила, затянулась, щуря глаза, и выпустила дым в форточку тонкой сизой струей.
– Ну, или Данил, – улыбнулась она суховатыми губами, – а что у тебя по математике?
– Пять.
– Отлично!
Быстро досмолив сигарету, учительница вернулась к столу и сказала хорошо поставленным голосом:
– Запишите новую тему: «Алгебраические дроби и допустимые значения переменных»…
* * *
Звонок грянул глухо и как-то неуверенно, словно отвыкнув сверлить мозг истошным набатом. Однако класс сразу ожил, заегозил, предвкушая краткие минуты вольницы.
Я посмотрел на Аллу. Девушка напрягалась весь урок, стараясь не касаться меня даже взглядом.
– Если тебе неприятно мое соседство, – тихонько заговорил я, склоняясь к девичьему ушку, – могу пересесть.
– Нет-нет, – вздрогнула Комова, удушливо рдея. – Не надо…
– Ладно, остаюсь, – губы изогнулись в самой милой из моих улыбок.
Тут же мне с задней парты ткнули линейкой в спину. Я обернулся к грудастенькой и круглолицей девчонке, чьи глаза пылали неутолимым и въедливым любопытством.
– Чего там шепчетесь? – зашипела она, ложась на парту.
«Варя Терентьева!» – вспомнил я. Надо же… Как имя сочетается с главной жизненной страстью…
– Назначаю свидание, – мурлыкнул я. – А что?
Любопытная Варвара вспыхнула, заалела щечками, а Комова дернулась, выталкивая:
– Неправда… Мы просто…
– Да не обращай ты внимания, – мягко присоветовал я, развернувшись, и встал. – Вероника Матвеевна!
Галдеж поднялся до пиковых высот, уже не вмещаясь в классе, и хлынул в рекреацию. Мне пришлось выйти к самому столу – математичка скорым, летящим почерком заносила в журнал чернильные строчки.
– Вероника Матвеевна, а когда будет школьная олимпиада по математике?
Учительница с новым интересом глянула на меня.
– Хочешь участвовать?
– Хочу.
– Ага… – сухие нервные пальцы вертели ручку с золотым пером. – Пятнадцатое сентября тебя устроит?
– Вполне, – я отзеркалил улыбку, скользнувшую у математички по губам.
– Ну, все. Готовься!
Вероника Матвеевна широким, немного мужицким шагом двинулась из класса. Память потянула меня туда же – память о великолепных, восхитительно толстых оладьях из школьного буфета. Но не судьба – человек семь или восемь девчат и ребят, из тех, кто держал нейтралитет, обступили меня.
– Скопин, а ты откуда? – звонко поинтересовалась миниатюрная девчушка с парой огромных бантов на «хвостиках».
– Из Унечи, – в моем ответе звучала покорность. – Это в Брянской области. Райцентр.
– Больше Липовец? Или как? Липовцев?
– Ненамного, – покривил я душой.
– А ты марки собираешь?
– А кто тебе больше нравится – Алла или Лена?
– Димон, сейчас допросишься!
– А в футбол играешь? А в баскет?
– А ты чё, взаправду на олимпиаду? Сечёшь по матёме, да? О, я у тебя на контрольной списывать буду!
Спасибо уборщице – тетя Глаша дала звонок точно по расписанию. Он-то и прервал мое интервью. Но не стоило обманываться зримым доброжелательством, как в прошлой жизни, и верить, будто нечаянные одноклассники приняли меня.
Новичок и за год не станет своим, тем более в восьмом классе – тутошние «старички» выросли вместе, сроднясь по малолетству. Да и не собирался я укореняться на здешних грядках, у меня иные планы на жизнь…
– Ты не знаешь, что у нас по расписанию? – неожиданно спросила Алла. – Я забыла дневник заполнить…
– Инглиш, – рассеял я ее незнание, и обаятельно улыбнулся.
Понедельник, 3 сентября. День
Октябрьский район, совхоз им. Тельмана
Увесистый корнеплод врезался в плечо. Я быстро обернулся. Фастов? Не-ет… Это Андрюша. Фамилии не знаю, да и зачем она мелкому пакостнику? Мельчайшему. Я тоже не дылда, на физре стою четвертым по росту, но Дюха и вовсе «полтора метра с кепкой».
Второе попадание, однако! Пора оказать сопротивление. Я взвесил подходящий снаряд – картошка приятно оттягивала руку.
Ножи метать так и не научился, а вот окатышем шавку сносить – умею. Нужда заставила. Столько, помню, псин развелось на дачах, что я загодя гальку подбирал. Иду и озираюсь. Бросится дружок человека, я как пульну… Визгу! А мне в кайф…
Размахнувшись, швырнул картофелину. Тут Дюха обернулся полюбопытствовать, жив ли я после мощного накрытия – бульбочка влепилась ему прямо в лоб. Пацаненок взмахнул руками, и плюхнулся задницей на рядок, а я вскинул обе руки, скрепив их в известном жесте – физкультпривет!
Прилетело сразу две ответки – внушительные, такие, клубни. От одного удалось увернуться, а другой – поймать. И уложить в ведро.
Уродилась нынче картошечка! Рядки на совхозном поле, подкопанные трактором, переполнились урожаем. Замучишься убирать – спина уже ныла. И я приспособился – из уборщика «перевелся» в носильщики. Та еще работенка, так хоть спину не гнешь. Туда-сюда. Пока дотащишь два ведра до прицепа, девчонки успеют еще пару цинковых набрать. Так и челночил.
Звякнув пустыми, оставил их на рядке – картофелины гулко посыпались, колотясь о дно. Аня Званцева с Женей… м-м… не помню… кряхтели в позе лягушек, наполняя гудящую тару.
– Даня! – донесся зов Аллы. Девушка приподняла голову, тыльной стороной ладони отмахивая непослушную прядь. – Забери наши, пожалуйста!
Лена, трудившаяся с другой стороны рядка, вскинула голову, одарив лукавой улыбочкой.
– Привет ударницам! – крякнул я, подхватывая ведра.
Девушки заново блеснули зубками.
С самого утра всё шло просто замечательно. Весь класс дружно залез в кузов бортового «ГАЗика», где работники сельского хозяйства выставили лавочки, и с хохотом, с визгами покатили мы в поля. Поработали в охотку, и даже обед выглядел пикником – расстелили газеты на увядшей траве, разложили, кто чего из дома прихватил – колбаску, сырки, яйца, пирожки, консервы…
Адамадзе нарезал хлеб ломтиками, гордясь своим пружинным ножом, а Фастов подсуетился, разжигая костер – чаек заварили по-походному, в котелке.
Но я все равно не позволял себе расслабляться – помнил былой вариант жития. Вот и подмечал малейшие намеки на обострение ситуации.
Прекрасные дамы ни при чем, хотя именно они, не желая того, вдохновили классное рыцарство на сомнительные подвиги. А «рыцари» всё перешептывались, значительно поглядывая в мою сторону, хихикали, сговаривались…
«Бить будут!» – ежилась трусоватая сторона моей натуры.
«Пусть только попробуют!» – хорохорилась пожилая личность.
…«Беларусь» затарахтел, валко прокатываясь пару метров, и снова замер. Дощатый прицеп, полный картошки, согласно лязгнул.
Выжав ведро, я протянул его Вовану, курносому и губастому парубку. Тот сноровисто высыпал картошку, небрежно скинул пустое ведро на рядок, и принял полное. Вниз он не глядел, да и к чему мне его внимание? Час «Д» приближался, и я даже знал место битвы…
Будто вторя моим мыслям, режуще завопила Анна Михайловна:
– Ребята! Заканчиваем! Пустые ведра складываем на прицеп! Машина будет ждать нас в пионерском лагере!
Красны девицы радостно разогнулись и заголосили, а добры молодцы поддержали настрой гоготом – ломкие баски то и дело срывались в детский фальцет.
Разминая плечи, я накинул шуршащую болоньевую куртку, испятнанную краской – мама решила, что такая одежа лучше всего подходит для труженика полей.
Девчонки щебетали, приводя себя в порядок, а мальчишки стягивались в кое-как организованную толпу, которую они считали отрядом мстителей. Уловимых.
За лесополосой класс выбрался на ямистую дорогу, и по ней мы дошли до свежеокрашенных ворот пионерлагеря – створки «охранялись» двумя профилями горнистов, вырезанными из листового металла.
– Я тут два года не была! – воскликнула Аня, поправляя санитарную сумку через плечо. – А всё, как тогда! И качели, и вообще…
– А вон наш корпус! Вон, зеленый!
– Разве мы в зеленом жили? По-моему, в синем.
– Да перекрасили, наверное!
– А тихо как…
Я вслушался. Грубоватый мальчишеский смех и топот оживляли замерший лагерь, словно оцепеневший по колдовскому велению. Но всё равно, печальная и безмолвная прелесть осени трогала душу – ранней желтизной дерев, глубочайшей синью неба.
Погоды стояли хорошие, чувствуешь себя как в истопленной бане к вечеру – печь давно погасла, но тепло все еще держится, разве что парная остыла.
С ветки сорвался красный лист, и плавно вошел в штопор. Хорошо…
Весну я недолюбливаю, воспринимая, как перевал между зимними холодами и летней жарой. А вот осень… Она сама по себе. И нет в ней никакой унылости. Просто надо уметь отойти от житейского бега, и погрузиться в осеннее молчание.
Это буйное лето шумит, цвирикает, звенит, а увяданью подобает покой. Только вот, чтобы настроиться на сентябрьскую волну, надо остаться в одиночестве. Окруженный друзьями или подругами, ты не поддашься тихому очарованию золотой поры, не расслышишь шепот падающих листьев…
В кустах, гикая и давясь смехом, пробежали пацаны, но вышел лишь один Фастов. Девчонки, чуя отдаленную угрозу, обступили меня, и Дима криво усмехнулся:
– За юбками прячешься?
– Да что ты, – улыбнулся я. – Гуляю просто, дышу воздухом.
– Чего надо? – агрессивно выступила Алла. – Что вы пристали к Дане?
– Мы потом пристанем, – пообещал Димка тоном, как ему казалось, зловещим.
– А чего ждать? – резко спросил я. Меня раздражала эта дурацкая ситуация, а молчаливо надеяться на девичью защиту… Ну уж, нет уж!
Алла тревожно глянула на меня.
– Да все нормально, – обронил я, и зашагал через редкие заросли. Растерянный «посол» плелся следом.
«Рыцари» столпились на игровой площадке с рукоходами, турниками и прочими радостями для мышц. Невдалеке, огороженная колючей проволокой, перекашивалась будка насоса, беленая известкой. Ржавая труба подтекала, и каплющая вода смачивала коварную глинистую плешь.
– Ну, и чего бегать, девчонок пугать? – высвободил я копившееся ожесточение. – Чем вы недовольны?
Фастов, похоже, следовал принципу «ни вашим, ни нашим» – встал сбоку, не смешиваясь с остальными юнцами.
– Чем? – он скривился, и умело сплюнул под ноги. – Тем, что ты почему-то нравишься нашим девчонкам! А нам это не нравится!
– Примите мои соболезнования! – оскалился я.
В прошлый раз до драки не дошло, и конфликт тлел, не угасая, до самого моего отъезда. Порой мальчишеские обиды разгорались, прорываясь в реал тычками, подножками и прочими гадостями, но нынче – извините. Хватит мне быть терпилой! И я стал задирать мальчишей:
– Ну, что? Зассали? Вас же восемь – на одного! Есть желающие получить по морде? Только в очередь давайте, в очередь!
И мне удалось-таки проколупать хрупкую плотину неуверенности, удерживавшую одноклассников от рукоприкладства. Лично я не люблю драк, меня сложно вывести из себя, но уж, если это удалось, то «завести» обратно еще труднее. С самого детства колотится в голове: «Не трусь! Не трусь!», а память о прошлых унижениях мотивирует пуще медалей.
На меня бросилось сразу четверо. Замахали кулаками, съездили в челюсть, выбили пыль из куртки – я не успевал отбиваться, но злость всё накручивала и накручивала меня. Искры из глаз! Это Вовка звезданул в подбородок. Я аж «поплыл», спиною падая на изгородь – оцинкованные колючки вцепились в куртку, прорывая болонью. Встряхнувшись, заехал Вовану локтем, ногой достал Димку, и меня заново окружила потная, пыхтящая круговерть. Я и сам захекался, уставая давать отпор, а удары сыпались и сыпались, пробивая слабеющую оборону. Пацаны больше мешали друг другу, но давили числом, а я изнемогал, тупея и заботясь лишь об одном – как бы не упасть.
Внезапно «мстители» расступились, и на меня вышел Адамадзе, щурясь подбитым глазом. В руке Васька неумело крутил свой нож с наборной рукояткой.
– Порежу! – хрипло вытолкнул он, полосуя воздух и отпуская матерки.
Я прянул в сторону, и нога предательски скользнула по мокрой глине. Но и мой противник изогнулся, ловя равновесие, как неумелый фигурист на катке. Едва не падая, он взмахнул ножом – и я почувствовал, как лезвие обожгло щеку, распарывая кожу и пуская кровь.
Адамадзе испуганно отшатнулся, тараща черные глаза, и вдруг плаксиво изломил губы, выбрасывая орудие преступления, как будто оно жгло ему руку. Нож сверкнул, и булькнул в бочке с мутной водой.
– Вы что делаете, дураки? – тонко крича, подскочила Алла, и набросилась на Ваську, на Вована, мутузя всех разом. – Дураки! Дураки какие!
Мальчишки отступали, лишь прикрываясь от распаленной валькирии. Потерянные и жалкие «рыцари» даже не оправдывались. Имей они хвосты, поджали бы.
Удивительно, но в ту минуту я испытал мелкое блаженство – наконец-то натруженные руки отдыхали. Кровь сбегала по щеке тонкой струйкой, и мне пришлось склониться, чтобы не закапать рубашку.
В круге зрения показалась Званцева, дрожащими руками мявшая бинт, но вдруг пахнуло бензином – это подбежал водитель «газона».
– Ну-ка, хлопчик, повернись… – пробасил он, срывая шляпку с бутылки. – Потерпи…
Струя водки ошпарила рану, тут же накрытую ватной подушечкой, и мои непослушные пальцы прижали индпакет к щеке.
– Данечка! Данечка! – достиг ушей дрожащий, плачущий голос Аллы.
– Да все нормально, – прогундосил я. – На проволоку напоролся…
– По машинам! – гаркнул шофер по-армейски, и класс живо полез в кузов.
Меня устроили в кабине, под бочок Анне Михайловне, охавшей и причитавшей всю дорогу.
А я, наоборот, успокаивался. То ли адреналин гулял по венам, то ли шок действовал, но сердце мерно отстукивало пульс.
«Всё нормально», – на ум пошло.
* * *
Суровый врач с прокуренными усами и в строгих очках живо турнул из приемного покоя ученический и преподавательский состав. Мне мигом обработали рану, укололи, зашили – щека онемела, будто я ее отсидел, но не болела, лишь тупо ныла.
Аккуратный тампон мешал, полоски лейкопластыря стягивали кожу, но делать нечего.
– Терпи, казак, – ворчал доктор, – атаманом будешь!
Я, хоть и оклемался малость, но все еще как бы отходил. И, когда в дверях замаячил Иван Михайлович в наброшенном на погоны халате, нисколько не удивился – видел, как он вытаскивал пьяного из мотоциклетной коляски. Служба.
Дипломатично покашляв, участковый присел у двери, а следом заглянул еще какой-то милицейский чин.
– Что случилось, Данил? – взгляд Михалыча обрел прицельность.
– Да дурость случилась, – пробурчал я. – Там глина мокрая… поскользнулся и упал на колючую проволоку. Вон, всю куртку порвал… А щекой напоролся на шип! Под ноги надо было смотреть…
– Простите, Данил, – вкрадчиво сказал незнакомый чин, – а ссадины и синяки у вас откуда?
– Ну, подрались… – неохотно буркнул я. – Но, опять-таки, никто на меня не нападал. Сам, получается, напал! Ну, и получил…
– Следовательно, вы никого не обвиняете? – уточнил чин.
– Обвиняю, – заворчал я. – Себя, дурака.
Участковый, как мне показалось, глянул на меня уважительно, и легонько хлопнул по плечу. Знал ли он характер раны, были ли у него подозрения – об этом история умалчивает.
Милиционеры вышли, а медики, похлопотав еще немного, отпустили меня домой.
«Крику будет…»
Вторник, 4 сентября. Утро
Липовцы, улица Ушинского
– Ты… это… – Адамадзе не знал, как себя вести, и через силу выдавливал слова. – Спасибо, что по-пацански, а то… У меня уже три привода. Узнают если… про всё, точно в колонию упекут…
И тут на него шипящей ракетой налетела Алла.
– Ты что, вообще сдурел? – ее неожиданно тихий голос звенел от напряжения. – Живого человека резать?!
– Да не хотел я! – отчаянно заорал Василий. – Я попугать только! А там скользко, я и… Ну, случайно! Клянусь!
– Аллочка, он действительно попугать хотел, – заговорил я примирительно. – Это же видно было. Просто там глина, как мыло! Он и поскользнулся. И у меня, как назло, нога, будто по льду! Вася просто рукой махнул, чтобы не шлепнуться, а тут я. Вот и…
Комова мило покраснела, и заморгала.
– Очень больно? – вытолкнула она.
– Да не болит уже, так только… Пройдет.
Грянул звонок, и тут же в дверях показалась Анна Михайловна – она вела русский и литературу.
– Скопин! Почему ты в школе?
– Так… это… – я развел руки, словно пародируя Адамадзе. – Жив-здоров! А на перевязку после уроков. Успеваю.
– Ну-у… Ладно! – смилостивилась классная. – Тема сегодняшнего урока – «Слово о полку Игореве»…
Я не слушал, а больше посматривал вокруг, изучал одноклассников, косясь и подглядывая. Было понятно, что вчерашние события переломят ситуацию, но сильно ли? Надолго ли?
А сегодня меня порой смех разбирал. Мальчиши сидели тихонечко-тихонечко, смиренно снося презрение и сдержанный гнев школьных подруг. Стоило мне войти в класс, как девчонки окружили меня, угнетая лаской и жалостью. У них даже некая гордость за меня пробивалась – вот, дескать, не побоялся богатырь перчатку швырнуть басурманам окаянным!
И хоть бы кто из одноклассников бровку нахмурил или губку поджал – смирно сидели, как оплеванные! И только глаза поблескивали влажной мольбою, чтоб не навсегда нынешняя опала…
– …Жанр и поэтический язык «Слова», как художественное отражение жизни народа, служит подтверждением самобытного характера и высокого уровня культуры Древней Руси…
Совея, я обернулся к Алле, будто за помощью. Девичьи губы дрогнули, растягиваясь в нежной улыбке.
Глава 4.
Вторник, 11 сентября. День
Москва, ВДНХ
Ночью над столицей пролился холодный нудный дождь, близя осень, однако солнце выступило на стороне лета. С самого утра жарило и парило – нагретый воздух колыхался душным маревом – словно мстя за то, что люди радовались сентябрьской прохладе. У автоматов газ-воды выстраивались очереди, а толпы народу жались к фонтанам.
Полковник Кирш степенно кружил вокруг брызжущей «Дружбы народов», держа в руке вещественный пароль – книгу в белой обложке. От хлеставших вразвес водяных струй веяло свежестью, и он довольно щурился.
«Ох, лето красное! любил бы я тебя, когда б не зной…»
– Спрячь книгу, Вань, – послышался насмешливый голос. – Я тебя и так узнал!
Иван Павлович развернулся, загодя улыбаясь давнему товарищу. Генерал-лейтенант Иванов, невысокий и плотный, смотрел на него и довольно щерился.
В строгом костюме и при галстуке, Борис Семенович походил бы на дипломата, кабы не круглое простецкое лицо. Даже очки в толстой черной оправе не смазывали добродушного, чисто деревенского выражения. А скажи кому, что Иванов – бывший резидент в Штатах, так не поверят же…
– Ну, здравствуй, Боря, – губы Кирша дрогнули в улыбке. – Вот, честное слово, рад тебя видеть!
– А уж я-то! – хохотнув, генлейт крепко стиснул протянутую руку. – Ты ж как пропал, так и всё!
– Весьма информативное высказывание, – полковничий голос окрасился ехидцей. – Как это ни странно, но я тебя понял.
– Ладно, ладно! – отмахнулся Иванов, посмеиваясь. – Куды нам с аглицкими жентельменами меряться!
– Не прибедняйся… Побродим?
– Давай, – Борис Семенович сложил руки за спиной, и зашагал вразвалочку, сторонясь болтливых «москвичей и гостей столицы». Но не выдержал даже минутного молчания. – Что-то важное?
– Очень, – Кирш подобрался. – Можешь организовать мне встречу с Андроповым?
Иванов присвистнул, косясь на старого друга. В его взгляде протаяла цепкость.
– Всё так серьезно?
Иван Павлович молча кивнул.
– Давай сделаем так… – тон генерал-лейтенанта обрел деловитую вкрадчивость. – Ты мне всё-всё расскажешь, и мы вместе подумаем, как быть дальше. Ладно?
– Ладно, – понимающе усмехнулся полковник. – Только пусть твои технари настроят полиграф. Ты должен будешь убедиться, что я говорю правду. Иначе не поверишь.
– Ты меня пугаешь, Ваня, – сощурился Иванов. – Ну-у… Ладно. Сыщем аппарат. И спеца найдем. Он ничего не услышит – будет снимать показания. Годится?
– Для зачина! – фыркнул Кирш, повторяя любимую присказку Андропова.
Четверг, 13 сентября. Утро
Москва, площадь Дзержинского
Василь невесомо, придерживая дверь, выскользнул, и кивнул Иванову:
– Проходите, товарищ генерал-лейтенант.
У Бориса Семеновича сегодня не было настроения шутить, как обычно, и он молча переступил порог.
Навстречу пахнуло электрическим биеньем – этот тихий кабинет вбирал, впитывал в себя пульсации безумного, мудрого, уродливого, прекрасного, шпионского, шпионского, шпионского мира.
Задернутые коричневые шторы цедили утренний свет, и обширный зал, стилёво обшитый деревом, словно погрузился в сумерки. Андропов восседал за огромным столом, обложившись телефонами.
Иванов вспомнил давешнюю запись, и бегло усмехнулся – председатель КГБ, что сутулился за громоздким селектором, напомнил ему вчерашнего техника, хищно клонившегося над пультом «детектора лжи».
– Минуточку, Борь… – Юрий Владимирович закрутил вензель на шуршащей бумаге, и распрямился, облегченно откладывая ручку. – Что у тебя?
– Протокол, – вытолкнул генлейт. – По теме «Медиум».
– А-а… – рассеянно затянул Андропов, складывая ладони. – Да, ты что-то такое докладывал позавчера…
– Помните Ивана Павловича?
– Кирша, что ли? – поднял брови Ю Вэ. – Да кто ж его не помнит!
Генерал-лейтенант поправил очки, как будто оттягивая момент доклада.
– Я устроил Ване форменный допрос, по его же хотению. Под запись – и с полиграфом.
– Ого! – вырвалось у хозяина кабинета. Глаза, и без того увеличенные стеклами очков, расширились еще больше.
– Иван Павлович изложил следующее, – Борис Семенович взял официальный тон. – В конце августа к нему домой заявился некий мужчина, желавший продать бирюзу – Кирш собирает минералогическую коллекцию. А полковник… Помните дело Гуаньчена? Палыч тогда первым подбежал к убитому, изъяв микропленку… Мы тогда ха-арошую «дезу» спихнули китайцам! М-м… Ванька еще кое-что снял с тела агента – набор капсул с настоем… э-э… В общем, капнешь его в чай, угостишь подозреваемого – и тому будто «сыворотку правды» вкололи. Всё выложит, расколется до самого донышка. Ну, и вот… Киршу на пенсии делать нечего, скучно, так он своим редким гостям капал тот самый эликсир! Баловался, говорит. Вот и этого… продавца тоже своим «спецчаем» угостил. А тот оказался медиумом! Только не духов вызывает, а живых людей. Телепатически! Самое же главное… Люди эти… Они из будущего!
– Что-о? – ладони председателя КГБ шлепнули по столу. – Боря… – в начальственном голосе сквозило тяжкое недовольство.
– Вот-вот! – с жаром перебил его Иванов. – И я не поверил! Да только Палыч говорил правду – «детектор лжи» подтверждает. Читай.
Кисло морщась, Андропов перелистнул страницу.
Как выглядел «медиум»?
Это был огромный, красивый человек. Широкоплечий, мускулистый… Мне он показался немного наивным. И нервным.
Его имя?
Он назвался Антоном, чем немного меня разозлил. Ведь так зовут моего внука.
Ты сказал, что медиум общался с людьми из XXI века…
Да, из 2022 года.
А с чего, вообще, начался разговор? Когда ты по-настоящему удивился?
А! Ну, мы стали рассматривать его бирюзу. Я спросил, не афганская ли она, и медиум подтвердил. И сильно расстроился. Сказал, что 25 декабря этого года СССР введет в Афганистан ограниченный контингент войск, и развяжет войну. Она продлится ровно десять лет, что резко ослабит страну, а еще через год Советский Союз распадется…
Юрий Владимирович отложил протокол и снял очки. Устало отер лицо.
– Дальше – интересней, – криво усмехнулся генлейт, следя за начальством.
Андропов молча кивнул, и достал трехлитровую банку с разведенным соком. Налил себе полный стакан, и выцедил, смакуя. Отдышавшись, ткнул пальцем в бумаги:
– Тут против каждого ответа стоит галочка, зеленым карандашом…
– Ага, это я отмечал, – с готовностью заерзал Иванов. – Специалист после каждого ответа поднимал свою умную голову, и кивал, если правда. И я сразу – зеленую «птицу». Только однажды красный крестик выставил. Спрашиваю Ваньку, верит ли он, что его дочь жива. Палыч кивнул, но это была ложь.
– Бедняга… – проворчал Ю Вэ, и вернулся за стол.
А что еще привело к распаду СССР?
Да там много чего, медиум долго говорил… Ну, надо было срочно реформировать экономику, Госплан, да и саму КПСС, а вместо этого – полный застой! Хотя Андропов и предлагал долговременную программу перестройки, новый генсек Горбачев взял из нее лишь само название, как броский лозунг. Развалил партию, развалил государство… Слабак был, и дурак отменный. Только вот убрать его было уже некому – ушла старая гвардия. Суслов, Брежнев, Черненко, Андропов, Устинов, Громыко – всех похоронили в 80-х. В Политбюро вошли безграмотные, но напористые нацмены, вроде Шеварднадзе, а Горбачев еще и Яковлева ввел, предателя и антикоммуниста. Вот они, на пару, и развалили сверхдержаву… Знаешь, слушал я этого медиума, и верил – всё так и будет! Если сейчас, сию минуту, не начнем действовать, дождемся и развала, и разрухи, и буржуазной контрреволюции! Ну, это уже не мой уровень…
Горбачева ты тоже считаешь изменником?
Если верить медиуму, то да, безусловно. В 84-м, еще до избрания, «Меченый» встречался… э-э… встретится… Тьфу ты, запутаешься с этими временами! В общем, прибудет с визитом к Маргарет Тэтчер, тогдашней премьерке Англии. О чем они говорили или сговаривались – неизвестно. Потом в Москву прилетит американский президент Рейган. К чему он склонял Мишу Горбачева? Опять-таки, никто не знает. Вот только итог налицо – разваленная сверхдержава, осмеяние подвига отцов в Великой Отечественной, возрождение фашизма на Украине… Прости, Боря, но лучше застрелиться, чем дожить до такого будущего!
М-да… Но ты же понимаешь, что подобной информации нужны доказательства!
Пиши! Я тебе сейчас шпионов сдавать буду. М-м… Генерал ГРУ Поляков, работает на ЦРУ лет пятнадцать. Кличка «Бурбон». Передавал совсекретные сведения ящиками. Генерал КГБ Калугин. Сдал многих наших агентов, вроде Липке, Уокера, Кочера. Александр Яковлев – тот самый «гуру» Горбачева. Будет мотаться по всей стране, подговаривая республиканских «вождей» выйти из состава СССР. Работает на Америку лет тридцать. Так, кто там еще… А! Адольф Толкачев из Министерства радиопромышленности – нанесет или уже наносит огромный вред советским ВВС. Олег Гордиевский из ПГУ – лет пять работает на МИ-6. Это все, которых помнил «медиум». И… Знаешь, запиши-ка еще наших «хохлов» из ЦК! Медиум уверен, что это именно они скармливают Леониду Ильичу «лекарства», ему абсолютно противопоказанные. Просто, чтобы Брежнев подмахивал все их писульки! И генсек сам затащит Черненко в Политбюро! А тот займет его место – и пары лет не пройдет…
Андропов читал долго, перечитывал, болезненно морщился, шлепал ладонью по полировке. Вставал иногда, подходил к окну, будто проверяя, на месте ли Железный Феликс? Не реет ли над Кремлем власовский триколор?
Иванов сидел тихо, понурый, но собранный – чуял, что грядет борьба, великая и общая. За идеалы Октября. За социализм. За окаянного-охаянного Сталина. За Родину.
– Что по… по шпионам? – отрывисто спросил Андропов. – Проверяли?
– Так точно, работаем, – встрепенулся генлейт. – Устроили негласный обыск у Полякова. Тайнички у него, конечно… Изощреннейшие! И… Кой-чего нашли. Таблетки для невидимых чернил, шифроблокноты, микропленки… Тянет на расстрельную статью.
– Генерал-майор ГРУ… – протянул Ю Вэ с горечью, и его губы судорожно дернулись. – Вот же ж с-сволочь какая! – подуспокоившись, он заговорил печально и задумчиво: – Ох, до чего же хочется отмахнуться, обозвать стариковским бредом! Или спихнуть в архив – и забыть… «Не дело», как твой Лазаренко выражается.
