Пожарный
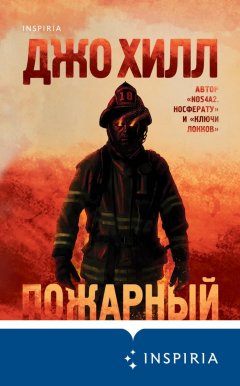
Итану Джону Кингу, который пылает ярко.
Папа любит тебя.
Outside the street’s on fire in a real death waltz…
—“Jungleland”, Bruce Springsteen
Though I spends me time in the ashes and smoke In this ’ole wide world there’s no ’appier bloke.
—“Chim Chim Cher-ee”, Robert and Richard Sherman[1]
Жечь было наслаждением
«451 градус по Фаренгейту». Рэй Брэдбери
Источники вдохновения
Дж. К. Роулинг, чьи романы подсказали мне, как писать эту книгу;
П. Л. Трэверс, у которой нашлось нужное мне лекарство;
Джули Эндрюс, которая поднесла ложку сахара, чтобы это лекарство проглотить;
Рэй Брэдбери, у которого я украл заглавие;
мой отец, у которого я украл все остальное,
и моя мать, которая разъяснила мне всю микологию (и мифологию), необходимые для моего романа.
Хотя Draco incendia trychophyton – выдумка, мама может подтвердить, что все характеристики вымышленного грибка действительно встречаются в природе.
Пролог
Сгоревший
Харпер Грейсон, как и все, много раз глядела на горящих людей по телевизору, но впервые увидела вспыхнувшего воочию на игровой площадке за школой.
В Бостоне и в других районах Массачусетса школы уже позакрывались, но здесь, в Нью-Гемпшире, еще работали. Инциденты случались, но нечасто. Харпер слышала, что в охраняемом отделении больницы Конкорда – столицы штата – содержались полдюжины пациентов; а присматривали за ними медики в полном защитном снаряжении, и каждая медсестра была вооружена огнетушителем.
Харпер прижимала холодный компресс к щеке первоклассника Реймонда Блая, который получил по лицу бадминтонной ракеткой. Такое случалось пару раз каждую весну, когда тренер Кейлор расчехлял ракетки. И, конечно, он говорил детишкам, что надо перетерпеть, даже если они выплевывали в ладошку собственные зубы. Очень бы хотелось однажды увидеть, как он получит ракеткой по яйцам – просто чтобы сказать ему «потерпи».
Реймонд не плакал, когда пришел, но, взглянув на себя в зеркало, совершенно расклеился; подбородок дрогнул, лицо перекосила горестная гримаса. Глаз пошел черным и лиловым и почти совсем заплыл – Харпер понимала, что отражение в зеркале для мальчика страшнее боли.
Чтобы успокоить его, пришлось вскрыть тайник с конфетами. Этот тайник представлял собой потрепанную коробку для завтраков с нарисованной Мэри Поппинс. Там хранились несколько дюжин шоколадных батончиков. Еще в коробке лежали большая редиска и картофелина – на случай крайней необходимости.
Харпер заглянула в коробку, пока Реймонд прижимал компресс к щеке.
– Хм, – сказала она. – Кажется, тут оставался еще один «Твикс», и сейчас он как раз пригодится.
– Это мне? – спросил сдавленным голосом Реймонд.
– Тебе кое-что получше. У меня есть большая вкусная редиска, и если ты будешь очень хорошо себя вести, то получишь ее, а я съем «Твикс». – Она показала ему содержимое коробки, чтобы он рассмотрел редиску.
– Э… я не хочу редиску.
– А большую, сладкую, вкусную картофелину? Сорт «Золото Юкона».
– Э… а давайте на руках поборемся за «Твикс». Я даже отца могу побороть.
Харпер просвистела три такта из «Моих любимых вещей», притворяясь, что раздумывает. Она любила насвистывать мелодии из киномюзиклов 1960-х и втайне мечтала петь хором с синими сойками и дерзкими малиновками.
– Не стоит тебе связываться со мной, Реймонд Блай. Я в хорошей форме.
Продолжая изображать задумчивость, она выглянула в окно – и вот тогда-то и заметила мужчину на игровой площадке.
Со своего места она хорошо видела дорожку – несколько сот футов бетона, – кое-где расчерченную для игры в классики. Дальше тянулась отлично оборудованная игровая площадка: качели, горки, скалолазная стена и ряд стальных труб, по которым дети стучали, наигрывая мелодии (сама Харпер называла этот инструмент «Ксилофон про́клятых»).
Шел первый урок, и детей на площадке не было; единственные полчаса в день, когда перед окном медкабинета не мельтешит стая кричащих, визжащих, хохочущих, дерущихся детей. Он был один – этот мужчина в мешковатой зеленой армейской куртке и свободных коричневых рабочих штанах; лицо скрывала тень от козырька грязной бейсболки. Выйдя из-за угла здания, мужчина по диагонали пересек асфальтовую дорожку, словно не мог идти прямо. Сначала Харпер приняла его за пьяного. Потом заметила дым, вырывающийся из рукавов. Чистый белый дымок тянулся от куртки, вился вокруг рук, полз из-под воротника в длинные каштановые волосы.
Человек шагнул с края дорожки на землю. Сделав еще три шага, он уцепился за ступеньку лестницы, ведущей на конструкцию для лазания. Даже издали Харпер разглядела на тыльной стороне его ладони темную полоску вроде татуировки с золотыми пятнышками. Точки блеснули, как пылинки в ослепительных солнечных лучах.
Она читала в газетах отчеты о подобных случаях, но теперь не сразу сообразила, что именно она видит. Конфеты из коробки с Мэри Поппинс посыпались на пол. Харпер не слышала стук, с которым они падали, не понимала, что криво держит коробку, роняя крохотные батончики и «поцелуйчики Херши». Реймонд проводил взглядом картофелину, которая сочно стукнулась об пол и откатилась под шкафчик.
Мужчина, шагавший пьяной походкой, начал заваливаться. Потом судорожно выгнул спину, голова запрокинулась, и пламя лизнуло рубашку на груди. Харпер успела увидеть худое, перекошенное лицо – и голова превратилась в факел. Человек хлопнул по груди левой рукой, а правая все еще держалась за деревянную лестницу. Рука горела, обугливая сосну. Голова запрокидывалась все дальше – рот распахнулся в крике, но из него вырвался дым.
Реймонд, заметив выражение лица Харпер, начал поворачиваться лицом к окну. Харпер, отпустив коробку, потянулась к мальчику. Взяв в одну руку холодный компресс, вторую она положила на затылок Реймонду, с силой отвернув его лицо от окна.
– Не смотри, милый, – сказала она, поразившись собственному спокойствию.
– Что это было? – спросил он.
Харпер отпустила мальчика и потянулась к шнуру, чтобы закрыть жалюзи. Горящий человек на площадке уже стоял на коленях. Он опустил голову, как паломник в Мекке. Пламя охватило его, жирный дым от бесформенной массы поднимался в светлое, прохладное апрельское небо.
С металлическим стуком упали жалюзи, закрыв всю сцену, – только в щели лихорадочно прорывались безумные вспышки золотого света.
Книга первая
Беременность
Апрель
Она покинула школу только через час после того, как отправился домой последний ребенок, но все равно непривычно рано. Как правило, в будни ей приходилось дежурить в школе до пяти, потому что около пятидесяти школьников оставались на продленке, пока родители на работе. А сегодня к трем часам ушли все.
Выключив свет в медицинском кабинете, она стояла у окна и глядела на игровую площадку. У конструкции для лазания осталось черное пятно – там пожарные смывали водой из шланга все, что не удалось соскрести. У Харпер возникло предчувствие, что больше она не вернется в свой кабинет и не выглянет из этого окна, и предчувствие оказалось верным. В тот вечер были закрыты школы по всему штату – с уверениями, что они вновь откроются, как только закончится кризис. Вот только кризис не закончился.
Харпер рассчитывала, что дома никого не будет, но обнаружила, что Джейкоб уже там. Телевизор он включил, но убрал звук, и говорил с кем-то по телефону. По его голосу – ровному, спокойному, почти ленивому – нипочем нельзя было догадаться, что он взволнован. Нужно видеть, как он мечется по комнате, чтобы понять, что он на взводе.
– Нет, не своими глазами. Джонни Дипено на спецгрузовике спихивал обломки с дороги – он прислал нам фото с мобильного. Такое впечатление, что внутри бомба взорвалась. Как теракт, как… погоди. Харп пришла. – Муж прижал трубку к груди.
– Кружным путем добиралась? Понятно, что не через центр. Перекрыты все дороги от Северной Церкви до библиотеки. И повсюду полицейские и национальная гвардия. Автобус загорелся после взрыва и врезался в телефонный столб. Он был набит китайцами, зараженными этой хренью, этой чертовой драконьей чешуей. – Он длинно, нервно выдохнул и помотал головой – словно возмущенный наглостью некоторых, позволяющих себе загораться посреди Портсмута в такой прекрасный день, – и отвернулся от жены, снова приложив телефон к уху. – Она в порядке. Даже не слышала ничего. Она дома, и нам предстоит нешуточный скандал, если она вообразила, что я еще раз отпущу ее на работу.
Харпер присела на край дивана и уставилась на экран телевизора. Передавали местные новости. Шли фрагменты вчерашней игры «Селтикс» – как ни в чем не бывало. Айзейя Томас поднялся на цыпочки, отклонился назад и бросил мяч в кольцо почти с середины поля. Никто еще не знал, что к концу следующей недели баскетбольный сезон прервется. К лету половина игроков «Селтикс» будет мертва – от возгорания или от самоубийства.
Джейкоб в веревочных сандалиях расхаживал по комнате.
– Что? Нет. Никто не выжил, – сказал он в трубку. – И хоть это и грубо, но я в каком-то смысле рад. Не будут разносить заразу. – Он послушал, неожиданно расхохотался и ответил: – Кто заказывал горящую тарелку пупу, ага?
Вышагивая по комнате, Джейкоб добрался до книжной полки и пошел обратно. Развернувшись, он снова зацепил взглядом Харпер и только тогда заметил выражение ее лица, от которого застыл на месте.
– Эй, миладевочка, да ты в порядке? – спросил он.
Харпер уставилась на него. И что ответить? Вопрос оказался на удивление сложным, ведь сначала надо было разобраться в себе.
– Алло, Дэнни. Мне пора. Я должен посидеть минутку с Харпер. Правильно, что решил забрать детей. – Он помолчал и добавил: – Да, ладно. Я пришлю вам с Клаудией фотки, но запомни – вы их от меня не получали. Люблю вас.
Он нажал на «отбой», положил телефон и посмотрел на жену.
– Что случилось? Почему ты дома?
– За школой был человек… – сказала Харпер и тут что-то, словно клин, застряло в горле.
Джейкоб сел рядом и погладил ее по спине.
– Тише, – сказал он. – Все в порядке.
Спазм в горле прошел, голос вернулся, и Харпер смогла начать заново.
– Он шел по игровой площадке и шатался, как пьяный. Потом упал и загорелся. Вспыхнул как соломенный. На глазах у половины учеников. Игровую площадку видно почти изо всех окон. Потом весь день я успокаивала потрясенных детей.
– Что ж ты сразу не сказала. Надо было оторвать меня от телефона.
Харпер повернулась к мужу и уткнулась лицом ему в грудь; он обнял ее за плечи липкими от пота руками.
– В спортзале скопилось сорок детей, несколько учителей и директор, и некоторые плакали, некоторых трясло, а некоторых тошнило, а мне казалось, что и со мной сейчас начнется и одно, и другое, и третье.
– Но не началось.
– Нет. Я раздавала пакетики с соком. К вашим услугам самое современное лечение!
– Ты сделала что могла, – сказал он. – У тебя была толпа детей, переживших самое страшное происшествие в жизни. Ты ведь понимаешь это? Они никогда не забудут, как ты ухаживала за ними. А ты все сделала правильно, и все закончилось, и ты со мной.
Потихоньку Харпер успокоилась и затихла в его руках, вдыхая знакомый запах – сандаловый одеколон и кофе.
– Когда это случилось? – Он отстранился, пристально глядя на нее светло-карими глазами.
– Во время первого урока.
– Уже три. Ты обедала?
– Не-а.
– Голова кружится?
– Ага.
– Давай тебя покормим. Не знаю, что у нас в холодильнике. Можно заказать что-нибудь.
«Кто заказывал горящую тарелку пупу?» – вспомнилось некстати, и комната качнулась, как палуба корабля. Харпер ухватилась за спинку дивана.
– Водички бы, – сказала она.
– Может, вина?
– Это даже лучше.
Джейкоб поднялся и подошел к винному кулеру на шесть бутылок. Он придирчиво выбирал бутылку – какое вино подают к смертельной инфекции?
– Я думал, эта штука есть только в странах с таким загрязнением, что дышать невозможно, где реки превратились в открытую канализацию. Китай. Россия. Бывшая коммунистическая республика Говностан.
– Рэйчел Мэддоу сообщила, что уже зафиксирована сотня случаев в Детройте. Вчера вечером была передача.
– Вот я и говорю: только в загаженных местах, куда никто не сунется – типа Чернобыля или Детройта. – Хлопнула пробка. – И не понимаю, какого черта заразные лезут в автобус. Или самолет.
– Может, не хотят, чтобы их отправили в карантин. Для многих одна только мысль, что их оторвут от любимых, страшнее болезни. Никто не хочет умирать в одиночестве.
– Ну да, конечно. Зачем умирать в одиночестве, когда можно найти компанию? Лучший способ признаться в любви – заразить ужасной гребаной болезнью родных и близких. – Джейкоб принес бокал золотистого вина – словно чашу чистого солнечного света. – Если бы я заболел, я бы лучше умер, чем заразил тебя. Подверг тебя опасности. Мне кажется, легче умирать, зная, что тем самым спасаешь других. Верх безответственности – разгуливать с такой штукой. – Он вручил бокал Харпер, погладив при этом ее палец. Прикосновение вышло нежным, понимающим; это у Джейкоба получалось великолепно – он чувствовал, когда нужно убрать прядь ее волос за ухо или ласково пригладить пушок на затылке. – А эта дрянь легко передается? Как грибок на ногах? То есть если мыть руки и не ходить босиком по спорт-залу, то не заразишься? Эй. Эй! Ты не подходила близко к мертвецу?
– Нет. – Харпер не стала совать в бокал нос, чтобы ощутить букет французского вина, как учил Джейкоб когда-то – ей было двадцать три, и она, наивная, пьянела от него больше, чем от вина. Харпер прикончила совиньонблан в два глотка.
Джейкоб со вздохом сел рядом и закрыл глаза.
– Хорошо. Это хорошо. Тебя ужасно тянет заботиться о людях, Харпер, и это замечательно в обычных условиях, но иногда девушке следует…
Она не слушала. Она застыла, подавшись вперед, чтобы поставить пустой бокал на кофейный столик. На экране телевизора эпизоды хоккейного матча сменились изображением одетого в серый костюм пожилого диктора; его голубые глаза были спрятаны за бифокальными очками. Внизу экрана возникла надпись: «СРОЧНО. ПОЖАР НА КОСМИЧЕСКОЙ ИГЛЕ».
– …отправляемся в Сиэтл, – говорил ведущий. – Учтите, кадры излишне натуралистичны. Уберите детей от телевизора.
Не успел он договорить, как на экране появилась снятая с вертолета панорама «Космической иглы», пронзающей яркое, холодное, голубое небо. Черный дым клубился внутри и вырывался из окон; дыма было столько, что в нем терялись кружащиеся рядом вертолеты.
– О господи, – сказал Джейкоб.
Из открытого окна выпрыгнул человек в белой рубашке и черных брюках. Его волосы охватил огонь. Мужчина размахивал руками. Через несколько мгновений за ним последовала женщина в темной юбке. Она прыгнула и прижала руки к бокам, словно не хотела, чтобы юбка задралась и было видно нижнее белье.
Джейкоб взял Харпер за руку. Их пальцы переплелись.
– Что за хрень творится, Харпер? – спросил он. – Что это за хрень?
Май – Июнь
Телеканал FOX сообщил, что «дракона» запустила запрещенная террористическая группировка ИГИЛ, используя споры бактерий, выведенных русскими в 1980-х. По MSNBC заявили, что, как полагают некоторые источники, «чешую», возможно, создали инженеры компании «Халлибертон» и похитили приверженцы христианского культа, повернутые на Книге Откровения. CNN повторил обе версии.
В мае и июне по всем каналам шли дискуссии и «круглые столы» – вперемежку с прямыми репортажами с мест пожаров.
А потом Гленн Бек сгорел прямо в эфире своей транслируемой через Интернет программы, прямо у доски, вспыхнул так жарко, что очки приварились к лицу. И после этого случая в новостях больше говорили не о том, кто запустил заразу, а о том, как ее не подхватить.
Июль
Бучу устроил пожарный.
– Сэр, – сказала медсестра. – Сэр, нельзя лезть вперед всех. Соблюдайте очередь.
Пожарный посмотрел через плечо на очередь, протянувшуюся по холлу и уходящую за угол. Потом снова повернулся. Это был мужчина с запачканным лицом, в желтой прорезиненной куртке, как у всех пожарных, а на руках он держал ребенка – мальчика, обхватившего его за шею.
– Мне не регистрироваться. Мне его отдать, – сказал он с таким акцентом, что люди в очереди обернулись. Никто не ожидал, что нью-гемпширский пожарный заговорит, как лондонец. – И я пришел по другому поводу. Не из-за грибка. Этому мальчику нужен доктор. И сейчас же, а не через два часа. Случай экстренный. Не понимаю, почему в вашем так называемом кабинете экстренной помощи никто не хочет этого понять.
Харпер шла вдоль очереди, раздавая малышам леденцы и бумажные стаканчики с яблочным соком. А еще в одном кармане лежала редиска, в другом – картофелина, для самых несчастных детей.
Английский акцент отвлек ее и взбодрил. В английском акценте ей чудились шумящие чайники, школы магии и волшебства и дедуктивный метод. Она понимала, что заблуждается, но тут уж была вовсе не виновата. Несомненно, сами англичане были ответственны за ее чувства. Целый век неутомимо рекламировали своих детективов, волшебников и чудесных нянь, так получите, что хотели.
Ей нужно было взбодриться. Все утро пришлось расфасовывать обугленные трупы в пластиковые мешки; черная, высохшая плоть, еще теплая на ощупь, дымилась. Запас мешков иссякал, и пришлось положить в один мешок двоих мертвых детей – впрочем, это оказалось несложно. Они погибли в пожаре, обняв друг друга, и спеклись воедино, в запутанную колыбель для кошки из черных костей. Получилось похоже на металлическую статуэтку Смерти.
Харпер не была дома с последней недели июня и проводила по восемнадцать часов в сутки в резиновом костюме полной защиты – их разработали для борьбы с эболой. Тесные перчатки – приходилось смазывать руки вазелином, чтобы надеть их. Харпер пахла, как презерватив. Собственный запах – резины и смазки – напоминал ей неловкие свидания в общежитии колледжа.
Харпер прошла к началу очереди, оказавшись у Пожарного за спиной. Это она должна была успокаивать людей в очереди, а не медсестра Лин, и Харпер не хотела портить с медсестрой отношения. Три недели Харпер отработала в Портсмутской больнице, под началом Лин, и немного побаивалась ее. Как и все медсестры-волонтеры.
– Сэр, – сказала медсестра Лин, теряя терпение. – У каждого в этой очереди экстренный случай. И экстренные случаи тянутся до самых дверей. Но мы всех принимаем по порядку.
Пожарный, обернувшись, уставился на очередь. Сто тридцать один посетитель (Харпер сосчитала), все ослабевшие и помеченные драконьей чешуей, и все сердито на него посмотрели.
– Их экстренные случаи могут подождать. А этот мальчик не может. – Он снова повернулся лицом к медсестре Лин: – Давайте-ка по-другому.
Его правая рука висела вдоль тела. Под мышкой он держал ржавый пожарный лом – хулиган, с крюками, зубцами и лезвием топора. Мужчина разжал ладонь и позволил ломику показаться в полную длину, так что нижний конец почти уперся в грязный линолеум. Пожарный качнул хулиганом, но не стал его поднимать.
– Или вы меня пропустите, или я начну этим хулиганом крушить все вокруг. Сначала окно, потом займусь компьютером. Зовите доктора и дайте пройти. Я не буду ждать, пока девятилетний мальчик умирает у меня на руках.
Элберт Холмс, выйдя из двойных дверей карантинного отделения, неторопливо прошел по холлу. Он, как все, носил полный костюм против эболы. Единственное, что отличало его от остального персонала, – вместо резинового капюшона на нем был шлем спецназовца с опущенным прозрачным забралом. Поверх костюма Эл носил пояс, со значком охранника и полицейской рацией с одной стороны и тефлоновой дубинкой – с другой.
Харпер и Эл подошли одновременно с двух сторон.
– Давайте успокоимся, – сказал Эл. – Приятель, сюда нельзя с этой – как она называется? С хулиганской штукой. Пожарные должны оставлять инвентарь снаружи.
– Сэр, идемте со мной, и я с радостью поговорю с вами о жалобах вашего сына, – сказала Харпер.
– Это не мой сын, – сказал Пожарный. – А я – не истеричный отец. Я просто человек со смертельно больным ребенком и тяжелым железным ломом. Или берете одного, или получите второй. Вы хотите поговорить со мной? Где? За этими дверями, где врачи, или в хвосте очереди?
Харпер смотрела ему в глаза, уговаривая вести себя хорошо, обещала ему взглядом, что взамен будет добра к нему, выслушает, проявит к нему и его мальчику тепло, участие и терпение. Объясняла ему, что пытается защитить его, потому что если он не успокоится, то в итоге будет лежать лицом в пол с перцовым спреем в глазах и сапогом на шее. Харпер работала в штате меньше месяца, но уже насмотрелась на то, как охрана утихомиривает нарушителей.
– Идемте. Я дам мальчику лимонное мороженое, а вы расскажете, что с ним не так…
– …в конце очереди. Так я и думал. – Мужчина отвернулся и шагнул к двойным дверям.
Медсестра Лин не ушла с его пути. И выглядела она внушительнее, чем даже Элберт Холмс. Она была крупнее, с необъятными грудью и животом, и напоминала непробиваемого футбольного защитника.
– Сэр, – сказала медсестра Лин. – Если вы сделаете еще хоть шаг, вечером нам придется лечить ваши многочисленные синяки и ушибы. – Она обвела испепеляющим взглядом бледных глаз очередь. И заявила уже для всех: – В этой очереди будет порядок. Или по-хорошему, или по-плохому, но порядок будет. Это всем понятно?
Вдоль очереди прокатился смущенный согласный гул.
– Позвольте. – По вискам Пожарного катились капельки пота. – Вы не понимаете. Этот мальчик…
– Что у него за беда? Кроме той беды, что и у всех остальных? – спросила медсестра Лин.
Мальчик был, пожалуй, самым симпатичным ребенком, какого приходилось видеть Харпер. Темные кудряшки вились над чистыми глазами – бледно-зелеными, как пустая бутылка из-под кока-колы. Шорты позволяли разглядеть отметины на обратной стороне голеней: черные, изогнутые полосы, похожие на изысканные татуировки.
Ровным голосом сестра Лин добавила:
– Если вы не заражены, вам не стоило брать его на руки. Вы заражены?
– Разговор не обо мне, – отрезал Пожарный. Только гораздо позже Харпер поняла, что он изящно уклонился от ответа. – Он ко мне не прикасается.
Это была правда. Мальчик на руках у мужчины отвернул лицо и прижался щекой к форменной куртке. И все равно: если Пожарный не болен, то бесстрашен до глупости или просто глуп.
– Так что с ним?
– Живот, – сказал Пожарный. – У него что-то с животом. Он просто еле терпит…
– Здесь очень жарко, – сказала сестра Лин. – Наверняка не у него одного болит живот. Становитесь в конец очереди, и…
– Нет. Нет. Пожалуйста. Этот мальчик потерял маму. Она была в доме, который обрушился несколько дней назад.
У сестры Лин поникли плечи, и на мгновение в ее глазах появилось угрюмое сочувствие. В первый и единственный раз она посмотрела не на Пожарного, а на свернувшегося у него на руках мальчика.
– Дерьмо. Слушай, малыш, это просто дерьмо. – Если мальчик и слышал, то не подал виду.
Сестра Лин взглянула на Пожарного с прежней решительностью.
– Ну понятно, тут у любого живот заболит.
– Минутку. Я не договорил. Дом рухнул и убил женщину, а он находился там же, в доме…
– Опытные консультанты готовы поговорить с мальчиком о том, что случилось, и, может быть, дадут что-нибудь шипучее и сладкое от диспепсии.
– Диспепсии? Вы меня слушаете? Ему не нужны ни кока-кола, ни улыбка, ему нужен врач.
– Врач будет, когда подойдет очередь.
– Я подобрал его час назад, и он визжал. Это похоже на диспепсию, бесчувственная ты тварь?
– Эй, – вмешался Элберт Холмс. – Давайте не будем…
Лицо сестры Лин густо покраснело. Она расставила руки в стороны и стала похожа на ребенка, изображающего самолет.
– Или ты пойдешь с этим мальчиком в конец очереди, или отправишься в неотложку с ломом в своей тощей английской заднице! Понял?
Если бы медсестра Лин так заорала на Харпер, та ударилась бы в слезы. Это была настоящая буря. Дети в очереди, заткнув уши, прижались к матерям.
Англичанин не испугался. Он рассвирепел. Краем сознания Харпер отметила, что и мальчик даже не вздрогнул. Он только рассеянно глядел на Харпер сонными и влажными глазами. Она решила, что он ошалел от жары, но позже выяснилось, что дело не в этом.
Харпер попробовала еще раз:
– Сэр, я уверена, что сумею помочь вам. Давайте обсудим симптомы мальчика в конце очереди, и если нужен немедленный осмотр, я приведу доктора. Если у ребенка боли в животе, не нужно пугать его криками. Давайте пройдем с ним в холл. Пожалуйста. Вы и я… что скажете?
Весь гнев мгновенно стерся с его лица, и Пожарный посмотрел на нее с усталой улыбкой. Да, мальчик потерял мать, но теперь Харпер впервые увидела, что и сам Пожарный хлебнул горя. Это читалось по глазам – его взгляд говорил о потере.
– Тоже фанатеете от «Дайр стрейтс»? Такая юная? Вы, наверное, еще кубики грызли, когда они выпустили последний хит.
– Я не понимаю, – сказала Харпер.
– «Ты и я… Что скажешь»? «Дайр стрейтс»? Ну? – Он поднял голову и с любопытством уставился на Харпер.
Она не знала, что сказать – не понимала, о чем он. Он еще немного посмотрел на нее, потом сдался. Ласково обхватил мальчика и очень осторожно поставил его на ноги – как хрупкую вазу, наполненную водой до краев.
– Его зовут Ник. Вы отведете Ника в конец очереди? – спросил Пожарный. – А я тут продолжу разговор.
– Думаю, лучше вам обоим пойти со мной, – сказала она Пожарному, но взяла мальчика за руку. Ее резиновая перчатка тихо скрипнула.
Было видно, что мальчик нездоров. Лицо побледнело под веснушками, и ноги плохо слушались. А еще Харпер ощущала нехороший жар в его мягких, по-детски пухлых пальчиках. Но лихорадка бывает у многих зараженных, и сами споры теплее человеческого тела на два-три градуса. Однако ребенок, едва оказавшись на полу, согнулся пополам с гримасой боли.
Пожарный присел перед ребенком на корточки, прислонив хулиган к плечу. Потом сделал странную вещь: сжал кулаки, показал мальчику и погладил ими воздух, словно изображая роющую собаку. Мальчик скорчил гримасу и издал странный звук – такого Харпер никогда прежде не слышала от больного ребенка; так пищит резиновая игрушка.
Пожарный повернул голову к Харпер, но прежде, чем он успел сказать хоть слово, Элберт Холмс ухватился за лом.
– Какого черта? – рассердился Пожарный.
– Сэр, отпустите оружие.
Пожарный потянул хулиган на себя. Эл потянул сильнее, выведя противника из равновесия и обхватив рукой за шею. Подошвы Пожарного, пытавшегося найти опору, с визгом заскользили по плиткам.
Харпер наблюдала за поединком, словно за разгоняющейся каруселью. Она прокручивала в голове только что виденное – не только жест Пожарного, но и то, как мальчик словно пытался справиться с неподъемным грузом.
– Ты глухой, – сказала Харпер мальчику – вернее, самой себе. Потому что мальчик действительно был глухой.
На сестринских курсах им показывали американский язык жестов – всего один день, – и она не помнила ничего. По крайней мере, думала, что не помнит. Но внезапно поняла, что тычет себе в ребра и вертит пальцами, как будто ввинчивая что-то в бока. Потом погладила живот. «Здесь болит?»
Ник неуверенно кивнул. Но стоило ей положить сложенные лодочкой ладони ему на живот, как мальчик отступил и неистово замотал головой.
– Все хорошо, – Харпер говорила медленно и отчетливо – вдруг он умеет читать по губам. Она когда-то слышала – может, в тот самый день на курсах, – что читающие по губам в лучшем случае понимают примерно 70 процентов того, что видят, а большинству глухих далеко и до этого. – Я аккуратно.
Харпер снова потянулась ощупать живот мальчика, и он снова закрылся, отступив; на верхней губе у него выступил пот. Мальчик тихонько заскулил. И она поняла. Сомнений не осталось.
Эл пережал рукой горло Пожарному, не давая вдохнуть. Этот удушающий прием пару лет назад лишил жизни темнокожего Эрика Гарнера в Нью-Йорке, но все еще не вышел из моды. Второй рукой Эл тянул вниз хулиган, прижимая его к груди Пожарного.
Если бы Харпер была в состоянии задуматься, ее, наверное, удивила бы реакция Пожарного. Он не отпускал хулиган, но и не пытался вырваться из захвата Элберта. Вместо этого он вцепился зубами в пальцы черной перчатки на своей левой руке, пытаясь ее стянуть. И тут Харпер заговорила чистым, звенящим голосом, от которого дерущиеся замерли.
– Медсестра Лин! Нужна каталка – отвезти мальчика на компьютерную томографию. И готовиться к полостной операции. Кто-нибудь в педиатрии может помочь?
Сестра Лин посмотрела поверх головы Пожарного пустым взглядом; ее лицо ничего не выражало.
– Как вас зовут? Вы из новеньких?
– Да, мэм. Я приехала три недели назад. Когда объявили набор добровольцев. Харпер. Харпер Грейсон.
– Сестра Грейсон, сейчас не место и не время…
– Время. У него или лопнул, или вот-вот лопнет аппендикс. И еще: кто-нибудь из сестер знает язык жестов? Мальчик не слышит.
Пожарный уставился на нее. Эл тоже, раскрыв рот, глядел на Харпер через плечо противника. Он уже отпустил Пожарного, и теперь тот снова мог дышать. Пожарный больше не пытался стянуть перчатку – он тер горло левой рукой – и смотрел на Харпер с благодарностью и облегчением.
Сестра Лин снова покраснела, но, похоже, встревожилась.
– Нельзя ставить такой диагноз без томографии.
– Я вообще не могу ставить диагноз, – сказала Харпер. – Но я… я уверена. Я работала школьной медсестрой, и подобный случай был у меня в прошлом году. Видите, как он прикрывает живот? – Она взглянула на Пожарного, пытаясь вспомнить, что он говорил. – Вы сказали, рухнул дом, и мальчик находился «прямо там». Значит, он был внутри, с матерью, когда дом рухнул?
– Да. Именно это я и пытался объяснить. Мать погибла. А мальчика зажало обломками. Мы вытащили его, и он с виду был цел – немного помят, но ничего серьезного. Он не ел и не разговаривал с людьми, но мы списали это на шок. А сегодня утром он сильно вспотел и не мог даже сесть без боли.
– Удар в живот мог повредить аппендикс. Когда он последний раз ходил по-большому?
– Я не особо слежу, как дети какают. Но могу спросить, если этот джентльмен меня отпустит.
Харпер посмотрела на Элберта, который озадаченно застыл с приоткрытым ртом.
– Хорошо, – сказала она строгим голосом. – Отпустите его. Мигом. – «Мигом» – так говорила Мэри Поппинс, и Харпер с детства, когда хотелось ругнуться, пользовалась фразочками Джули Эндрюс из фильма. Так она обретала железобетонную уверенность и на время становилась самим совершенством.
– Простите, мэм, – пробормотал Эл. Он не только убрал руку от горла Пожарного, но и помог ему подняться.
– Мне повезло, что вы меня отпустили, – безо всякого гнева или недовольства сказал Пожарный. – Еще минута – и я стал бы не сопровождающим, а пациентом.
Пожарный присел на корточки перед мальчиком, но сначала наградил Харпер еще одной улыбкой.
– Вы молодец. Вы мне понравились. Мигом! – Он произнес это как высшую похвалу.
Он повернулся к Нику, который вытирал слезы большим пальцем. Пожарный показал несколько быстрых жестов: сжатые кулаки, вытянутый палец, плотно сжатая ладонь, а вторая отлетает прочь с растопыренными пальцами. Он напоминал человека, балующегося с ножом-бабочкой, или музыканта, играющего на фантастическом невидимом инструменте.
Ник сложил вместе три пальца, как будто поймал в воздухе муху. Это Харпер поняла. Многие поняли бы. Нет. Дальше она не понимала – так быстро двигались его руки и лицо.
– Он говорит, что не может сходить в туалет. Он пробовал, но ему больно. Он не ходил по-большому с самой катастрофы.
Сестра Лин тяжело выдохнула, словно хотела напомнить всем, кто тут главный.
– Ясно. Вашего сына осмотрят… мигом. Элберт, вызовите каталку.
– Я уже говорил – это не мой сын, – ответил Пожарный. – Я проходил кастинг, но спектакль отменили.
– Значит, вы не родственник? – уточнила медсестра Лин.
– Нет.
– Тогда я не могу пропустить вас с ним на осмотр. Я… мне очень жаль, – сказала сестра Лин. Ее голос звучал неуверенно, и впервые за день в нем послышалась усталость. – Только родственники.
– Ему будет страшно. Он не поймет вас. А меня он понимает. Он может говорить со мной.
– Мы найдем человека, который сможет с ним общаться, – сказала сестра Лин. – И потом. Войдя в эти двери, он окажется в карантине. Туда входят только те, у кого драконья чешуя, и те, кто тут работает. Я не могу делать никаких исключений, сэр. Вы говорили, его мать погибла. Другие родственники у него есть?
– У него… – Пожарный замолчал, нахмурился и покачал головой. – Нет. Никого не осталось. Никого, кто мог бы прийти к нему.
– Ясно. Спасибо вам – за то, что привезли его под наше попечение. Теперь мы им займемся. Все сделаем в лучшем виде.
– Можно еще секундочку? – попросил Пожарный и, обернувшись к Нику, который смаргивал слезы, отсалютовал, потом словно подоил невидимую корову и наконец показал на грудь мальчика. Ответ Ника не требовал перевода. Он прижался к Пожарному и позволил себя обнять: нежно-нежно.
– Лучше бы вы этого не делали, сэр, – сказала сестра Лин. – А то подхватите заразу.
Пожарный не отвечал – и не уходил, пока не распахнулись двойные двери и медсестра не вытолкнула в холл каталку.
– Я приду его навестить. – Пожарный поднял мальчика и осторожно уложил на каталку.
Сестра Лин ответила:
– Вы больше его не увидите. Пока он в карантине.
– Просто справлюсь о его здоровье в регистратуре, – сказал Пожарный. Он печально, но беззлобно поклонился Элберту и сестре Лин и повернулся к Харпер: – Я ваш должник. И это серьезно. В следующий раз, когда понадобится что-нибудь потушить, надеюсь, мне повезет принять вызов.
Через сорок минут мальчик уже лежал под наркозом, а доктор Кнаб, детский хирург, оперировал его, чтобы удалить воспаленный аппендикс размером с абрикос. Мальчик поправился через три дня. А на четвертый исчез.
Сестры из послеоперационной палаты уверяли, что за дверь он не выходил. Окно было распахнуто, и возникла версия, что мальчик выпрыгнул. Но эта версия казалась безумной – послеоперационная палата находилась на третьем этаже. Он сломал бы обе ноги.
– Может, кто-то подставил ему лестницу, – предположил Элберт Холмс, когда персонал, уплетая китайскую лапшу, обсуждал происшествие.
– Никакая лестница не достанет до третьего этажа, – обиженно возразила сестра Лин.
– Достанет. Если это лестница на пожарной машине. – Эл говорил с набитым ртом, дожевывая рогалик.
В душные, жаркие дни середины лета, когда «контролируемый кризис» превращался в бесконтрольную катастрофу, глухой мальчик был не единственным пациентом, пропавшим из Портсмутской больницы. Еще одна женщина из зараженных сумела покинуть ее в последние дни перед тем, как все пошло – и не метафорически, а буквально – прахом.
Целый месяц дул северный ветер, и побережье Нью-Гемпшира накрыла мрачная бурая дымка от лесных пожаров в Мэне. Штат Мэн пылал от канадской границы до Скаухигана – мили голубых елей и ароматных сосен. От гари некуда было деться, отвратительный запах горелой хвои проникал всюду.
Харпер засыпала, вдыхая этот запах, и каждую ночь ей снился один и тот же сон: они с братом, Коннором, сидят у костра на берегу и жарят хот-доги. Иногда сосиски на прутиках превращались в обгорелые головы. Харпер просыпалась с криком. Иногда ее будил чей-нибудь плач. Медсестры спали посменно, в приемном отделении, и всем снились кошмары.
В больнице инфицированные делились на две группы: «симптоматически нормальные» и «тлеющие». Тлеющие то и дело дымились, постоянно готовые вспыхнуть. Дым поднимался от их волос, шел из ноздрей; глаза слезились. Полоски на коже нагревались так, что могли расплавить резиновую перчатку. Больные оставляли следы гари на унитазах и кроватях. Они были опасны. И, понятное дело, тлеющие постоянно балансировали на грани истерики. Тут, конечно, возникала проблема курицы и яйца: они паниковали, потому что их тела дымились, или дымились, потому что мозг постоянно находился в состоянии паники? Харпер не знала. Знала только, что с этими людьми нужно быть осторожной. Они кусались и визжали. Строили хитроумные планы – как достать солнце с неба. Считали себя настоящими драконами и пытались вылететь в окно. Приходили к выводу, что врачи прикарманивают и без того скудные запасы лекарств, и пытались захватить медработников в заложники. Создавали армии, конгрессы, религию; замышляли восстания, плели заговоры, плодили ереси.
А другие пациенты, хоть и отмеченные чешуей, в остальном оставались физически и эмоционально нормальными – до того момента, как вспыхнут. Они тосковали, не знали, куда деваться, и пытались верить, что кто-нибудь изобретет лекарство до того, как пробьет их час. Многие приехали в Портсмут, потому что уже ходили слухи, что остальные больницы просто переправляют больных в лагерь в Конкорде – оттуда несколько недель назад прогнали инспекцию Красного Креста, а у ворот там припаркован танк.
Все палаты в больнице были полны, но инфицированные продолжали прибывать. Кафетерий на первом этаже превратили в просторную спальню для самых здоровых. Там Харпер и познакомилась с Рене Гилмонтон – единственной черной в палате из двухсот пациентов. Рене говорила, что в Нью-Гемпшире легче встретить лося, чем черного. Она привыкла к тому, что на нее пялятся, как будто у нее голова в огне – люди много лет провожали ее взглядами.
Койки образовывали лабиринт по всему кафетерию, а Рене Гилмонтон оказалась в самом центре. Она уже была в больнице, когда Харпер устроилась туда работать – в конце июня; и превратилась в старожила – оставалась тут дольше остальных пациентов с чешуей. Сорокалетняя пухленькая Рене носила очки, а в ее аккуратных брейдах-косичках посверкивала седина. И поселилась в больнице она не одна: принесла с собой мяту в горшочке, которую звала Дэниель, и фотографию кота, мистера Трюффо. Если других собеседников не находилось, она говорила с ними.
Впрочем, у Рене обычно не было недостатка в собеседниках. В прошлой жизни она профессионально занималась филантропией: устраивала еженедельный завтрак с блинами в местном сиротском приюте, обучала английскому уголовников в тюрьме штата, держала страшно убыточный независимый книжный магазин, где проводились поэтические вечера. От старых привычек трудно отказаться: вскоре после прибытия Рене организовала ежедневные чтения для самых маленьких детишек и читательский клуб для взрослых пациентов. У нее было с десяток чуть подпаленных экземпляров «Моста короля Людовика Святого» – они ходили по рукам.
– А почему «Мост короля Людовика Святого»? – спросила Харпер.
– Отчасти потому, что это книга о необъяснимых трагедиях, – ответила Рене. – А еще потому, что она короткая. Мне кажется, людям нужна книга, которую они наверняка успеют дочитать. Неохота начинать «Игру престолов», если в любой момент можешь вспыхнуть. Обидно погибнуть посреди хорошей истории, так и не узнав, чем все кончилось. Я, конечно, понимаю, что все и каждый в каком-то смысле умирают посреди хорошей истории. Своей собственной. Истории детей. Внуков. Смерть – нечестная уловка для подсевших на истории.
В кафетерии Рене прозвали миссис Асбест: ее не лихорадило, она не дымилась, а если кто-то вспыхивал, Рене бежала к нему и пыталась вытащить наружу, хотя все остальные кидались наутек. Вообще-то врачи запрещали приближаться к горящим, и Рене часто получала выговоры. Накопилось множество свидетельств того, что одного вида горящего человека бывает достаточно, чтобы воспламенился другой. Цепная реакция стала привычным делом в Портсмутской больнице.
Харпер понимала, что нельзя привязываться к пациентам. Иначе вообще невозможно выполнять эту работу день за днем. Если она хоть к кому-то будет слишком ласкова, ежедневные смерти разорвут ее изнутри. Лишат ее лучших качеств: наивности и детской игривости, и веры в то, что доброта к другим может что-то изменить.
Полный защитный костюм был не единственной броней Харпер на работе. Еще она укутывалась в прозрачное, профессиональное спокойствие. Иногда она представляла, что находится на полномасштабном тренажере, а забрало маски – экран виртуальной реальности. Еще помогало не запоминать имена пациентов и менять палаты, чтобы все время видеть разные лица.
И все же в конце смены ей приходилось на полчаса запираться в кабинке дамского туалета, чтобы выплакать боль. И не ей одной. Многие медсестры включали послесменный рев в список дел на день. В девять вечера дамский туалет в подвале превращался в набитую горем бетонную коробку, в склеп, по которому эхом разносились всхлипы и прерывистое дыхание.
Но в Рене Харпер влюбилась – и ничего не могла с этим поделать. Может быть, потому, что Рене позволяла себе все, о чем старалась даже не думать Харпер. Она звала каждого по имени и заводила дружбу со всеми. Сажала дымящихся детишек с инфекцией к себе на колени, когда читала им вслух. И Рене заботилась о медсестрах не меньше, чем сестры о ней.
– Вы никому не поможете, если будете валиться с ног от усталости, – сказала как-то она Харпер.
«Я и так не помогу, – хотела ответить Харпер. – Я никому не помогаю». Но вслух ничего не сказала. Получится жалоба, а перекладывать свои печали на того, для кого этот день может оказаться последним, – нечестно.
Но Рене дожила до следующего дня. И до следующего. И до того, что был после.
И она не пыталась скрыть драконью чешую перчатками, шарфами и длинными рукавами. Чешуя образовывала ожерелье прямо на горле – изящные петли, присыпанные золотом; на руках красовались браслеты до локтей. Рене покрывала ногти черным лаком с золотыми блестками – в тон.
– Могло быть и хуже, – говорила Рене. – Какая-нибудь болезнь с гнойниками или недержанием. Или когда плоть гниет и отваливается. В свином гриппе ничего сексуального нет. А эта зараза, на мой взгляд, очень сексуальна. По-моему, я стала похожа на тигрицу! Толстую, немодно одетую тигрицу. На чересчур располневшую Женщину-кошку.
– Кажется, у Женщины-кошки не было полосок, – сказала Харпер. Она присела на краешек койки Рене и кивнула на фотографию кота. – Кто теперь приглядывает за таким симпатичным парнем?
– Улица, – ответила Рене. – Я выпустила его, когда собиралась сюда.
– Жалко.
– Пожары выгнали из домов всех мышей. Я уверена, что Трюффо как мохнатый сыр в масле катается. Как думаете, они останутся, когда мы вымрем? Коты. Или мы заберем их с собой?
– Коты выживут, и мы тоже. – Харпер изо всех сил старалась говорить уверенно. – Мы умные. И найдем разгадку.
Рене тоскливо улыбнулась. Глаза ее смотрели весело и сочувственно. На шоколадных радужках поблескивали золотые крупинки – то ли от драконьей чешуи, то ли Рене родилась с такими.
– И кто сказал, что мы умные? – спросила она с веселым презрением. – Мы даже не умеем управлять огнем. Думали, что умеем, но оказалось, это он нами управляет.
И тут в углу комнаты завизжала девочка-подросток. Харпер оглянулась и увидела, как прибежавшие ординаторы набрасывают огнеупорные одеяла на девочку, которая пытается подняться с койки. Ее накрыли и придавили. Пламя выбивалось из-под одеял.
Рене, печально глядя на все это, сказала:
– А ведь она только начала «Клан пещерного медведя».
Харпер искала встречи с Рене каждый раз, когда дежурство выпадало на кафетерий. Хотелось поговорить о книгах. Это было приятно: нормальная бесцельная утренняя болтовня, разговор, не имеющий никакого отношения к пылающему миру. Харпер сделала разговоры с Рене частью своего дня, прекрасно понимая, что совершает ошибку, что смерть этой женщины сломает что-то в ее душе. И что, оправившись от потери, Харпер станет жестче. А она не желала становиться жестче. Она хотела остаться прежней Харпер Грейсон, на глаза которой набегают слезы при виде пожилой четы, держащейся за руки.
Она знала, что Рене однажды уйдет; так и произошло. Харпер вкатила в кафетерий тележку с чистыми простынями и вдруг заметила, что на постели Рене лежит голый матрас; ее личные вещи тоже пропали. Вид пустой постели словно ударил под дых, и Харпер, отпустив каталку, повернулась и, с грохотом распахнув двойные двери, прошла мимо охранников и дальше по холлу. До женского туалета в подвале идти было слишком далеко. Харпер отвернулась к стене, уперлась в нее рукой и дала волю горю. Плечи заходили ходуном; она рыдала, рыдала и рыдала.
Охранник – это оказался Элберт Холмс – тронул ее за плечо.
– Мэм, – позвал он. – Господи, мэм, что случилось?
Сначала Харпер не могла вымолвить ни слова. Она пыталась вздохнуть, а тело сотрясалось. Нужно взять себя в руки. Она его напугала. Он всего лишь широкоплечий веснушчатый парнишка, всего пару лет назад игравший на школьном дворе в футбол, и вид женщины в слезах для него – перебор.
– Гилмонтон, – сказала наконец Харпер и закашлялась.
– А вы не знали? – с искренним изумлением спросил Элберт.
Харпер покачала головой.
– Она ушла, – объяснил Эл. – Просто прошла мимо утренних охранников.
Харпер тяжело дышала. Легкие болели, горло щекотали слезы. Зато теперь ей, похоже, хватит сил добраться до туалета, найти кабинку и уже там всерьез…
– Что? – спросила Харпер. – Что вы сказали?
– Упорхнула! – ответил Эл. – Просто ускользнула из больницы! Со своим цветком под мышкой.
– Рене Гилмонтон ушла? – переспросила Харпер. – Со своей мятой? И ее кто-то пропустил?
Эл посмотрел на нее широкими изумленными глазами.
– Вы посмотрите запись камеры. Она светилась! Как маяк! Посмотрите видео. Просто страх. В смысле, как в Библии пишут, – страх Господень. Дежурные так и драпанули – думали, она сейчас взорвется. Как живая ядерная бомба. Она и сама боялась, что взорвется, потому и бросилась наружу. Выбежала – и уж больше не возвращалась. Никто не знает, что с ней сталось. А она даже без обуви убежала!
Харпер хотелось сунуть руку под маску и стереть с лица слезы, но это было невозможно. Пришлось бы потратить почти полчаса. Чтобы снять защитный костюм, сначала нужно пять минут стоять под обеззараживающим душем. Харпер заморгала, чтобы согнать слезы.
– Это бессмысленно. Люди с драконьей чешуей не светятся.
– А она светилась, – сказал Эл. – Она читала что-то детишкам, перед завтраком, а девочка, что сидела у нее на коленях, вдруг как подскочит, потому что миссис Гилмонтон начала нагреваться. И тут люди закричали и бросились врассыпную. Она светилась, как гребаная рождественская елка – пардон за выражение, мэм. На видео у нее из глаз прямо лучи смерти вылетают! Она проскочила два поста охраны – это из карантина! А видок был – черт, тут кто хочешь под стол спрячется.
Через пять минут Харпер с четырьмя другими медсестрами уже смотрела видеозапись – в регистратуре в конце холла. Все в больнице смотрели ее. К концу смены Харпер видела запись раз десять.
Неподвижная камера показывала широкий коридор перед дверью кафетерия – пол из антисептической белой плитки. У двери стояли охранники – в защитных костюмах и спецназовских шлемах. Один, опершись о стену, не спеша проглядывал листы на планшете с зажимом. Другой, сидя на пластиковом стуле, подкидывал и ловил дубинку.
Дверь с грохотом распахнулась, и холл залился сиянием, как будто кто-то включил прожектор. В первый момент свет был так ярок, что словно стер черно-белое изображение, залив экран синеватым свечением. Потом сенсоры камеры наблюдения подстроились – немного. Рене осталась ярким призраком, колеблющимся сиянием в виде женской фигуры. Светящиеся завитки драконьей чешуи скрывали ее черты. Из глаз струился бело-голубой свет, который и в самом деле напоминал лучи смерти из научно-фантастических фильмов пятидесятых годов. Под мышкой Рене держала горшочек с мятой.
Охранник, который подбрасывал дубинку, шарахнулся прочь от Рене. Дубинка огрела его по плечу, и он свалился со стула. Второй охранник отшвырнул планшет, как будто тот превратился в кобру. Каблуки скользнули по плиткам, и охранник сел на пол.
Рене посмотрела на одного, на другого, подняла руку, словно успокаивая, и поспешила прочь.
Элберт Холмс сообщил Харпер:
– Она сказала: «Мальчики, не обращайте на меня внимания. Я просто хочу взорваться снаружи, чтобы никого не ранить».
Доктор Райалл, местный патологоанатом, не впечатлился. Он читал об исключительных случаях – драконья чешуя достигала критической массы и по какой-то причине затухала, не приводя к немедленному возгоранию человека. Он объяснял всем, кто соглашался слушать, что останки Рене Гилмонтон найдутся на расстоянии не более ста шагов от больницы. Однако несколько санитаров, прочесав высокую траву за автостоянкой в поисках поджаренных костей, ничего не нашли. Не нашлось и следов ухода Рене, никаких опаленных веток или сорняков. Как будто она не взорвалась, а испарилась, вместе с мятой в горшочке.
Центр контроля заболеваний собирался прислать в августе инспекцию для проверки карантинных процедур, и доктор Райалл говорил, что покажет проверяющим запись инцидента с Гилмонтон. Он был убежден, что они подтвердят его версию.
Но инспекторам из Центра контроля заболеваний так и не довелось увидеть запись, поскольку к августу от Портсмутской больницы осталась одна обгорелая труба, а доктор Райалл был мертв, как и Элберт Холмс, и сестра Лин, и больше пяти сотен пациентов.
Харпер не знала, как долго она уже стоит, глядя на горящую Портсмутскую больницу. Густой черный дым вздымался вверх на тысячу футов, грозовой тучей заволакивая небо. Солнце, еле пробивающееся через густой дым, превратилось в красную монетку. Кто-то из докторов спросил:
– Есть зефирки? – И засмеялся, но никто его не поддержал.
Электричество отрубилось минут через пять после того, как сигнализация подняла душераздирающий вой. Мигающие в темноте фонари дробили время на яркие застывшие полоски. Харпер пробиралась сквозь мерцающие тени, положив руки на плечи шедшей впереди медсестры, в шаркающей цепочке эвакуируемых. Воздух на первом этаже уже наполнился дымом и какой-то мелкой взвесью, но огонь пока бушевал где-то над головами. Сначала вой сирены очень пугал, но к тому времени, как Харпер выбралась на свет, звук уже наскучил – сорок пять минут она брела в толпе к выходу. Она не представляла себе масштабы беды, пока не вышла из здания и не обернулась.
Кто-то сказал, что выше второго этажа уцелевших нет. Еще кто-то сказал, что началось все с кафетерия: загорелся один пациент, потом другой, третий – как цепочка фейерверков, – и будто охранник в панике запер дверь, чтобы никто не выбежал наружу. Харпер так и не узнала, правда ли это.
Национальная гвардия появилась быстро, и военнослужащие оттеснили всех к дальнему концу автостоянки. Пожарный департамент Портсмута бросил на борьбу с огнем все силы, все шесть машин… хотя было понятно, что уже ничего нельзя поделать. Пламя рвалось из разбитых окон. Пожарные трудились под падающим черным пеплом с привычным профессиональным равнодушием, заливая громадную топку больницы мощными струями воды, которые, казалось, ничего не меняли.
У Харпер кружилась голова, как после сильного удара; она словно ждала от собственного тела отчета о повреждениях. От вида пламени и дыма она лишилась способности соображать.
В какой-то момент Харпер осознала странную вещь: один пожарный стоял с ее стороны заграждения, хотя ему полагалось быть у машин, среди своих собратьев по оружию. Впрочем, Харпер заметила его только потому, что пожарный смотрел на нее во все глаза. Он был в шлеме и грязно-желтой куртке, а в руке держал пожарный инструмент – длинный стальной лом с крючками и лезвием топора; этот человек показался Харпер знакомым. Крепкий долговязый мужчина в очках, с резкими чертами лица, он смотрел на нее как будто с печалью, а хлопья пепла падали мягкими черными завитками. Пепел черными полосками испещрил ее руки, перьями застревал в волосах. Один завиток ткнулся в кончик носа, и Харпер чихнула.
Она попыталась вспомнить, откуда знает этого печального пожарного, и принялась исследовать свою память мягкими, осторожными движениями, как руку ребенка в поисках перелома. Ребенок, точно: их знакомство было как-то связано с его ребенком. Точнее, не совсем его… Глупость какая-то; нужно просто подойти и спросить, почему он кажется ей знакомым. Но он уже ушел.
Внутри больницы что-то рухнуло. Видимо, крыша погребла под собой верхний этаж. Штукатурка, сажа и красный дым тучами вырвались из окон. Национальный гвардеец в закрывающей рот маске и в синих латексных перчатках поднял руки над головой, словно сдаваясь в плен.
– Люди! Мы снова отодвинем вас! Попрошу всех сделать три шага назад, ради вашей же безопасности. По-хорошему прошу. И лучше не дожидайтесь, пока начну по-плохому.
Харпер отступила на шаг, потом еще и покачнулась на каблуках, чувствуя головокружение и сухость во рту. Вот бы хоть один глоток холодной воды – прочистить горло, но воду найти можно только дома. Машины на стоянке не было – зачем машина, раз не приходится покидать больницу, – и Харпер повернулась, чтобы идти пешком.
Только пройдя полквартала, она поняла, что плачет. И непонятно – текут слезы от горя или от дыма, пропитавшего воздух. Пахло обедом в летнем лагере, подгоревшими хот-догами. Потом до нее дошло, что хот-догами пахнут обугленные трупы. «Это мне снится», – подумала Харпер. И ее вырвало в траву у тротуара.
На тротуаре и на мостовой толпились люди, но никто не смотрел на Харпер, пока ее тошнило. Никому она не была интересна на фоне громадного пожара. Людей привлекает пламя и отталкивает человеческое страдание – нет ли в этом ошибки? Харпер вытерла губы тыльной стороной ладони и пошла дальше.
Харпер не смотрела на лица в толпе и потому заметила Джейкоба только тогда, когда он взял ее за руку. И ему тут же пришлось подхватить ее. Ноги подкосились, и Харпер повисла на руках мужа.
– Господи, ты цела, – сказал он. – О господи. Я так испугался.
– Я люблю тебя, – сказала она, потому что так говорят, вернувшись из ада, потому что только это имеет значение в такое утро.
– Дороги перекрыты на целую милю, – прошептал Джейкоб. – Я так испугался. Всю дорогу ехал на велосипеде. Я нашел тебя. Я нашел тебя, миладевочка.
Он повел ее через толпу к телефонному столбу. Там был прислонен его велосипед – он ездил на нем с самого колледжа, – десятискоростной, с корзиной, укрепленной перед рулем. Джейкоб повел велосипед одной рукой, другой обнимая за талию Харпер, которая положила голову ему на плечо. Они шли навстречу толпе – все стремились к больнице, к черному столбу дыма, под падающий пепел.
– Каждый день – 11 сентября, – сказала Харпер. – Как жить, если каждый день – 11 сентября?
– Будем жить, сколько сможем, – ответил Джейкоб.
Она не поняла, что он имеет в виду, но прозвучали его слова умиротворяюще, даже мудро. Он говорил ласково, чуть касаясь ее губ и щек серебряно-белым шелковым платком. У Джейкоба всегда был с собой платок – эту старомодную привычку Харпер находила невыносимо приятной.
– Что ты делаешь? – спросила она.
– Пепел стираю.
– Да, – сказала она. – Пожалуйста.
Вскоре он остановился и сказал:
– Все чисто. Так лучше. – И поцеловал ее в щеку, потом в губы. – Даже не знаю, зачем я это сделал. Ты была немного похожа на диккенсовскую сиротку. Чумазую, но восхитительную. Вот что. Я тебя успокою. Поехали домой, там и выясним, насколько ты грязная девочка. Ну как?
Она засмеялась. Джейкоб обладал каким-то французским чувством абсурда; в колледже он был мимом в театральном кружке. А еще умел ходить по канату – ловок в постели, ловок в жизни.
– Это замечательно, – сказала она.
И Джейкоб ответил:
– Пусть целый мир пылает вокруг нас. Я буду обнимать тебя до самого конца. И не отпущу.
Она привстала на цыпочки и поцеловала его в соленые губы. Значит, он тоже плакал, хотя сейчас улыбался. Она положила голову ему на грудь.
– Я устала, – сказала она. – Устала бояться. И быть не в состоянии помочь людям.
Он мягко приподнял ее голову за подбородок.
– Тебе нужно забыть об этом. О том, что ты обязана все исправлять. Тушить все пожары. – Он посмотрел со значением на клубящийся дым. – Спасать мир – не твоя работа.
Он сказал это так нежно, так разумно, что у Харпер даже голова закружилась от облегчения.
– Ты должна заботиться о себе, – продолжил он. – И мне позволь заботиться о тебе. У нас так мало времени, чтобы правильно относиться друг к другу. Но мы этим займемся. Мы будем все делать правильно, начиная с сегодняшнего вечера.
Пришлось поцеловать его снова. Его губы хранили привкус мяты и слез; он нежно ответил на поцелуй, словно впервые, с осторожностью касаясь ее губ, как будто этот поцелуй был новым опытом… каким-то экспериментом. Когда он оторвался от нее, лицо его было серьезным.
– Это важный поцелуй, – сказал Джейкоб.
Они прошли по тротуару еще несколько шагов. Она прижалась головой к бицепсу Джейкоба и зажмурилась. Еще через несколько шагов он обнял ее крепче. Она словно плыла, засыпая на ходу, и споткнулась.
– Эй, – сказал он. – Хватит. Слушай. Нужно доставить тебя домой. Залезай.
Он закинул ногу на седло велосипеда.
– Куда залезать?
– В корзинку, – ответил он.
– Нет. Я не могу.
– Можешь. Ты так уже ездила. Я довезу тебя домой.
– Тут целая миля.
– Все время под горку. Залезай.
Они когда-то дурачились так в колледже – она ездила в корзинке перед рулем его велосипеда. Она была тогда стройной, да и сейчас при пяти с половиной футах роста весила всего 115 фунтов. Харпер посмотрела на корзинку, потом на длинный спуск с холма – прочь от больницы и по кривой.
– Ты меня угробишь, – сказала она.
– Нет. Не сегодня. Залезай.
Она не могла ему отказать. Что-то внутри нее хотело подчинения, хотело удобства. Она встала перед велосипедом, занесла ногу над колесом и опустилась в корзинку.
И они помчались; деревья по правую руку легко скользили мимо. Пепел кружил вокруг громадными хлопьями, падал на волосы Харпер и на козырек бейсболки Джейкоба. Скоро они разогнались так, что вполне могли разбиться.
Ветер свистел в спицах. Харпер выдыхала, и ветер уносил ее дыхание прочь.
Люди забывают, что время и пространство – одно и то же, пока не наберут скорость, пока сосны и телефонные столбы не начнут мелькать мимо. От скорости время растягивается, и секунда, за которую пролетаешь двадцать футов, становится длиннее других секунд. Харпер ощущала ускорение висками и животом; она была рада Джейкобу, рада тому, что покинула больницу, и рада скорости. Сначала она цеплялась за корзинку обеими руками, но потом, когда спицы загудели какой-то жужжащий мотив, раскинула руки в стороны и парила, словно чайка на ветру, пока мир ускорялся и ускорялся.
В ночь, когда сгорела больница, Джейкоб вел Харпер по дому, а она зевала и зевала, как засидевшийся ребенок, которому давно пора спать. Харпер чувствовала спокойствие – по-прежнему бодрствуя, она уже не в силах была думать и не знала, что будет дальше, хотя все казалось вполне предсказуемым. Джейкоб отвел ее за руку в спальню. Это было правильно. Харпер устала – значит, нужно идти в спальню. Потом она неподвижно стояла, пока Джейкоб стаскивал с нее зеленую сестринскую форму. На работу она надевала розовые панталоны до пупа – их он тоже стащил. Харпер зевнула во весь рот и прикрылась ладонью, а он засмеялся, потому что в этот момент нагнулся, чтобы поцеловать ее. Она тоже засмеялась. Было весело зевать вот так ему в лицо.
В ночь, когда сгорела больница, Джейкоб наполнил ванну на ножках, которая так нравилась Харпер. Даже непонятно, когда он успел, ни на миг не отрываясь от Харпер, но когда они подошли к ванне, она оказалась уже полна. Лампы были выключены, и горели свечи. Харпер очень обрадовалась ванне, потому что в больнице пропахла дымом и потом – дымом больше всего, – и покрылась пеплом, наверняка пеплом от сгоревших тел.
В ночь, когда сгорела больница, Джейкоб выжимал мягкую мочалку на спину Харпер. Он тер ей шею и уши, потом собрал волосы на макушке и окунул ее в ванну. Харпер вынырнула, хохоча. Он тоже засмеялся и снова макнул ее в воду, а она, вынырнув, открыла рот, чтобы зевнуть, но получился поцелуй. Потом он велел ей встать, и она стояла в ванне, и он намыливал ее. Он намыливал ее груди, и поясницу, и шею, и долго намыливал между ног, а когда у нее уже не было сил терпеть, шлепнул по попе и велел садиться обратно в ванну, и она послушалась.
В ночь, когда сгорела больница, Джейкоб сказал:
– Такая мерзость, когда говорят «Я люблю тебя». Это как наклейка для прилива гормонов, с маленьким намеком на верность. Мне никогда не нравились эти слова. И я скажу вот что: мы вместе сейчас, и будем вместе до конца. У тебя есть все, что мне нужно для счастья. С тобой мне хорошо.
Он сжал мочалку, и теплая вода потекла по шее Харпер. Она закрыла глаза, но продолжала видеть через веки красноватые отблески свечей.
– Не знаю, – продолжал Джейкоб, – сколько нам осталось. Может, пятьдесят лет. Может, всего неделя. Знаю только, что мы не станем терять ни одной секунды. Мы будем жить и чувствовать вместе. И вот что еще я скажу, касаясь тебя и целуя, – и он касался ее и целовал, – ты лучшее, что есть в моей жизни. А я эгоист, и мне нужна каждая пядь тебя и каждая минута твоей жизни. Больше нет моей жизни. И нет твоей. Есть только наша, только наша жизнь, и мы проживем ее по-своему. Я хочу праздничный торт каждый день и голую тебя в постели каждую ночь. А когда придет наше время, мы тоже все сделаем по-своему. Откроем бутылку вина, которое купили во Франции, будем слушать любимую музыку и смеяться, и примем счастливые таблетки, и ляжем спать. Умрем мило, после вечеринки, вместо того чтобы вопить, как все эти унылые, отчаявшиеся, ждущие в больнице очереди на смерть.
Харпер словно слушала заново свадебные клятвы, только лучше и сексуальнее, она возбудилась – он продолжал водить мылом по ее телу, целовал в мочку уха, щекотал и распалял. Все было правильно.
Но не совсем. Нельзя называть людей, пришедших в больницу, унылыми и отчаявшимися. Безнравственно насмехаться над ними. Рене Гилмонтон не была унылой и отчаявшейся. Рене Гилмонтон организовала чтения для детей в палате.
Но Джейкоб умел раскаиваться в своих словах; он говорил, как хочет ее касаться, быть с ней – и говорил с теми же решительностью и мастерством, с какими ездил на моноцикле и ходил по канату. Джейкоб, небольшой и крепенький, был крепок и умом, словно ментальный акробат. Порой такая умственная гимнастика даже утомляла Харпер; и тогда ей казалось, что они не вместе, а просто она – его аудитория, которой положено аплодисментами встречать каждый прыжок через горящий обруч экзистенциализма или заднее сальто на трамплине нонконформизма. Но потом она раздвигала перед ним ноги, потому что его руки знали, что и как нужно делать. И все его разговоры просто означали, что он хочет ее, а она дарит ему счастье. Ей снова приходилось его целовать, и она целовала, и вертелась в ванне, и прижималась грудями к холодному кафелю, и держала его затылок, не отпуская, пока не насытилась им как следует. А потом, отпустив его, зевала, и он смеялся, и все было правильно.
В ночь, когда сгорела больница, Харпер поднялась из воды, и Джейкоб протянул ей бокал красного вина и обернул теплым полотенцем. Помог вылезти из ванны. Повел в комнату, где тоже горели свечи. Вытер ее, и довел до кровати, и она поползла на четвереньках, мучительно желая, чтобы он скинул с себя одежду и вошел в нее, но он положил ладонь ей на поясницу и заставил лечь ничком. Ему нравилось заставлять ее ждать; честно говоря, ей и самой это нравилось – Джейкоб был главным. Он втирал ей в кожу крем с земляничным ароматом. Он сидел рядом голый – крепкое смуглое тело в свете свечей, грудь поросла черной шерстью.
И когда он перевернул ее и вошел, она всхлипнула от удовольствия – так все было неожиданно, и так он был полон желания. Он едва начал, как сполз презерватив, и Джейкоб застыл, нахмурившись, но она протянула руку и отшвырнула резинку, и тогда он снова лег на нее. Ее зеленая сестринская форма, пропахшая дымом, валялась на полу. Больше ей не носить эту форму. Сотня квадратных миль французских виноградников пылают, больше двух миллионов человек сгорели заживо в Калькутте, а она хотела только одного – чтобы он был внутри нее. Она хотела видеть его лицо, когда он кончит. Она думала, что с большой вероятностью они будут мертвы к концу года, но он внутри нее, как она и хочет.
В ночь, когда сгорела больница, они любили друг друга при свечах и зачали ребенка.
Август
Харпер мылась под душем, когда заметила полоску на внутренней стороне бедра.
Она с первого взгляда поняла, что это за полоска, и внутренности свело от ужаса, но Харпер вытерла холодную воду с лица и отругала себя: «Давай-ка не начинай, дамочка. Это обычный чертов синяк».
Хотя на синяк не было похоже. А похоже было на драконью чешую – темная, словно чернильная линия, присыпанная несколькими золотыми блестками. Нагнувшись, Харпер увидела еще одну отметину, на задней части икры – на той же ноге, – и резко выпрямилась. Пришлось заткнуть себе рот – не нужно Джейкобу слышать эти тихие жалкие всхлипы.
Она вылезла из-под душа, даже не подумав его выключить. Уже неважно. Она ведь не тратит горячую воду – ее давно уже нет. Электричество отключилось два дня назад. Под душем Харпер просто смывала с себя ощущение липкости. Воздух в доме был душный, как под кучей одеял.
Та половинка Харпер, которая пять лет проработала медсестрой, оставалась спокойной и отстраненной, даже когда пол становился липким от крови и воздух звенел от криков пациента, – и эта половинка сумела взять себя в руки. Харпер перестала всхлипывать и собралась. Она решила, что нужно вытереться и посмотреть еще раз. Может, это все же синяк. Она всегда легко покрывалась синяками, могла обнаружить громадную черную отметину на бедре или на руке и не вспомнить, где приложилась.
Она вытерлась полотенцем насухо и поставила левую ногу на полку. Посмотрела на ногу, потом на ее отражение в зеркале. У нее снова возникло желание зареветь. Она знала, что видит. В свидетельстве о смерти пишут «Draco incendia trychophyton», но даже главный санитарный врач говорит просто – «драконья чешуя». Вернее, говорил, пока не сгорел заживо.
Полоска на задней поверхности ноги была тонким лучиком, чернее любого синяка, присыпанным яркими зернышками. Приглядевшись, Харпер увидела, что отметина на бедре похожа не на полоску, а на знак вопроса или серп. Потом Харпер заметила неприятную тень там, где шея переходит в плечо, и щеткой отвела волосы в сторону. Открылась еще одна темная линия, усыпанная слюдяными крупинками драконьей чешуи.
Харпер пыталась унять нервную дрожь, отогнать дурман, когда Джейкоб открыл дверь.
– Крошка, меня вызывают в управление. Им не хватает… – Он внезапно замолчал, глядя на нее в зеркало.
При виде его лица Харпер почувствовала, как улетучивается спокойствие. Она опустила ногу на пол и повернулась к Джейкобу. Так хотелось, чтобы он обхватил ее руками и крепко сжал, но она знала, что он не прикоснется к ней, да она и сама не позволила бы.
Джейкоб качнулся назад и посмотрел на нее пустыми, блестящими, испуганными глазами.
– Ох, Харп. О, милая девочка. – Обычно он выговаривал это в одно слово – миладевочка, – но сейчас отчетливо прозвучали два. – Она у тебя повсюду. На ногах. На спине.
– Нет, – беспомощно отозвалась она. – Нет. Нет-нет-нет. – Ее затошнило, едва она представила полоски на коже – там, где она не могла увидеть.
– Оставайся там, – сказал Джейкоб, выставив перед собой руку с растопыренными пальцами, хотя Харпер и не думала двигаться к нему. – Оставайся в ванной.
– Джейкоб, я хочу посмотреть, есть ли это у тебя.
Он уставился на нее недоумевающим взглядом, а когда понял, его глаза словно потухли. Плечи поникли. Загорелая кожа стала серой и болезненно-бледной, как будто он долгое время провел на холоде.
– И зачем это?
– Затем, чтобы проверить, не заразился ли ты.
Он покачал головой:
– Конечно, заразился. Раз у тебя есть зараза, то и у меня есть. Мы трахались. Прямо вчера. И позавчера. И если у меня ничего не видно сейчас, появится потом.
– Джейкоб. Я хочу посмотреть. На мне не было никаких отметин еще вчера. Не было до того, как мы занимались любовью. Не было потом. Еще не все ясно про способы передачи, но многие врачи думают, что человек не заразен, пока не появляются явные отметины.
– Было темно. Горели только свечи. Если бы мы и видели отметины у тебя, то приняли бы их за тень, – сказал Джейкоб. Он говорил со свинцовой монотонностью. Ужас, возникший на его лице мгновенно, как вспышка молнии, так же быстро пропал. Вместо него появилось – и это было гораздо хуже – бесчувственное равнодушие.
– Сними одежду, – сказала Харпер.
Он стянул через голову футболку и бросил на пол. Не сводя с Харпер глаз, горящих в сумраке комнаты, он расставил руки в стороны и стоял, скрестив ноги и задрав подбородок, неосознанно изображая распятого Христа.
– Видишь что-нибудь?
Она покачала головой.
Он повернулся, не опуская руки, и оглянулся через плечо.
– А на спине?
– Нет, – ответила Харпер. – Снимай штаны.
Он снова повернулся и расстегнул джинсы. Они стояли лицом к лицу, в ярде друг от друга. С какой-то жестокой эротической притягательностью, медленно и неторопливо Джейкоб раздевался для Харпер; он вытащил ремень и разом стянул джинсы и трусы. Он не отрывал взгляда от ее глаз, а его похожее на маску лицо оставалось почти безучастным.
– Ничего, – сказала Харпер.
Он встал к ней спиной. Она пыталась сохранить в памяти его подвижные загорелые бедра, бледный зад, ямочки на ягодицах.
– Нет, – повторила она.
– Что ты душ не выключаешь? – спросил он.
Харпер вернулась в ванную, выключила воду, подобрала полотенце и продолжила сушить волосы. Следя за дыханием, чтобы оно было ровным и спокойным, делая все то, что обычно делала после душа, она могла удержаться от новых рыданий. И от криков. Ведь начав кричать, она уже вряд ли остановится.
Харпер навертела полотенце на волосы и вернулась в сумеречную духоту спальни.
Джейкоб сидел на краю кровати – снова в джинсах, но футболку он положил на колени. Ноги были босы. Харпер всегда любила его ноги – загорелые и худые, с изящными, почти архитектурными обводами.
– Извини, что я заразилась, – сказала она и снова с трудом поборола рыдания. – Клянусь, я вчера очень хорошо себя осмотрела, и все было в порядке. Может, у тебя ничего и нет. Скорее всего ты здоров.
На последнем слове Харпер чуть не задохнулась. Горло сдавило спазмом, рыдания прорывались наружу из глубины зажатых легких. Было страшно думать о таком, но она все равно думала.
Она мертва, и он мертв. Она заразила их обоих, и они сгорят заживо, как другие. Она это знала и по его лицу поняла, что он тоже знает.
– И нужно тебе было играть в гребаную Флоренс Найтингейл, – сказал он.
– Прости.
Она надеялась, что он поплачет с ней. Надеялась увидеть на его лице какие-то чувства, понять, что он только сдерживает те же эмоции. Но видела только отрешенность и странный пустой взгляд, и то, как Джейкоб сидел, устало положив запястья на колени.
– Но посмотри на светлую сторону, – сказал Джейкоб, глядя на ее живот. – По крайней мере, нам не придется ломать голову над именем, если это девочка.
Лучше бы он ударил ее. Харпер вздрогнула и отвернулась. Она хотела еще раз извиниться, но получилось только придушенно беспомощное всхлипывание.
О ребенке они узнали неделю назад. Джейкоб легко улыбнулся, когда Харпер показала ему размытую голубую полоску на домашнем экспресс-тесте, но на вопрос, как он относится к этому, ответил:
– Думаю, мне нужно время, чтобы очухаться.
На следующий день в Манчестере сгорела дотла «Веризон-арена», а с ней тысяча двести беженцев – ни один не выжил, – и Джейкоба направили в тамошнее управление общественных работ, разгребать завалы и собирать трупы. Он отсутствовал по тринадцать часов в день, возвращался, покрытый копотью, и молчал, насмотревшись ужасов, и говорить о ребенке было бы неправильно. Но как-то, когда они улеглись в постель, он прижался к ее спине и обхватил ладонью ее живот; Харпер хотелось верить, что хоть немного счастья – ощущения смысла жизни – чувствует и он.
Он не спеша натянул футболку.
– Пожалуйста, оденься, – сказал он. – Мне легче думается, когда я всего этого не вижу.
Она пошла к шкафу, плача. Полное бесчувствие в его голосе угнетало ее. Это было даже хуже, чем заразиться, отравиться.
День обещал быть жарким – в спальне уже за двадцать градусов, а скоро должно было стать еще теплее, солнечный свет прорывался между шторами, – и Харпер начала искать на вешалках сарафан. Она выбрала белый – в нем удобно, он дает ощущение чистоты, простоты и свежести; именно всего этого ей сейчас не хватало. Потом до нее дошло, что если надеть белый сарафан, Джейкобу по-прежнему будет видна полоска на задней стороне ее ноги. Значит, и шорты не годились. Зато нашлось невзрачное старое платье цвета дешевого маргарина.
– Тебе нужно уехать, – сказала Харпер, не поворачиваясь. – Тебе нужно уехать из дома и от меня.
– Думаю, уже поздно.
– Мы не знаем, заразился ли ты. – Харпер завязала пояс, но все еще не поворачивалась. – И пока не узнаем точно, нужны меры предосторожности. Собери одежду и уезжай из дома.
– Ты трогала всю мою одежду. Стирала ее в раковине. Развешивала на веранде. Складывала и убирала.
– Тогда езжай и купи новые вещи. «Таргет», наверное, открыт.
– Ну конечно. И заодно подарю немножко драконьей чешуи девушке на кассе.
– Говорю тебе. Не зафиксировано случаев заражения до того, как появятся явные признаки.
– Верно. Не зафиксировано. Они – кто бы они ни были – вообще ничего не зафиксировали. Если бы кто-то действительно понимал, как передается зараза, мы бы не дошли до такого, правда, миладевочка?
Ей не понравилось, каким тоном он произнес «миладевочка». Почти с презрением.
– Я была осторожна. В самом деле осторожна, – сказала Харпер.
Она припомнила – с усталой обидой, – как парилась целыми днями в своем полном защитном костюме, который прилипал к покрасневшей потной коже. Чтобы надеть его, требовалось двадцать минут, еще двадцать – чтобы снять после пятиминутного душа с обеззараживающим раствором. Она припомнила, как воняла резиной, дезинфекцией и по́том. Два месяца, пока работала в Портсмутской больнице, она носила на себе эту вонь, этот запах промышленной катастрофы, и все равно заразилась – вот уж действительно злая шутка.
– Не переживай. У меня в спортивной сумке есть одежда, – сказал Джейкоб. – Эти вещи ты не трогала.
– Куда ты поедешь?
– Да с какого хрена мне знать? Понимаешь, что ты наделала?
– Прости.
– То-то. Теперь я не так боюсь того, что мы оба сгорим заживо.
Харпер подумала, что если от гнева он меньше боится, то это правильно. Она хотела, чтобы все было правильно.
– Ты можешь ночевать в управлении? – спросила она. – И не контактировать с другими парнями?
– Нет, – сказал он. – Но Джонни Дипено мертв, а ключи от его маленького трейлера-развалюхи висят у него в шкафчике. Там перекантуюсь. Помнишь Джонни? Он водил «фрейтлайнер» номер три.
– Я не знала, что он болел.
– Он не болел. Заразилась его дочь и сгорела заживо, а он спрыгнул с моста через Пискатакву.
– Я не знала.
– Ты работала. Ты была в больнице. И домой не приходила. А я не хотел писать об этом сообщение. – Он замолчал, опустив голову; глаза прятались в тени. – И я им почти восхищаюсь. Ведь он понял: он видел все лучшее, что могла предложить ему жизнь. Уяснил, что нет смысла околачиваться тут еще хоть одну сраную минуточку. Джонни Дипено пил «будвайзер», смотрел футбол, голосовал за Дональда Трампа – хладнокровный придурок, который в жизни не читал ничего серьезнее журнала «Пентхаус», но тут он сумел сообразить. Пойду блевать, – сказал вдруг Джейкоб прежним тоном и поднялся на ноги.
Харпер прошла за ним в прихожую. Он отправился не в ванную при хозяйской спальне – видимо, та была уже под запретом, поскольку ею недавно пользовалась Харпер. Джейкоб зашел в маленький туалет под лестницей. Стоя в прихожей, Харпер слушала, как его рвет за закрытой дверью, и старалась не расплакаться. Не стоит лезть со своей тоской, нагружать его своими эмоциями. И все же хотелось, чтобы Джейкоб сказал что-нибудь ласковое, посмотрел на нее с сочувствием.
Зашумела вода в унитазе, и Харпер отступила в гостиную, чтобы дать Джейкобу пройти. Она встала у его стола, за которым он писал вечерами. Джейкоб оказался на должности заместителя начальника портсмутского Управления общественных работ почти случайно – он собирался стать романистом. Бросил колледж, чтобы писать, и с тех самых пор работал над книгой – вот уже шесть лет. Он написал 130 страниц и никому не давал почитать, даже Харпер. Назывался роман «Плуг разрушения». Харпер никогда не говорила ему, что название ей не нравится.
Джейкоб вышел из туалета и остановился у порога гостиной. Он где-то нашел свою бейсболку с надписью «фрейтлайнер» – Харпер всегда считала, что он носит ее для смеха, как бруклинские хипстеры носят кепки «Джон Дир». Если еще носят. И если вправду носили когда-нибудь.
Налитые кровью глаза под козырьком смотрели мутно. Харпер подумала, что Джейкоб, возможно, плакал в туалете, и ей стало чуть легче.
– Тебе придется подождать, – сказал он.
Она не поняла и посмотрела на него вопросительно.
– Через сколько дней мы будем точно знать, заразился ли я? – спросил он.
– Через восемь недель, – ответила она. – Если ничего не появится к концу октября, то ничего и нет.
– Хорошо. Восемь недель. По-моему, это фарс – мы оба понимаем, что раз ты больна, то и я заражен, – но подождем восемь недель. И если мы оба больны, сделаем все вместе, как договаривались. – Он помолчал, уставившись на свои ноги, потом кивнул: – А если я здоров, я буду с тобой, когда ты сделаешь это.
– Что мы сделаем вместе?
Он посмотрел на нее с непритворным удивлением:
– Убьем себя. Господи. Мы же говорили об этом. О том, что будем делать, если заразимся. Мы согласились, что лучше всего – просто заснуть. Чем ждать, пока сгорим.
Харпер почувствовала в горле такой тугой комок, что уже не знала, сможет ли произнести хоть слово. Однако смогла:
– Но я беременна.
– Теперь ты точно не сможешь родить.
Харпер сама поразилась: впервые тупая сердитая уверенность Джейкоба обидела ее.
– Нет, ты не прав, – сказала она. – Я не специалист, но все же больше тебя знаю об этих спорах. Есть исследования – серьезные исследования, – в которых показано, что зараза не может преодолеть плацентарный барьер. Споры проникают везде, в мозг, в легкие… всюду, но не туда.
– Хрень собачья. Нет таких исследований. Они просто хотят оправдаться за трату бумаги, на которой напечатан отчет. Центр контроля заболеваний в Атланте – кучка пепла. Никто больше не изучает эту сволочь. Время науки прошло. Настало время прятаться и надеяться, что эта дрянь сожжет сама себя прежде, чем испепелит весь мир. – Он сухо рассмеялся своей шутке.
– Но ее изучают. Все еще. В Бельгии. В Аргентине. Ладно, не веришь мне, и не надо. Поверь вот чему. В июле мы в больнице приняли здорового ребенка у инфицированной роженицы. В отделении педиатрии устроили праздник. Мы ели растаявшее вишневое мороженое и все по очереди держали ребенка. – Харпер не стала говорить, что медицинский персонал проводил с ребенком куда больше времени, чем его мать. Врач не позволял ей даже прикасаться к сыну и вынес его из палаты, а она кричала и звала его, просила показать еще хоть разок.
Лицо Джейкоба дрогнуло. Губы сжались в белую линию.
– И что? В этом дерьме – сколько еще протянет человек? При лучшем прогнозе? После того, как появятся полоски?
– У всех по-разному. Есть люди, которые еще живы с самого начала эпидемии. Я могу протянуть…
– Три месяца? Четыре? Сколько в среднем? Вряд ли в среднем хоть пару месяцев. А ты узнала, что беременна, только десять дней назад. – Он недоверчиво покачал головой. – И чем ты можешь нам помочь?
– Ты про что? – Ей было тяжело уловить ход его мыслей.
– Чем ты можешь нам помочь? Ты говорила, что принесешь эту штуку – которую мне стоматолог давал, когда канал просверлил.
– Викодин.
– Его же можно растолочь?
Ее пояс развязался, и платье распахнулось, но уже не было сил поправлять, даром что она не хотела тревожить Джейкоба видом зараженного тела.
– Можно. Наверное, самый безболезненный способ покончить с собой. Таблеток двадцать викодина – и все.
– Так мы и сделаем. Если у обоих будет чешуя.
– Но у меня нет викодина. И не было никогда.
– Почему? Мы же это обсуждали. Ты сказала, что достанешь. Что украдешь немного из больницы, и если мы заболеем, то будем пить вино, слушать музыку, а потом примем таблетки – и в путь.
– Я забыла прихватить их по дороге из больницы. Слишком торопилась, чтобы не сгореть заживо. – И все же, подумала она, получается, что избежать этого не удалось.
– Ты притащила домой драконью чешую, но не удосужилась принести что-нибудь для нас. И в довершение всего забеременела. Господи, Харпер. Ну и месяц ты нам устроила. – Он сухо рассмеялся, словно залаял. Потом сказал: – Может, я смогу чем-нибудь разжиться для этого дела. Если нужно, пушку добуду. У Дипено по всему сраному пикапу приляпаны наклейки Стрелковой ассоциации. Наверняка там есть что-нибудь.
– Джейкоб. Я не собираюсь убивать себя, – сказала Харпер. – О чем бы мы ни говорили до того, как я забеременела, теперь все это не имеет значения. У меня драконья чешуя, но у меня и ребенок в утробе. Ты не считаешь, что это все меняет?
– Да хрен там. Это еще даже не ребенок. Это кучка бессмысленных клеток. И потом, я же знаю тебя. Если бы с ним было что-то не так, ты бы сделала аборт. Ради бога, ты же работала в этой чертовой больнице. Каждое утро ты входила туда, а люди кричали, что ты детоубийца.
– С ребенком все в норме, и в любом случае я бы не стала… это не значит, что я бы…
– Я считаю, испечься в утробе – не совсем нормально. Не согласна?
Джейкоб обхватил себя руками. Харпер видела, как он дрожит.
– Давай подождем. Посмотрим, подцепил ли я тоже эту хрень, – сказал он наконец. – Может быть, в следующие восемь недель мы вернемся к тому, с чего начали. Может быть, ты будешь смотреть на вещи уже не так эгоистично.
Хотя Харпер и велела Джейкобу уезжать из дома, на самом деле она не хотела его отпускать. Надеялась, что он решит остаться неподалеку: к примеру, будет ночевать в подвале. Страшно представить, что она останется один на один с болезнью; она так нуждалась в его спокойствии, его уравновешенности, пусть даже он больше не будет обнимать ее.
Но что-то изменилось за последние шестьдесят секунд. Теперь она была готова к тому, что он уйдет. Так будет лучше для них обоих, подумала Харпер, а она останется в темном тихом доме, в одиночестве – чтобы подумать, или не думать, а молча сидеть, или плакать, или заниматься чем придется – не видя его ужаса и сердитого отвращения.
Он сказал:
– Я поеду на велосипеде до управления. Возьму ключи от трейлера Джонни Дипено из его шкафчика. Вечером позвоню.
– Не тревожься, если я не отвечу. Может быть, отключу телефон, когда пойду спать. – Она вдруг рассмеялась горьким смехом. – А вдруг я проснусь, а все это был дурной сон.
– Ага. Будем надеяться, миладевочка. Только если это дурной сон, он снится нам обоим. – Тут он улыбнулся как-то нервно – и на мгновение снова стал ее Джейком, ее старым другом.
Он уже шел к двери, когда она сказала:
– Не говори никому.
Он остановился, держась за задвижку.
– Хорошо. Не скажу.
– Не хочу в Конкорд. Я слышала много рассказов о тамошних нравах.
– Ага. Говорят, это лагерь смерти.
– Ты не веришь?
– Верю, конечно. Туда попадают зараженные. И всех их ждет смерть. Вот и получается лагерь смерти. По определению. – Он раскрыл дверь навстречу жаркому, дымному дню. – Я не отправлю тебя туда. В этом мы заодно. Я не отдам тебя какому-то безликому учреждению. Сами справимся.
Харпер подумала, что Джейкоб хотел ее утешить такими словами, но она почему-то не утешилась.
Он спустился по ступенькам на дорожку, ведущую к гаражу, и скрылся из виду. Дверь он оставил открытой, словно ждал, что Харпер выйдет и будет смотреть ему вслед. Будто так положено. Может, и положено. Харпер завязала пояс платья, прошла через небольшую прихожую и встала в дверях. Джейкоб вынес велосипед на плече к дороге. Не оглядываясь.
Харпер подняла голову и посмотрела на Портсмут. Грязное небо придавило белую колокольню Северной Церкви. Дым теперь постоянно висел над городом. Харпер где-то читала, что 12 процентов Нью-Гемпшира горит, но не могла в это поверить. Конечно, это еще неплохо, по сравнению с Мэном. В местных новостях теперь только и говорили, что о Мэне. Пожар, вспыхнувший в Канаде, уже добрался до магистрали I-95, разрезав штат пополам выжженной пустошью почти в сотню миль в самой широкой точке. Потушить это мог бы дождь, но жар сводил на нет все попытки погоды. Синоптик Национального общественного радио сказал, что дождь испаряется, как плевок на раскаленной печи.
В небо поднимались бурые, грязные кольца дыма над музеем «Стробери Бэнк». Теперь все время что-нибудь горело: дом, магазин, машина, человек. Поразительно, сколько дыма может дать человеческое тело, охваченное огнем.
Стоя на пороге, Харпер видела дорогу до кладбища на Южной улице. По кладбищу, по узкой аллее медленно катилась машина, словно водитель выбирал место на забитой парковке. Вот только стекло на пассажирском окне было опущено, и оттуда вырывалось пламя. Салон машины был охвачен огнем, и Харпер не могла разглядеть человека за рулем.
Она следила за тем, как автомобиль скатился с дороги в траву и застыл, уткнувшись в могильный камень. Только тут Харпер спохватилась и вспомнила, что вышла посмотреть, как уезжает Джейкоб. Она поискала его глазами, но уже не нашла.
Сентябрь
Через два дня ее левая рука стала похожа на лист нотной бумаги. Четкие черные линии оборачивались вокруг предплечья, тонкие, как паутина, и словно покрытые золотыми нотами. Харпер каждые несколько минут подтягивала рукав, чтобы взглянуть на партитуру. К концу следующей недели вся рука была покрыта драконьей чешуей от запястья до плеча.
Однажды она стянула с себя блузку и посмотрелась в зеркало на шкафу; она увидела прямо над бедрами черно-золотую татуировку, похожую на пояс. Справившись с приступом тошноты, Харпер все же призналась себе, что вышло довольно симпатично.
Иногда она раздевалась до белья и рассматривала при свечах разукрашенную кожу. Спала она не много, и эти осмотры обычно происходили вскоре после полуночи. Точно так же, как в колеблющемся пламени можно разглядеть лицо, а в узорах на деревянной доске – чью-то фигуру, она видела намеки на образы, спрятанные в «чешуе».
Обычно в это же время Джейкоб звонил из трейлера мертвеца – ему тоже не спалось.
– Решил проверить, – говорил он. – Узнать, как ты день провела.
– Болталась по дому. Доела последние макароны. Пыталась не превратиться в кучку пепла. А как ты?
– Жарко. Тут жарко. Все время жарко.
– Открой окошко. На улице прохладно. Я все окна открыла, и мне хорошо.
– Да я тоже все открыл и все равно жарюсь. Как в духовке.
Ей не нравилось, с какой злостью он говорил об этом и как зациклился, воспринимая жару как личное оскорбление.
Харпер старалась отвлечь его, рассказывая о себе спокойным, беззаботным тоном.
– У меня появился завиток из чешуи на внутренней стороне левой руки; похож на открытый зонтик. Зонтик, уносимый ветром. Может, у чешуи есть художественный вкус? Может, она реагирует на то, что у человека в подсознании, и пытается нарисовать на коже то, что может ему понравиться?
– Не хочу говорить о хрени, которая тебя покрывает. Меня трясет, как только подумаю об этой мерзости на твоей коже.
– Приятно слышать. Спасибо.
Он резко, сердито выдохнул:
– Извини. Я ведь… я ведь вовсе не бессострадательный.
Харпер рассмеялась – удивив не только Джейкоба, но и саму себя. Старый добрый Джейкоб иногда так причудливо подбирал слова. «Бессострадательный». В колледже его специализацией была философия – пока он не бросил учебу, – и он по старой привычке иногда шерстил словари в поисках правильного слова, которое необъяснимым образом оказывалось неправильным. И часто он поправлял правописание у Харпер.
И почему, лениво подумала Харпер, нужно было заразиться, чтобы заметить, что брак трещит по швам.
Он снова начал:
– Прости. В самом деле. Я просто закипаю. Трудно даже соображать.
Сквозняк пронесся по комнате, лизнув Харпер прохладой по голому животу. Она не представляла, как Джейкобу может быть жарко, где бы он ни находился.
– Мне подумалось – не начала ли драконья чешуя рисовать зонтик Мэри Поппинс на моей руке. Знаешь, сколько раз я смотрела «Мэри Поппинс»?
– Драконья чешуя не реагирует на твое подсознание. Это ты сама реагируешь. Ты видишь то, что готова увидеть.
– Разумно, – согласилась она. – Но знаешь что? В больнице лежал садовник, так у него на ноге были рисунки – совсем как ползучие лианы. Можно было разглядеть крохотные листочки. Все говорили, что похоже на плющ. Как будто драконья чешуя в рисунке выразила суть дела всей его жизни.
– Она всегда так выглядит. Похоже на терновые ветки. Не хочу об этом говорить.
– Да, возможно, в моих мозгах ее еще нет, так что она не может знать обо мне все. Она добирается до мозга несколько недель. Мы пока на стадии знакомства.
– Господи, – сказал Джейкоб. – Я тут заживо сгорю.
– Увы, ты обратился за сочувствием не по адресу, – ответила Харпер.
Ночи через две она налила себе бокал красного вина и прочитала первую страницу книги Джейкоба. Харпер решила: если роман окажется неплох, то в следующем телефонном разговоре она признается, что прочитала немного, и расскажет, как ей понравилось. Он не рассердится, что она нарушила обещание не трогать рукопись без разрешения. У нее смертельная болезнь. Правила можно изменить.
Хватило одной страницы, чтобы понять, что ничего хорошего там нет; Харпер перестала читать и снова почувствовала себя нехорошо, словно чем-то обидела Джейкоба.
Немного погодя, после второго бокала – два ребенку не повредят, – Харпер прочитала тридцать страниц. Тут пришлось остановиться. Невозможно было читать дальше и по-прежнему любить Джейкоба. Честно говоря, и тридцати-то оказалось многовато – стоило остановиться страницы три назад.
Главный герой романа, бывший студент-философ Дж., разочаровался в бесперспективной карьере в Управлении общественных работ и бесперспективном браке со смешливой поверхностной блондинкой, которая не знала правописания, читала подростковые романы из-за умственной неготовности к серьезной литературе и была неспособна понять переживания мужа. Чтобы смягчить разочарование, Дж. заводит серию случайных романов; женщин Харпер узнала без труда: подруги по колледжу, учительницы начальной школы, бывший тренер. Харпер решила поначалу, что все эти приключения – выдумка, но ложь, которую Дж. скармливал жене – где он пропадал и чем занимался, пока на самом деле был с другой женщиной, – слово в слово совпадала с реальными разговорами Харпер и Джейкоба.
Однако больше всего ее поразили даже не клинически подробные отчеты о любовных похождениях. Гораздо отвратительнее было презрение главного героя.
Он ненавидел мужчин, которые водили грузовики Управления. Ненавидел их жирные рожи, жирных жен и жирных детей. Ненавидел то, как они копят целый год, чтобы купить к футбольному матчу билеты на самые дорогие места. Как радуются несколько недель после игры и как рассказывают об этой игре, будто речь идет о битве при Фермопилах.
Он ненавидел всех подруг жены – своих друзей у Дж. не было – за то, что они не знают латыни, пьют дешевое пиво, а не специальное домашнее, и растят следующее поколение перекормленных, избалованных людей-манекенов.
К жене он относился не с ненавистью, но с любовью, какую обычно мужчина может испытывать к игривому щенку. Ее готовность без колебаний принять любое мнение и суждение мужа одновременно и разочаровывала его, и немного забавляла. Все, что он заявлял, она немедленно принимала за чистую монету. Он даже устроил из этого игру. Если она готовилась к приему гостей целую неделю, потом он говорил, что никому не понравилось – хотя вечеринка была грандиозная, – и она принималась плакать, соглашалась с ним и бежала покупать книги о том, как правильно устраивать вечеринки. Нет, он не испытывал ненависти. Но жалел ее и жалел себя – из-за того, что был к ней прикован. И еще у нее глаза на мокром месте, что для него, как ни странно, означало поверхностность чувств. Женщина, которая плачет над клипами Общества защиты животных, вряд ли с той же яростью будет выступать в защиту человека в наш жестокий век.
Вот что содержалось в книге – язвительный гнев Джейкоба и жалость к себе – и написано было плохо. Бесконечно тянулись абзацы, бесконечно тянулись предложения. Иногда ему требовалось слов тридцать, чтобы добраться до глагола. Чуть ли не на каждой странице он норовил втиснуть строчку на греческом, французском или немецком. Там, где Харпер понимала эти афоризмы, ей казалось, что вполне можно было написать то же самое по-английски.
Харпер не могла не вспомнить сказку о Синей Бороде. Она не вытерпела, пошла и заглянула в запретную комнату, которую ей не полагалось видеть. И нашла за запертой дверью не трупы, а позор. Даже ненависть было бы легче простить. Когда ненавидишь человека, значит, он хотя бы стоит твоей страсти.
Джейкоб никогда не говорил прямо, о чем его книга, хотя иногда бросал изящные намеки: «об ужасах обыденной жизни» или «о человеке, потерпевшем душевное кораблекрушение». Но они часто, отдыхая в постели после секса, подолгу беседовали о том, какой станет их жизнь, когда роман напечатают. Джейкоб надеялся, что денег хватит, чтобы купить пристанище на Манхэттене (Харпер не понимала, почему бы не назвать это просто «квартирой», но верила, что разница есть). Она с восторженным придыханием мечтала о том, как здорово он будет выступать на радио: остроумно, и талантливо, и скромно; надеялась, что его позовут на Национальное общественное радио. Они говорили о том, что придется купить, с какими знаменитостями встретиться, и все это оказалось грустным и дешевым обманом. Жаль, что она свято верила, будто он обладает блестящим умом, но еще хуже оказалось то, что он и сам в это верил – безо всяких оснований.
И ее поражало, что он, написав такую ужасную книгу, оставлял ее на виду годами. Он был уверен, что Харпер не прочтет, потому что он запретил, и не сомневался в ее послушании. Вся ее самооценка строилась на том, чтобы делать то, что он хочет, и вести себя так, как он скажет. Конечно, он был прав. Роман не был бы столь ужасен, если бы не содержал значительную долю правды. Харпер открыла «Плуг разрушения» только потому, что умирала.
Харпер сложила рукопись обратно на стол аккуратной хрустящей стопкой, подровняв уголки. Пачка с чистой белой титульной страницей и чистым белым обрезом выглядела невинно, как свежезастеленная постель в шикарном отеле. Люди вытворяют неописуемые безобразия в гостиничных постелях.
Подумав, она придавила стопку бумаги коробкой кухонных спичек, использовав ее как пресс-папье. Если драконья чешуя задымится и начнет чесаться, пусть спички будут под рукой. Если ей суждено сгореть, будет справедливо, что сначала сгорит эта сраная книга.
В следующий раз он позвонил почти в час ночи, но она еще не спала, работала над своей книгой для ребенка, которая начиналась так:
«Привет! Это твоя мама, в виде книги. Вот как я выглядела, пока не была книгой».
Прямо под надписью Харпер приклеила свою карточку – отец сфотографировал, когда ей было девятнадцать и она работала инструктором по стрельбе из лука в Эксетерском управлении парков. На фотографии – долговязая девчонка со светлыми волосами, торчащими ушками, костлявыми мальчишескими коленками и царапинами на внутренней стороне предплечья из-за несчастных случаев с тетивой. Впрочем, девчонка симпатичная. Солнце на фотке светило из-за ее спины, окрашивая волосы золотом. Джейкоб говорил, что на фото – ангел-подросток.
Под карточкой Харпер прилепила лентой серебристый отражающий квадрат – вырезала из рекламы в журнале – и написала: «Мы похожи?»
У нее была куча идей – что должно быть в этой книге. Рецепты. Полезные советы. Хотя бы одна игра. Тексты ее любимых песен, которые она пела бы малышу: «Люби меня», «Мои любимые вещи», «Капли дождя падают мне на голову».
Не должно быть никаких девчачьих драм – если получится. Работая школьной медсестрой, она всегда стремилась походить на Мэри Поппинс: старалась сохранить доброжелательное спокойствие, уверенность, терпимость к играм, но при этом – и убежденность, что лекарство проскочит с ложечкой сахара. Если детям казалось, что она может вдруг запеть или пустить фейерверк из зонтика, она не спорила.
Она хотела, чтобы книга для ребенка была пронизана подобным настроением. Вопрос только в том, чего хочет ребенок от матери; ответ – пластырь для царапин, колыбельная на ночь, доброта, что-нибудь сладенькое после школы, кто-нибудь, кто поможет с уроками и кого можно обнять. Харпер еще не придумала, как научить книгу обниматься, зато прикрепила степлером к обратной стороне обложки дюжину пластырей и добавила четыре влажные салфетки в упаковке. Эта книга – «Подручная мама» – станет отличным подспорьем.
Когда зазвонил телефон, Харпер сидела перед телевизором – он работал непрерывно и не отключался уже полгода, не считая тех случаев, когда пропадало электричество. Сейчас электричество было, и Харпер устроилась перед экраном, хотя, занятая книгой, не обращала на телевизор внимания.
Впрочем, смотреть было нечего. FOX продолжали вещание, но уже из Бостона, а не из Нью-Йорка. NBC выходили из Орландо. CNN вещали из Атланты, но вечерние новости вел человек по имени Джим Джо Картер, баптистский священник, и рассказывал он все время о людях, которых уберег от заразы Иисус. И еще оставались HSB – Патриотическое вещание, передавали или местные новостные программы, или помехи. HSB вещали с базы Куантико в штате Вирджиния. Столица, Вашингтон, по-прежнему горела. Как и Манхэттен. У Харпер был включен канал FOX. Зазвонил телефон. Она подняла трубку и поняла, что это Джейкоб, еще до того, как он заговорил. Он странно, чуть придушенно дышал и сначала просто молчал.
– Джейкоб, – сказала она. – Джейкоб, поговори со мной. Скажи что-нибудь.
– У тебя включен телевизор?
Харпер отложила ручку.
– Что случилось?
Харпер не знала, как вести себя, когда он позвонит. Она боялась, что не сумеет сдержать возмущение. Если Джейкоб услышит враждебность в ее голосе, то захочет узнать причину, и придется рассказать. Она никогда не умела от него что-то утаивать. А говорить о книге не хотелось. Не хотелось даже думать. Она беременна, в ее теле поселился огнеопасный грибок, и еще она узнала, что горит Венеция и теперь ей уже не поехать смотреть на город из гондолы. При всех напастях ждать от нее литературной критики его дерьмового романа – это чересчур.
Но Джейкоб рассмеялся – грубо и невесело, – и этот звук заставил ее забыть о возмущении. По крайней мере, пока. Кто-то в голове спокойным, профессиональным тоном произнес: «Истерика». Господи, уж этого она насмотрелась за последние полгода.
– Лучшая шутка уж не знаю за сколько времени, – сказал он. – «Что случилось»? Ты имеешь в виду, помимо того, что весь мир пылает? Что пятьдесят миллионов человек превратились в шаровые молнии? Ты смотришь FOX?
– Смотрю. Что случилось, Джейкоб? Ты плачешь. Что-то не так? – Ничего удивительного, что он чувствовал к ней презрение. За десять секунд он успел вызвать у нее беспокойство и жалость к нему, хотя пять минут назад она собиралась объявить ему бойкот хоть на целый месяц. К своему стыду, она не могла удержать свой гнев.
– Ты это видишь?
Харпер уставилась на экран: трясущиеся кадры, какой-то луг. Несколько человек в желтых дождевиках, резиновых перчатках по локоть и противогазах, со штурмовыми винтовками «бушмейстер» в руках, стояли на дальнем краю поля. Высокая желтая трава колыхалась под мягким дождем. За людьми в дождевиках тянулась линия деревьев. Слева виднелось шоссе. На подъеме прошуршала машина со включенными в надвигающихся сумерках фарами.
– …на камеру мобильного телефона, – говорил диктор. – Учтите, кадры слишком натуралистичные. – Об этом уже не стоило предупреждать. В те дни все было натуралистично.
Из леса выводили людей. В основном детей, но с ними – несколько женщин. Некоторые дети были голые. Одна женщина тоже была обнажена, но прижимала платье к животу.
– Они показывают это всю ночь, – сказал Джейкоб. – Новостники такое обожают. Смотри. Смотри на машины.
Поле было хорошо видно с шоссе. На подъем въехала еще одна легковушка, за ней пикап. Проезжая мимо поля, оба водителя притормозили, потом снова прибавили газу.
Женщин и детей, вышедших из-за деревьев, согнали в плотную кучу. Дети плакали. Издалека их голоса как будто вливались в стон первого осеннего ветра. Одна из женщин подняла на руки маленького мальчика и прижала к себе. Харпер вдруг ощутила короткий, но сильный приступ дежавю, невероятную уверенность в том, что она смотрит на саму себя в скором будущем. Она смотрела на свою смерть.
Раздетая женщина, сжимая в руках платье, шагнула к одному из мужчин в дождевиках. С расстояния казалось, что ее обнаженная спина изрезана, а затем зашита блестящими золотыми нитями: драконья чешуя. Женщина уронила платье и шагнула навстречу штурмовой винтовке.
– Вы не смеете, – взвыла она. – Отпустите нас! Мы в Амери…
Харпер так и не поняла, был первый выстрел намеренным или случайным. Впрочем, людей вывели на поле для расстрела, так что сложно предположить, что кого-то застрелили по ошибке. Он был преждевременным – вот, наверное, нужное слово. Дуло винтовки брызнуло огнем. Женщина сделала еще шаг, второй, потом повалилась в траву и исчезла из виду.
На мгновение – на полвздоха – воцарилась удивленная придавленная тишина. Еще одна машина появилась на шоссе и замедлила ход.
Остальные винтовки жахнули разом – июльским фейерверком. Дула сверкали, как фотовспышки папарацци, снимающих вылезающего из лимузина Джорджа Клуни. Вот только Джордж Клуни был уже мертв – сгорел заживо, когда находился с гуманитарной миссией в Нью-Йорке.
Машина на шоссе почти остановилась – водителю хотелось рассмотреть все получше. Женщины и дети падали, пока винтовки стрекотали под сентябрьским дождем. Машина помчалась прочь.
Мужчины в дождевиках упустили одну жертву: невысокая девушка с эльфийской легкостью скользила по полю прямо к скрытому наблюдателю с мобильным телефоном. Она неслась по траве, словно тень от облачка. Харпер смотрела, схватив двумя руками свою книгу, и, едва дыша, посылала молчаливую мольбу: «Отпустите. Пусть она убежит». Но тут девушка сложилась пополам, упала и смялась; Харпер поняла, что это совсем и не человек. Над полем пронеслось платье, которое было в руках у обнаженной женщины. Ветер заставил платье плясать, вот и все. Танец окончен.
Снова включили студию. Ведущий стоял перед широким телеэкраном, где повторяли показанные кадры. Стоя к экрану спиной, он говорил ровным, спокойным голосом. Его слов Харпер не слышала. Джейкоб тоже что-то говорил, но Харпер не слышала и его.
Она перебила обоих:
– Правда, она была похожа на меня?
– О чем ты? – спросил Джейкоб.
– Женщина, которая обнимала маленького мальчика. По-моему, она была похожа на меня.
Телеведущий продолжал:
– …показывает, насколько опасны люди, которые, заразившись, не хотят…
– Не заметил, – сказал Джейкоб придушенным голосом.
– Джейкоб. Скажи мне: что не так?
– Меня тошнит.
У нее закружилась голова, словно она резко встала, хотя продолжала сидеть неподвижно на краю дивана.
– У тебя полоска?
– Лихорадит.
– Ясно. Но у тебя появились отметины?
– На ноге. Я думал – это синяк. Вчера уронил на ногу мешок с песком и думал, это просто синяк. – Он словно готов был заплакать.
– О, Джейкоб. Пришли мне фото. Я хочу посмотреть.
– Нечего тебе смотреть.
– Пожалуйста. Для меня.
– Я и сам знаю, что это такое.
– Пожалуйста, Джейк.
– Я знаю, что это, и у меня лихорадка. Мне охренительно жарко. Температура за тридцать восемь. Жарко, и я не могу спать. Мне снится, что одеяла горят и я выпрыгиваю из постели. Тебе такое снится?
Нет. Ее сны были гораздо хуже. Настолько, что она решила вообще не спать. Безопаснее бодрствовать.
– А зачем тебе мешок с песком? – спросила она. Не то чтобы ее это волновало, просто он успокоится, если говорить не об инфекции.
– Мне пришлось снова выйти на работу. Пришлось рискнуть. Я ведь могу заразить других. Вот во что ты меня втянула.
– О чем ты говоришь? Я не понимаю.
– Если бы я просто исчез, люди стали бы интересоваться, что со мной. Пришли бы в дом и нашли тебя. За твою жизнь могут заплатить другие. Ты сделала меня потенциальным убийцей.
– Нет, Джейкоб, мы говорили об этом. Пока чешуя не проявится на теле, ты не заразен. В этом практически все согласны. И даже тогда передача идет только при контакте. Так что не думаю, что ты серийный убийца. Так что насчет мешка с песком?
– Однажды всех из управления послали на мост через Пискатакву – пришел приказ из Национальной гвардии. Строили укрепление с пулеметным гнездом, чтобы отстреливать больных засранцев, которые попытаются проскочить через новый пропускной пункт. А почему мы говорим о сраном мешке?
– Мне нужно, чтобы ты прислал фото отметины на ноге, – сказала она голосом строгой медсестры.
– По-моему, это у меня и в голове. Иногда бывает, как будто булавки в мозг втыкают. Будто сотня тонких иголочек…
Харпер промолчала. Это уже больше походило не на истерику, а на сумасшествие.
Потом она заговорила, спокойно и уверенно:
– Нет, Джейкоб, нет. Грибок действительно покрывает миелин в мозгу и на нервных волокнах, но только после того, как драконья чешуя распространится на все тело.
– Я, блин, знаю. Я, блин, знаю, что ты сотворила со мной. Ты убила нас обоих и нашего ребенка, только чтобы ублажить свое эго.
– Да о чем ты?
– Ты знала, как опасно работать в больнице, но хотела чувствовать свою значимость. В этом ты вся, Харпер. Тебе необходимо, чтобы тебя обнимали. Все время пытаешься быть со страдальцами, чтобы прилепить им пластырь и получить взамен дешевую любовь. Ты поэтому и стала школьной медсестрой. Легко добиться поцелуя от ребенка с поцарапанной коленкой. Дети полюбят любого, кто угостит их леденцом и прилепит пластырь на бобо.
У Харпер перехватило дыхание от гнева, кипящего в его голосе. Прежде она ничего подобного не слышала.
– Они были в отчаянии, – сказала Харпер. – Им требовались все сестры. Больница набирала сестер-пенсионерок, которым по восемьдесят пять лет. Я не могла просто сидеть дома и безучастно наблюдать по телевизору, как умирают люди.
– Нужно решать, – сказал Джейкоб. Он почти что всхлипнул. – Я не хочу сгореть, на хрен, живьем. И не хочу в поле молить охотников о милосердии.
– Если ты не спишь, то этим, возможно, и вызвана высокая температура. Мы не знаем точно, болен ли ты. Лихорадка часто говорит об инфекции, но не всегда. Даже наоборот. У меня лихорадки нет. И я хочу, чтобы ты прислал мне фото отметины.
Послышался стук, приглушенное топанье, щелчок – сработала камера. Пятнадцать секунд не было слышно ничего, кроме его затрудненного дыхания.
Потом пришло фото его темной босой ступни на каком-то фабричном ковре. Вся верхняя часть ступни растерта в кровь.
– Джейк, – сказала Харпер. – Что это?
– Я пытался ее стереть, – ответил он почти печально. – Мне было очень тяжело. Тер наждачкой.
– У тебя есть другие полосы?
– Я помню, как это выглядело, – сказал он.
– Не надо тереть ее, Джейк. Это все равно что тереть спичкой о коробок. Оставь ее в покое. – Она опустила телефон и снова взглянула на фото. – Я хочу увидеть другие полоски, прежде чем ты окончательно решишь, что у тебя драконья чешуя. На ранней стадии полоски трудно отличить от синяка, но если ты просто оставишь в покое…
– Нужно решать, – сказал он снова.
– Решать что?
– Как мы умрем. Как мы сделаем это.
По телевизору показывали сюжет из Далмации: женщины и подростки готовили обеды и пекли кексы для добровольной пожарной дружины.
– Я не собираюсь убивать себя, – сказала Харпер. – Я тебе уже говорила. Я ношу ребенка. И собираюсь дожить до его рождения. В марте можно будет делать кесарево сечение.
– В марте? Сейчас сентябрь. К марту ты превратишься в кучку золы. Или в мишень для кремационной бригады. Хочешь умереть, как те люди в поле?
– Нет, – тихо сказала Харпер.
– Я знаю, что ты сделала со мной, – простонал Джейкоб и вздохнул – тяжело, словно захлебнулся: – Знаю. У меня горячие пятна на руках и ногах. Мне нравилось, что ты работаешь с таким рвением, что ты служишь обществу, пусть даже этим ты потакала своему нарциссизму. Ты хотела окружать себя плачущими детьми, потому что тебе было приятно вытирать им слезки. Не бывает бескорыстных поступков. Когда человек делает что-то для другого, то всегда по личным причинам. Но то, как ты зациклилась на своих потребностях – вот от чего меня тошнит. Тебе даже не важно, скольких ты заразила. Лишь бы ничто не мешало твоим грезам о еще одном спасенном ребенке.
Он пытался добиться от нее сопротивления, хотел заставить говорить то, чего она говорить не хотела. Харпер решила сменить тему:
– Насчет горячих пятен я не знаю. Это ведь не симптом…
– Это не твой симптом. Он мой. Не пытайся изображать хренова доктора. Гребаный диплом медсестры и три года работы в начальной школе не делают тебя сраным доктором Хаусом. Ты только вытираешь доктору пот с верхней губы, когда он оперирует, и стряхиваешь каплю с члена, когда он поссыт.
– Может, тебе домой вернуться? Я осмотрю тебя, не дотрагиваясь. И, наверное, смогу успокоить.
– Я намерен ждать, – ответил он. – Пока не буду уверен. И вот тогда приду домой. Жди меня. Потому что ты обещала.
– Джейкоб, – позвала она, но он уже не ответил.
Октябрь
Одним жарким дымным утром, через несколько дней после последнего звонка Джейкоба, электричество снова вырубилось, и на сей раз окончательно.
К тому времени Харпер добралась до последних, покрытых пылью консервных банок в глубине буфета, – уже и не вспомнить, когда их покупали. Она не выходила из дома с того дня, как обнаружила первую полоску на ноге. Не осмеливалась. Полоски можно прикрыть – на лице и руках чешуи не было, – но сердце сжималось при мысли, что в магазине на углу она столкнется с кем-нибудь и обречет его на смерть.
Иногда Харпер задумывалась, можно ли питаться кулинарным жиром «Криско». В глубине души она понимала, что можно и вскорости придется. Есть немного порошкового какао, возможно, по вкусу будет как шоколадный пудинг.
Не было определенного момента, когда она сказала себе: «Ухожу». Не было определенного дня, когда она трезво осознала, что скоро останется без пищи и будет вынуждена рисковать.
Просто однажды она сняла с бельевой веревки на задней веранде одежду и начала раскладывать ее на кровати, рядом с «Подручной мамой». Сначала это были просто вещи, которые она хотела убрать: футболки, пара джинсов, спортивные костюмы. Но их можно было и взять с собой в машину, чтобы куда-нибудь поехать. И, открыв гардероб, Харпер вдруг начала не убирать вещи, а упаковывать их.
У нее не было пункта назначения, не было плана и вообще никаких мыслей. Просто возникло какое-то неясное ощущение, что неплохо бы уложить одежду в старый портплед, на случай, если придется спешно покидать дом. Харпер действовала словно машинально – без цели, без намерения, скользила, как лист на беспощадном осеннем ветру. Радио, ярко-розовый портативный приемник в стиле японской кошечки «Хелло Китти», она держала включенным, – Харпер укладывала одежду под классический рок: фон создавали Том Петти и Боб Сигер.
Ее сознание наконец включилось, и она поняла, что музыка кончилась. Уже какое-то время распинался диджей. Харпер узнала его голос – хриплый, дребезжащий бас принадлежал бывшему шутнику из утренней программы. Или же ведущему радиостанции правого толка. Точно сказать она не могла, как не могла вспомнить и его настоящее имя. Говоря о себе – очень часто, – он представлялся Ковбоем Мальборо, в честь всех спаленных им окурков. Так он называл людей, больных драконьей чешуей: «окурки».
Он с тупой самоуверенностью шутил, что бывший президент стал чернее, чем прежде, поскольку изжарился заживо от драконьей чешуи. Он говорил, что после эфира отправится с кремационной бригадой выкуривать окурков из их логовищ и поджигать. Харпер, сидя на кровати, слушала отвратительно увлекательный рассказ о том, как он заставил трех девушек скинуть блузки, чтобы убедиться, что у них нет драконьей чешуи на грудях.
– Здоровые американские груди – вот за что мы сражаемся, – заявил он. – Это нужно записать в Конституцию. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на незаразные сиськи. Зарубите на носу, девочки. Если мы появимся на вашем пороге, будьте готовы выполнить патриотический долг и предъявить нам свободолюбивые титьки безо всякого вируса.
Тут застучал дверной молоток, и Харпер подпрыгнула, словно в дом вломилась кремационная бригада. В каком-то смысле стук в дверь теперь пугал больше, чем крики на улице или пожарная сирена. Крики раздавались каждый день, сирена – и вовсе каждый час. А в дверь стучали последний раз и не упомнишь когда.
Харпер прокралась через прихожую и посмотрела в глазок. На верхней ступеньке стояли рядышком Тигр Тони с пачки кукурузных хлопьев и Капитан Америка, державший в руках сморщенные пластиковые пакеты. За ними, на дальнем конце подъездной дорожки, виднелся человек, сидящий спиной к дому; он курил, и над головой поднимались струйки дыма.
– Сласти и страсти, – раздался приглушенный голос. Девчачий.
– Сласти или… – Харпер остановилась. – Но ведь сейчас не Хэллоуин.
– Мы решили начать пораньше!
Харпер рассердилась: какой-то идиот отправляет детей по домам в разгар чумы. У нее были представления о том, как должны вести себя родители, и такое поведение не лезло ни в какие ворота. Ее внутренняя английская няня возмутилась и готова была ткнуть отвратительному взрослому в глаз зонтиком.
Харпер сняла с вешалки ветровку и надела, чтобы скрыть изящный орнамент драконьей чешуи на руках. Открыла дверь, не снимая цепочки, и выглянула в шестидюймовую щель.
Девочке могло быть и восемнадцать, и тринадцать. Лицо скрывалось за маской, и оставалось только гадать. Голова была выбрита, и если бы не голос, Харпер могла принять ее за мальчика.
Мальчик был, пожалуй, вдвое младше. В прорезях маски тигра Тони сверкали бледно-зеленые глаза цвета пустой бутылки из-под кока-колы.
– Сласти и страсти, – повторила Капитан Америка. На воротнике побитой молью водолазки блеснул золотой медальон в виде книжки.
– Не стоит вам ходить по домам за конфетами. – Харпер посмотрела на курящего мужчину, который по-прежнему сидел на тротуаре спиной к дому. – Это ваш отец?
– Мы не за угощением, – ответила капитан Америка. – Мы сами принесли. У нас есть и страсти. Можете получить все сразу. Потому я и говорю: «Сласти и страсти». Мы подумали, это поднимет вам настроение.
– Все равно, вам не стоит выходить на улицу. Люди болеют. Если больной тронет здорового, он может его заразить. – Она крикнула через их головы: – Эй, приятель! Детям не стоит выходить на улицу! Кругом зараза!
– Мы в перчатках, – сказала Капитан Америка. – И мы не будем вас трогать. Никто ни от кого ничего не подцепит. Я обещаю. Гигиена для нас – самое главное! Не хотите посмотреть на сласти? – Она пихнула мальчика локтем.
Тигр Тони открыл свой пакет. Там лежал пузырек сладких жевательных витаминок – Харпер заметила, что это витамины для беременных. Она подняла голову и посмотрела на гостей – сначала на одну, потом на второго.
– Это что?
– Как кисленькие жвачки, – сказала Капитан Америка. – Но можно только две в день. С вами все в порядке?
– Что значит «все в порядке»? Ну-ка погодите. Вы кто? Пожалуй, надо поговорить с вашим отцом.
Она поднялась на цыпочки и крикнула вдаль:
– Я хочу с вами поговорить!
Человек на тротуаре не обернулся, а только неопределенно помахал рукой. Или, может, просто отгонял дым от лица. Он пускал дымные кольца в вечернее небо.
Капитан Америка бросила на него небрежный взгляд.
– Это не наш отец. Отца с нами нет.
Харпер опустила взгляд. Мальчик все еще держал пакет открытым, показывая подарок.
– Это витамины для беременных. Откуда вам известно, что я беременна? Я не похожа на беременную. Погодите. Что, похожа?
– Не очень, – ответила Капитан Америка.
– Кто вас сюда прислал? Кто велел отдать мне это?
– Они вам не нужны? Если не хотите, не берите.
– Дело не в том, нужны ли они мне. Вы очень любезны, и я благодарна, но…
– Тогда берите.
Мальчик повесил пакет на дверную ручку и отошел. Чуть помедлив, Харпер сунула руку в щель и втащила пакет.
– А теперь страсти. – Девочка открыла свой пакет, показывая Харпер его содержимое.
Тигр Тони, похоже, не собирался ничего говорить. Он молчал с самого начала.
Харпер заглянула в пакет. Там лежал клоунский слайд-свисток в пластиковой упаковке.
– Они очень громкие, – сказала Капитан Америка. – Будет слышно отсюда аж до Вентворта на побережье. Глухой услышит. Возьмите.
– В пакете больше ничего нет, – заметила Харпер. – Вам больше нечего раздавать.
– Вы последняя в очереди.
Харпер вдруг задумалась, не спит ли она. Такие разговоры бывают во сне. Дети в масках казались не просто детьми. Они казались символами. Девочка в своей речи как будто пользовалась секретным кодом сновидений; психолог бы мог часами его расшифровывать. А этот мальчик. Он просто стоял и смотрел. И не моргал. Когда говорила Харпер, он не отрываясь смотрел на ее губы, будто хотел их поцеловать.
Харпер неожиданно ощутила короткий, но болезненный укол надежды. А может, вообще все это сон. Может, она подхватила тяжелый грипп или что похуже, и все, что случилось за последние три месяца, – лишь бред, вызванный болезнью. Разве не такие сны снятся людям, страдающим от лихорадки? Может, ей всего лишь приснилось, что Джейкоб ее бросил и она осталась одна в зараженном мире, горящем мире, и единственные ее гости за много недель – пара детей в масках, разговаривающих фразами из печений с предсказаниями.
«Я возьму слайд-свисток, – подумала Харпер, – и если свистну посильнее, моя лихорадка исчезнет и я проснусь в постели, вся в поту, а Джейкоб будет прижимать к моему лбу холодную салфетку».
Девочка повесила пакет на ручку двери и шагнула назад. Харпер взяла пакет и прижала мятый пластик к груди.
– У вас точно все в порядке? – спросила девочка. – Вам что-нибудь нужно? То есть помимо ваших сластей и ваших страстей? Вы ведь больше не выходите из дома.
– Откуда ты знаешь, что я больше не выхожу? Как давно вы за мной следите? Не знаю, что вы задумали, но я не люблю игры. Если не знаю, с кем играю. – Она снова поднялась на цыпочки и крикнула в спину мужчине, сидящему на тротуаре: – Я не люблю игры, приятель!
– У вас все в порядке, – убежденным тоном произнесла Капитан Америка. – Если что-то понадобится, просто позовите.
– Позвать? – переспросила Харпер. – Как я должна вас позвать? Я даже не знаю, кто вы.
– Это верно. Зато мы знаем, кто вы. – Капитан Америка ухватила мальчика за плечо и повела прочь.
Они быстро вышли по дорожке на улицу. Когда они поравнялись с тротуаром, сидящий человек поднялся на ноги, и только тут Харпер поняла, что он не курил сигарету, а просто пускал дым изо рта. Он выдохнул последнее колечко, распавшееся на сотню дымных бабочек. Они разлетелись, трепеща крыльями, в дымном утреннем воздухе.
Харпер грохнула дверью, сняла цепочку и, выскочив на крыльцо, спустилась по трем ступенькам в сад.
– Эй! – закричала она; сердце колотилось в груди, словно она только что пробежала несколько раз вокруг дома.
Человек обернулся, и Харпер увидела, что на нем маска Хиллари Клинтон. И только сейчас она заметила, что он носит чуть поблескивающие желтые штаны, как у пожарных.
– Эй, вернитесь! – крикнула она.
Человек быстро повел детей в переулок, прячась за изгородью. Мальчика практически не было видно.
Харпер пошла по желтеющей траве, все еще сжимая пакет со свистком. Выйдя в переулок, она огляделась, щурясь от тумана, который теперь постоянно застилал улицу. Густой и бледный, он постепенно стирал дорогу – уже в конце квартала ничего не было видно. Дым глотал дома, лужайки, телефонные столбы и скрывал небо. Проглотил он и мужчину с детьми. Харпер глядела им вслед увлажнившимися глазами.
Вернувшись в дом, она снова закрыла дверь на цепочку. Если нагрянет карантинный патруль, цепочка даст ей достаточно времени, чтобы спуститься в подвал и ускользнуть через заднюю дверь в лес. С портпледом. И со слайд- свистком.
Она вертела свисток в руках, пытаясь понять, насколько он громкий, и вдруг поняла, что в доме стоит полная тишина. Ни музыки, ни Ковбоя Мальборо. Минут пять назад сели батарейки в радиоприемнике. Двадцать первый век, подобно гостям в масках, быстро и без извинений ускользнул от нее, снова оставив совсем одну.
«Сласти и страсти», – подумала она.
Когда мобильный телефон был на последнем издыхании, она поняла, что настала пора для звонка, который она столько времени откладывала, – еще день, и позвонить, возможно, уже не получится. Она выпила бокал белого вина, чтобы расслабиться, и набрала номер брата. Трубку взяла невестка – Линди.
Лет в двадцать Линди выгодно сменила хобби – спать с басистами второразрядных рок-групп, – на работу в звукозаписывающей студии в Вудстоке; там она и познакомилась с Коннором. Он играл на басу в прогрессив-метал-группе «Небьющиеся». Название группу не спасло. У Коннора теперь была лысина размером с чайное блюдце и работа по установке джакузи. Линда устроилась инструктором в высококлассный тренажерный зал, где обучала домохозяек гимнастическому танцу у шеста. Она сравнивала себя с дрессировщиком тюленей:
– Хочется сардинку кинуть, если хоть одна полный круг прокрутит и не упадет.
Вскоре после этого Харпер перестала посещать свой тренажерный клуб – страшно было представить, что говорят про нее за спиной тренеры.
– Как дела, Линди? – спросила Харпер.
– Не знаю. У меня трехлетний сын. Я слишком устаю, чтобы думать о том, как дела. Спроси лет через двадцать, если свидимся. Тебе, наверное, Кон нужен.
Она опустила трубку и заорала:
– Коннор! Тебя сестра!
Брат взял трубку.
– Алло! Сестренка! Как дела?
– У меня важные новости, – сказала Харпер.
– Про того монаха в Лондоне?
– Нет. Какого монаха?
– Которого застрелили, когда он пытался пройти в «Би-би-си». Ты не слышала про монаха? Он и еще трое – все больные. И уже давно – сам монах ходил со спорами с февраля. Считается, что он мог заразить буквально тысячи людей. И подозревают, что он собирался заразить работников новостного отдела, чтобы вызвать политический резонанс. Терроризм с помощью инфекции. Психованный засранец. Он светился как лампочка, когда его шлепнули.
– Это ведь не инфекция в традиционном смысле. Ее передают не микробы, а споры.
– Ага. Его последователей окружили и допросили. Он им говорил, что можно научиться контролировать болезнь, чтобы не заражать других. Что они могут идти домой, жить среди нормальных людей. А если и заразят кого-то из близких, так просто научат их, как не болеть. У него, наверное, мозги грибком поросли. В твоей больнице ведь были такие пациенты, да? Психи, у которых мозги набиты спорами?
– Споры пробираются в мозг, но я не уверена, что зараженные люди сходят с ума именно от этого. Знать, что можешь в любую секунду превратиться в факел, для любого невыносимо. Удивительно то, что некоторые сохраняют здравый ум. – Харпер подумала, что скоро точно узнает, влияет ли чешуя на сознание человека. Может, грибок сейчас опутывает ее мозг.
– Случилось еще что-нибудь, кроме монаха-террориста? – спросил Коннор.
Харпер сказала:
– Я беременна.
– Ты… – Коннор запнулся. – Боже, Харпо! Боже! Линди! Линди! Харпо и Джейк ждут ребенка!
Харпер услышала фоном голос Линди: «Она беременна», – в нем не было слышно радости. Потом она сказала еще что-то, совсем тихо; кажется, что-то спросила.
– Харпо! – сказал Коннор. Он пытался говорить весело, но в голосе слышалось напряжение – понятно, что Линда почему-то не рада. – Я так рад за вас. Мы даже не подозревали, что вы собираетесь. Мы думали…
Линда в трубке негромко, но отчетливо сказала:
– Мы думали, что чистое сумасшествие заводить ребенка в разгар чумы, после того как ты несколько месяцев провела в контакте с инфицированными.
– А папа и мама знают? – взволнованно спросил Коннор. Она не успела ответить, как он сказал: – Подожди.
Он прижал трубку к груди, чтобы прикрыть микрофон, – Харпер десятки раз видела, как он это делает. Она ждала, когда Коннор вернется на линию. Наконец он заговорил:
– Алло. – Он немного запыхался, словно бежал по лестнице. Наверное, поднялся наверх – подальше от Линди. – Так о чем мы? Я так рад за тебя. Уже знаешь, мальчик или девочка?
– Еще рано. – Она глубоко вздохнула и сказала: – А что ты скажешь, если я приеду ненадолго в гости?
– Попытаюсь отговорить. Не стоит тебе ездить по дорогам в нынешнем положении. Посты через каждые тридцать миль, и это не самое худшее. Если с тобой что-то случится, я себе никогда не прощу.
– И все же – чисто гипотетически – что ты сделаешь, если я завтра возникну на твоем пороге?
– Для начала обниму тебя, а там посмотрим. А Джейкоб присутствует в твоих планах? Он знает парня с частным самолетом или что? Дай ему трубку, я его поздравлю.
– Я не могу дать ему трубку. Мы с Джейкобом больше не живем вместе.
– Что значит, вы не… да что случилось? – спросил Коннор. Он помолчал, потом сказал: – Господи. Он что, болен? Поэтому ты и хочешь приехать? Господи. Я сразу понял: что-то не так, но подумал – ты беременна, так положено.
– Не знаю, болен ли он, – мягко сказала Харпер. – Но я больна. В этом плохая новость, Коннор. Я заразилась полтора месяца назад. И если я окажусь на твоем пороге, обнимать меня точно не стоит.
– Ты про что? – спросил он тихим испуганным голосом. – Как?
– Не знаю. Я была осторожна. В больнице этого случиться не могло. Мы были упакованы в резину с головы до ног. – Харпер снова удивилась своему спокойствию перед лицом болезни. – Коннор. Утроба – неблагоприятная среда для спор. Ребенок наверняка родится здоровым.
– Повиси на линии. Подожди. Я серьезно. О господи. – Он как будто старался не заплакать. – Ты ведь еще сама ребенок. Зачем тебе было работать в больнице? Какого хрена ты туда пошла?
– Нужны были медсестры. Вот такая я, Коннор. Я могу прожить еще месяцы. Месяцы. Достаточно, чтобы сделать кесарево сечение. Я хочу, чтобы ты и Линди взяли ребенка после моей смерти. – Думать о Линди, как о мачехе ее еще не рожденного ребенка, было противно, но она пересилила себя. По крайней мере, Коннор будет хорошим отцом: любящим, терпеливым, веселым и чуточку строгим. А у ребенка будет «Подручная мама» – на самый тяжелый случай.
– Харпер. Харпер. Мне очень жаль. – Его напряженный голос упал почти до шепота. – Как несправедливо! Ты всегда хотела добра людям. Нечестно.
– Тихо, тихо, Коннор. Ты будешь нужен этому ребенку. И будешь нужен мне.
– Да. Нет. То есть разве не лучше пойти в больницу?
– Я не могу. Не знаю, как у вас в Нью-Йорке, но здесь, в Нью-Гемпшире, больных отправляют в карантинный лагерь в Конкорде. Это нехорошее место. Там нет медицинского обслуживания. Даже если ребенок выживет, не представляю, что с ним сделают. Куда его поместят. Я хочу, чтобы ребенок остался с тобой, Коннор. С тобой и Линди. – Даже произнести имя Линди было непросто. – И потом. Зараженные спорами люди, находясь вместе, иногда поджигают друг друга. Теперь мы это знаем. Мы видели это в больнице. Отправиться в лагерь с другими зараженными – смертный приговор. Мне и, наверное, ребенку.
– А что насчет нашего ребенка, Харпер? – Голос Линди, видимо, поднявшей вторую трубку, впился в ухо Харпер. – Мне жаль. Мне охренительно жаль, до боли. Представить не могу, что тебе пришлось пережить. Но, Харпер, у нас трехлетний сын. А ты хочешь, чтобы мы тебя спрятали? Чтобы впустили в дом, рискуя жизнью нашего ребенка? Нашими жизнями?
– Я могу пожить в вашем гараже, – прошептала Харпер; вряд ли Линди расслышала.
– Даже если ты не заразишь нас – что, если кто-нибудь узнает? Что будет с Коннором? Со мной? Людей забирают, Харпер. Мы нарушаем по меньшей мере шесть федеральных законов, просто разговаривая об этом, – сказала Линди.
Вмешался Коннор:
– Линди, повесь трубку. Дай мне поговорить с сестрой.
– Не повешу. Ты не будешь принимать решения без меня. Я не позволю ей убедить тебя рисковать нашими жизнями. Хочешь увидеть, как наш сын сгорит живьем к хренам? Нет. Нет. Этого не будет.
– Линди. Это частный разговор, – сказал Коннор, чуть не плача. – Это наше с сестрой дело.
– Решения, которые повлияют на безопасность нашего ребенка, это уже не твое частное дело, – ответила она. – Я рискну своей жизнью ради любого из вас, но не буду рисковать жизнью сына, и нечестно меня просить. Рваться в герои – не вариант, когда у тебя маленький ребенок. Я это знаю, и ты, Харпер, знаешь. Если не знала, пока не забеременела, то знаешь теперь. Ты хочешь, чтобы с твоим ребенком все было в порядке. Я понимаю, потому что хочу того же для своего. Мне очень жаль, Харпер. Правда. Но ты сделала выбор. Мы должны сделать свой. Выбор не геройский, но он позволит нашему ребенку выжить.
– Линди, – взмолился Коннор, хотя Харпер не поняла, о чем он молит.
Да, Линди была ужасна; ей нравилось быть матерью, потому что она могла издеваться над мужем и ребенком. Все в ней было ужасно – от острого носа до острых маленьких сисек и острого визгливого голоса… Но она была права. Харпер стала заряженным оружием, а заряженное оружие нельзя оставлять там, где до него может добраться ребенок. Харпер подумала – и не впервые, – что решение выжить, в некотором смысле, чудовищно, это акт гордыни, возможно, убийственный эгоизм. Ее смерть – дело решенное, и все теперь зависит от того, заберет ли она кого-нибудь с собой, подвергнет ли риску.
Но кто-то уже подвергается риску. Рискует ребенок.
Харпер зажмурилась. Она ощущала сквозь веки свет двух свечей, горящих на кофейном столике, мутное красное сияние.
– Коннор, – сказала Харпер. – Линди права. Я не подумала. Просто испугалась.
– Конечно, испугалась, – ответила Линди. – Ну конечно испугалась, Харпер.
– Не надо было спрашивать. Я слишком долго сидела в одиночестве – Джейкоб уехал в прошлом месяце, и помочь он не может. Когда слишком долго остаешься в одиночестве, возникают глупые идеи.
– Лучше бы тебе позвонить отцу, – сказала Линди. – Расскажи ему обо всем.
– Что? – воскликнул Коннор. – Господи, папа не должен знать! Это его убьет. У него в прошлом году был инфаркт, Линди. Хочешь, чтобы случился еще один?
– Он умный человек. Что-нибудь придумает. И потом, твои родители имеют право знать. Харпер должна рассказать, в какое положение она нас всех поставила.
Коннор захрипел.
– Его сердце не остановится. Оно разобьется. Линди, Линди…
– Наверное, ты права, Линди, – сказала Харпер. – Ты из нас самая разумная. Мне нужно будет позвонить маме и папе. Но не сегодня. У меня на телефоне только три процента зарядки; не хочу вывалить дурные вести и отключиться. Только пообещай мне, что дашь мне самой сообщить им. Не хочу, чтобы они услышали все от тебя, пока я вне зоны доступа. Ну и ты сама сказала: я во всем виновата, мне и держать ответ.
Харпер вовсе не собиралась звонить родителям, чтобы сообщить, что скорее всего умрет в течение года. Ни к чему. Им уже почти по семьдесят, и они обитают в зале ожидания Бога, именуемом также штат Флорида. Оттуда они не помогут ей и приехать не смогут; единственное, что им по силам, – объявить траур заранее, а смысла в этом Харпер не видела.
Однако ничто так не смягчало Линди, как признание ее правоты, и заговорила она гораздо спокойнее:
– Конечно, сообщи им сама. Поговоришь с ними, когда сможешь, когда будешь готова. Если им захочется с кем-то поделиться, мы со своей стороны сделаем все, чтобы их утешить. – Смущенным голосом она добавила: – Может быть, именно это поможет мне сблизиться с твоей матерью.
Как мило, отметила Харпер. Пусть она сгорит заживо, но хотя бы Линди сможет подружиться со свекровью.
– Линди? Коннор? Телефон сдыхает, не знаю, когда еще смогу позвонить. Электричества нет уже несколько дней. Можно, я пожелаю спокойной ночи Джуниору – Коннору-младшему? Ему, наверное, уже спать пора.
– Ну, Харпер, – сказал Коннор. – Я не знаю…
– Разумеется, она может пожелать Джуниору спокойной ночи, – вмешалась Линди, встав теперь на сторону Харпер.
– Харп, ты ведь не скажешь малышу, что ты больна?
– Разумеется, она не скажет, – снова влезла Линди.
– И… и не думаю, что стоит говорить ему о ребенке. Не хочу, чтобы он вбил себе в голову, что у него будет… Господи, Харпер. Это правда ужасно. – Он как будто старался не заплакать. – Как я хочу тебя обнять, сестренка.
Она ответила:
– Я люблю тебя, Кон. – Что бы ни придумал себе Джейкоб про эти три слова, для Харпер они были важны. Они были ближе всего к волшебству, таили в себе силу, которой не хватает другим словам.
– Я подниму Джуниора, – сказала Линди мягким тихим голосом – как в церкви. Раздался пластиковый стук – она положила свою трубку.
Брат сказал:
– Не сердись, Харпер. Не надо нас ненавидеть. – Он тоже говорил шепотом, горестным тоном.
– Конечно, – ответила она брату. – Заботьтесь друг о друге. Линди правильно говорит. Вы все делаете правильно.
– О, Харп, – сказал Коннор. Он глубоко, со всхлипом вздохнул и добавил: – Вот и мальчик.
Настала тишина – он передавал трубку. Возможно, именно из-за этой тишины Харпер услышала звук на улице: шуршание гравия и шум большого грузовика, едущего по дороге. Харпер уже отвыкла от уличного движения после заката – действовал комендантский час.
Коннор-младший сказал:
– Привет, Харпер. – Его голос вернул ее в мир на том конце провода.
– Привет, Джуниор.
– Папа плачет. Сказал, что ударился головой.
– Ты должен поцеловать его, чтобы прошло.
– Ладно. И ты плачешь? Почему? Тоже ударилась головой?
– Да.
– Все головой ударяются!
– Вот такая ночь.
В трубке послышался стук. Коннор-младший закричал:
– Я тоже ударился головой!
– Не делай так, – сказала Харпер.
Харпер краем сознания отметила, что грузовик еще на улице и мотор работает.
В трубке снова послышался стук.
– Опять моя голова! – весело сказал Коннор-младший. – Мы все стукнулись головой!
– Больше не надо, – сказала Харпер. – А то заболит.
– Уже заболела, – радостно объявил мальчик.
Харпер громко чмокнула телефонную трубку.
– Я поцеловала телефон. Ты почувствовал?
– Ага! Почувствовал. Спасибо. Уже лучше.
– Хорошо, – сказала она.
Стукнул дверной молоток. Харпер подскочила на диване, как будто услышала выстрел на улице.
– Ты опять стукнулась головой? – спросил Коннор. – Я слышал – так громко!
Харпер сделала шаг в сторону прихожей. Мелькнула мысль, что она идет не в ту сторону – ведь надо в спальню, за портпледом. Кто бы ни стоял теперь за дверью – вряд ли она действительно хочет его видеть.
– Тебя поцеловать, чтобы стало лучше? – спросил Коннор.
– Конечно. Один раз, чтобы стало лучше, и еще раз – на ночь.
Послышался смачный поцелуй, а потом Коннор-младший тихо, почти смущенно сказал:
– Вот. Поможет.
– Уже помогло.
– Мне пора. Надо зубы почистить. А потом слушать сказку.
– Иди слушать сказку, Джуниор, – ответила Харпер. – Спокойной ночи.
Из прихожей донесся странный звук: грохочущий и скрежещущий «клик-клак». Потом приглушенный удар. Харпер ждала, когда же Коннор-младший пожелает ей спокойной ночи, но он молчал, и она постепенно поняла, что тишина на том конце провода стала другой. Опустив телефон, она убедилась, что он отключился, растратив остатки заряда. Теперь это было просто пресс-папье.
Снова раздался скрежет: «клик-клак-бум».
Харпер вышла в прихожую и остановилась в двух ярдах от двери, прислушиваясь к тишине.
– Кто там?
Дверь приоткрылась на четыре дюйма и уперлась в цепочку – с тем же стуком. В щель заглянул Джейкоб.
– Харпер, – сказал он. – Так ты меня впустишь? Надо поговорить.
Она стояла на пороге гостиной, глядя через прихожую на ту часть фигуры Джейкоба, которая была видна в приоткрытую дверь. Его вытянутое лицо с запавшими глазами поросло четырехдневной щетиной. Когда-то они, как многие пары, обсуждали, кто мог бы сыграть в фильме, рассказывающем об их жизни (кому пришло бы в голову делать фильм о школьной медсестре и диспетчере в Управлении общественных работ – другой вопрос). В роли Джейкоба Харпер представляла Джейсона Патрика или, может, молодого Джонни Деппа – кто-нибудь темный и крепкий, способный и стойку на руках изобразить, и стих написать. Сейчас Джейкоб выглядел, как Джейсон Патрик или Джонни Депп в роли наркомана. На потном лице лихорадочно блестели глаза.
(Кастинг на роль Харпер не представлял бы трудностей: Джули Эндрюс, двадцативосьмилетняя Джули Эндрюс – не потому, что они похожи, а потому что Харпер никого другого вообразить в этой роли не могла. А если не получится пригласить двадцативосьмилетнюю Джули Эндрюс, то и съемки придется отменить.)
Джейкоб приехал домой не на велосипеде. За его спиной у тротуара скучал спецгрузовик – 2,5-тонный «Фрейтлайнер» цвета тыквы с навешенным снежным плугом, помятым и почерневшим от непрерывной работы. Грузовики с плугом работали днем и ночью, расчищая дороги. То и дело требовалось сдвинуть с шоссе горящий автомобиль.
Харпер направилась к двери, обхватив себя руками. Прохладный воздух, врывающийся в приоткрытую дверь, нес запах осени – пряный сладкий аромат яблок, опавших листьев и далекого дыма. Снова дым.
– Нужно было позвонить, – сказала она. – Я не думала, что ты приедешь. Я уже собиралась ложиться. Могла вообще тебя не услышать.
– Как-нибудь все равно вошел бы. Выбил бы окно.
– Хорошо, что не выбил. В бойлере нет масла. А с выбитыми стеклами трудно сохранять тепло в доме. Холодает.
– Вот именно. Впустишь меня?
Она не стала отвечать, даже себе.
Жаль, что он не пришел днем. Харпер легко могла представить, как снимает цепочку при свете дня. Но с октябрьской тьмой за его спиной, под октябрьским холодным ветром, тянущим в приоткрытую дверь, невозможно было забыть об их последнем разговоре и об угрожающих звуках, которыми сопровождалось появление Джейкоба.
Она глубоко вздохнула и спросила:
– Как себя чувствуешь?
– Лучше. Гораздо лучше, Харп. Извини, что напугал. – Он бросил на нее виноватый взгляд из-под длинных, почти девичьих ресниц.
– Что насчет спор? Ты боялся, что подцепил заразу. У тебя появились еще отметины?
– Нет. Ни одной. Я запаниковал. Струсил. И мне нет оправданий. Я в норме – если не считать неизлечимого стыда. Драконья чешуя у тебя, но именно я повел себя как… как… – Он обернулся на свой «Фрейтлайнер», потом сказал: – Черт. Мне уйти? Вернуться завтра? Я только… я только поговорить хотел насчет всего этого. Меня вдруг охватило запоздалое желание убедить свою жену, что я не истеричное дерьмо.
– Я тоже хочу поговорить. Наверное, действительно надо.
– Правда? – спросил он. – О ребенке? Если мы точно хотим, чтобы малыш появился на свет, – нам нужен план. До следующего марта далеко. Что, снять с предохранителя? Я мерзну.
– Сейчас, – сказала Харпер. Она прикрыла дверь и взялась за цепочку. И тут спохватилась, прокручивая в голове его последние слова. Неправильно расслышала, решила она. Слух сыграл с ней шутку.
– Джейкоб, – сказала она, возвращая цепочку на место. – Ты что-то сказал про предохранитель?
– А? Да нет, нет. Вовсе я не… Впустишь? А то я тут отморожу свою тощую задницу.
Она посмотрела в глазок. Он стоял у самой двери, и видно было только правое ухо и часть лица.
– Джейкоб, – сказала она. – Ты меня немного пугаешь. Покажи руки.
– Ладно. Выходит, теперь паранойя у тебя, но пускай. Смотри. Вот мои руки. – Он сделал шаг назад и расставил руки в стороны.
Его левая нога с грохотом впечаталась в дверь. Цепочка отлетела. Дверь ударила Харпер в лицо. Она отшатнулась и села на пол.
В правой руке Джейкоба появился пистолет, маленький револьвер, извлеченный из глубокого кармана водительских штанов. В Харпер Джейкоб не целился. Просто вошел в прихожую и локтем захлопнул за собой дверь.
– Я хочу, чтобы все было по-доброму, – сказал он, успокаивающе подняв левую ладонь.
Харпер на четвереньках поползла прочь, пытаясь подняться на ноги.
– Стой, – сказал он.
Она не остановилась. Ей казалось, она успеет обогнуть угол, добраться до кухни и спуститься по лестнице в подвал – к задней двери. Но стоило ей подняться, Джейкоб лягнул ее под левую коленку, и Харпер снова упала.
– Миладевочка, не надо, – сказал он. – Прекрати.
Харпер перекатилась на бок. Он стоял с пистолетом в руках, озадаченно ее разглядывая.
– Прекрати, – повторил он. – Мне так не нравится. Я хочу, чтобы все было, как мы договаривались. По-доброму.
Харпер снова поползла прочь. Когда он шагнул за ней, она ухватилась за приставной столик, на котором стояла лампа, и швырнула его, пытаясь попасть в Джейкоба. Он отбил столик, почти не глядя; глаза его были устремлены на Харпер.
– Пожалуйста, – сказал он. – Я не хочу делать тебе больно. Даже думать об этом не хочется.
Он протянул левую руку, чтобы помочь подняться. Харпер не приняла ее, тогда он нагнулся, ухватил ее за плечо и рывком поставил на ноги. Она пыталась освободиться, но потеряла равновесие и упала Джейкобу на грудь. Он обнял ее и прижал к себе.
– Пожалуйста, – сказал он, покачиваясь вместе с ней. – Прошу тебя. Я знаю: ты напугана. И я напуган. Мы имеем право бояться. Мы оба заразились и умираем.
Пистолет прижимался к ее пояснице. Блузка задралась, и металл холодил кожу.
– Надо закончить все так, как мы договаривались. По-доброму. Хорошо и легко. Не хочу умирать в отчаянии, ужасе и слезах; и не хочу, чтобы ты умирала так. Я слишком тебя люблю для этого.
– Не трогай меня, – сказала она. – Мы не знаем, болен ли ты. Я не хочу тебя заразить.
– Я-то знаю. Знаю, что заражен. Знаю, что умру. Умрем мы оба. Вопрос только в том, как.
Джейкоб ослабил хватку. Поцеловал ее – ласково и искренне. Поцеловал ее волосы. Лоб. Когда Харпер закрыла глаза, он поцеловал ее веки – одно, другое. Она вздрогнула и прошептала:
– Ты не должен целовать меня.
– Ну как я могу не целовать тебя? Для меня нет ничего слаще.
Она открыла глаза и посмотрела ему в лицо.
– Джейкоб. Я чувствую, что у тебя жар, но не вижу никаких отметин. Почему ты уверен, что заражен?
Он покачал головой:
– На бедре. Началось вчера, а теперь все хуже и хуже. Все бедро горит.
Правой рукой Джейкоб легко обхватил ее за талию – пистолет скользнул по позвонкам. Костяшками пальцев левой он ласково и успокаивающе провел по ее подбородку. Харпер беспомощно вздрогнула.
– Давай сядем. Сделаем то, о чем и говорили. И по-доброму, как хотели.
Он отвел ее в гостиную, где полгода назад они сидели, пили белое вино и смотрели, как люди прыгают с верхушки «Космической иглы». Он вцепился в руку Харпер, словно хотел ее оторвать, выкрутить, как ножку у жареной курицы. Потом, видимо, понял, что причиняет боль, отпустил и погладил ладонью – мягко, почти нежно – ее бицепс.
Тени от свечей метались по комнате.
– Сядем, – сказала одна из теней. – Давай поговорим.
Джейкоб опустился в любимое кресло, Большое Яйцо Джейкоба… сплетенное из прутьев в форме яйца, с подушкой в полой сердцевине. Некрупный Джейкоб мог сложить ноги по-турецки и целиком поместиться в плетеной капле. Пистолет он положил на колени.
Харпер примостилась на краешке кофейного столика лицом к мужу.
– Я хочу осмотреть твое бедро. Увидеть чешую.
– Ты скажешь, что ее нет, но я знаю, что есть.
– Покажешь бедро?
Джейкоб помедлил, потом вытянул одну ногу и повернулся боком. Он оттянул резинку своих водительских штанов, открыв правое бедро – кровавое растертое месиво. Кожа стала желто-черной под сеткой глубоких царапин. Даже смотреть было страшно.
– Джейкоб! Ну что ты наделал? Я же говорила: если найдешь отметину, оставь ее в покое.
– Я не мог смотреть на нее. Не мог терпеть ее на своем теле. Не представляю, как ты терпишь. Я психанул. Пытался соскоблить ее бритвой. – Он приглушенно булькнул – рассмеялся.
Харпер прищурилась, оглядывая бедро.
– Чешуя отвердевает яркими крупинками. А крупинок я не вижу.
– Там все желтое. По краям.
– Это синяк. Просто синяк. Джейкоб… у тебя нет других отметин?
– Еще на внутренней стороне колена. И на локте. Не проси – не покажу. Я не на медосмотр пришел. – Джейкоб сел ровно и отпустил резинку штанов – она со щелчком вернулась на место.
– И в других местах так же?
– Я везде скреб. Истерил. Теперь-то стыдно, но что было, то было.
– Не думаю, что это драконья чешуя. Я на нее насмотрелась, так что узнала бы. И еще, Джейкоб, тебя не было в доме шесть недель. Почти семь. И если ее нет, то, вероятно, это значит…
– Это значит, что ты непременно попытаешься меня отговорить. Знаю – будешь доказывать, что я не болен. Я могу слово в слово угадать, что ты скажешь. Думаешь, я не знаю, как ощущается воспаление? Болит все время.
– Это воспаление, а не trychophyton. Заражение, потому что ты исцарапал себя, а раны не обработал и не перевязал. Джейкоб. Прошу тебя. Ты здоров. Ты будешь жить. Уходи.
– Прекрати. Хватит торговаться и врать. Я не хочу тебя возненавидеть, но каждый раз, когда ты мне врешь, чтобы спасти свою жизнь, – хочется заткнуть тебе рот.
– Когда ты ел в последний раз?
– Не представляю, как ты можешь даже думать о еде. Может, лучше сразу со всем покончить? Ужас. Мы же не так решили. Мы решили, что будем заниматься любовью, слушать музыку, читать друг другу любимые стихи. Мы хотели устроить милый вечер на двоих. А ты перепугалась, и если бы не пистолет, ты сбежала бы. Сбежала и оставила меня умирать одного. Без тени угрызений совести о том, что сделала со мной. Что заразила меня. По-моему, только поэтому ты убеждаешь меня, что я здоров. Ты лжешь не только мне. Ты лжешь себе. Не хочешь признать, что виновата.
Он говорил спокойным голосом, без тени истерики, которую Харпер слышала по телефону. И глядел на нее спокойно. Такой стеклянный взгляд напоминал Харпер психбольных, которые в парке на скамейке радостно болтают с невидимыми собеседниками.
Это новое спокойствие не особенно удивило ее. Ужас похож на пожар, который запер тебя на верхнем этаже горящего здания; и единственное спасение – прыгать. Джейкоб неделями накручивал себя перед последним прыжком. Это можно было понять по его голосу во время телефонных разговоров, хоть Харпер тогда и не догадалась. Джейкоб сделал выбор, и это принесло ему желанное спокойствие. Он был готов шагнуть из окна, но хотел в полете держать ее за руку.
Удивительным для Харпер оказалось ее собственное спокойствие. Даже странно. До того, как Земля вспыхнула, Харпер каждое утро шла на работу с тревогой и с ней же возвращалась домой каждый вечер; безымянный безжалостный компаньон, привычно тыкающий ее под ребро при малейшей попытке расслабиться. И все же в те дни реальной причины для беспокойства не было. Голова шла кругом от мыслей, что не получится выплатить студенческий кредит, что снова нужно ругаться с соседом, собака которого завела привычку разбрасывать мусор из бака по всей лужайке. А сейчас она носит ребенка, болезнь ползет по ее коже, Джейкоб сошел с ума и сидит напротив с пистолетом, а в голове только холодная готовность, которой, кажется, она ждала всю жизнь.
«Вот теперь я такая, какой всегда мечтала быть», – подумала Харпер.
– И это так ужасно? – спросила она. – Что же ужасного в моем желании выяснить, болен ли ты? Я хотела, чтобы ты и ребенок выжили. Я хотела этого больше всего на свете, Джейк.
Что-то как будто мелькнуло в его глазах. Плечи поникли.
– И очень глупо. Никто не выживет. Весь мир – сгоревший тост. Буквально. Планета превратится в уголек, когда с нами будет покончено. Умрут все. Мы – последнее поколение. И мне кажется, мы всегда это знали. Еще до драконьей чешуи. Знали, что захлебнемся в отходах, что останемся без еды, воздуха и прочего.
Джейкоб не мог удержаться от лекции даже в последние минуты жизни; и Харпер внезапно поняла, что давно его не любит. Он был утомительным всезнайкой. И тут же в голову пришла вторая мысль, совсем неожиданная: она пошла работать в больницу вовсе не для того, чтобы стать Флоренс Найтингейл, что бы ни утверждал Джейкоб. Она вышла на работу, потому что ее больше не интересовала собственная жизнь. И не было ощущения, что она рискует чем-то ценным.
Эта мысль сменилась нарастающим гневом, который отозвался покалыванием в драконьей чешуе. Во всем был виноват Джейкоб, вонзавший свой философский шприц в ее жизнь и высасывавший из нее простые радости. В каком-то смысле он годами убивал ее.
Харпер чувствовала готовность, хоть и не понимала – к чему. Она собирала все свое мужество для какого-то еще неясного действия, которое, как она чувствовала, приближается.
– Я прочитала твою книгу, – сказала Харпер.
И тут что-то человеческое промелькнуло за терпеливым, блаженным, опасным спокойствием. Бихевиористы говорят о микровыражениях лица, о коротких проявлениях эмоций, настолько быстрых, что их почти невозможно уловить. На краткий миг Джейкоб уставился на Харпер с неопределенным неудовольствием. Удивительно, как много информации может проскочить между двумя людьми за один взгляд, без единого слова. Джейкоб действительно изменял ей со многими общими знакомыми. Смущенный взгляд означал признание.
– Довольно мерзко, – сказала Харпер. – Я прямо пятнами покрылась – и драконья чешуя тут ни при чем.
– Я просил тебя не читать, – сказал он.
– Так пристрели меня.
Он будто залаял. Она не сразу поняла, что он смеется.
Харпер снова вздохнула и потрясла опущенными руками, словно они были мокрыми и она пыталась их просушить.
– Фу. Ладно. Миру придется гореть без нас. Но мне хочется кое-чего на прощание.
Джейкоб смотрел на нее с тупой безнадежностью.
– Пожалуйста, – сказала она. – Я постараюсь сделать все по-хорошему.
– Не знаю, что это даст. У меня все настроение пропало. Думаю, лучше сразу покончить.
– Но я еще не готова. А ты же хочешь, чтобы мне было приятно? И потом – я не собираюсь умирать, не переспав с тобой напоследок. – Она попыталась улыбнуться. – Вини только себя, Джейкоб Грейсон. Оставляешь скучающую одинокую женщину с пачкой бесстыжей писанины. – Харпер кивнула в сторону рукописи.
Джейкоб улыбнулся, но как-то принужденно:
– Для тебя секс значит больше, чем для меня. Понимаю, что это переворачивает стереотипы. Ты действительно больше думаешь о себе. Это меня всегда в тебе возбуждало. Но сейчас, пожалуй, любой половой акт для меня отвратителен.
Харпер подошла к радиоприемнику на полке. Она вернула его на кухню, когда нашла в подвале свежие батарейки.
– Что ты делаешь? – спросил Джейкоб.
– Хочу включить музыку.
– Мне не нужна музыка. Я хочу просто поговорить.
– А мне нужна. И еще хочу выпить.
Что-то наконец дрогнуло в лице Джейкоба. Он сказал:
– Убить готов за выпивку. – И снова издал лающий звук – похоже, он так смеялся.
Он уже пристрелил бы ее, если бы желал только ее смерти, но он желал большего. Глубоко внутри он жаждал последнего поцелуя, последнего секса, последней выпивки, а может, гораздо большего: прощения, освобождения. Харпер не собиралась дарить ему ничего из перечисленного, но пусть себе надеется. Ведь это продлевает ей жизнь. Харпер включила радио. Станция классического рока передавала старые добрые хиты. Сраженный любовью Ромео готовился начать серенаду – ты и я, крошка, что скажешь, – и Харпер ни с того ни с сего подумала о Хиллари Клинтон.
Она стояла перед радиоприемником, покачивая бедрами. Вне всякого сомнения, Джейкоб, который теперь относился к сексу с отвращением, был не единственным, кто в колледже изучал психологию. Харпер помнила, какое чувство таится в шаге от отвращения.
Она постояла спиной к Джейкобу секунд десять, словно заслушавшись музыкой, а потом лениво посмотрела через плечо. Джейкоб сидел с застывшим взглядом.
– Ты сделал мне больно, – сказала она. – Ты швырнул меня на пол.
– Прости. Это перебор.
– Если только не в спальне, – сказала Харпер.
Он прищурился, и она поняла, что переборщила, посеяв недоверие – никогда она не говорила так о сексе. И прежде чем он успел сказать хоть слово, она воскликнула, будто только что вспомнила:
– Наша бутылка! Я хочу открыть то вино, которое мы привезли из Франции. Помнишь? Ты сказал, это вино лучшее, какое ты пробовал в жизни, и мы откроем его по торжественному случаю. – Она взглянула на Джейкоба, надеясь, что взгляд получился двусмысленный, и спросила: – Сейчас случай торжественный?
Вино хранилось тут же, в кабинете – белое в кулере, который больше не холодил, а красное в буфете. Из каждой поездки они привозили бутылку вина, как другие привозят магнитики на холодильник. Впрочем, в последние годы они мало куда ездили. Харпер взяла французское бордо, привезенное из свадебного путешествия; ладонь так вспотела, что бутылка чуть не выскользнула из рук в сторону Джейкоба. Харпер ясно представила, как он, подскочив от неожиданности, рефлекторно стреляет ей в живот. Убьет разом и ее, и ребенка, – Харпер вдруг подумала, что это вполне в его духе. Бережливый по натуре, он ненавидел лишние расходы; часто отчитывал ее, что она слишком много молока льет в хлопья.
Харпер прижала бутылку правой рукой к телу и сняла два бокала с держателя под книжной полкой. Хрусталь мелодично зазвенел – так дрожали ее руки. Харпер взяла штопор.
Она собиралась вытащить пробку и попросить Джейкоба наполнить бокалы. А она тем временем скрутит пробку со штопора и ударит его острием в лицо. А если духу не хватит, хотя бы постарается проткнуть руку, в которой он держит пистолет.
Харпер сидела на краешке кофейного столика, лицом к мужу и Большому Яйцу. Пистолет на колене Джейкоб повернул стволом к ней, но не нарочно. Харпер держала штопор в правой руке, между средним и безымянным пальцами. Расстояние большое – придется прыгнуть к нему, чтобы ударить штопором в лицо. Но, может быть, он подойдет ближе, когда будет разливать вино. Может быть.
Она посмотрела мужу в глаза и увидела, как он уставился на нее, что-то холодно просчитывая. Бледное спокойное лицо оставалось каменным.
– Думаешь, если напоишь меня и трахнешь, я не стану делать то, что задумал? – спросил он.
Она ответила:
– Я-то думала напиться, заняться любовью и хорошо провести время – именно то, что мы запланировали. Закончить все по-своему. Разве не этого ты хотел?
– Этого. Но я все еще не пойму, чего хочешь ты. И не знаю, чего ты хотела всегда. Может быть, сочиняя безвкусный сценарий своей жизни, ты и думала, что мы умрем бок о бок, как Ромео и Джульетта, но не мечтала об этом всерьез. И не думала, что так случится. А теперь пришла пора, и ты на все готова, чтобы отказаться. Даже заплатить телом. – Джейкоб покачался вперед-назад и продолжил: – Может, я скажу не совсем политкорректно, но к черту, мы ведь оба помрем; так вот, я никогда не верил в женский ум. Ни разу не встретил женщину с настоящими мозгами. Вот почему всякие фейсбуки и аэропланы, и прочие великие изобретения, создали мужчины.
– Ага, – ответила она. – Ради того, чтобы с кем-нибудь переспать. Так мы пьем вино или как?
Джейкоб снова залаял:
– Даже спорить не станешь?
– С чем именно? С тем, что женщины глупы, или с тем, что я на самом деле не хочу умирать с тобой?
– С тем, что думаешь: стоит тебе повилять задом, и я забуду, зачем пришел. Все уже решено. В любом случае у меня есть моральный долг: не дать тебе выйти в мир и заражать других, как ты заразила меня.
– Ты же сказал, что миру скоро крышка, так какая разница? Какая… – Харпер больше не могла говорить. Происходило что-то ужасное.
Пробка не вынималась из бутылки.
Толстая пробка была запечатана воском; Харпер, держа бутылку под мышкой, второй рукой тянула штопор, но пробка не поддавалась, намертво застряв в горлышке.
Джейкоб левой рукой перехватил бутылку за горлышко и забрал ее у Харпер. В правой руке он продолжал держать пистолет.
– Я тебе говорил, что нужно держать вино в сухом месте, – сказал он. – Пробка разбухает. Я тебе говорил, что нельзя держать красное просто в буфете.
«Я тебе говорил» – кармическая противоположность словам «я тебя люблю». Джейкобу всегда было проще произнести «я тебе говорил». Сердиться, даже если бы у нее оставались на это силы, теперь бесполезно. Штопор у Джейкоба. Она без возражений, без споров отдала ему единственное оружие.
Он зажал бутылку ногами, сгорбился и начал тянуть. На покрасневшей шее вздулись жилы. Толстые восковые кляксы треснули, и пробка двинулась. Харпер взглянула на пистолет. Джейкоб еще держал его свободной рукой – но ствол, чуть сдвинувшись, указывал на книжную полку.
– Давай бокал, – сказал Джейкоб. – Выходит.
Харпер взяла бокал и, подавшись вперед, уперлась коленями в колени Джейкоба. Время поползло крошечными отрезками. Пробка сдвинулась еще на сантиметр. Еще. И вышла с легким хлопком. Джейкоб выдохнул и положил штопор возле колена – оттуда Харпер не могла его достать.
– Попробуй, – сказал он и плеснул чуть-чуть в подставленный бокал.
Джейкоб учил ее, как нужно пить вино, когда они отдыхали во Франции, – наставлял ее с великим энтузиазмом. Харпер опустила нос в бокал и вдохнула, наполняя ноздри острым запахом, от которого уже можно было опьянеть. Аромат был великолепен, но Харпер вздрогнула и нахмурилась.
– Да черт подери, почему все не так? – Она подняла глаза. – Скисло. Просто уксус. Откроем другую? Из Напы – ты говорил, что любой коллекционер за нее удавится.
– Да что ты говоришь? Ему и десяти лет нет. Ерунда. Дай-ка. – Он потянулся к ней, наполовину высунувшись из Большого Яйца.
Его глаза широко распахнулись, стоило Харпер шевельнуться. Джейкоб был быстр, он успел бы качнуться в сторону, но Харпер хватило того, что он самую малость подался вперед.
Она ударила его бокалом в лицо. Бокал с мелодичным звоном раскололся на кусочки, которые вспороли кожу яркими красными линиями, закругляющимися на скуле, переносице и на брови. Словно тигренок прошелся лапой по лицу Джейкоба.
Он завопил и выстрелил. Грохот раскатился над самым ухом Харпер.
Книжная полка за ее спиной взорвалась, и в воздух взвилась метель из страниц. Харпер вскочила и устремилась влево, к двери в спальню. Она ударилась коленом об угол кофейного столика, огибая его, но даже не почувствовала боли.
Повисла страшная тишина – только тянулось и тянулось слабое тоненькое гудение, словно задели камертон. Обрывок страницы из какой-то книги опустился Харпер на грудь.
Большое Яйцо повалилось назад вместе с Джейкобом. Падая, он метнул бутылку через комнату и попал Харпер в плечо. Но она не оставновилась и, преодолев в три прыжка гостиную, оказалась у двери в спальню. Притолока взорвалась над ее левым ухом, осыпав белыми щепками волосы и лицо. Выстрел получился приглушенным – как будто на улице хлопнула дверь машины. Харпер влетела в спальню.
Она бездумно схватила кусок страницы, приставший к груди, взглянула на него и уловила несколько строчек:
«…его руки напоминали руки какого-то поразительного дирижера, исполняющего симфонии пламени и жара, чтобы стереть с лица земли осколки и угольки истории».
Харпер швырнула листок за спину, в гостиную, и захлопнула дверь.
Замок на двери был, но Харпер не стала тратить на него время. Нет смысла. Замок – простая задвижка, и Джейкоб выбьет дверь одним ударом. И вообще, возможно, дверь не захлопнется: пуля разворотила притолоку.
Ухватившись за деревянный стул слева от двери, Харпер повалила его на пол, чтобы хоть чем-то преградить Джейкобу путь. Портплед с «Подручной мамой» стоял на полу у кровати, под ним была сложена одежда. Харпер ухватила сумку за кожаные ручки и направилась к окну, выходящему на задний двор. Отодвинув шпингалет, она толкнула створки. Сзади приглушенно хрустнул стул.
За домом пологий склон холма спускался к далеким деревьям. Спальня находилась на первом этаже – но это если смотреть со стороны улицы. С обратной стороны дома она казалась расположенной на втором этаже: под ней располагался подвал высотой в человеческий рост. От окна спальни до земли было футов пятнадцать.
Свесив ноги с подоконника, Харпер взглянула вниз и тут заметила, что истекает кровью: белый топик спереди пропитался красным. Она даже не заметила, когда получила ранение. И думать об этом было некогда. Она прыгнула, дернув за собой сумку. И окно тут же взорвалось осколками – Джейкоб выстрелил.
Она ждала удара о землю, но продолжала лететь. Желудок рванулся к горлу. И тут она упала, а нога подвернулась, вызвав дикую боль. Харпер вспомнила падающие в немых фильмах пианино – при ударе клавиши из слоновой кости разлетаются по переулку, как выбитые зубы.
Она не удержалась на ногах, упала лицом в грязь и покатилась – все дальше и дальше. Портплед вылетел из рук и катился рядом, а его содержимое вываливалось во тьму. Правая лодыжка, казалось, была раздроблена, но этого не могло быть, ведь иначе Джейкоб поймает ее и убьет.
Харпер прокатилась две трети пути вниз по склону; над головой нависло дымное ночное небо. Где-то вдали она неясно видела очертания своего высокого узкого дома. В другой стороне виднелся край леса; деревья наполовину сбросили листву – остались скелеты в лохмотьях. Харпер хотела одного – лежать и ждать, пока мир остановится.
Но времени на это не было. Джейкобу хватит двадцати секунд, чтобы спуститься по лестнице в подвал – к задней двери.
И Харпер заставила себя подняться. Земля опасно накренилась под ногами, ненадежная, как палуба корабля в бушующем озере. Подумав, что голова может кружиться от потери крови, Харпер присмотрелась к красному пятну на промокшей блузе и тут почувствовала запах вина. Значит, пулю она все же не получила. Это бордо медового месяца. Все винодельческие районы Франции обратились в пепел, так что теперь пятно на блузе стоит тысячи долларов на черном рынке. Никогда она не носила таких дорогих вещей.
Харпер уперлась левой рукой в землю для равновесия и почувствовала под ладонью ткань сорочек и что-то, завернутое в хрустящий пластик. Слайд-свисток. Бог знает, зачем она упаковала его с прочими вещами.
Харпер поднялась на ноги. Она оставила портплед со сваленной в кучу одеждой и «Подручной мамой», но прихватила с собой свисток. Стоило ей сделать первый шаг к лесу, как нога едва не подломилась. Что-то хрустнуло, и от резкой боли подкосились колени. Пусть Харпер избежала пули, но в лодыжке, несомненно, трещина.
– Харпер! – взревел за спиной Джейкоб. – Стой, сука!
Треснувшая кость в лодыжке снова хрустнула, и яркая белая боль вспыхнула за глазными яблоками. Харпер почти ослепла и готова была рухнуть без чувств. В боевиках люди все время прыгают из окон – и хоть бы что.
Она на ходу сдирала со свистка целлофановую обертку. Смысла в этом не было никакого, руки действовали машинально.
Снова остановившись, Харпер слишком много веса перенесла на правую ногу, и нога подогнулась. Харпер, не сдержавшись, вскрикнула. Игла сухой боли пронзила ее от лодыжки до живота. Харпер опустилась на одно колено за кустом болиголова.
Она подняла слайд-свисток и потянула поршень – по лесу разнесся неуместный здесь карнавальный визг. Громкий. От первого выстрела у Харпер что-то случилось с ушами – пострадали барабанные перепонки, – и она плохо слышала, но слайд-свисток взорвал ночную тишину, как визг шутихи.
– Харпер, сука! Посмотри, что ты сделала с моим лицом! – ревел Джейкоб. Он подошел еще ближе, почти к самому лесу.
Харпер снова заставила себя подняться. Она двинулась дальше, выставив вперед руку, чтобы уберечь лицо от веток. Каждый раз, когда она ставила на землю правую ногу, лодыжка словно ломалась заново. Пахучие опавшие листья шуршали под каблуками.
Харпер была напугана, как никогда в жизни, и ее ужас ввинчивался в ночь воем свистка: «Уи-и-и-ип». Харпер сама не знала, зачем продолжает свистеть. Ведь по звуку ее найдет Джейкоб.
Конечно, она сбилась с дороги. Нет, не так; чтобы сбиться, нужно знать, куда направляешься, а она понятия не имела. Свисток выпал из рук, и Харпер пошла дальше, не оглядываясь. Угодила ногой в ямку, снова подвернув лодыжку, тихо вскрикнула и упала на колено.
– Харпер, я иду! – взревел Джейкоб и залаял – засмеялся: – Погоди, увидишь, что я сделаю с твоим лицом!
Харпер вслепую потянулась к стволу дерева справа от себя – и не смогла дотянуться. Если она сейчас завалится на бок, то уже не сможет подняться. Так и будет лежать в позе эмбриона, тяжело дыша, пока Джейкоб не найдет ее и не начнет всаживать пули одну за другой.
Захрустели листья, и кто-то взял Харпер за руку. Крик застыл в горле. Харпер смотрела в мужественное, бесстрастное лицо Капитана Америки.
– Идем, – сказал капитан девичьим голосом, помогая Харпер подняться.
Они поспешно двинулись вдоль края леса, держась за руки; бритая наголо девочка показывала Харпер дорогу. Казалось, что ноги девочки едва касаются земли, и у Харпер снова, что как и в первую их встречу, возникло чувство, что все это сон.
Девочка довела Харпер до дуба, который, наверное, был древним еще в те времена, когда застрелили Кеннеди. Прибитые к стволу планки вели вверх, в крону – там таились остатки давно заброшенного дома на дереве. Харпер вспомнила Питера Пэна и его пропащих мальчишек.
– Давай наверх, – шепнула девочка. – По-бырому.
– По-быстрому, – поправил Пожарный, возникший из-за деревьев справа от Харпер. Его лицо почернело от грязи, он был в пожарной каске и покрытой копотью желтой куртке, а в руке держал хулиган – длинный лом с приспособлениями для взлома на обоих концах.
– Говори правильно, Алли. Не порть, пожалуйста, язык. – И он улыбнулся.
– Тот мужик идет, – сказала Алли.
– Я его отправлю куда надо, – ответил Пожарный.
Джейкоб выругался где-то совсем рядом. Харпер слышала, как он ломится через кусты.
Она полезла на дерево, опираясь не на ступню правой ноги, а на колено. Было трудно, и девочка снизу обеими руками толкала ее под зад.
– Можно побыстрее? – прошипела Алли.
– Я сломала лодыжку, – ответила Харпер, добравшись до толстой ветки и подтягиваясь.
Устроившись на ветке, она подвинулась, чтобы освободить место для девочки. Они оказались футах в двенадцати над землей, и Харпер видела сквозь листву дуба маленькую полянку внизу. Пожарный ушел недалеко – сделал всего несколько шагов в ту сторону, откуда слышался производимый Джейкобом шум. И стал ждать, притаившись за кустом сумаха.
Ветерок, чуть отдающий дымом костров, колыхнул волосы Харпер. Она повернула лицо навстречу ветру и обнаружила, что сквозь ветви виден ее дом. При свете дня она могла бы разглядеть отсюда заднюю веранду и окна кухни.
Джейкоб продрался сквозь кусты и миновал Пожарного, не заметив его. Лицо Джейкоба кровоточило; порез под левым глазом был особенно плох: кусок кожи свободно болтался на скуле. В волосах застряли листья, на подбородке появилась свежая царапина. Пистолет он опустил, ствол смотрел в землю.
– Эй! – окликнул его Пожарный. – Что вы бегаете тут с пистолетом? Так можно кого-нибудь ранить. Надеюсь, он на предохранителе.
Джейкоб удивленно крякнул и повернулся, подняв револьвер. Пожарный взмахнул хулиганом – свистнув в воздухе, лом со звоном ударил по стволу револьвера. Пистолет, упав на землю, выстрелил и осветил лес вспышкой.
– Не на предохранителе, значит, – сказал Пожарный.
– Ты кто, на хрен, такой? – спросил Джейкоб. – Ты с Харпер?
Пожарный склонил голову набок, словно обдумывая неожиданный вопрос. Потом просиял и широко улыбнулся, сверкнув белыми зубами.
– Да, пожалуй, что с ней, – сказал он и качнулся туда-сюда на каблуках, словно смысл этих слов только что до него дошел и несказанно обрадовал. Харпер подумала, что он психованный – не менее психованный, чем Джейкоб. – Харпер. Вроде Харпер Ли? Я-то знал ее только как сестру Грейсон. Харпер. Прекрасное имя.
Пожарный прокашлялся и добавил:
– А еще – вали-ка ты отсюда. Это не твои леса.
– И чьи же они, на хрен, тогда? – спросил Джейкоб.
– Мои, – ответил Пожарный. – Эти хреновы леса, на хрен, мои. И я тоже умею ругаться, парень. Я англичанин. Мы ругаемся без стеснения. Матом? Да пожалуйста! – Пожарный выдал замысловатую цепочку ругательств и, не переставая улыбаться, продолжил: – Так что вали отсюда. Сдристни, жопа с ручкой.
Джейкоб с подозрением посматривал на Пожарного, явно не зная, как с ним говорить и что делать. Потом, повернувшись, нагнулся за пистолетом.
Пожарный махнул хулиганом, как клюшкой для поло, и отбросил пистолет в заросли папоротника. Джейкоб сразу же бросился на худого, жилистого англичанина. Пожарный выставил перед собой хулиган, но Джейкоб ухватился за лом, и мужчины начали бороться, причем Джейкоб явно был сильнее.
Сильнее и устойчивее… развитое чувство равновесия позволяло ему ходить по канату и с удобством ездить на моноцикле. Он уперся ногами в землю и, развернувшись верхней частью корпуса, оторвал Пожарного от земли, качнул в воздухе и впечатал в ствол того самого дуба, на котором сидела Харпер.
Харпер почувствовала, как от удара закачалась ее ветка и дрогнуло все дерево.
Джейкоб слегка потянул лом на себя и снова толкнул Пожарного к дубу. Пожарный, ударившись о ствол, хрюкнул – воздух с резким свистом вырвался из ноздрей.
– Ты засранец, – произнес Джейкоб почти нараспев. – Я убью тебя, засранец, я убью тебя, потом убью ее, а потом… – он умолк: список тех, кого он хотел убить, закончился.
Он снова припечатал Пожарного к дереву, и пожарная каска гулко стукнула о ствол. Харпер вздрогнула и еле сдержала крик. Алли положила руку на колено Харпер и легонько его сжала.
– Глядите, – шепнула она. Алли стянула маску, и Харпер увидела красотку: радостно сияющие шоколадные глаза, задорные веснушки и тонкие черты. Отсутствие волос делало их еще четче и острее, подчеркивая впадины висков и тонкую кость. – Смотрите на его руку.
И тогда Харпер увидела, что обнаженная кисть Пожарного курится сизым дымом. Левая рука отпустила хулиган и повисла вдоль тела. Неожиданно Харпер вспомнила, как Пожарный боролся с Элбертом в приемной неотложного отделения и пытался стянуть перчатку зубами.
Джейкоб дернул хулиган на себя, собираясь снова толкнуть Пожарного на дерево. Но в этот момент Пожарный подался вперед и положил ладонь Джейкобу на горло; из руки вырвался огонь.
Пламя было голубоватым, как у газовой горелки. Ладонь Пожарного оделась в перчатку из яркого огня. Пламя гудело, как ветер; Джейкоб вскрикнул, отпустил хулиган и попятился. Снова закричал, схватившись за почерневшую шею. Ноги его заплелись, и он с размаху уселся на землю, а потом снова вскочил и побежал прочь, на ощупь продираясь сквозь кусты и ветки.
Пожарный смотрел ему вслед, подняв левую руку как факел. Потом распахнул желтую форменную куртку, сунул горящую ладонь за пазуху и захлопнул полу куртки, прижав ею руку.
Пола снова поднялась и опустилась, куртка хлопала по руке – Пожарный напоминал ребенка, который пытается «пукать» подмышками. Когда он распахнул куртку в третий раз, пламя уже погасло, а рука дымилась. Пожарный потряс кистью, отгоняя дым. Вдали еще слышался треск ломаемых веток и сучьев – Джейкоб бежал прочь. И вот стихли все звуки – только стрекотали ночные насекомые.
Пожарный, подняв левую руку, набрал в легкие воздуха и сдул остатки дыма. Его ладонь была покрыта драконьей чешуей. Пепел запорошил тонкие, изящные черные линии, словно снег, а сквозь него тут и там поблескивали несколько искорок. Остальная кожа на руке была цела. Чистая, здоровая, розовая и – что казалось невероятным – никаких ожогов.
Алли сказала:
– Мне очень нравится, как он это делает, но лучше всего, когда он пускает феникса. Никаких фейерверков не надо!
– Это точно! – сказал Пожарный, повернувшись к ним и широко улыбаясь. – Могу затмить пятое ноября Гая Фокса и ваше четвертое июля. Кому нужны римские свечи, когда есть я?
Книга вторая
Пусть засияет тусклый свет
Алли первая спустилась с дерева – качнулась, вцепившись в ветку, и спрыгнула. Харпер собиралась слезть по рудиментарной лестнице, но, соскользнув с ветки, на которой сидела, рухнула вниз.
Пожарный смягчил падение. Он не то чтобы поймал Харпер – просто оказался прямо под ней. Харпер грохнулась на него, и они оба упали на грязную листву. Она впечаталась затылком прямо ему в нос. Правая нога Харпер подпрыгнула от удара о землю. Лодыжку пронзила сильнейшая боль.
Они застонали в объятиях друг друга, как любовники.
– Ох, – выдохнула она. – Твою мать, твою же мать.
– И это все, на что вы способны? – спросил Пожарный. Он, держась за нос, пытался загнать слезы обратно. – Просто повторяете без конца «мать-перемать»? Не можете придумать что-нибудь новенькое? Старикану тебя на кукан. Через левое плечо на кухонном столе. Что-нибудь этакое. Вы, американцы, ругаетесь без всякой фантазии.
Харпер села. Плечи вздрогнули от первых всхлипов. Ноги трясутся, лодыжка сломана, Джейкоб чуть не убил ее, вокруг стреляли и горели в огне, и она упала с дерева, а ребенок… ребенок… тут она не выдержала. Пожарный сел рядом, обхватил ее рукой, и она склонила голову на скользкую полу́ его куртки.
– Тише, тише, – сказал он.
И держал ее, пока она ревела – без стеснения и от души.
Когда рыдания сменились тихими всхлипываниями, он сказал:
– Давайте-ка встанем. Нужно идти. Мало ли что придет в голову вашему чокнутому бывшему мужу. Не удивлюсь, если он позвонит в карантинный патруль.
– Он не бывший. Мы не в разводе.
– Теперь в разводе. Данной мне властью.
– Какой властью?
– Знаете, что капитан судна имеет право заключать браки? Так вот, мало кому известно, но пожарные могут их расторгать. Давайте вставать.
Пожарный левой рукой обхватил Харпер за талию и поднял на ноги. Рука была еще теплой, как свежевыпеченный хлеб.
– У вас рука горела, – сказала Харпер. – Как вы это сделали?
Собственно говоря, ответ был ясен. Пожарный был, как и она, заражен драконьей чешуей. Он пока не надел перчатку, и на ладони были видны черные с золотом письмена, сбегавшие завитками на запястье. Серый дымок тянулся от тонких линий.
Харпер не меньше сотни раз доводилось видеть, как горят люди с драконьей чешуей: воспламеняются, начинают кричать, голубое пламя охватывает их, как будто они облиты керосином, волосы вспыхивают в один миг. Вряд ли кто-то захочет этого добровольно, и когда процесс начинается, управлять им невозможно, а итог всегда один – смерть.
Но Пожарный загорелся по собственной воле. Причем поджег только часть себя – руку. А потом хладнокровно погасил. И каким-то образом остался невредим.
– Я думал открыть курсы, – сказал Пожарный. – Но так и не решил, как их назвать. «Передовая пиромантия»? «Самовозгорание для чайников»? «Введение в воспламенение»? К тому же нелегко зазвать студентов, когда провалившийся на экзаменах сгорает заживо.
– Врет, – сказала Алли. – Он не станет вас учить. Он никого не станет учить. Врунишка, врунишка, горящие штанишки.
– Только не сегодня, Алли. Это мой любимый комбинезон, и я не буду жечь его только потому, что тебе хочется посмотреть, как я выпендриваюсь.
– Вы шпионили за мной, – сказала вдруг Харпер.
Пожарный взглянул на ветви дуба, где она только что сидела.
– Оттуда прекрасный вид на вашу спальню. Забавно, что люди, которым есть что скрывать, задергивают шторы на окнах с улицы, но даже и не думают прикрыть их с тыла.
– Вы много времени бродите в одном белье, читаете «Чего ждать, когда ждешь ребенка», – сказала Алли. – Не переживайте. Он не подглядывал в ваши окна, когда вы переодевались. Я, может, пару раз видела, но он – нет. Он истинный английский жентмен, вот он кто такой. – Фальшивый английский акцент Алли был не хуже, чем у Дика Ван Дайка в «Мэри Поппинс». Будь Харпер шестнадцатилетним мальчишкой, точно запала бы на нее. Сразу видно: девчонка – тридцать три несчастья.
– Зачем? – спросила Харпер у Пожарного. – Зачем за мной шпионить?
– Алли, – сказал Пожарный, словно не услышав вопроса. – Беги в лагерь. Приведи дедушку и Бена Патчетта. И еще – найди Рене. Скажи, что мы раздобыли ее любимую медсестру. Она порадуется.
И Алли побежала по сухой листве – Харпер немедленно вспомнила сердитую тень Питера Пэна в спальне Венди. Харпер, у которой голова была набита детскими книжками, не могла не сравнивать встреченных людей с их персонажами.
Когда девчонка убежала, Пожарный сказал:
– Хорошо, что мы ненадолго остались вдвоем, сестра Грейсон. Я бы доверил Алли Стори свою жизнь, но некоторые вещи не хотелось бы говорить при ней. Вы знаете летний лагерь в конце Литтл-Харбор-роуд?
– Лагерь Уиндем, – кивнула Харпер. – Конечно.
Опавшие листья шуршали под ногами и сдабривали воздух сладким осенним парфюмом.
– Вот туда она и отправилась. Там есть человек – Том Стори, дедушка Алли. Все его называют отец Стори. Когда-то он был директором лагеря. А теперь превратил его в убежище для тех, у кого драконья чешуя. У него там больше ста человек, и сложилась приличная община. Трехразовое питание – по крайней мере, пока. Не знаю, сколько это продлится. Электричества нет, но можно помыться в душе – если вы готовы терпеть ледяную воду. Есть школа и своего рода полиция – Дозорные, которые должны следить за приближением карантинных патрулей и кремационных бригад. Дозорные в основном подростки – Алли и ее друзья. Так у них хоть занятие есть. И еще они очень религиозны. В каком-то смысле такой религии прежде не бывало, а в каком-то, ну… Фундаменталисты везде одинаковые. Именно об этом я хотел вас предупредить, пока нет Алли. Она благочестивей прочих, что о многом говорит.
Внезапно над лесом пронесся громкий треск, от которого дрогнула земля и сердце Харпер забилось чаще. Она обернулась и посмотрела в ту сторону, откуда они пришли. Даже представить было невозможно, что могло издавать такой страшный, оглушительный шум.
Пожарный бросил через плечо короткий оценивающий взгляд, потом взял Харпер за руку и повел дальше, чуть ускорив шаг. Он продолжал говорить, как будто его и не прерывали:
– Вы должны понять, что большинство обитателей лагеря по возрасту находятся между вами и Алли. Есть несколько стариков, но гораздо больше тех, кому полагалось бы ходить в школу. Почти все они потеряли семьи, своими глазами видели, как сгорают заживо близкие. Они попали в лагерь несчастными беженцами, охваченными горем и просто ждущими, когда огонь поглотит их самих. А отец Стори и его дочь Кэрол – Алли ее племянница – объяснили им, что умирать не обязательно. Вернули надежду и предложили верное спасение.
Харпер замедлила шаги, чтобы дать отдохнуть больной лодыжке и обдумать услышанное.
– Что значит – объяснили, что умирать не обязательно? Человек с драконьей чешуей не может выжить. Это невозможно. Или есть какое-то лекарство, таблетки…
– Вам ничего не надо принимать, – сказал Пожарный. – Даже их веру. Помните об этом, сестра Грейсон.
– Если бы существовал способ не позволить драконьей чешуе убивать людей, правительство уже знало бы об этом. Если бы было реальное средство, которое может продлить жизнь миллионам больных людей…
– …людей со смертельными и заразными спорами на коже? Сестра Грейсон, никто не хочет продлевать нам жизнь. Наоборот. Сократить ее – вот что нужно обществу. По крайней мере, так считают здоровые. О людях с драконьей чешуей наверняка известно только одно: они не вспыхивают, если выстрелить им в голову. Можно не бояться, что труп заразит вас или ваших детей… или вызовет пожар, в котором сгорит целый квартал. – Харпер открыла рот, чтобы возразить, но Пожарный сжал ее плечо. – Мы еще успеем поспорить. Хотя предупреждаю: обо всем этом уже говорили многие, особенно бедный Гарольд Кросс. Думаю, его случай полностью закрывает тему.
– Гарольд Кросс?
Пожарный покачал головой:
– Успеете узнать. Я только хочу, чтобы вы поняли: Том и Кэрол дали людям не просто еду и убежище, даже не просто способ подавить болезнь. Они дали им веру… веру друг в друга, в будущее и в силу, которую они представляют, собравшись толпой. Толпа хороша, когда ты в ней, но несколько сотен скворцов разорвут в клочья некстати попавшуюся на пути ласточку. Думаю, в лагере Уиндем отступнику придется плохо. Том – вполне толерантный. Он – современный, терпимый, мыслящий религиозный деятель, по специальности – профессор этики. Но вот его дочь, тетка Алли – сама еще почти ребенок, а прочие дети устроили вокруг нее настоящий культ. В конце концов, это она поет песни. И с ней неохота ссориться. Она, Кэрол, вполне милая. Хочет добра. Но если невзлюбит вас, то будет вас бояться, а если боится, она опасна. Даже представить страшно, что может случиться, если Кэрол испугается всерьез.
– Я не собираюсь никого пугать, – сказала Харпер.
Пожарный улыбнулся:
– Конечно. Вы мне кажетесь не бузотером, а миротворцем. До сих пор вспоминаю, как впервые встретился с вами, сестра Грейсон. Вы же ему жизнь спасли. Я про Ника говорю. И заодно спасли мою черепушку. Насколько помню, меня уже почти пришибли, когда вы вмешались. Я ваш должник.
– Больше нет, – сказала Харпер.
В темноте перед ними зашуршали и раздались в стороны ветки. Появилась небольшая компания с Алли во главе. Девочка раскраснелась и тяжело дышала.
Мужчина за ее спиной спросил:
– Что случилось, Джон? – Голос был такой низкий и мелодичный, что Харпер, еще не разглядев лица Тома Стори, уже полюбила его. Пока что ей была видна только золотая оправа очков, поблескивающая во тьме. – Кто у нас тут?
– Кое-кто полезный, – сказал Пожарный; теперь Харпер знала его имя: Джон. – Медсестра, мисс Грейсон. Поможете ей? Я не доктор, но, боюсь, у нее трещина в лодыжке. Если вы отведете ее в лазарет, я вернусь за ее вещами, пока есть время. Подозреваю, скоро в ее доме объявятся полиция и карантинный патруль.
– Давайте-ка я помогу, – сказал один из встречающих. Он подошел ближе, легко проскользнул между Пожарным и Харпер и обхватил ее за талию. Харпер навалилась на его плечо. Это был крупный мужчина, наверное, на четверть века старше Харпер, с покатыми плечами и серебристыми волосами, уже редеющими на макушке. На ум сразу же пришел постаревший всеобщий любимец – медвежонок Паддингтон.
– Бен Патчетт, – представился мужчина. – Приятно познакомиться, мэм.
С ними была и женщина, невысокая, крепкая, с заплетенными в косички-брейды седыми волосами. Она нерешительно улыбнулась – видимо, сомневалась, вспомнит ли ее Харпер. Но разве можно было забыть женщину, которая сбежала из Портсмутской больницы, сияя, как готовая взорваться сигнальная ракета.
– Рене Гилмонтон, – сказала Харпер. – Я думала, вы убежали, чтобы где-нибудь умереть.
– Я и сама так думала. Но отец Стори рассудил иначе. – Рене подхватила Харпер под мышки, поддерживая с другой стороны. – Вы так долго и так хорошо за мной ухаживали, сестра Грейсон. И мне приятно поухаживать за вами хоть немного.
– Где вы повредили лодыжку? – спросил отец Стори, задрав подбородок.
Мутный свет блеснул на линзах очков, и Харпер впервые смогла рассмотреть его черты – худое, морщинистое лицо и седую бороду. «Дамблдор», – мелькнуло в голове. На самом деле борода была не как у Дамблдора, а скорее как у Хемингуэя, но ярко-голубые глаза за очками наводили на мысли о человеке, который читает руны и разговаривает с деревьями.
Харпер не знала, как отвечать, – не хотелось говорить о Джейкобе и о том, что он пытался сотворить с ней.
Пожарный, похоже, мигом понял, как затруднителен вопрос, и ответил сам:
– Муж пришел к ней с пистолетом. Я его прогнал. Конец истории. У нас мало времени, Том.
– Как и всегда, – кивнул отец Стори.
Пожарный пошел было прочь, но вдруг развернулся и вложил что-то в руку Харпер.
– Вы потеряли, сестра. Держите при себе. Если я снова понадоблюсь, только свистните. – Это был слайд-свисток. Харпер уронила его, когда бежала от Джейкоба, и забыла; а сейчас почему-то несказанно обрадовалась, что он нашелся.
– Он не каждому выдает свой свисток любви, – сказала Алли. – Вы попали в список.
– Какие пошлости, Алли, – сказал Пожарный. – Что бы сказала твоя мама?
– Что-нибудь похлеще, – ответила Алли. – Пойдем, заберем вещи медсестры.
Алли надвинула на лицо маску Капитана Америки и нырнула в лес. Пожарный вполголоса выругался и поспешил следом, раздвигая ломом-хулиганом низкие кусты.
– Алли! – крикнул отец Стори. – Алли, прошу тебя! Вернись!
Но той и след простыл.
– Эта девочка не должна лезть в дела Джона, – сказал Бен Патчетт.
– Попробуйте ее остановить, – отозвалась Рене.
– Пожарный – Джон – поджег сам себя, – сказала Харпер. – Всю руку охватил огонь. Как он это сделал?
– Огонь – единственный друг дьявола, – сказал Бен Патчетт и засмеялся: – Правда, отец?
– Не знаю, дьявол ли он, – ответил отец Стори. – Но если и дьявол, то наш. И все же… Не стоит Алли ходить с ним. Она хочет погибнуть, как мать? Иногда мне кажется, что она пробует мир на прочность – бросает ему вызов.
– Ох, отец, – сказала Рене. – Вы вырастили двух девочек-подростков. Думаю, если кто-то и может понять Алли, так это вы. – Она посмотрела в лес – туда, где исчезла Алли. – Конечно, она бросает вызов миру.
До лагеря Уиндем вряд ли было больше мили, но Харпер показалось, что они брели за отцом Стори сквозь тяжелую, душную тьму долгие часы. Пробирались через кучи листьев, петляли в соснах, перелезали через каменные насыпи, двигаясь навстречу соленому аромату Атлантики. Лодыжка гудела.
Харпер не спрашивала, где они, а отец Стори не объяснял. Когда они двинулись в путь, он положил в рот что-то похожее на яйцо голубой сойки и не издавал ни звука.
Они подошли к Литтл-Харбор-роуд, откуда открывался вид на поворот к лагерю Уиндем: дорожку из утрамбованных ракушек и песка. Въезд был перегорожен цепью, натянутой между двумя высокими валунами, которые смотрелись бы уместно в Стоунхендже. За цепью дорога поднималась к зеленым холмам. Даже в ночи было видно белую колокольню церкви, торчащую из-за холма в полумиле от них.
Неподалеку от этих гранитных тотемов у дороги покоился обгоревший дочерна корпус автобуса. Ободья колес прятались за сорняками, автобус прожарился почти до остова.
Прежде чем переходить дорогу, отец Стори дважды хлопнул в ладоши. Все четверо выбрались из кустарника и перешли через трассу к песчаной дорожке. По ступенькам из салона автобуса спустился мальчик и остановился в дверях, ожидая их приближения.
Отец Стори достал белое яйцо изо рта и обернулся к Харпер, которая опиралась на своих спутников.
– Кажется, что автобус – полная развалина, но это не совсем так. Фары работают. Если на нашей дороге появятся незнакомцы, мальчик в автобусе подождет, пока незваные гости уйдут, а потом подаст сигнал. Другой мальчик дежурит на верхушке церковной колокольни. На башне око видит далёко. – Он улыбнулся и добавил: – Если понадобится, мы можем спрятаться в укрытии за две минуты. И проводим учения каждый день. Спасибо Бену Патчетту – это его идея. Я-то сам предлагал фантастическую систему птичьего пересвиста или, возможно, воздушных змеев.
Паренек из автобуса носил бородку, заставившую Харпер вспомнить о викингах: жесткие колечки заплетенных рыжеватых прядок. Но лицо было юное и мягкое. Харпер решила, что он вряд ли старше Алли. Мальчик лениво поигрывал дубинкой.
– Кажется, я неправильно понял ваш план, отец, – сказал часовой. – Я думал, вы отправились за медсестрой, а не за кем-то, кому нужна помощь медсестры. – Он переводил взгляд с одного на другого, беспокойно улыбаясь. – И я не вижу Алли.
– Мы услышали громовой треск, страшный грохот бессмысленного насилия и бездумного разрушения, – ответил ему отец Стори. – Разумеется, Алли тут же помчалась прямо туда. Успокойся, Майкл. С ней Пожарный.
Майкл кивнул, потом поклонился Харпер почти церемонно. Его глаза блеснули лихорадочной невинностью уверенного в спасении своей души человека.
– Приветствую вас. Мы все здесь друзья, сестра. Здесь ваша жизнь начнется заново.
Харпер улыбнулась в ответ, но не знала, что сказать, а через секунду отвечать было уже поздно: Бен и Рене вели ее дальше. Когда Харпер обернулась, мальчик уже скрылся в автобусе.
Отец Стори приготовился положить свой леденец обратно в рот, но заметил взгляд Харпер.
– А. Борюсь с собой. Вычитал у Сэмюэла Беккета. Кладу камешек в рот, чтобы постоянно напоминать себе, что надо молчать и слушать. Я несколько десятков лет преподавал в частной школе, а среди молодежи все время тянет прочитать импровизированную лекцию.
По петляющей тропинке в тени деревьев они миновали сухой плавательный бассейн и стрельбище, где среди опавшей листвы тускло поблескивали латунные гильзы. Все выглядело давно заброшенным – позже Харпер узнала, что это впечатление создавалось путем значительных усилий.
В конце концов они добрались до вершины холма. Под ними, в неглубокой лощине, открылась футбольная площадка. Дети с криком гонялись за мячом, который светился бледно-зеленым, как привидение. А дальше, за деревьями, можно было разглядеть длинный лодочный сарай и колышущийся мрак моря.
Церковь открылась справа, в стороне от дороги. Здание стояло за садом скульптур – скопищем мшистых дольменов и высоких монолитов. Мемориальный парк казался странным преддверием к очень современного вида церкви с высокой колокольней и ярко-красными дверями. Если церковь – место богослужений, то сад скульптур больше походил на место жертвоприношений.
Внимание Харпер привлекли шестеро подростков, сидевших на бревнах у громадного сарая, который оказался кафетерием. Ребята собрались вокруг костра, который горел странным цветом, – рубиново-золотым, как будто пламя светило сквозь красный кристалл.
Узкоплечая красотка, покачиваясь в пульсирующем алом свете, бренчала на гавайской гитаре. С первого взгляда ее можно было принять за близняшку Алли. Но все же она была постарше, лет двадцати пяти. Голова тоже выбрита, хотя остался черный завиток волос, вроде запятой, на лбу. Видимо, это и есть тетя Кэрол, решила Харпер.
Тетя вела, остальные подпевали – их голоса переплетались, как пальцы влюбленных. Они пели старый хит «Ю-2», пели о том, что они одно целое, но не одинаковые, и что они поддержат друг друга. Когда Харпер проходила мимо, женщина с гитарой подняла взгляд и улыбнулась. Глаза сияли, как золотые монеты, и только тут Харпер поняла, что никакого костра нет. Это светились они сами. Все они были покрыты петлями и изгибами драконьей чешуи, которая светилась, словно флуоресцентная краска под невидимым излучением, играла психоделическими оттенками вишневого вина и голубого пламени газовой горелки. Когда поющие открывали рты, Харпер видела, что и их глотки залиты изнутри светом, словно они – чайники, наполненные углями.
Харпер никогда не видела ничего столь пугающего и столь прекрасного. Она задрожала, по коже как будто осторожно заскользили пальцы – вдоль линий драконьей чешуи. Харпер вдруг качнулась от внезапного легкого головокружения.
– Они сияют, – хрипло пробормотала Харпер. В голове звенела их песня, и мыслям было трудно пробиться сквозь музыку.
– И вы будете, – пообещал ей Бен Патчетт. – Со временем.
– Это опасно? – выдохнула Харпер. – Они не загорятся?
Отец Стори вынул камешек изо рта и сказал:
– Не только драконья чешуя вызывает огонь, сестра Грейсон. Ею можно сжечь все дотла… а можно осветить дорогу к чему-то лучшему. Никто не умирает от самовозгорания в лагере Уиндем.
– Вы победили ее? – спросила Харпер.
– Лучше, – ответил отец Стори. – Мы с ней подружились.
Харпер очнулась от жуткого сна и рывком поднялась, запутавшись в простынях.
Кэрол Стори нагнулась над ней и положила ладонь на запястье.
– Все в порядке. Дышите.
Харпер кивнула. Голова затуманилась, а пульс стучал с такой силой, что перед глазами ползли пятна.
Она попыталась прикинуть, сколько проспала. Припомнила, как ее почти на руках втащили по ступенькам в лазарет, как Бен Патчетт и Рене Гилмонтон под ее же чутким руководством вправили лодыжку и забинтовали. И совсем смутные воспоминания остались о том, как Рене принесла тепловатой воды и несколько таблеток парацетамола, о сухой прохладной ладони, которую пожилая женщина положила Харпер на лоб, и ее тревожном, внимательном взгляде.
– Что вам снилось? – спросила Кэрол. – Помните что-нибудь?
Кэрол Стори смотрела на нее громадными любопытными глазами – шоколадные радужки были усыпаны золотыми крапинками драконьей чешуи. Она носила на запястьях браслеты из золота и эбенового дерева; короткая футболка открывала перекрещивающиеся ремни чешуи на животе. Они придавали Кэрол готично-хулиганский вид. Свободная от отметин кожа была бледной, почти прозрачной. Кэрол выглядела такой хрупкой, что казалось – если она упадет, то разобьется, как глиняная ваза.
У Харпер ныла грудь, лодыжка полыхала колючим жаром; мысли путались и увязали в остатках сна.
– Мой муж написал книгу. Я уронила рукопись. Листки летали повсюду. И… кажется, я пыталась собрать все по порядку, пока он не вернулся домой. Не хотела, чтобы он узнал, что я читала. – Во сне было еще что-то – больше и хуже, – но оно уже ускользало, пропадало из виду, как камень, брошенный в глубокую реку.
– Надо было вас разбудить, – сказала Кэрол. – Вы дрожали и издавали страшные звуки; и… немного дымились.
– Я? – удивилась Харпер. Она уловила легкий запах гари, словно кто-то сжег несколько сосновых иголок.
– Совсем чуть-чуть. – Кэрол взглянула на нее виновато. – Когда вы вздыхали, появлялся сизый дымок. Это все от стресса. Когда научитесь присоединяться к Свету, такого больше не будет. Когда вы в самом деле станете одной из нас – частью группы, – драконья чешуя уже не будет для вас опасна. В это трудно поверить, но потом вы, возможно, начнете считать драконью чешую благословением.
В голосе Кэрол Харпер услышала чистую и абсолютную веру фанатички; это ей не понравилось. Еще Джейкоб приучил ее считать людей, говорящих о благословении и вере, беспомощными простаками. Тех, кто считает, что все предопределено, ждет разочарование. Они отказываются от попыток проникнуть своим любопытством в тайны устройства Вселенной ради удобных детских сказок. Понять таких людей Харпер могла. Детские сказки она и сама обожала. Но одно дело – дождливым субботним вечером почитать «Мэри Поппинс», и совсем другое – ждать, что она на самом деле объявится в твоем доме посидеть с детьми.
Она старалась изобразить искренний интерес, но ее сомнение, видимо, было чересчур заметным. Кэрол откинулась на спинку стула и засмеялась:
– Я сказала слишком много и слишком быстро? Вы здесь впервые. Постараюсь на вас не давить. Но предупреждаю: нашей больницей и впрямь заведуют психи. Как сказал Кот из «Алисы в стране чудес»?
– «Мы все здесь сумасшедшие», – ответила Харпер, не удержавшись от улыбки.
Кэрол кивнула:
– Мой отец хотел, чтобы я показала вам лагерь. Все мечтают с вами познакомиться. На обед уже опоздали. Впрочем, Норма Хилд – она заведует кафетерием – обещала не закрывать кухню, пока мы не поедим.
Харпер подняла голову и прищурилась – за окном было так черно, будто она под землей. В лазарете, в единственной палате стояли три койки, отделенные друг от друга занавесками, – для некоторой приватности; Харпер занимала центральную. Когда она засыпала, было темно; темно оказалось и сейчас. Харпер понятия не имела, который час.
Она решила узнать, и Кэрол сказала:
– Примерно два часа ночи. Вы проспали целый день… и это хорошо. Мы тут как вампиры: встаем на закате, прячемся по могилам с рассветом. Кровь пока еще никто не пьет, но если кончатся консервы – кто знает, чем все обернется.
Харпер села в постели, поморщившись, – грубоватая ткань толстовки коснулась ноющих, набухших грудей, и они тут же заныли, – и заметила две вещи.
Во-первых, одна занавеска была отдернута, и на соседней койке сидел мальчик – и она узнала его. Мальчик с темными курчавыми волосами и изящными, эльфийскими чертами лица. Когда она видела его в прошлый раз, он страдал от острого аппендицита и лицо заливал пот. Нет, не совсем так. Харпер полагала, что видела его и после этого. Именно он стоял на ее пороге в маске Тигра Тони, рядом с Алли. Сейчас он сидел, положив ногу на ногу, и смотрел на Харпер, не отрываясь, как на экран с любимой телепередачей.
Во-вторых, радио было включено, но из него доносился только треск статических разрядов. Приемник стоял на полке, рядом с гипсовой моделью человеческой головы – череп был открыт, чтобы продемонстрировать мозг.
Харпер вспомнила, что мальчик не слышит, и медленно помахала рукой. В ответ он нащупал на койке у себя за спиной листок бумаги и протянул Харпер. Это был рисунок – детский, но умелый, – изображавший большого полосатого кота, который брел по зеленой траве, задрав хвост.
Под животным была надпись: «ВРЕМЕННЫЙ КОТ».
Харпер улыбнулась и вопросительно взглянула на мальчика, но тот уже соскользнул с койки и топал прочь.
– Это ведь Ник, правильно? – спросила Харпер.
– Мой племянник. Да. Белая ворона. Впрочем, это семейное.
– А Джон – его отчим?
– Что? – Невозможно было не заметить, каким резким внезапно стал голос Кэрол. – Нет. Вовсе нет. Моя сестра и Джон Руквуд встречались несколько месяцев, но это было в совершенно другом мире. Настоящий отец Ника мертв, а Джон… он больше почти не участвует в жизни мальчика.
Это показалось Харпер немного несправедливым; ведь она помнила, как Пожарный принес Ника на руках в больницу и был готов сражаться с охраной и со всей очередью, чтобы мальчика приняли. Однако Харпер понимала, когда тема разговора становилась неудобной. Тему Джона Руквуда она оставила до лучших времен и сказала:
– Ник дал мне Временного кота. Зачем он дал мне Временного кота?
– Это благодарственное письмо. Вы были медсестрой в больнице и спасли ему жизнь. Это была ужасная неделя. Самая жуткая неделя в моей жизни. Я потеряла сестру. Думала, что потеряю и племянника. Я знала, что мы с вами подружимся, что я вас буду обожать, еще до того, как мы встретились, Харпер. Из-за всего, что вы сделали для Ника. Я даже хочу, чтобы у нас были похожие пижамы – вот как я вас обожаю. Жаль, что у меня нет временного кота, чтобы подарить вам.
– Если он временный, значит, мне придется его вернуть?
– Нет. Он нужен, чтобы продержаться, пока он не сможет достать настоящего кота. Он охотится. Делает силки и хитрые ловушки. Ходит повсюду с большим сачком, как будто кота можно поймать, как бабочку. Пристает к людям, чтобы нашли ему кошачью мяту. Я не уверена, что он охотится на реального кота. Никто, кроме него, этого кота не видел. Я начинаю думать, что он вроде Снафлепагуса из «Маппет-шоу», приятеля Большой Птицы, и живет только в голове Ника.
Харпер сказала:
– Но Снафлепагус был настоящий.
– Это самые замечательные слова, что я слышала в жизни. Я хочу такую эпитафию на могильный камень: «Снафлепагус был настоящий». И больше ничего не надо.
Харпер не могла наступать на правую ногу, но Кэрол помогла ей подняться, обхватив рукой. Проходя мимо радио на полке, Кэрол потянулась к приемнику и помедлила немного, крутя ручку настройки. Анатомическая модель человеческой головы изумленно смотрела на женщин. Голова была гротескная: с половины лица кожа содрана, чтобы показать сухожилия и нервы, один глаз подвешен в фиброзном красном гнезде открытой мышцы.
– И что там? – спросила Харпер. – Вы ищете что-то конкретное?
– Снафлепагуса, – ответила Кэрол, засмеялась и выключила приемник.
Харпер подождала объяснений, но их не последовало.
Кафетерий угнездился на вершине холма, над футбольной площадкой и галечным пляжем. Мох и полосы пожухлой травы покрывали черепичную крышу; окна были заколочены досками – вид получился совсем заброшенный.
Однако впечатление разрухи развеялось, стоило Кэрол толкнуть дверь и провести Харпер в обеденный зал, похожий на затененную пещеру с открытыми балками из красной сосны. На кухне звенели тарелки, воздух пропитался запахом соуса «маринара» и тушеной свинины.
Обед, видимо, давно закончился, но зал не совсем опустел. За столиком на двоих, напротив старичка в кепке греческого рыбака, сидела Рене Гилмонтон; оба склонились над стаканами с дымящимся кофе. За соседним столом одиноко трапезничал паренек, похожий на викинга. Харпер вспомнила его имя – Майкл. Он ковырял вилкой макароны в красном соусе и перелистывал страницы старого номера «Рейнджера Рика», читая при свете свечи, поставленной в баночку из-под желе. Прошлым вечером Майкл казался семнадцатилетним. А сейчас, впившийся восторженно распахнутыми глазами в статью «Волшебные морские коровы Майами», он был похож на десятилетнего мальчишку в накладной бороде.
Рене подняла голову и встретилась взглядом с Харпер. Какая радость и облегчение – встретить друга, не оказаться одной среди незнакомцев. Харпер припомнила череду обедов в других кафетериях и тревогу, возникающую, когда не видишь знакомых лиц и не знаешь, за какой столик сесть. Она заподозрила, что Рене нарочно осталась тут, в надежде дождаться Харпер и помочь обжиться… и Харпер была до неприличия ей благодарна.
На раздаче блюд царствовала Норма Хилд – гора плоти с широкими покатыми плечами доминантного самца гориллы. В разгаре уже была послеобеденная уборка – на кухне пара подростков при свете масляной лампы окунали тарелки в мыльную воду, – однако Норма оставила немного макарон в стальной сковородке и пару ковшей подливки. Еще был кофе и к нему банка сгущенного молока.
– У нас был сахар, и там завелись муравьи. Муравьи в кофе, муравьи в кексах, муравьи в персиковом коктейле, – рассказывала Кэрол. – Несколько недель муравьи были основным источником белка. Зато теперь никакого сахара! Только сироп. Простите! Добро пожаловать в кафе «Конец Света»!
– Сахар кончился, скоро и молока не останется, – сказала Норма. – Я оставила для кофе две банки молока, но теперь осталась всего одна.
– Вторую уже израсходовали? – спросила Кэрол. – Так быстро?
– Не-а. Украли.
– Никто не мог украсть банку молока.
– Украли, – повторила Норма тоном не гневным, а скорее довольным. Она сидела за прилавком, серебряные вязальные спицы в руках безостановочно клацали, нисколько не мешая ей говорить. Она вязала какую-то длинную бесформенную трубу из черной пряжи – похоже, презерватив для Кинг-Конга.
Харпер и Кэрол подошли к столу Майкла; Кэрол сделала приглашающий жест в сторону Рене и старика.
– Садитесь с нами. Харпер хватит на всех!
Они расселись вокруг стола, стукаясь коленями. Харпер потянулась за вилкой, но не успела – Кэрол перехватила ее пальцы.
– Прежде чем приниматься за еду, мы по очереди говорим о том, что нас радует, – сказала она доверительным тоном, наклонившись к Харпер. – Иногда это лучшая часть обеда. Поймете, когда попробуете пищу.
– Мы уже перекусили, но я не против преклонить голову с вами, – сказал старик, которого так и не представили.
Рене сжала другую ладонь Харпер; они сидели кружком, подавшись к свету единственной свечи, как на спиритическом сеансе.
– Я начну, – сказала Кэрол. – Я рада за женщину, сидящую рядом со мной, которая спасла моего племянника от аппендицита. Я рада, что она здесь и я смогу показать, насколько я благодарна. Я рада за ее малыша, потому что дети – это восхитительно! Прямо толстенькие сарделечки с лицами!
Старик заговорил, опустив голову и прикрыв глаза:
– Я и сам рад за сестру, потому что здесь сто двадцать четыре человека требуют медицинского ухода и я уже несколько месяцев не знаю отдыха. С конца августа я – единственный человек в лагере, способный оказать медицинскую помощь, а я знаю только то, чему на флоте научили. Не буду говорить, сколько лет назад я учился на санитара госпиталя – в общем, как раз в ту эпоху только-только отказались от пиявок.
– А я, наверное, больше всего рад находиться в месте, где меня любят, – сказал Майкл. – Среди таких людей, как тетя Кэрол и отец Стори. Я что угодно сделаю ради них и ради безопасности лагеря. Я уже потерял одну семью. И лучше сам умру, чем потеряю другую.
– А я рада, что ем горячий обед, – сказала Рене, – хоть это и рагу из жареного «Спама». И еще я рада, что в лагере есть первоклассный рыболов в лице Дона Льюистона, хотя радости прибавится, когда до меня дойдет очередь на рыбу. – Рене кивнула старику и бросила взгляд на Харпер. – И я ужасно рада встретить подругу из Портсмутской больницы, которая работала по восемнадцать часов в сутки, насвистывала диснеевские мелодии и пыталась поднять дух тысячи зараженных и напуганных пациентов. Она входила в палату, как солнце после месяца пасмурной погоды. И она заставила меня жить дальше, когда других причин у меня не было.
Харпер не была уверена, сможет ли она произнести хоть слово, так внезапно ее захлестнули чувства. В Портсмутской больнице ей казалось, что пользы от нее столько же, сколько от мяты в горшочке Рене, и теперь для нее стало полной неожиданностью иное мнение. Она только и смогла выдавить:
– Я просто рада, что больше не одна.
Кэрол сжала ее пальцы.
– Я так рада быть частью этого круга. Мы все – голоса одного хора, и мы поем благодарность.
И Харпер снова увидела это: глаза Кэрол ярко запульсировали, радужки превратились в кольца неземного зеленого света. Глаза Майкла тоже вспыхнули, и Харпер заметила, как завитки драконьей чешуи на его оголенных руках блеснули красными и золотыми крапинками.
Харпер отпустила руку Кэрол, словно ошпарившись. Но тут жуткое свечение пропало, остался только озорной блеск в глазах Кэрол.
– Перепугала, да? Простите. Впрочем, вы привыкнете. А потом и сами начнете…
– Немного страшно, – призналась Харпер. – Но это… как волшебство.
– Это не волшебство. Это чудо, – сказала Кэрол спокойным тоном, каким обычно сообщают марку новой машины: «Это моя «Миата».
– А что происходит, когда вы начинаете сиять? – спросила Харпер. И почти сердито посмотрела на Рене: – То же самое было тогда с вами в больнице. Вы убежали, объятая светом. Все ждали, что вы взорветесь.
– Точно, – ответила Рене. – Случайно вышло. Это называют «присоединиться к Свету».
– Или к Сети, – добавил Майкл. – Но так, наверное, только мои ровесники говорят. Многие мои друзья шутят, что это новая социальная сеть. Точнее, не совсем шутят.
– Вы, наверное, заметили, что драконья чешуя болезненно реагирует на стресс, – сказала Кэрол.
Старик, Дон Льюистон, рассмеялся:
– Можно и так сказать.
– Все потому, что она улавливает ваши чувства, – продолжала Кэрол. – И это очень важный принцип! Даже удивительно, что другие люди не изучали эту идею, чтобы выяснить, к чему она ведет. На ощущение безопасности, благополучия и признания драконья чешуя реагирует совсем по-иному: ты сильнее, чем прежде, начинаешь чувствовать себя живым. Цвета становятся ярче, вкус глубже и чувства сильнее. Словно вспыхиваешь от счастья. И это не только твое счастье. Это общее счастье. Счастливы все вокруг тебя. Словно мы – ноты одного идеального аккорда.
– Вспыхиваешь, но не горишь, – добавил Майкл, теребя завитки оранжевой бороды.
– Не горишь, – повторила Кэрол.
– Невероятно, – сказала Харпер. – Как это работает?
– Гармония, – ответила Кэрол.
– Гармония?
– В общем, единение, – сказала Рене. – Сильная социальная связь. У Джона есть интересные теории на этот счет – если его разговорить. Однажды он сказал мне…
Кэрол помрачнела лицом. На правом виске набухла жилка.
– Джона Руквуда здесь нет, он и не хочет появляться. Он предпочитает оставаться на расстоянии. Так проще поддерживать свой персональный миф. Честно говоря, думаю, он смотрит на нас сверху вниз.
– Серьезно? – спросила Рене. – Мне так никогда не казалось. Я бы сказала, он нас бережет. Если он пренебрежительно относится к лагерю, то как-то странно это демонстрирует. Прежде всего, именно он привел сюда большинство из нас.
Повисло неловкое молчание. Рене уставилась на Кэрол с невинным любопытством. Кэрол избегала смотреть на нее. Она взяла кофе с нарочито беспечным видом, который нисколько не обманул Харпер. На мгновение на лице Кэрол мелькнула ненависть. Прошлым вечером, в лесу, Джон дал понять, что не слишком любит Кэрол Стори; и чувства, как видно, были взаимны.
Майкл первым прервал неловкое молчание.
– Проще всего присоединиться к Свету, если петь. Мы всем лагерем собираемся каждый день в церкви после завтрака и поем – и всегда сияем. Вы тоже будете сиять. Может, и не сразу, но не отчаивайтесь. Это как будто кто-то подключает вас к гигантской батарейке. Как будто свет вспыхивает у вас в душе впервые в жизни. – Его глаза так горели, что Харпер захотелось померить ему температуру.
– Я не могла понять, что со мной творится, когда я впервые попала в Свет, – сказала Рене. – Сказать, что я удивилась – ничего не сказать, миссис Грейсон.
– Лучше зовите меня Харпер. – Она не стала добавлять, что, по ее мнению, она больше не миссис Грейсон. Это фамилия Джейкоба, а все, что касается Джейкоба, похоже, осталось в лесу. Ее девичья фамилия была Уиллоуз. Она давненько не ощущала этого сочетания звуков на языке; казалось, обрести прежнее имя – это как совершить побег, гораздо более приятный и мирный побег, нежели прыжок из окна спальни.
– Харпер, – попробовала ее имя на вкус Рене и улыбнулась. – Не знаю, смогу ли привыкнуть, но попробую. Ну что ж, Харпер. Я читала детям вслух. Мы были на середине «Чарли и шоколадной фабрики», и я отложила книжку, чтобы спеть им «Конфетного человека» из фильма. Некоторые дети знали слова и подпевали мне. Все было так прекрасно, мирно, и я даже забыла, что мы больны. Такое чувство возникает, когда примешь у камина пару бокалов. И тут дети завизжали. Время словно застыло. Помню, как один мальчик свалил мою мяту в горшочке со столика – и я словно полчаса тянулась, чтобы подхватить ее. А когда поймала, то заметила, что вся рука светится. Мне это так понравилось, что я нисколько не испугалась. Но кто-то закричал: «Бегите от нее, она взорвется!» И вот тогда-то я и подумала: «Точно! Я взорвусь, как граната!» Наверное, люди особенно внушаемы в таком состоянии – в Свете. И я рванула со всех ног, прихватив горшочек с мятой. Мимо двух постов охраны, мимо десятков врачей и медсестер, через стоянку – в луга к югу от больницы. Я думала, трава загорится у меня под ногами, но она не загорелась. Постепенно свет угас, а я тряслась, как пьяная.
– Пьяная?
– Угу, – подтвердил Дон Льюистон. – Из этого Света вываливаешься совсем бухой. Особенно первые раза два. Свое имя забываешь.
– Имя?
Вмешалась Кэрол:
– Многие в первый раз забывают собственное имя. Думаю, это и есть самое прекрасное. Все, что, по вашему мнению, определяет вас, спадает, как обертка с рождественского подарка. Свет очищает до настоящей сути, открывает нечто более важное, чем то, как тебя зовут или за какую футбольную команду ты болеешь. Ощущаешь себя листом на дереве, а все, кого ты знаешь и любишь, – другие листья.
Харпер Уиллоуз задрожала как осиновый лист.
– Первый раз, когда я слился с хором, – сказал Дон Льюистон, – я забыл лицо своего отца, голос матери и название судна, на котором служил последние двадцать лет. Хотелось расцеловать всех, кого я видел. Я был чертовски щедр. Это в церкви было, после отменного пения. Я сидел рядом с двумя молодыми ребятами, и меня распирало рассказать, как я их люблю, я даже снял ботинки и пытался подарить им. Каждому по ботинку, от меня на память. Они посмеялись надо мной, как взрослые над пацаном, который впервые хлебнул пива.
– А почему вы не вернулись в больницу? – спросила Харпер у Рене. – После того, как… побывали в Свете?
– Сначала и в голову не приходило. Я была просто не в себе. Еще несла свою мяту – и вдруг подумала, что ей не место в горшке, что жестоко держать ее в горшке. Я устыдилась – столько месяцев продержала ее в заточении. Зашла поглубже в лес и устроила тихую милую церемонию посадки. Потом села рядом со своей мятой, повернулась лицом к солнцу и чувствовала себя такой удовлетворенной, как никогда в жизни. И, кажется, думала, что сейчас займусь фотосинтезом, вместе с моим растением. А потом услышала хруст ветки, открыла глаза – а передо мной стоят Капитан Америка и Тигр Тони. И знаете что? Я ничуть не удивилась. Супергерой и мальчик-тигр были весьма кстати в такой день.
– Алли, – кивнула Харпер. – И Ник. Ник! А как же Ник? Как он может петь с вами и сиять с остальными, если не слышит?
Все посмотрели друг на друга и радостно расхохотались, как будто Харпер отпустила очень остроумную шутку.
– Ник – самородок, – сказала Кэрол. – Он научился сиянию раньше меня. Впрочем, почему он с такой легкостью входит в Свет… на этот вопрос никто из нас не может ответить. Ник говорит: если он не может слышать музыку, это не значит, что и его драконья чешуя не может. Мой отец говорит: просто еще одно чудо. Он охотно верит в чудеса. Да и я сама тоже. Пойдемте, Харпер, я покажу вам остальной лагерь.
– Если вам тяжело ходить, – сказал Майкл, – я готов подставить плечо.
По дороге к выходу они опустили тарелки в бак с серой мыльной водой, и Харпер взглянула на двух подростков, работающих в кухне. Они вытирали стаканы, прислушиваясь к радио.
По радио передавали статический хрип.
Дети по-прежнему гонялись за футбольным мячом – бледно-зеленый мяч летал туда-сюда, как хмельной блуждающий огонек.
– Не знаю, как с ними быть, когда пойдет снег, – сказала Кэрол.
– А что будет, когда пойдет снег?
– Мистер Патчетт говорит, что придется проявлять особую осторожность на улице, – сказал Майкл. – Если будем оставлять следы, их кто-нибудь может заметить с воздуха. Не скажу, что жду зимы с нетерпением.
– Когда ты появился в лагере, Майкл? – спросила Харпер.
– После того, как мои сестры сгорели заживо, – сказал он спокойно. – Сгорели вместе. И все еще держались друг за дружку, когда я сбил пламя. Наверное, это благословение. Они не умерли в одиночестве. Они нашли утешение друг в друге. Они ушли из этого мира, но они шепчут мне в Свете.
Кэрол сказала:
– Иногда, когда я вхожу в Свет, я чувствую – клянусь, – что сестра стоит рядом со мной, я просто могу склонить голову ей на плечо, как прежде. Когда мы сияем, они все приходят к нам. Свет, который мы вместе создаем, показывает нам то, что забрала тьма.
Харпер с трудом подавила дрожь. Говоря о Свете, они напоминали безмерно счастливых внеземных гостей.
Кэрол провела Харпер по саду возвышающихся монолитов и языческих жертвенников.
– Говорят, что этим камням тысячи лет, и их поставило здесь древнее племя с помощью технологий пришельцев. Впрочем, отец утверждает, что камни доставлены сюда из Оганквитской каменоломни – вот почему его лучше не спрашивать ни о чем интересном.
На гранитных стелах Харпер видела прикрепленные медные таблички. На одной были перечислены имена семнадцати мальчиков, умерших в грязи восточной Франции во время Первой мировой войны. На другой – имена тридцати четырех мальчиков, умерших на берегах западной Франции во время Второй мировой. Харпер подумала, что все могильные камни должны быть подобных размеров, ведь небольшие плиты на обычных кладбищах не дают никакого представления об ошеломительной громадности потери невинного сына – в тысячах миль от дома, в грязи и стуже. Нужна огромная плита – чтобы казалось, что она вот-вот упадет и раздавит тебя.
– А это наша церковь, – сказала Кэрол. – Если подняться на колокольню в ясный день, то все видно до самого Мэна. Только на Мэн смотреть не стоит. На севере нет ничего, кроме черного дыма и молний. По утрам мы собираемся – поем и светимся, и обычно мой отец говорит несколько слов. А потом здесь проходят школьные занятия.
Кэрол показала на тропинку, скрытую за кустами сумаха и пихтами.
– Я живу там, в лесу, в белом домике с большой черной звездой. Вместе с отцом. Иногда стыжусь этого. Наверное, мне стоило бы жить с другими женщинами, в девчачьей спальне – мы сейчас туда пойдем. Папа говорит, что я могу переехать, как только захочу, но я-то знаю: если переберусь к остальным, он даже спать перестанет. Будет пить слишком много кофе и волноваться, и ходить по комнате, и снова волноваться. Он и сейчас спит всего по четыре часа, и то приходится таблетку давать. Идемте! Покажу вам, где я держу свой гарем!
Они обошли церковь; четыре каменные ступеньки спускались в проем, который размерами, формой и глубиной напоминал могилу. На дне ямы, через приоткрытую старую дверь на ржавых петлях, было видно подвал.
– Дальше идите без нас, – сказал Майкл, кивнув Дону. – Нам туда нельзя.
– Это не место для двух здоровенных парней вроде нас, – сказал Дон Льюистон. – Все эти женщины пожирают тебя глазами, думают, как бы заставить тебя исполнить их скрытые желания – приличный мужчина будет рад, если спасет жизнь и невинность.
Майкл опустил голову, скрывая заливший лицо румянец. Дон рассмеялся.
Кэрол покачала головой и прищелкнула языком:
– Майкл Мартин Линдквист-младший, ты слишком большой забавник, чтобы так смущаться.
Рене обратилась к Харпер:
– Если у вас нет пояса для чулок, я вам одолжу. В женской спальне одно из правил – никакой одежды, кроме французского белья. Корсеты и прочее.
– Я вас не слушаю, – заявил Майкл. – Я берегу себя до свадьбы.
Он оставил Харпер на попечение Кэрол и быстро зашагал прочь – почти бегом. Дон Льюистон отправился следом, насвистывая «Красотки Испании».
Кэрол помогла Харпер спуститься. За порогом было еще несколько ступенек, ведущих глубже в холм.
Под церковью находился громадный зал; потолок поддерживали побеленные кирпичные колонны. Раскладушки на щербатом цементном полу образовывали лабиринт высотой по колено. Около тридцати женщин сидели на раскладушках и толпились возле раскладного стола у задней стены – там наливали кофе.
Майкл и Дон Льюистон, собственно говоря, могли бы спуститься сюда без риска попасть в шелковый сад наслаждений. В зале царил вовсе не сексуальный запах сырости и нафталина, и у большинства девушек кожа была восковая, как у тех, кто давно не видел дневного света. И поясов для чулок не было видно, зато множество мокрых носков сушились на трубах. В моде был стиль Армии Спасения.
У ступенек стояла двусторонняя меловая доска – такие обычно ставят у закусочных в переулках, чтобы рекламировать блюдо дня. Харпер остановилась, чтобы прочитать, что было написано на ней цветными мелками и девичьим почерком:
ПРАВИЛА ОБЩЕЖИТИЯ
НИКАКИХ МОБИЛЬНЫХ! МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН НУЖНО СДАТЬ ДОЗОРНОМУ!
ВИДИШЬ ЧТО-ТО, СЛЫШИШЬ ЧТО-ТО… РАССКАЖИ!
У КАЖДОГО ЕСТЬ РАБОТА! ЗНАЙ СВОЮ!
ЕДА, НАПИТКИ И ЛЕКАРСТВА – ОБЩИЕ!!! НИКАКОГО СКОПИДОМСТВА!
НЕ ВЫХОДИТЬ ПРИ СВЕТЕ ДНЯ!
СЛУШАЙ ДОЗОРНЫХ! ЭТО МОЖЕТ СПАСТИ ТЕБЕ ЖИЗНЬ!!!
НЕ УХОДИ ИЗ ЛАГЕРЯ, НЕ ПРЕДУПРЕДИВ ДОЗОРНОГО!
ОРУЖИЕ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!
И СЕКРЕТЫ ТОЖЕ!
БЕЗОПАСНОСТЬ – ДЕЛО КАЖДОГО!!!
Действуй так, словно от тебя зависят все! Так оно и есть!!!
– Говорите не раздумывая, – сказала Кэрол. – Ваша любимая песня, любимый актер и как звали вашего первого питомца?
Харпер ответила:
– «Я тебе друг», Юэн Макгрегор – прежде всего, за «Мулен руж», а первым домашним животным был шнауцер Берт, черный как сажа, он напоминал мне трубочистов из «Мэри Поппинс».
Кэрол встала на стул, прочистила горло и помахала рукой над головой, чтобы привлечь внимание.
– Слушайте все! Это Харпер! Она наша новая медсестра! «Я тебе друг», Юэн Макгрегор и шнауцер Берт! Поприветствуем сестру Харпер!
Поднялся шквал криков, аплодисментов и приветствий. Алли Стори метнула в голову Харпер лифчик. Кто-то спросил:
– Харпер – а фамилия?
Кэрол собралась ответить, но Харпер опередила ее.
– Уиллоуз, – объявила она. – Харпер Уиллоуз! – И сама себе тихо добавила: – Снова. Наверное.
Кэрол провела Харпер по извилистому проходу между раскладушками к аккуратно заправленной койке почти в центре зала. На подушке лежал ее портплед.
Харпер расстегнула сумку и заглянула внутрь. Одежда была сложена аккуратными стопками. «Подручная мама» лежала на самом верху. Харпер сложила Временного кота и убрала под обложку. Вот первый питомец ее ребенка.
– Я хотела бы поблагодарить мистера Руквуда за то, что собрал мои вещи, – сказала Харпер и только тут вспомнила, что Пожарный вроде бы не любимец Кэрол Стори. Но было уже поздно, и она обычным тоном продолжила: – Где его можно найти?
На этот раз не было сердитых и недовольных взглядов. Наоборот, Кэрол посмотрела на нее почти ласково, потом тронула за руку:
– Пойдемте снова наружу. Я покажу.
Несмотря на помощь Кэрол, лодыжка Харпер гудела от боли, когда они добрались до верхней ступени. Похолодало. Воздух подернулся дымкой – с океана несло мелкую морось.
Они стояли у северо-восточного угла церкви. Кэрол махнула рукой за футбольное поле, за пихты и лодочный сарай внизу. Там, над волнующейся чернотой океана, виднелось пятно еще более густой черноты – маленький остров.
– Он – там, – сказала Кэрол. – Джон Руквуд. Он не ходит в церковь. Не ест с нами. Он сам по себе.
– Почему так?
– Не знаю. Секрет. Его секрет. Он никогда не покидает остров надолго, и никто не знает – почему. Разное говорят. Ведь там умерла она. Моя сестра. Она сгорела заживо и едва не унесла Ника с собой. Может быть, Джон там оплакивает ее. Может, кается. А может, ему просто нравится быть таинственным.
– Кается? Он винит в этом себя?
– Наверняка. – Кэрол говорила со спокойным выражением лица, но Харпер почувствовала, что ее эмоции сплетаются в запутанный клубок, как колючая проволока. – Не то чтобы он был виноват. Его не было на острове, когда все случилось. Нет. Моей сестре не требовалась ничья помощь, чтобы убить себя. Она и сама прекрасно справилась.
Кэрол искоса взглянула на Харпер и добавила:
– Но вот что я скажу. Я не хочу, чтобы туда ходили дети – Ник и Алли. Думаю, Джон это понимает. Никому не стоит заводить привычку посещать его. Те, кто слишком сближается с Джоном, исчезают в пламени.
После завтрака – готовили жидкую овсянку на молоке и горький кофе – настало время службы.
Бен Патчетт снова стал опорой для Харпер – он вывел ее в не по сезону теплую октябрьскую ночь. В ароматной темноте мельтешили стрекозы. Гул радостного предвкушения вокруг вызывал в памяти деревенские карнавалы, чертовы колеса и свежеиспеченные лепешки.
Люди вереницей входили в узкую часовню с высоким потолком, под потрескавшиеся стропила. В длинном затененном нефе окна были закрыты ставнями; громадное пространство освещали только несколько свечей. Тени-великаны беспокойно качались на стенах, более отчетливые, чем люди, которые их отбрасывали.
Харпер, опираясь на плечо Бена Патчетта, добралась до скамьи в середине придела. Справа втиснулся еще один мужчина – невысокий, пузатый, чуть постарше Бена, розовощекий и гладкий, как ребенок. Бен представил его как Нельсона Гейнриха – в прошлой жизни владельца магазина рождественских подарков; видимо, этим и объяснялось то, что он был одет в свитер с северными оленями, хотя даже Хеллоуин еще не наступил.
Веселый шум затих, когда отец Стори поднялся на кафедру. Он поправил очки на носу, бросил совиный взгляд в свой песенник и объявил:
– Если вы откроете страницу триста тридцать два, мы начнем с простого, но благородного гимна, любимого пилигримами ранних дней Америки.
В ответ раздались смешки; Харпер не могла понять, чем они вызваны, пока Нельсон не открыл свой сборник на нужной странице. Это был вовсе не сборник церковных гимнов, а песенник для девчонок и мальчишек, а на странице 332 обнаружилась «Святая Холли» Нила Даймонда. Харпер это понравилось. Уж кто-то, а Даймонд точно спасет ее душу.
Кэрол поднялась со скамьи у органа и вышла вперед. Она подняла свою гавайскую гитару, вызвав легкие аплодисменты.
Нельсон нагнулся к уху Харпер и довольно громко сказал:
– Это просто, вот увидите! Ничего особенного! Просто откиньтесь и получайте удовольствие! – Харпер подумала, что это неудачный совет с неудачным подтекстом.
Бен поморщился и добавил:
– Это не всегда происходит сразу. Не переживайте, если сегодня ничего не получится. Будет даже странно, если получится! Как сразу выбить страйк, впервые взяв…
Но договорить он не успел. Кэрол заиграла мелодию, похожую и на марш, и на церковный госпел. Когда все сто с лишним голосов зазвучали в гулком полумраке, голубь порскнул со стропил над головами.
Алли и Ник сидели прямо перед Харпер; она поняла, что начинается что-то необычное, когда мальчик повернулся к ней и улыбнулся – его обычно аквамариновые радужки превратились в колечки золотого света.
Полоски драконьей чешуи на тыльной стороне ладоней Бена Патчетта засветились, как яркие нити оптического волокна.
Свечение возникало со всех сторон, затмевая мутный красноватый свет свечей. Харпер вспомнила кадры атомной вспышки в пустыне. Песня крепла вместе со светом, и Харпер уже слышала все голоса у себя в груди.
Впереди белое платье Кэрол начало просвечивать, и стало видно тело. Кэрол, похоже, не была против и даже не замечала этого. Харпер подумала – не смогла удержаться – о психоделических голых силуэтах, мелькающих во время титров в фильмах о Джеймсе Бонде.
Харпер чувствовала, как звук поглощает ее. Свечение было не прекрасным, а ужасным – она словно оказалась в свете фар с бешеной скоростью надвигающегося автомобиля.
Бен держал руку у нее на талии и машинально поглаживал бедро – Харпер сочла это отвратительным, но не знала, как от него оторваться. Она взглянула на Нельсона – его шея была окутана светом. Когда он открывал рот, чтобы проорать следующую строчку, Харпер видела, как его язык горит ядовито-зеленым светом.
Интересно, подумала Харпер, если закричать, услышит меня кто-нибудь за всеми этими голосами? Кричать она не собиралась – дыхание перехватило, она не могла даже петь. Если бы не больная лодыжка, Харпер, возможно, сбежала бы.
Продержаться до конца песни ей помогли Рене и Дон Льюистон. Они сидели за проходом и ближе к кафедре, но Харпер могла их разглядеть между прихожанами. Рене повернула голову, чтобы посмотреть на Харпер, и сочувственно улыбнулась. Петли чешуи на горле сияли, но приглушенно, и свет не захватил добрых чистых глаз. И главное – Рене была здесь, она проявила к ней внимание. Вот тогда-то Харпер и поняла, что так испугало ее в других.
В каком-то смысле Бен и Нельсон, Алли и Ник, и все остальные покинули зал, оставив вместо себя лампы из человеческой кожи. Мысль заменилась светом, личность – гармонией; но хотя бы Рене по-прежнему была здесь… и Дон Льюистон тоже – он пел старательно, но совершенно не светился. Позже Харпер узнала, что Дон только изредка мог сиять со всеми. И когда светился, светился ярко, но чаще его вовсе не трогала их песня. Дон говорил, что это из-за отсутствия слуха, но Харпер не верила. Его густой, рокочущий бас точно выводил мелодию, и Дон пел старательно, но без интереса.
Харпер слабо улыбнулась Рене, но чувствовала себя не в своей тарелке. Пришлось закрыть глаза, чтобы справиться с ударом последней громовой строки – драконья чешуя неприятно зудела, и в голове стучала одна мысль: «Хватит, хватит», – и когда все прекратилось и зал взорвался топотом, свистками и аплодисментами, Харпер с трудом удержалась от слез.
Бен с отсутствующим видом погладил ее бедро. Он явно не замечал, что делает. Линии света на его коже гасли, но глаза еще хранили медный блеск. Он смотрел на Харпер с любовью, но как будто не узнавая.
– М-м-н-ничего? – спросил он. Голос немного дрожал, как будто Бен только что проснулся после крепкого сна. – Не получилось? Я не следил. Как-то отключился на минутку.
– Не получилось, – ответила Харпер. – Наверное, из-за лодыжки. Ноет все утро, а это отвлекает. Может, на следующей песне я сяду, чтобы нога отдохнула.
И Харпер действительно села. Села и закрыла глаза, чтобы не видеть яркого свечения, так напоминавшего надвигающиеся фары.
Она сидела и ждала, что ее вот-вот переедут.
Ноябрь
В День благодарения Харпер очнулась от сна про Джейкоба и «Плуг разрушения». Она чувствовала запах дыма, но не могла понять, что же горит, пока не сообразила, что это она сама.
Пламени на ней не было, но полоска на шее прожгла воротник футболки с изображением группы «Колдплэй» – ткань почернела и дымилась. Под футболкой все щипало, как будто спрей от насекомых попал на рану.
Харпер с криком отбросила простыню и содрала с себя футболку. По коже чернильной линией тянулась полоса с ядовито-красными крапинками. Жжение усилилось, не давая соображать.
Со всех сторон послышался шум – это женщины заворочались в постелях, напомнив Харпер о всполошившейся голубятне, полной тревожного воркования. Потом появилась Алли – обхватила талию Харпер ногами и прижалась к ее спине. Она запела тихим, еле слышным шепотом, приблизив губы к уху Харпер. Тут же рядом оказалась Рене, она нашла в темноте руку Харпер, переплетя свои пальцы с ее пальцами.
Рене сказала:
– Вы не загоритесь. Здесь никто не горит, такое вот правило. Вы хотите нарушить правила и получить взбучку от Кэрол Стори? Дышите, сестра Уиллоуз. Дышите глубоко. Давайте вместе: в-вдох, выдох, в-вдох…
Алли пела старую песню «Оазиса». Она пела, что Харпер – ее чудная неприступная стена; пела сладким, бесстрашным голосом. И даже пела голосом Пожарного, с фальшивым гнусавым английским акцентом – который обычно называют «липовым кокни».
Харпер не плакала, пока драконья чешуя не поблекла и не погасла, пока боль не начала проходить. Остался только зуд, как при солнечном ожоге, от спор на коже.
Алли умолкла, но продолжала обнимать Харпер, уютно уткнувшись ей в плечо узеньким подбородком. Рене водила большим пальцем по костяшкам рук Харпер мягкими, материнскими движениями.
Ник Стори стоял в темноте шагах в четырех от койки Харпер и смотрел с тревогой. Ник был единственным мальчиком, который спал в девчачьей спальне и делил койку со старшей сестрой. Одной рукой он прижимал к груди слайд-свисток. Слышать свист он не мог, но знал, что так можно вызвать Пожарного. Но зачем? Чтобы Пожарный принес шланг – тушить угли, оставшиеся от Харпер?
– Умница, – сказала Рене. – Вы в безопасности. Все кончилось. Могло быть хуже.
– Могло быть и лучше, – влезла Алли. – Вы только что упустили прекрасную возможность спалить ужасную футболку с «Колдплэй». Если я когда и вспыхну, надеюсь, у меня в руках будет полный набор их компакт-дисков.
Харпер то ли засмеялась, то ли всхлипнула; она и сама не могла сказать. Видимо, всего понемножку.
Харпер, в поджаренной футболке, шла вместе со всеми навстречу кафетерию и завтраку. Она шла, не видя пути, позволив человеческому приливу нести себя.
Сон. Ее чуть не прикончил сон. Она и представить не могла, что ночные видения могут быть не менее опасными, чем бокал вина и Джейкоб с пистолетом.
Во сне она была громадно беременной, такой здоровенной, что было страшно и смешно. Она пыталась бежать, но едва переставляла ноги. Харпер прижимала к ноющей, набухшей груди «Плуг разрушения» с липкими от крови страницами. Вся бумага была в кровавых отпечатках пальцев. Харпер казалось, что она забила Джейкоба романом насмерть и теперь пытается спрятать улики.
Она спешила через дорогу, чтобы похоронить роман, как труп. Порыв ледяного ветра вырвал рукопись из пальцев и швырнул на шоссе.
Харпер опустилась на мерзлый асфальт, хватая листы и пытаясь собрать рукопись в темноте и в холоде. По логике сна, нельзя было потерять ни единой страницы. Харпер успела собрать почти треть, когда футах в трехстах от нее на дороге вспыхнули фары. У тротуара был припаркован двухтонный «Фрейтлайнер» с плугом размером с крыло самолета.
– Ах ты сучка! – крикнул Джейкоб, сидящий за рулем. – Ты знаешь, сколько сил я потратил на него? Где твое уважение к литературе?
Врубилась передача. «Фрейтлайнер» двинулся вперед. Джейкоб включил дальний свет, пригвоздив Харпер к дороге ослепительным голубым лучом. Он поддал газу, включил вторую передачу, отчего дизель взвизгнул, а фары словно пронзили Харпер насквозь, обжигая кожу, поджаривая ее…
Даже от воспоминаний об этом сне драконья чешуя налилась нездоровым жаром.
Харпер шагала с опущенной головой, погруженная в безнадежные, мрачные мысли. И вздрогнула, неожиданно ощутив холодный легкий поцелуй в щеку. Она подняла глаза и тут же получила новый поцелуй – в правое веко.
Валил снег. Пухлые белые хлопья, как перья, появлялись из темноты – такие мягкие и легкие, что висели в воздухе, почти не опускаясь. Харпер закрыла глаза. Открыла рот. Попробовала снежинку на вкус.
В кафетерии клубился пар, пахло жареным «спамом» и белой подливой. Харпер шла сквозь крики, смех и звон посуды.
Дети вырезали из подставок под горячее индеек и раскрасили их. В тот вечер все дети работали официантами и надели сделанные из картона шляпы пилигримов.
Рене направила Харпер к одному из длинных столов, и они сели вместе. Бен Патчетт присоседился к ним, стукнувшись бедром о бедро Харпер, когда усаживался на скамейку.
– Хотите сесть с нами, Бен? – спросила Рене, хотя он уже плюхнулся на свое место.
В последние три недели Бен так и лип к Харпер. Если она шла к двери, он оказывался тут как тут – открыть и придержать. Если Харпер начинала прихрамывать, он подскакивал, непрошеный, обхватывал рукой за талию и давал на себя опереться. Его жирные теплые руки напоминали сырое дрожжевое тесто. Он не приносил вреда и хотел только помочь, а она пыталась быть благодарной, но часто ловила себя на том, что даже смотреть на него не может.
– Харпер, с вами все хорошо? – Бен, прищурившись, смотрел на нее. – Вы покраснели. Выпейте чего-нибудь.
– Все хорошо. Я уже попила воды, и вы представить не можете, сколько раз за день я бегаю в туалет.
– А я говорю – пейте. – Он подвинул ей стаканчик клюквенного сока. – То, что доктор Бен прописал.
Харпер взяла стакан – главным образом ради того, чтобы Бен заткнулся. Она понимала, что он шутит пусть и неуклюже, чтобы развеселить ее, но это раздражало еще больше. Ему-то не составляло труда входить в Свет. Бен Патчетт всегда начинал светиться в часовне, едва Кэрол брала первые аккорды на органе. Он-то не проснется в огне. Ему не страшно засыпать.
Кошмары Харпер, в которых приходилось бежать по дороге, ничуть ее не удивляли. Она чувствовала себя словно в свете надвигающихся фар по меньшей мере раз в день, когда остальные собирались петь. Она шла в часовню на службу с растущим ужасом. Вот уже месяц, как она в лагере, а войти в Свет не удалось ни разу. В часовне она оставалась одна, как перегоревшая лампочка на рождественской елке. Каждый день во время церемонии она сжимала кулаки на коленях и стискивала зубы, словно пилот самолета, попавшего в турбулентность.
В последние дни даже Бен перестал уверять ее, что нужно лишь подождать немного – и она включится, присоединится, свяжется… словно речь шла об онлайн-соединении через какой-то духовный модем. В конце службы, когда прихожане тянулись к выходу, Харпер замечала, что с ней стараются не встречаться взглядом. А если кто и смотрел в глаза, то с кривой, жалостливой улыбочкой.
По залу прокатился шумок оживления, когда Кэрол помогла отцу Стори взобраться на стул. Он поднял руки, призывая к тишине, улыбаясь пастве и сверкая бифокальными линзами в золотой оправе.
– Я… – заговорил он с трудом, потом умолк и достал изо рта белый камушек. Аудитория отозвалась взрывом восхищенного смеха.
Раздался чей-то голос, кажется, Дона Льюистона:
– Эй, отец, и это весь ужин? Господи, ну и харчи в вашем заведении!
Норма Хилд сердито зыркнула в сторону весельчака, но потом и сама не удержалась:
– Отец, не перебивайте аппетит.
Отец Стори улыбнулся и сказал:
– Я подумал, в День благодарения нужно сказать что-нибудь перед тем, как мы наляжем на еду. Можете все взяться за руки, если хотите, или возьмите за руку того, кто рядом, или слушайте не меня, а ветер.
Раздались покашливания, застучали ножки стульев. Бен Патчетт обхватил кисть Харпер своей влажной пухлой ладонью. Рене бросила косой взгляд – «Гляньте-ка, у кое-кого есть парень! Повезло!» – и взяла Харпер за вторую руку.
– Все мы – хвалебный хор спасенных песней и светом, – начал отец Стори. – Мы благодарны за возможность соединиться в гармонии, спастись нашей любовью друг к другу. У нас множество причин для благодарности. Я благодарен за бисквиты и белую подливку. Она так приятно пахнет. Мы поем слова благодарности Норме Хилд, которая из кожи вон лезет, готовя восхитительный обед на День благодарения из ограниченных запасов. Мы поем слова благодарности девочкам, которые обливались потом на кухне, помогая ей. Мы благодарим Рене Гилмонтон, которая помогала детишкам вырезать шляпы пилигримов и превратила ребят в вышколенных официантов. Мы поем благодарность Джону Руквуду, которого здесь нет, но который чудесным образом доставил нам какао и зефир… зря я об этом сказал, ведь мы не хотели, чтобы дети перевозбудились.
Радостный вопль пронесся по залу, а за ним – снисходительный приглушенный смех взрослых. Отец Стори улыбнулся, потом закрыл глаза, наморщив лоб в задумчивости.
– Когда мы поем вместе, мы поем для всех, кого мы любим, но кого с нами нет. Мы поем, вспоминая каждую минуту, которую провели с ними. У меня была дочь – прекрасная, умная и веселая, боевая, непростая и удивительная дочь – и я невыносимо тоскую по ней. И я знаю, что многие так же тоскуют по тем, кого потеряли. Я пою о том, что пережил с моей Сарой. И когда мы возвышаем голоса в гармонии, я снова ощущаю ее присутствие. Я нахожу ее дух в Свете. И слышу: она поет для меня, как и я пою для нее.
Ветер свистел под карнизами. Кто-то придушенно вздохнул. Харпер словно кожей ощущала тишину – сладкое, болезненное биение.
Отец Стори распахнул влажные глаза и обвел собравшихся благодарным и любящим взглядом.
– А остальные все еще здесь, что очень приятно. Еще один вечер на земле, немного музыки и свежих бисквитов, добрая беседа. Это почти все, о чем я мечтал. Не знаю, о чем мечтали другие. А сейчас, думаю, все запоют от радости, когда я заткнусь и мы сможем поесть.
Поднялся восторженный крик, и раздались аплодисменты. Дон Льюистон поднялся на ноги. Начали подниматься, отодвигая скамейки и стулья, остальные; все хлопали старику, сказавшему, что чувствовать радость – нормально, даже сейчас. Отец Стори слез со стула, а зрители поднимались, свистя и хлопая в ладоши, и Харпер свистела и хлопала со всеми, радуясь за отца Стори. По крайней мере, сейчас у нее не щемило сердце от страха проснуться в дыму.
Началась трапеза: жирные кубики «спама» в густой подливке, на мучных масляных бисквитах. Харпер ела безо всякого аппетита, машинально, и удивилась, обнаружив, что соскребает с тарелки остатки подливки. Пусть она и не голодна, зато ребенок всегда не прочь чем-нибудь подкрепиться. Харпер чуть задержала взгляд на половинке бисквита в тарелке Рене, и пожилая женщина, улыбнувшись, пластиковой вилкой сдвинула бисквит в тарелку Харпер.
– Нет, – возразила Харпер. – Не надо, я не хочу.
– Я бы поверила, если бы не видела, как вы едите крошки со стола.
– Господи, – ахнула Харпер. – Я просто поросенок. Все равно что сидеть со сраной свиньей у корыта.
Бен, вздрогнув, обернулся. Харпер не слишком любила бранные слова, но рядом с Беном не могла удержаться. Бен шарахался ругательств, как кошка от воды, и заменял «чертов» на «чокнутый», «говно» на «дерьмо», «сраный» на «странный»; Харпер считала это неприятным ханжеством. А стоило самой Харпер ругнуться, Бен обязательно вздрагивал. Порой Харпер казалось, что он похож на пожилую леди больше, чем Норма Хилд.
Она хотела поквитаться с ним с того самого момента, когда он начал изображать папочку и заставлял ее пить клюквенный сок. Но, выругавшись, сразу почувствовала укол вины. Мерзко обижать человека, который относится к тебе вполне пристойно.
Бен положил вилку и поднялся. Харпер охватил ужас – неужели она так оскорбила его, что он готов сбежать? Но нет, он собрался сделать собственное объявление – залез на скамейку, сунул два пальца в рот и оглушительно свистнул.
– У меня нет камешка во рту, – сказал Бен, – но когда я договорю, некоторые наверняка пожалеют об этом.
Он улыбнулся, но слушатели не могли понять, нужно ли тут смеяться, и в комнате царила тишина, только кто-то тихо перешептывался.
– Снег, конечно, прелестен, но он сильно осложнит нашу жизнь. До сих пор мы могли свободно гулять по лагерю, и детям было вдоволь места для игр. К сожалению, все изменится. Сегодня дозорные уложат доски для прохода между зданиями. И от здания к зданию вы обязаны ходить по этим доскам. Если сюда забредет карантинный патруль и найдет на снегу следы, то поймет, что здесь прячутся люди. Дозорных я жду сегодня ночью в Мемориальном парке после службы. Потренируемся устанавливать и прятать доски. Они должны убираться за две минуты. Это реально, но нужно насобачиться, так что будьте готовы застрять там на какое-то время и оденьтесь соответственно.
Раздались стоны, хотя Харпер они показались не совсем искренними. Подростки, записавшиеся в дозорные, с удовольствием толкались на морозе, воображая себя морскими пехотинцами на секретной операции. Большинство были готовы выполнять постапокалиптические тайные задания еще с тех пор, как взяли в руки пульт игровой приставки.
– Отец Стори упомянул, что Норма Хилд чуть в лепешку не расшиблась, готовя сегодняшнюю трапезу. Ей пришлось непросто, учитывая, с чем приходилось работать. И тут должен сообщить неприятные известия. Норма, Кэрол и я вчера шесть часов провели в кухне, проверяя запасы. Врать не буду. Положение безвыходное, и пришлось принимать трудные решения. И со следующего понедельника каждый в возрасте от тринадцати до шестидесяти, кроме недужных и беременных, – Бен, поглядев на Харпер, подмигнул, – будет тянуть билет из шляпы, прямо перед обедом. Если на вашем билете окажется крест, мы просим вас пропустить этот прием пищи. В среднем, видимо, тридцать человек будут пропускать обед. И если вам случится проиграть голодные игры… – Бен помедлил и улыбнулся, ожидая услышать смех. Не дождавшись, торопливо продолжил: – То в следующий обед вы билет не тянете. Извините. Простая арифметика. В лагере хранилось достаточно бакалеи и консервов, чтобы две сотни детей могли питаться несколько месяцев. У нас с июля больше сотни людей, и каждую неделю появляются новые. Запасы скудны, и пополнения не ожидается еще долго.
Теперь фальшивых стонов слышно не было. Харпер различала нервный шепот и видела, как люди обмениваются тревожными взглядами. Алли, сидевшая от нее через два стола, повернулась к Майклу и, прикрыв рот ладонью, яростно зашептала что-то ему на ухо.
– Каждому, кто вытащит несчастливый билет, предложат кофе или чай – и в знак благодарности… в общем, Норма нашла немного сахара. Большую банку. И даже без муравьев. Так что если вытащите несчастливый билетик, то получаете чайную ложку сахара в свой напиток. Одну. Чайную. Немного, но хоть что-то. Только так мы можем выразить нашу благодарность. – Бен заговорил строже. – И еще по поводу сокращения запасов и пропуска приема пищи: кто-то ворует сгущенку. И несколько банок «спама» пропало, а лишнего у нас нет. Это надо прекратить. И я не шучу. Вы буквально вырываете еду изо рта у детей. И еще: вчера кто-то взял большую чайную чашку Эмили Уотерман. Буду очень признателен, если вы просто поставите чашку у ее кровати. И ничего не надо будет объяснять. Просто верните. Это очень большая чашка, размером с суповую, а на дне нарисованы звездочки. Это счастливая звездная чашка Эмили, она хранит ее с раннего детства, и чашка много значит для нее. Вот и все. Спасибо.
Он подождал, не похлопают ли ему, но никто не стал, и Харпер взяла Бена за горячую влажную руку, пока он спускался со скамьи. Больше он не раздражал ее. В комнате снова начались разговоры, но тихие и встревоженные.
Бен сел и начал гонять пластиковой вилкой подливу на тарелке. Рене, подавшись вперед, выглянула из-за плеча Харпер и спросила:
– Вы в порядке, Бен?
– Плохо быть парнем, который отобрал мобильные, – сказал Бен. – А теперь я еще и парень, который отбирает обед. Ох, мерзость.
Он поднялся со скамейки, отнес тарелку к раздаче и опустил ее в бак с серой мыльной водой.
– Я не против пропустить обед. – Рене наблюдала за Беном, который поднял воротник и вышел из кафетерия, не оглянувшись. – Еда все равно ужасная, а я скинула бы десяток фунтов. Конечно, он напрасно беспокоится. Люди не злились на него, когда он отбирал телефоны. Они радовались! Радовались, что кто-то занимается нашей безопасностью. И никто не винит его. Даже за то, что он сделал с Гарольдом Кроссом. Единственный, кто обвиняет Бена Патчетта в том, что случилось с Гарольдом, это Бен Патчетт.
– Гарольд Кросс, – повторила Харпер. – Я уже слышала это имя. Кто такой Гарольд Кросс и что с ним сделал Бен?
Рене заморгала, с удивлением глядя на Харпер.
– Застрелил. А вы не знали? Прострелил ему горло.
На десерт подали маленькие порции кокосового торта с заварным кремом на коржах из пшеничной муки – ничего лучше Харпер не пробовала с самого появления в лагере. Она зажмуривалась после каждой ложечки, чтобы сосредоточиться на сливочном вкусе. Хотелось расплакаться или хотя бы написать Норме Хилд открытку с искренней благодарностью.
Рене отлучилась ненадолго, чтобы помочь в приготовлении какао для детей, а вернулась с двумя кружками черного кофе и с Доном Льюистоном и Алли Стори в фарватере. Ник Стори тоже уцепился за старшую сестру. Он нес перед собой кружку горячего шоколада – торжественно, как кольца на свадебной церемонии.
– Вы в порядке? – спросила Рене. – У вас такое лицо…
– Это мое оргазмическое лицо, – ответила Харпер, нацелившаяся на последний кусочек пирога.
– Неудивительно, ведь долька пирога по форме – копия киски, – сказала Алли.
– Девочки, вы хотите поговорить без свидетелей? – спросил Дон. – Я могу потом снова подойти. А то беседа развивается в таком направлении, что может стать небезопасной для ушей девственника вроде меня.
– Садитесь, – сказала Рене, – и расскажите, что случилось с Гарольдом Кроссом. Думаю, Харпер должна это знать, а вы двое можете рассказать лучше меня. Дон, вы с ним работали. Алли, ты знала его лучше всех. И вы оба были свидетелями его смерти.
– Не скажу, что знала его так уж хорошо. Дошло до того, что я уже в одной комнате не могла с ним находиться, – сказала Алли.
– Но ты же пыталась, – сказала Рене. – Пробовала. Тут мало кто может такое же сказать.
Ник примостился на скамейке слева от Алли. Он крутил головой, глядя то на Алли, то на Рене, потом начал водить руками в воздухе, что-то спрашивая у сестры. Алли нахмурила лоб и задвигала пальцами в ответ.
– Мама гораздо лучше понимала язык жестов, – пояснила Алли. – Я твердо знаю только пальцевую азбуку. Ник спрашивает, о чем мы говорим. Вот единственный плюс его глухоты. Можно не беспокоиться, что он услышит что-то ужасное и расстроится.
– А по губам он совсем не читает? – спросила Харпер.
– Такое бывает только в кино.
Дон отхлебнул кофе и поморщился.
– Вот что я скажу: ничто так быстро не излечивает от хорошего настроения, как глоток этого кофе. Ну разве что рассказ про Гарольда Кросса. – Дон поставил кружку на стол. – Гарольд почти все время проводил в одиночестве. Как жирдяй, которого никто не любит. Типа умный больно. Умнее всех и всегда готовый это показать. Если ты роешь яму для туалета, он объяснит, как лучше и правильней это делать… но лопату в руки не возьмет. Скажет – спина болит или еще чего. Небось знаете таких.
– Ходил в полосатой футболке и черных джинсовых шортах – никогда не видела его ни в чем другом. Как-то на футболку козявка налипла – так он дня три с ней проходил. Ей-богу, – сказала Алли.
– Я помню эту козявку! – сказал Дон. – Он так долго ее носил, мог бы уже имя ей придумать!
Ник, все еще смотревший на них, задал Алли новый вопрос – несколькими медленными, старательными жестами. На этот раз Алли ответила быстрее и поскребла нос костяшками пальцев, изображая ковыряние в ноздре. Ник улыбнулся. Он выудил из кармана джинсов карандаш и написал что-то на подставке в виде индейки. Подставку он двинул через стол к Харпер.
«Он еще дымился иногда. Не сильно, как сырой мох в костре. Просто струйка гадкого дыма из-под шортов. Алли говорила, это из его дымохода».
Взглянув на Ника, Харпер обнаружила, что тот прикрыл ладонью рот и тихонько присвистывает. Говорить он не умел, но хихикать, похоже, могут даже немые.
Рене сказала:
– Он был студентом-медиком – когда я попала в лагерь, он отвечал за лазарет. Лет примерно двадцати четырех, может, двадцати пяти. Ходил повсюду с маленьким журналистским блокнотом и иногда, сидя на камне, что-то писал. Думаю, некоторых это беспокоило – как будто он про тебя пишет.
Алли добавила:
– Несколько раз девчонки пытались отнять у него блокнот – посмотреть, что он там пишет. Тогда у него начинала светиться драконья чешуя и он бушевал. Буквально дым пускал, представляете?
– Из дымохода, – сказал Дон Льюистон, и теперь засмеялись все, кроме Ника, который потерял нить разговора и мог только вопросительно улыбаться.
– Когда он впервые входил в Свет, получилось очень быстро, – продолжала Алли. – Кто-то входит сразу, кто-то нет. А у Гарольда получилось слишком быстро. Он так сильно и быстро вошел в Свет, что перепугался. Закричал, упал на пол и начал кататься, как будто горит. Потом рассказывал, что ему не понравилось, когда все люди оказались у него в голове. А происходит все именно так. И это не телепатия. Никто не забирается к вам в голову. Это просто хорошее чувство, исходящее от людей вокруг тебя. Как будто тебя поддерживают. Как будто обнимают. И потом Гарольд уже не светился. Он держался на расстоянии от всех нас. Не участвовал – только наблюдал.
– Угу. Точно, – согласился Дон. – А однажды, где-то на третьей неделе пребывания в лагере, он встал после службы и сказал, что хочет обратиться к собранию. Все просто ошалели. Как правило, если кто и толкал речи в часовне, так это отец Стори или Кэрол. Это как смотришь телешоу, и вдруг кто-то из массовки выступает без сценария.
– Отец Стори, – добавила Рене, – благослови его Господь, только положил мыслительный камешек в рот и сел послушать, как студент на лекции по любимому предмету.
Алли провела ладонью по бритой голове.
– Гарольд объявил, что считает своим моральным долгом поведать миру о нашем «открытии». Сказал, что нам не следует прятаться. Что нас нужно показывать по кабельному телевидению, что мы должны поделиться с другими тем, что умеем. Он сказал, что процесс подавления симптомов драконьей чешуи представляет научный интерес и многие хотят знать о нас больше. Тетя Кэрол спросила: «Гарольд, милый, что значит – многие хотят знать?» Гарольд ответил, что писал эсэмэски доктору в Беркли, который счел, что наша община станет настоящим прорывом. Еще один доктор из Аргентины хотел, чтобы Гарольд взял образцы крови у людей, ходивших в Свет. Гарольд говорил так, будто это все ерунда. Он будто не понимал, что натворил.
– Ох, Харпер, – сказала Рене, – это была жуткая ночь.
– Мистер Патчетт подскочил и спросил у Гарольда, скольким людям он слал эсэмэски и отправлял ли их с территории лагеря. Мистер Патчетт сказал, что отследить смартфон проще простого, а Гарольд нарисовал жирный крест на карте для местного карантинного патруля. Люди закричали, начали хватать детей. Мы запаниковали, как авиапассажиры, услышавшие от пилота, что в салоне террорист. – Взгляд Алли помутнел. Она словно не видела Харпер, а глядела в летнюю ночь, полную тревоги и суматохи. – Мистер Патчетт заставил Гарольда отдать смартфон. Три минуты прокручивал сообщения. Выяснилось, что Гарольд связался с тремя десятками людей по всей стране. Даже по всему миру! И отправлял им фото, по которым еще легче было найти, где мы прячемся.
– Гарольд хотел, чтобы лагерь проголосовал, – вмешался Дон Льюистон. – Ну да, он получил что хотел. Бен выставил на голосование вопрос о конфискации всех мобильников в лагере; Алли и Майкл собрали их в большой мусорный мешок.
– Мне не понравилось, как обошлись с Гарольдом потом, – сказала Рене. – Если мы и сделали что-то неправильно, то именно тогда.
Алли кивнула.
– Когда телефоны собрали, на Гарольда стали смотреть, как на ядовитого жука, которого хочется накрыть банкой, чтобы никого не укусил. Дети стали называть его не Гарольд, а Гадольд. Никто не садился рядом с ним в кафетерии, только дедушка – он умеет ладить со всеми. Потом однажды одна из девочек попала тарелкой для фрисби прямо в лицо Гарольду и разбила его очки. Она уверяла: получилось случайно, она думала, что он поймает, но это была полная хрень, я так ей и сказала, что это хрень. Мне казалось, кто-то должен его поддержать. Казалось, что мы поступили нехорошо, объявив ему бойкот. И я помогла ему починить очки, стала садиться за один столик с ним и дедушкой за обедом. Я записалась на дежурства с ним, чтобы ему не приходилось работать одному. Мне казалось, нужно достучаться до настоящего Гарольда внутри. Только внутри он оказался таким же ужасным, как и снаружи. Как-то мы на кухне мыли тарелки для миссис Хилд, и он вдруг сунул руку мне в шорты. Когда я спросила, какого хрена он делает, он ответил, что мне не стоит особо выбирать, с кем трахаться, раз уж человечество все равно сливается в унитаз. Я так ему двинула, что очки слетели с носа и снова разбились. Вот вам и Гарольд.
Ник оглядывал всех по очереди широко раскрытыми любопытными глазами. Какао он почти допил; под носом остались шоколадные усы, и весь он словно сошел с полотна Нормана Роквелла. Ник показал Алли то, что он написал на подставке. Она попросила у него карандаш и написала ответ. Ник кивнул, потом согнулся, написал еще что-то и подвинул подставку Харпер.
«А я говорил Алли, что ему нельзя доверять. У него дым прямо как из трубы валил, когда он рядом с ней крутился. Глухие лучше других чуют запахи, так я чуял в нем зло».
Харпер повернула подставку так, чтобы Рене могла прочесть. Рене посмотрела на запись, посмотрела на Харпер, и обе женщины залились смехом. Харпер тряслась, удивляясь собственному веселью; ей казалось, что она вот-вот расплачется. Ник удивленно смотрел на них.
Пришлось сделать глоток из чашки, чтобы успокоиться, но веселье снова забурлило внутри, Харпер закашлялась, и кофе чуть не полился у нее из ноздрей. Рене хлопала ее по спине, пока приступ кашля не прошел.
Дон прочитал то, что написал Ник, и уголок его рта приподнялся в усмешке.
– Да, забавно. Я не чуял в нем зла. Но однажды почуял кое-что другое… и это оказалось словно первой костяшкой домино в цепи, которая привела к его смерти. Гарольд работал под моим началом – копал дождевых червей для наживки. Было чудно, что он взялся за физический труд. Вроде как королева вызвалась туалеты драить. Просто больше никто не хотел его брать, так я взял себе. Он сказал, что знает болотистое местечко к югу от лагеря, где червей полно. И не соврал. Много дней он приносил больше наживки, чем любой другой из парней, которых я посылал. А иногда появлялся с парой червей в ведерке и только пожимал плечами – не повезло. Я подумал, что в эти дни он просто где-нибудь отсыпается, так что не слишком беспокоился. Да только однажды, в середине августа, он явился совсем пустой, а когда ставил ведерко, рыгнул – и черт меня подери, если я не унюхал запах пиццы в его гребаной отрыжке. Меня как по голове стукнуло. Вы небось заметили, что пиццы в меню лагеря Уиндем нет. Я плохо спал, а наутро решил, что нужно сказать Бену Патчетту. Бен воспринял не лучше моего. Он прямо оцепенел, побледнел и долго сидел, теребя губу, а потом наконец сказал, что я все правильно сделал. Потом Бен спросил, не могу ли я взять Майкла на недельку в свою бригаду по добыче наживки. Я понял, что Майклу придется копать вовсе не червяков, но нужно же было выяснить, что затеял Кросс, и я согласился. И вот Майкл начал следить за ним издалека. Первые несколько дней худшее, что он заметил – это как Гарольд садится под кустик и использует листы из библиотечной книги вместо туалетной бумаги.
Рене поежилась.
– Как выяснилось, это было «Сердце – одинокий охотник». Единственный экземпляр в нашей библиотеке. Если б я знала, зачем ему книга, дала бы экземпляр «Атлант расправил плечи».
– И вот на четвертый день наш Майк проследил путь Гарольда до заброшенного летнего коттеджа в полумиле отсюда – а там и генератор, и Интернет. И сидит там наш мальчик за ноутбуком – одной рукой рассылает письма по электронной почте, а другой сует в рот пиццу пепперони. Гарольд не только вернулся к прежним фокусам, сливая наши секреты все тем же людям, но еще и забил под завязку морозильник жратвой для себя.
Дон взглянул на Алли, передавая ей слово. Она кивнула и продолжила:
– Я видела, как вернулся Майк. Все произошло в доме Черной звезды, где живут моя тетя и дедушка. Все случилось вскоре после смерти моей мамы. – Алли говорила спокойно, не скрывая свою боль, но и не выпячивая ее. – У тети Кэрол остались мамины вещи, и она попросила посмотреть их и выбрать, что нужно оставить для Ника и меня. Ничего и не нашлось, кроме этого. – Алли ткнула пальцем в золотой медальон в виде книги на шее. – Когда Майк пришел и рассказал, что видел, мы все бросили, и дедушка послал меня за мистером Патчеттом. Когда я вернулась с Беном, тетя Кэрол сидела в кресле, опустив лицо в ладони, и от нее поднимались струйки серого дыма. Вот как она расстроилась.
Она сказала, что нужно выгнать Гарольда из лагеря. Но мистер Патчетт заявил, что это худший из возможных вариантов. Если выгоним Гарольда, карантинный патруль подберет его и выбьет все, что он знает про нас. Мистер Патчетт хотел запереть Гарольда где-нибудь, но дедушка сказал, что достаточно взять у Гарольда обещание, что он, оставаясь в лагере, не будет связываться с посторонними. Кэрол и мистер Патчетт посмотрели друг на друга так, будто хотели спросить: «Ну и кто ему сообщит, что ничего более маразматичного он в жизни не говорил?» Но с дедушкой всегда так… его, типа, трудно убедить, что не все люди хотят поступать правильно. При дедушке даже высказаться о ком-нибудь враждебно, недоверчиво или со злостью невозможно. Он этого не одобрит. И мистер Патчетт сдался. Они с дедушкой договорились, что Гарольда будут держать под особым наблюдением – и все.
Алли уперлась локтями в стол и положила подбородок на ладони. Она ни на кого не глядела, опустив глаза, словно смотрела куда-то внутрь себя. Харпер поняла, что они приближаются к концу истории Гарольда Кросса… а значит, и к концу его жизни.
Алли продолжила:
– После того как мистер Патчетт разъяснил Гарольду, чем тот рисковал, Гарольд слег с болью в животе и попал в лазарет. Мистер Патчетт устроил так, чтобы в лазарете всегда – днем и ночью – находился дозорный и Гарольд не мог убежать. Если дозорный не сидел в палате, то дежурил в приемной. Все случилось в мою смену, днем, когда весь лагерь спал. Перед самым закатом – моя смена уже кончалась – мне приспичило пописать, а в туалет можно пройти только через палату. Я шла осторожно, на цыпочках, чтобы не разбудить Гарольда. Он лежал на койке в отгороженном уголке. Его было чуть видно под простыней, в щель между занавесками. Я уже почти добралась до туалета, но тут задела бедром «утку», а она как покатится по полу с грохотом. Гарольд даже не шевельнулся. Тут меня пробил озноб, и я отодвинула занавеску, чтобы взглянуть на него. Под простыней были только подушки. – Она подняла глаза и встретилась взглядом с Харпер, которая заметила, какой у Алли страдающий и пристыженный вид. – Понимаете… я проспала почти весь вечер, хотя должна была дежурить в приемной. Я говорила себе, что в этом ничего страшного нет. Думала, если Гарольд попытается проскользнуть мимо меня, я услышу. Думала, что сплю слишком чутко, чтобы он проскочил. Очень чутко. Я словно ненадолго впала в кому. Может быть, это Норма Хилд подсыпала снотворного мне в чай, надеясь, что я хоть так отвечу ей взаимностью. – Алли попыталась улыбнуться, но ее подбородок дрожал.
Дон протянул морщинистую руку и неуклюже, но ласково погладил Алли по спине.
– Ты же понимаешь, что если бы не спала, когда он решил сбежать, он мог бы хорошенько врезать тебе? Он удрал бы, так или иначе.
– Гарольд не проскочил бы мимо Ника, – сказала Алли, вытирая глаза тыльной стороной ладони.
– А кто говорит, что он стал бы себя утруждать? Позвал бы тебя в палату и огрел гаечным ключом. Нет, мэм. Он все равно избавился бы от нашей компании, не мытьем, так катаньем. В голове не укладывается – держать пленника и не запирать его. Ради твоего дедушки я бы с акулами дрался, но он был не прав насчет Гарольда, а Бен Патчетт – прав.
Ник заметил, что Алли трет глаза. Он написал что-то на подставке. Алли прочитала и замотала головой.
– Нет, я не возьму твой последний зефир.
Ник написал что-то еще, потом ложкой вытащил из своей кружки часть растаявшего зефира. Алли со вздохом открыла рот и позволила Нику покормить ее.
– Он говорит, что это лекарство от страданий, – объяснила Алли невнятно, дожевывая резиновый зефир. Блестящая слеза скатилась по щеке. – Вообще-то мне и правда лучше.
Дон Льюистон уперся локтями в стол.
– Я дорасскажу – немного уже осталось. Алли позвала Майка, Майк побежал за Беном Патчеттом. Наши с Беном койки рядом, так что от их шепота я проснулся. Когда я понял, что они идут искать Гарольда, то вызвался пойти с ними. Наверное, считал, что должен. Гарольд ведь был в моей команде. Из-за того, что я не следил за ним как следует, он и смог связаться с внешним миром. Не помню, кто именно притащил винтовку со стрельбища, но, видимо, все решили, что Гарольд по своей воле не вернется. Но помню, что вот ей, – он погладил Алли по плечу, – велели оставаться здесь. Нетрудно догадаться, что это было как об стенку горох. За двадцать минут мы пробежали мили три – напрямки к убежищу Гарольда, и Алли все время неслась впереди. И мы еле успели. На месте мы поняли, что все пошло по худшему сценарию. Может, некоторые из тех, с кем Гарольд переписывался, и были теми, за кого себя выдавали. Может, даже большинство. Но не все. Когда мы добежали до хижины, там уже был припаркованный фургончик и люди с пушками. Но это оказался не государственный карантинный патруль. Крематоры. Мы все видели из-за каменной стены. У них были «бушмейстеры», и они колотили Гарольда прикладами. Пинали. Развлекались. Гарольд лежал в грязи, вцепившись в свой ноутбук, и умолял не убивать его. Он говорил, что не опасен, что может управлять инфекцией. Говорил, что отведет их в тайное место, где многие люди умеют управлять драконьей чешуей. И тогда Бен спросил Майка, заряжена ли винтовка.
– Я решила, что мы попытаемся отбить Гарольда, – сказала Алли. – Как в кино. Нас четверо, а тех – двенадцать. Тупо, да? – Она говорила хриплым напряженным голосом; Харпер поняла, что Алли пытается сдержать слезы.
– У Майка так руки тряслись, что он просыпал патроны на землю, но Бен – его вдруг стало не узнать. Он был копом в прошлой жизни, вы в курсе? У него по лицу видно. Он был спокоен и при этом тверд. Сказал: «Давай-ка лучше я, сынок», – и взял винтовку из рук Майка. Первую пулю всадил Гарольду в горло. А вторую – в ноутбук. Кремационная бригада рухнула в грязь – небось так и лежат там до сих пор. А мы дернули прочь не оглядываясь. – Дон вертел опустевшую кружку в ладонях. – Бен Патчетт в лесу был холоден как лед, но когда мы вернулись, выплакал все глаза. Сидел в церкви на скамье, а отец Стори обнимал его, как ребенка. Утешал и повторял, что если кто и виноват во всем этом, так это он сам, а вовсе не Бен.
Ник, нахмурившись, снова написал что-то на подставке. Алли прочитала и подвинула подставку Рене и Харпер, чтобы они могли прочесть.
«Мистеру Патчетту не надо было брать винтовку. Надо было брать Джона. Он бы спас Гарольда».
– Может, и так, – сказал Дон, прочитавший надпись вверх ногами. – Впрочем, у нас не было времени идти за ним, мы чертовски торопились. И, как выяснилось, не зря. Еще пара минуток – и Гарольд выдал бы им все. И тогда вместо одного убитого пацана у нас был бы полный лагерь мертвых детей – да и взрослых. – Дон со звоном поставил кружку на стол. Люди поднимались из-за столов, зал наполнился громкими веселыми разговорами. Пора было идти в церковь. Харпер ощутила, как в животе привычно сворачивается тугой клубок страха. Еще одна песня, еще одна гармония, к которой она не сможет присоединиться, еще один ошеломительный шквал звука и света.
– Вот, пожалуй, и все, – сказала Рене. – Вся печальная баллада о Гарольде Кроссе.
Харпер не хотелось уходить, и она сказала – в первую очередь для того, чтобы потянуть время:
– Может, и не все. Мне вот интересно: что было в его блокноте? Кто-нибудь выяснял?
– Мне и самому интересно, – сказал Дон, поднимаясь со скамейки. – Так и не узнали. Может, блокнот был у него, когда его убили. Если так, то он не отметил в нем местоположение лагеря, иначе нас уже спалили бы дотла. – Дон щелкнул языком и покачал головой: – Не думаю, что когда-нибудь мы узнаем больше. Некоторые загадки остаются неразрешимыми.
Декабрь
Сестры Нейборс – Гейл и Джиллиан – устроили драку.
У них на двоих был единственный пузырек красного лака для ногтей; он пропал, и сестры обвиняли одна другую в потере или утаивании сокровища. Близнецы друг дружку не жалели. Джиллиан уже получила «крученую сиську», а когда Харпер удалось их разнять, Гейл прижимала грязный носок к кровоточащему носу – Джиллиан умудрилась засунуть большой палец ей в ноздрю на целый дюйм.
Харпер обошла спальню, поспрашивала. Было приятно заняться чужими проблемами. Лучше, чем в тревоге ждать отбоя, когда она будет ворочаться в постели, мечтая уснуть и страшась представить, что может случиться во сне.
Она решила, что Алли вполне может знать, кто рискнул бы разжиться чужим лаком для ногтей (оттенок «огненная вспышка», хотя сестры Нейборс, похоже, не считали это забавным). Алли с еще одной девочкой играли в карты на штабеле чемоданов. Харпер подошла и встала за спиной этой девочки – Джейми Клоуз, – ожидая, что ее заметят.
