Зимнее серебро
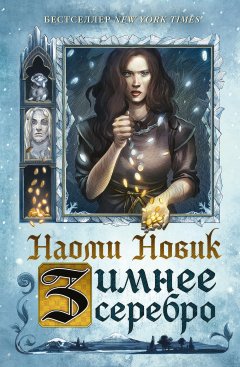
Глава 1
Сказки — это сказки, а по-настоящему все не так уж распрекрасно. По-настоящему какая-нибудь мельникова дочка-златовласка желает заполучить себе в мужья герцога, или князя, или хоть сыночка богатого папаши. Она идет к заимодавцу, берет у него денег на колечко с ожерельем и прихорашивается к празднику. Если она и впрямь красотка, герцог, или князь, или богатейский сынок охотно с ней потанцует, а потом они вдвоем прогуляются в дальний закуток сеновала. Ну и дальше герцог, князь или кто он там едет домой, а дома семейка уже поджидает его с богатой невестой. На ней-то он и женится. А разобиженная Мельникова златовласка объявляет на весь свет, что заимодавец, мол, стакнулся с самим дьяволом. И тут уж вся деревня готова на заимодавца накинуться, а то и камнями побить. Девице же только и остается, что приберечь драгоценности для приданого да поскорее выскочить замуж за кузнеца, пока живот не слишком видно.
Сказки — они на самом-то деле о том, что долг платежом красен. А все эти истории про «жили они долго и счастливо» — это так, ерунда. Я-то знаю, как оно бывает. Потому что мой отец был заимодавцем.
По правде сказать, в этом деле мастер он был невеликий. Если кто не возвращал нам деньги вовремя, отец об этом даже не заикался. Но рано или поздно в кладовой становилось вовсе шаром покати и башмаки начинали просить каши. И тогда мама, дождавшись, когда я уйду спать, что-то тихонько говорила отцу. Он нехотя плелся к заемщикам, стучался в разные двери и чуть ли не умолял вернуть то, что они у нас взяли. А если в доме вдруг заводились деньги и кто-то являлся, чтобы одолжиться, отец ненавидел отказывать. Хотя нам самим-то едва хватало. Так что все его деньги — впрочем, по большей части это были мамины деньги, из ее приданого — уплывали в чьи-то чужие руки. И все вокруг были довольны — а лучше постыдились бы! — и трезвонили всякое о моем отце направо и налево, даже меня не стесняясь. Или нарочно, чтобы я слышала.
Отец моей матери тоже был заимодавцем, только очень хорошим. Жил он в Вышне, милях в сорока по старому торговому тракту. Тракт этот, весь в колдобинах, тянулся от одной деревни к другой словно веревка с грязными узелками. Мама часто брала меня с собой к деду, если у нас находилось несколько пенни заплатить за провоз бродячему торговцу. Мы устраивались на задке его повозки или саней и ехали — раз пять или шесть приходилось пересаживаться. Иногда по пути меж деревьев мелькала другая дорога — та, что принадлежала Зимоярам. Она блестела, как заснеженный речной косогор под зимним солнцем. «Не смотри, Мирьем», — всегда говорила мне мама, но я все равно краешком глаза подглядывала и пыталась запомнить. Потому что, кто бы ни вез нас с мамой, он всегда в этом месте стегал лошадей и погонял их, пока Зимоярова дорога не скрывалась из виду.
Однажды мы услышали позади стук копыт, точно лед трескался, — кто-то съехал с Зимояровой дороги. Наш торговец хлестнул лошадей, и те припустили что было мочи к ближайшему укрытию. Повозка встала за деревом, а мы съежились внутри среди тюков, и мама обхватила мне голову рукой, чтобы я не подглядывала. Всадники проскакали мимо не останавливаясь — что им повозка бедного жестянщика с котелками да кастрюлями? Зимояры охотятся только за золотом. Нестройный перестук копыт стих вдали, а нас как ножом полоснуло резким порывом ветра. Когда я выпрямилась, оказалось, что моя тощая косичка вся заледенела, и прикрывавший меня мамин рукав, и наши спины тоже. Но мороз мигом спал, и жестянщик говорит маме: «Ну, отдохнули — и будет, пора в путь». Он вроде бы и не помнил, почему мы остановились.
Мама ему в ответ: «Верно», — и кивает, и тоже будто бы позабыла, зачем мы ждали среди деревьев. Жестянщик забрался на козлы, цокнул лошадям, и мы поехали дальше. Я в ту пору была уже не такая маленькая, поэтому кое-что запомнила. Но, правда, и не слишком большая, и потому мне было не до Зимояров: куда больше меня заботили кусачий холод и ноющий голод. Мне не терпелось добраться до города и очутиться в дедушкином доме, и я помалкивала. А то ляпнешь что-нибудь невпопад — и снова придется останавливаться.
Бабушка всегда припасала для меня новое платье: совсем простого кроя и уныло-бурого цвета. Зато теплое и сшитое на совесть. И каждую зиму меня ждала новенькая пара кожаных башмаков — без заплаток и трещин по краям, и они мне не жали. Бабушка кормила меня до отвала трижды в день, и в наш последний вечер она неизменно пекла творожный пирог — ее особенный творожный пирог, весь такой золотистый снаружи, а внутри белый, и рассыпчатый, и сытный. На вкус он немножко отдавал яблоками, а сверху бабушка клала для красоты сладкие золотые изюмины. Я не спеша смаковала каждую крошечку — а мне всегда доставался кусок шире моей ладони. И после творожного пирога меня укладывали спать наверху, в просторной уютной спальне, где мама с сестрами спали в детстве. Я ложилась на мамину узкую кровать — деревянную, изукрашенную резными голубками. А мама садилась со своей мамой возле камина и клала голову ей на плечо. Они не разговаривали, но когда я чуточку повзрослела и перестала засыпать в первую же минуту, я смотрела на них и видела, что на щеках у обеих в отсветах камина блестят слезы.
Мы ведь всякий раз могли остаться. В дедушкином доме нам хватило бы места, и тут нам были бы рады. Но мы всегда уезжали назад, домой, потому что любили отца. С деньгами он обращаться не умел, зато был бесконечно добр и ласков и старался, как мог, загладить свои неудачи: он день-деньской торчал в холодном лесу, пытаясь раздобыть еды и дров. А дома он брался за что угодно, лишь бы помочь маме. Никакой женской работы не гнушался. Когда мы ходили голодные, отец голодал пуще всех нас; он все время подсовывал свою еду к нам на тарелки. И вечерами у очага он никогда не сидел без дела — все время что-то выстругивал и вырезал: то новую игрушку для меня, то узор какой-нибудь на стуле, то деревянную ложку.
Но очень уж долгими и безотрадными были зимы. Сколько я себя помнила, каждый новый год был хуже прошлого. У нашего городка стен не было, да и названия-то по большому счету тоже. Одни говорили, что наш город зовется Пакел, потому что он возле дороги. Но другие на них шикали и цыкали: слово «дорога» им не нравилось, напоминало, что мы живем возле Зимояровой дороги. И они утверждали, что имя города — Павис, потому что стоит он на берегу реки. Однако нанести наш городишко на карту так никто и не удосужился, поэтому спор закончился ничем. А меж собой мы называли наш город просто «город». Он располагался в трети пути из Вышни в Минаск; в месте, где дорогу с востока на запад пересекала небольшая речка. Так что путников у нас привечали, да и рынок всегда был полон товара, что привозили крестьяне на лодках. Правда, больше похвастаться нам было нечем. Знать нами особо не интересовалась, да и царь в Корони тоже. Я долго не могла сообразить, кому же мы платим подати, пока случайно в дедушкином доме не услышала, что герцог Вышни гневается, поскольку доход с нашего городка падает год от года. Холода подкрадывались из леса все раньше и раньше, губили наш урожай.
В год, когда мне минуло шестнадцать, нагрянули Зимояры. Они пришли на исходе осени, в последнюю неделю, когда зима уже стояла на пороге. Их рыцари, бывало, рыскали тут в погоне за золотом. У нас частенько рассказывали: будто бы блеснет что-то, а потом рядом лежит покойник, и что там блестело, толком никто не помнит. За последние семь лет зимы сделались свирепее, а Зимояры — ненасытнее. Еще не все листья упали с деревьев, а Зимояры уже сошли со своей дороги и напустились на богатый монастырь, всего в каком-то десятке миль от нас. Перебили дюжину монахов, выкрали золотые подсвечники, и золотую чашу, и все иконы, писанные золотом. И все это золото утащили в свое неведомое королевство — туда, куда ведет их дорога.
Ушли они — и земля промерзла до самого основания, и с тех пор каждый день из леса, не утихая, дул пронизывающий ветер и кружил вихрями колкий снег. Наш маленький домик стоял на отшибе, на самой окраине городка. Никакие стены, кроме наших собственных, не защищали нас, и от холодного ветра мы делались еще тоньше и голоднее, дрожали еще сильнее. Отец придумывал отговорку за отговоркой, лишь бы избежать ненавистной ему работы. Но мама насела на него как следует, и он по-честному отправился за деньгами. Вернулся с жалкой пригоршней монет и произнес, будто оправдываясь:
— Очень уж скверная зима. Плохая зима для всех нас.
Небось те, кого он просил вернуть деньги, и не подумали оправдываться и извиняться. На следующий день я шла к пекарю с караваем и слышала болтовню женщин — тех самых, кто у нас одалживался. Они как ни в чем не бывало судачили, чего накупят на рынке да какой закатят пир на весь мир. Зимний солнцеворот был на носу. Им всем хотелось чего-то вкусненького на столе, чего-то особенного на праздник. На их праздник.
Моего отца они и на порог не пускали, он возвращался несолоно хлебавши. Зато их яркие окна отбрасывали отсветы на снег; изо всех щелей тянуло жареным мясом, а я брела к пекарю, несла ему потертый пенни в уплату за грубый пригоревший каравай, который вовсе не был моим караваем. Я замесила и принесла ему другой, но он отдал его кому-то еще, а мне достался тот, что похуже. Дома мама сварила пустую капустную похлебку, а остатки масла, на котором готовила, аккуратно собрала в лампу, чтобы на третий праздничный день у нас был свет. Мама трудилась, а сама все время кашляла. И снова налетел тот ледяной ветер из леса, пробрался в водосток и в каждую щелочку нашей обветшалой хибарки. Только мы зажгли лампу, как порыв ветра взял и задул ее. Тогда отец сказал:
— Ну что ж, возможно, это знак, что всем пора спать.
Зажигать лампу заново мы не стали — масло у нас было на исходе.
На восьмой день маму так измучил кашель, что у нее уже не было сил подняться с постели.
— Она скоро поправится, — уверял отец, избегая моего взгляда. — Скоро уйдет эта стужа. Уже и так холода затянулись.
Он выстругивал деревянные свечи — маленькие тонкие палочки. Мы их жгли вместо лампы, потому что прошлой ночью ушли последние капли масла. Никакого праздника огней в нашем доме не ожидалось.
Отец вышел на двор насобирать еще хоть немного дров, а то в ящике возле очага уже почти ничего не осталось.
— Мирьем! — хрипло окликнула меня мама, когда дверь за ним закрылась. Я протянула ей чашку слабенького чая с остатками меда, что соскребла со стенок горшка. Больше мне нечего было ей дать. Мама отпила чуть-чуть, опять откинулась на подушки и сказала: — Я хочу, чтобы ты отправилась в дом моего отца, когда пройдет зима. Пускай твой отец отведет тебя.
Когда мы в последний раз навещали дедушку, в один из вечеров собрались на ужин мамины сестры с мужьями и детьми. Все они носили платья из добротной шерсти, а в прихожей висели их подбитые мехом плащи, на руках у них были кольца и золотые браслеты. И они смеялись и пели, а в доме было так тепло — и это в разгар зимы! Мы ели свежий хлеб, и жареного цыпленка, и золотистый дымящийся супчик — такой наваристый и с солью, — и я вдыхала его запах. Когда мама заговорила, на меня словно повеяло тем теплом, и я отчаянно затосковала по нему, стискивая окоченевшие руки. Я, маленькая нищенка, отправлюсь в тот теплый дом, а отец останется тут один, и мамино золото навеки осядет в карманах наших соседей.
Я крепко сжала губы, поцеловала маму в лоб и велела ей отдыхать. Мама забылась тревожным сном, а я открыла сундук возле очага. В этом сундуке отец держал свою учетную книгу, где записывал, кто и сколько ему должен. Я вытащила книгу, достала стертое перо, намешала чернил из золы и приступила к списку. Дочь заимодавца — пусть даже неважного заимодавца — кое-что смыслит в цифрах. Я выписывала и подсчитывала, выписывала и подсчитывала проценты, и время, и все мелкие выплаты, которые вносились как попало. Мой отец каждую такую выплату аккуратно записывал. Он так прилежно и старательно вел дела со всеми нашими заемщиками, а вот они ради него не старались нисколечко. Покончив со списком, я вытащила из сумки свое вязание, закуталась в шаль и вышла из дома в холодное утро.
Я обошла все дома, где у нас одалживались, я стучалась в каждый. Мамин кашель поднял нас на ноги ни свет ни заря, поэтому час был ранний, совсем ранний. Еще даже светать не начало. И все наши заемщики еще сидели дома. Мужчины выходили на стук и изумленно таращились на меня, а я говорила холодным и непреклонным тоном:
— Я пришла взыскать ваш долг.
Они, конечно, пытались меня прогнать. Некоторые смеялись. Олег-возчик сжал огромные кулачищи, уперся ими в бока и уставился на меня, а его жена с беличьим личиком склонилась над очагом и беспокойно постреливала глазками в мою сторону. Кайюс брал у нас взаймы два золотых еще за год до моего рождения и с тех пор сколотил себе порядочное состояние на продаже крупника — свой крупник он варил в больших медных котлах, купленных на наши деньги. Так вот Кайюс при виде меня разулыбался.
— Заходи, погреешься, — пригласил он.
Но я не желала греться. Я вставала на каждом пороге, вынимала список и сообщала, что каждый из них взял много, а вернул мало, и с него причитаются проценты.
Они начинали взахлеб оправдываться и спорить, а некоторые даже кричали. На меня в жизни никто не кричал: ни мама с ее тихим голосом, ни мягкосердечный отец. Но внутри меня родилась какая-то горечь. Какая-то часть зимы словно угнездилась в моем сердце: то ли мамин кашель, то ли сказка, которую я много раз слышала на городской площади — о девушке, которую чужое золото сделало королевой. И ту девушку ничуть не заботило, что долг платежом красен. Я стояла на пороге у должников и не двигалась с места. Мои цифры не обманывали — я это знала, и заемщики это знали. Я ждала, пока они закончат кричать, и спрашивала:
— У вас есть деньги?
Этому вопросу они радовались. Думали, что подловили меня. Конечно, нет, отвечали они, откуда у нас столько денег?
— Тогда заплатите мне немного сейчас и будете выплачивать каждую неделю, покуда не погасите долг, — заявляла я. — И проценты вы тоже заплатите. Иначе я пошлю за своим дедом, а уж он найдет на вас управу по закону.
Наши соседи путешествовали мало. Они знали, что отец моей матери богат и живет где-то в Вышне, в роскошном доме, и у него одалживаются рыцари, а по слухам, так даже и кое-кто из знати. Поэтому они скрепя сердце давали мне немного, в иных домах всего несколько пенни, но, так или иначе, в каждом доме мне хоть что-то давали. Я позволяла рассчитываться товарами: двадцать локтей[1] теплого темно-красного сукна, сосуд с маслом, две дюжины хороших длинных свечей из белого воска, новый кухонный нож, только от кузнеца. Цены для всего этого добра я выставляла по-честному — как если бы заемщики продавали все это на рынке. Я вписывала новые цифры напротив их имен и обещала зайти на следующей неделе.
По пути домой я остановилась возле дома Людмилы. Она взаймы не брала. Она могла бы и сама давать деньги в долг, но ей не дозволялось взимать проценты — да и кто стал бы у нее одалживаться: ведь есть же мой отец, которому можно отдавать когда вздумается, а то и вовсе не отдавать. Людмила отворила дверь, сияя заученной улыбкой: у нее на ночлег останавливались путники. Но на пороге стояла я, и улыбка сползла с ее лица.
— Чего тебе? — неласково спросила она, решив, что я пришла побираться.
— Моя мать больна, панова, — смиренно отозвалась я, и Людмила утвердилась было в своем мнении. Зато потом, когда я продолжила, она явно вздохнула с облегчением. — Я пришла купить немного еды. Сколько просите за суп?
Потом я спросила, сколько стоят яйца и хлеб, будто подсчитывая в уме, хватит ли у меня, а Людмиле от неожиданности не пришло в голову заломить двойную цену. Поэтому она злилась, когда я отсчитала ей шесть пенни за горшок горячего супа с половиной цыпленка, три свежих яйца, мягкий каравай и прикрытую салфеткой миску с медовыми сотами. Она нехотя мне все это отдала, и я понесла добычу вдоль по длинной улице к дому.
Отец вернулся раньше меня: он сидел у очага и подбрасывал деревяшки в огонь. Когда я ввалилась в дом, лицо у него было встревоженное. Он во все глаза смотрел на всю эту еду у меня в руках, на красное сукно. Я опустила на пол свою ношу и ссыпала остатки пенни и еще полкопейки серебром в кувшин на полке над очагом, где завалялась какая-то жалкая мелочь. Я вручила отцу список с внесенными туда платежами. А потом принялась устраивать маму поудобнее.
После этого заимодавцем в нашем городке стала я. И я была хорошим заимодавцем. У нас многие в свое время одалживались, поэтому вскоре наш пол устилали вместо соломы гладкие золотистые доски, трещины в очаге были заделаны хорошей глиной, соломенная крыша покрыта заново. А у мамы теперь был собственный плащ на меху — можно хоть в постели укрываться, хоть по улице ходить, а главное — легко держать грудь в тепле. Правда, маме это вовсе не нравилось, и отцу тоже. В тот день, когда я принесла плащ домой, отец вышел на двор и там беззвучно заплакал. Одета, жена пекаря, отдала мне плащ в уплату семейного долга. Плащ был красивый, двух оттенков коричневого — темного и светлого. Он был в приданом Одеты; на меховой подбой пошли горностаи, которых ее отец добыл в воеводских лесах.
Кое в чем старые сказки не обманывали: хороший заимодавец — это заимодавец, не знающий сострадания. И я была безжалостна к нашим соседям — ведь прежде это они были безжалостны к моему отцу. Первенцев за долги я, конечно, не отнимала, но к чему-то в этом роде была близка. Однажды я отправилась к одному крестьянину на дальних полях, и ему совсем нечего было отдать мне, даже завалящей краюхи хлеба не нашлось. Горек его звали, и этот Горек взял взаймы шесть серебряных копеек. С таким долгом ему в жизни было бы не расплатиться, даже будь у него хоть каждый год урожайным. Он и в руках-то больше пяти пенни отродясь не держал. Он сперва принялся честить меня на все корки — многие так делали, — но я стояла на своем и припугнула его судом. Тут-то он и сник, и в голосе его прорезалось отчаяние.
— Мне четыре рта кормить надо! — закричал он. — Из камня воды не выдавишь!
Мне, наверное, полагалось его пожалеть. Отец пожалел бы, и мама тоже. Но вместо этого я, овеянная стужей, распознала опасность. Если я прощу ему долг, выслушаю его оправдания — на следующей неделе у всех отыщутся причины не платить. Вот здесь-то и начинается неверная дорожка.
И тут появилась его дочь — рослая девица в теплом сером платке на длинных золотистых косах. Она шла, чуть покачиваясь под тяжестью коромысла с полными ведрами. Я столько лишь за два раза могла унести.
— Тогда пусть твоя дочь работает в моем доме в уплату долга. За полпенни в день, — произнесла я и зашагала домой, вся довольнешенька. Даже в пляс пустилась на дороге под деревьями, где никто не видел.
Ее звали Ванда. Она пришла на рассвете, ни слова не проронила и трудилась как ломовая лошадь до самого обеда, а потом так же молча ушла. И за все это время она ни разу не подняла взгляда. Ванда оказалась очень крепкая, так что мы могли вообще о хозяйстве не беспокоиться — по крайней мере полдня. Она таскала воду, колола дрова, ходила за курами, которые к тому времени уже копошились у нас на дворе, отскребала полы, очаг и всю посуду. И я очень радовалась своей затее.
Когда Ванда ушла, мама впервые заговорила с моим отцом гневно, обвиняюще — такого не случалось, даже когда она лежала вся больная и окоченевшая. Она кричала, и голос у нее все еще был хриплый:
— Тебе, видно, все равно, что с ней сталось из-за этого?
Я как раз вернулась и стояла возле калитки — сбивала с каблуков налипшую грязь. Ванда освободила меня от утренних дел, и я, позаимствовав осла, отправилась верхом в дальние деревни. Тамошние заемщики уже и думать забыли, что к ним кто-то может явиться и потребовать должок. Подоспела озимая рожь, и я везла с собой два мешка зерна, еще два мешка шерсти и немаленький мешочек маминых любимых лесных орехов — их всю зиму держали в холоде, и они были как недавно собранные. А в придачу ко всему этому я разжилась старыми, но крепкими железными щипцами для орехов. И теперь нам не придется колоть орехи молотком.
— А что я ей скажу? — выкрикнул в ответ отец. — Что? Велю ей, чтобы голодала, мерзла и ходила в отрепье?
— Тебе недостало холода заниматься этим самому, — отозвалась мама. — Зато достает холода смотреть, как она этим занимается. Она наша дочь, Йозеф!
В тот вечер отец попытался со мной поговорить.
— Ты уже довольно сделала, дочка, — сбивчиво бормотал он. — Не твоя это работа, завтра оставайся дома.
А я сидела и лущила орехи. Я даже головы не подняла и отвечать не стала. У меня в груди шевельнулся сгусток холода. Я подумала не о маминых словах, а о том, что она до сих пор хрипит. Отец постоял немного и ушел. Холод внутри меня коснулся его и прогнал прочь — точно так его прогонял холод внутри тех, кто отказывался вернуть ему долг.
Глава 2
Папаня часто грозился, что пойдет к заимодавцу. Займет денег на новый плуг, или на поросят, или на дойную корову. Я вообще не понимала, что такое деньги. Дом наш стоял вдалеке от города, и подать мы платили мешками с зерном. Папаню послушать, так деньги — это сущее волшебство, а вот матушка считала, что они опасны.
— Не ходи туда, Горек, — говорила ему матушка. — Коли берешь взаймы, так рано или поздно лихо накличешь.
Папаня тогда орал, чтобы матушка не лезла не в свое дело, и даже давал ей оплеуху. Правда, слушался ее и никуда не шел.
Но однажды он все же отправился к заимодавцу. Мне тогда было одиннадцать. У нас родился еще один младенчик — и тут же умер, и матушке нездоровилось. Младенчики нам были ни к чему. И так-то у нас росли Сергей и Стефан, да четверых мы погребли под белым деревом. Папаня всегда там хоронил мертвых деток, хоть земля там была жесткая, так запросто не раскопаешь. Но папаня не хотел тратить хорошую землю на это дело. Возле белого дерева все равно ничего не посадишь — оно все сожрет. Посеешь там рожь, прорастет она, и однажды холодным утром глядь — все колоски засохли, а в белой кроне прибавилось листьев. И спилить дерево папаня не мог. Раз оно все белое — значит, принадлежит Зимоярам. Попробуй-ка такое спили: Зимояры тут же явятся и тебя убьют. Поэтому вместо семян мы давали этой земле лишь мертвых деток.
Папаня похоронил того младенчика и притащился домой злой-презлой. И говорит нам всем:
— Вашей матери нужно лекарство. Я иду к заимодавцу.
Мы все переглянулись: я и Сергей со Стефаном. Они были еще совсем малыши, побоялись перечить. Матушка очень уж маялась, она и говорить не могла. Ну и я смолчала. Матушка лежала в постели — вся горячая, красная, кругом крови полно. Я с ней заговорила, а она в ответ только кашляла. Я все думала: хоть бы папаня поскорее принес нам свои волшебные деньги, пусть матушка встанет с постели и опять будет здорова.
Вот он и пошел к заимодавцу. Две копейки он пропил в городе, а две проиграл. Но доктора с собой привел. Доктор забрал оставшиеся две копейки и вручил мне какой-то порошок. Велел разводить горячей водой и давать матушке. Но жар от этого никуда не девался. Прошло три дня. Я пыталась напоить матушку, она заходилась в кашле. Я ей: «Вот, матушка, попей», — а она уже и глаз открыть не может. Положила широкую ладонь мне на макушку — и рука у нее сделалась тяжелая, обмякшая, непривычная. Тут-то она и умерла. Я весь день так возле нее и просидела, пока папаня не вернулся с поля. Он посмотрел на матушку молча, а потом говорит мне:
— Солому перемени.
Взвалил тело матушки на плечо точно куль с картошкой и понес к белому дереву. И похоронил там рядом с детками.
Спустя несколько месяцев пришел заимодавец. Я его впустила в дом. Я знала, конечно, что он слуга дьявола, но не боялась. Он был весь такой тонкий — и руки, и лицо, и сам он. У матушки на стене висела икона, вырезанная из деревяшки, — вот он и был как та икона. И говорил тихо. Я ему налила чашку чаю и дала кусок хлеба, потому что матушка всегда давала что-то поесть любому гостю.
Папаня вернулся с поля — и как давай на этого заимодавца орать. Выгнал его из дома. А мне ремнем всыпал: отвесил мне пять ударов за то, что я его впустила.
— Какого рожна ему тут надо?! Из камня воды не выдавишь, — ворчал он, застегивая ремень. А я ревела, уткнувшись в матушкин передник.
Когда к нам явился сборщик податей, папаня то же самое сказал. Только не в лицо ему, а себе под нос. За податями всегда приходили в последний день сбора урожая, зимой и весной. Уж не знаю, как сборщик про этот день выведывал, но он никогда не ошибался. После его ухода подать считалась уплаченной. Чего он не забирал с собой, то оставалось нам. Не больно-то много нам перепадало. Матушка в начале зимы всегда папане говорила: «Вот это нам на ноябрь, а это на декабрь». А сама показывала, чего и сколько на какой месяц. Так она все и распределяла до самой весны. Но матушки больше не было. Папаня взял и унес одного козленка на продажу в город. Вернулся уже ближе к ночи, совсем пьяный. Мы уже спали в доме возле очага, и папаня споткнулся о Стефана. Тот заплакал, папаня рассвирепел, стащил ремень и принялся нас охаживать. Мы кинулись бегом прочь из дома. А коза, у которой отняли козленка, с той поры перестала давать молоко, и к концу зимы еда у нас закончилась. Пришлось нам до весны выкапывать из-под снега прошлогодние желуди.
Следующей зимой пришел сборщик податей, и папаня снова отправился в город — теперь с мешком зерна. Мы тогда улеглись спать в сарае с козами от греха подальше. Сергею-то со Стефаном наутро ничего не было, а меня папаня, как протрезвел, все-таки отлупил. Потому что он вернулся домой, а ужин, видите ли, не на столе. Еще через год я уселась дожидаться папаню в доме. Сидела, пока не заметила его на дороге. Спьяну папаня закладывал большие петли, фонарь у него в руке ходуном ходил. Я еду в миске поставила на стол, а сама со всех ног прочь из дому. Уже почти стемнело, но свечу я брать не стала, чтобы папаня не увидел, что я сбегаю.
Сперва-то я хотела пойти в сарай. Я все оборачивалась проверить: не тащится ли папаня за мною следом. Свет от фонаря плясал в доме, и окна за мной словно бы подглядывали. Но вот фонарь перестал качаться — значит, папаня поставил его на стол. Больше мне ничего не грозило, можно было идти в сарай. Я стала смотреть себе под ноги, но глаза никак не могли привыкнуть к темноте — слишком уж я засмотрелась на яркие окна. К сараю вообще-то вела тропинка, но она куда-то подевалась, и ноги проваливались глубоко в снег. Козы почему-то не подавали голоса, да и свиньи молчали. Ночь стояла темная, хоть глаз выколи.
Я решила, что рано или поздно наткнусь на изгородь или выйду на дорогу. Пошла наугад, вытянув вперед руки. Но никакой изгороди я не нащупывала. Одна темнота меня окружала, и я даже перепугалась, но потом мне стало просто холодно и в сон потянуло. Пальцы у меня совсем закоченели. Через щели в лаптях попадал снег.
Потом впереди что-то засветилось. Я пошла на свет и очутилась возле белого дерева. Ветви у него были тонкие, и листья не опали, хоть и зима стояла. Ветер шевелил их, и они шелестели, вроде как нашептывали что-то еле слышно. По другую сторону от дерева пролегала дорога — очень гладкая, как лед, и блестящая. Я знала, что это дорога Зимояров. Но такая она была красивая, эта дорога, а я так замерзла и чуть не засыпала на ходу. Я позабыла, что надо бояться. И пошла к блестящей дороге.
Под деревом в ряд лежали плоские камни — по одному на каждой могилке. Матушка их добывала из реки. Два я добыла сама — для матушки и последнего младенчика. Эти два камня были поменьше остальных — мне еще не под силу было ворочать большие камни, как матушке. Когда я переступила через могилы и шагнула к дороге, ветка хлестнула меня по плечам. Да так, что я повалилась наземь и дыхание у меня перехватило. Ветер зашелестел белыми листьями, и я услышала шепот: «Беги домой, Ванда!» Тут мою сонливость как рукой сняло. Я так испугалась, что мигом вскочила на ноги и помчалась к дому, только пятки засверкали. Дом я издалека увидела — фонарь-то все еще горел в окне. А папаня уже вовсю храпел на кровати.
Спустя год старый Якоб, наш сосед, ко мне посватался. Он хотел еще и козу в придачу, но папаня его выставил со словами:
— Мало ему девицы, здоровой да крепкой, так ему еще и козу подавай! Ишь, чего захотел!
С тех пор я стала работать как проклятая. Старалась делать как можно больше папаниной работы. Не хотела я могилок с детками, и сама лечь в такую могилку не хотела. Но я вытянулась, и грудь выросла, а волосы у меня стали длинные и золотистые. В следующие два года еще двое ко мне сватались. Второй так даже был мне незнакомый. Он пришел с дальней от нас окраины города, шесть миль прошагал. И даже выкуп за меня предложил — свинью. Но я уж больно хорошо работала, поэтому папаша заартачился. Три свиньи, говорит, и ни свиньей меньше. Тот незнакомец плюнул с досады да так и ушел ни с чем.
Но земля с каждым годом родила все меньше. Весной снег сходил все позднее и позднее, а осенью выпадал все раньше и раньше. Сборщик податей забирал свою долю, и папане на выпивку оставалось всего ничего. Я приноровилась прятать еду в разных местах, чтобы зимой нам было не так голодно, как в первый год без матушки. Но Сергей со Стефаном, да и я — мы ведь все росли. В год, когда мне минуло шестнадцать, после весеннего урожая папаня вернулся из города не пьяный, а так, слегка под хмельком, и оттого кислый. Бить меня он не стал, но оглядел внимательно, как свинью, будто прикидывая, сколько я стою.
— На следующей неделе пойдешь со мной на рынок, — велел он.
Назавтра я отправилась к белому дереву. С той самой ночи, когда я увидела дорогу Зимояров, я к дереву не подходила. Я дождалась, пока солнце поднимется повыше, сказала, что, мол, за водой иду, а сама отправилась к дереву. Встала на колени под его сенью и сказала:
— Матушка, помоги мне.
И через два дня к нам пришла дочь заимодавца. Она была вылитый заимодавец — тоненькая веточка, волосы темные, щеки впалые. Папане она едва до плеча доходила. Но она встала на пороге, и от нее в дом упала длинная тень, а она грозила папане, что если он не вернет ей деньги, тогда в суде на него найдут управу. Папаня заорал было на нее, но она не дрогнула. Когда он высказал все насчет «из камня воды не выдавишь» и показал ей пустую кладовку, она сказала:
— Тогда пусть твоя дочь работает в моем доме в уплату долга.
Она ушла, а я вернулась к белому дереву и прошептала:
— Спасибо, матушка.
Меж корней я закопала яблоко — целое яблоко, — а ведь я была голодная, могла бы сама его съесть, даже с семечками. Над моей головой распустился маленький белый цветок.
Наутро я отправилась в дом заимодавца. Мне было страшно очутиться одной в городе, но все лучше, чем идти с папаней на рынок. Да и в город-то мне заходить не пришлось: дом заимодавца за лесом стоял первый. По мне, так это был просторный дом — с двумя комнатами и гладким свежеструганым полом, который еще пах деревом. Жена заимодавца лежала в постели. Она болела и сильно кашляла. Я как услышала этот кашель, так вся прямо закостенела.
Дочь заимодавца звали Мирьем. Утром она поставила на огонь горшок с супом. Запах от этого супа шел по всему дому, и у меня от голода живот подводило. В углу у нее стояло поднявшееся тесто, так она его забрала и ушла. Вернулась Мирьем уже сильно за полдень со свежим темным караваем только от пекаря, ведерком молока и крынкой масла. А на плечах она тащила мешок яблок. Она поставила на стол тарелки — и не три, а четыре, вот уж чего я никак не ожидала. Мы уселись за стол, и заимодавец прошептал какое-то колдовское заклинание над хлебом. Но я все равно ела, и было вкусно.
Я трудилась очень прилежно, чтобы они меня позвали еще раз. Я уже собралась домой, но тут жена заимодавца спросила меня своим охрипшим голосом:
— Как твое имя? — Я чуть помялась и сказала. — Спасибо тебе, Ванда, — прошептала она. — Ты очень нам помогла.
Выходя из дома, я услышала, как она говорит, что раз я так хорошо работаю, наверное, долг скоро будет выплачен. И я остановилась под окном послушать.
Но Мирьем ответила ей:
— Он брал взаймы шесть копеек! За полпенни в день ей придется трудиться четыре года. И не говори мне, что я мало ей плачу — она ведь у нас обедает.
Четыре года! Я чуть не запрыгала от радости.
Глава 3
Весной еще долго не утихали снегопады и мамин кашель. Но мало-помалу дни сделались теплее, а горячий суп, мед и покой наконец заставили кашель иссякнуть. Едва к маме вернулась способность петь, она объявила мне:
— Мирьем, на следующей неделе мы едем к дедушке.
Она это нарочно придумала, отчаявшись оторвать меня от работы. Уезжать мне не хотелось, но хотелось повидаться с бабушкой. Показать бабушке, что ее дочь больше не коченеет больная на стылой постели, что ее внучка больше не ходит как оборванка. Я мечтала в кои-то веки приехать в гости к бабушке и чтобы она при этом не плакала. Поэтому я напоследок обошла всех заемщиков и каждому сообщила, что я уезжаю в большой город и что за недели своего отсутствия я все равно высчитаю с них проценты. Или же пускай приносят деньги и товар прямо к нам домой, пока меня не будет. Ванде я велела по-прежнему являться каждый день: готовить обед моему отцу, кормить кур и прибираться в доме и на дворе. Она молча кивнула и спорить не стала.
В этот раз для поездки я наняла Олега, чтобы он доставил нас прямо до места. Упряжка у него была что надо, сани удобные: с соломой на полу и с одеялами; на дуге тренькали колокольчики. А по всему сиденью был раскинут плащ, подбитый мехом, чтобы ветер не задувал. Бабушка вышла на порог встречать нас. Она удивленно смотрела, как наши сани подъезжают к дому. Мама молча приблизилась к бабушке и спрятала лицо в ее объятиях.
— Что же, добро пожаловать. Заходите и грейтесь, — произнесла бабушка, не сводя глаз с наших саней, с наших новых добротных платьев из красной шерсти, отороченных кроличьим мехом, и с золотой пуговицы у моего ворота, что перекочевала ко мне из ткачихиного сундука.
Бабушка отправила меня отнести горячей воды дедушке в кабинет — ей хотелось поговорить с мамой наедине. Дедушка всякий раз при моем появлении только хмыкал и неодобрительно оглядывал меня, одетую в купленное бабушкой платье. Я знала, что он думает о моем отце. Я и сама не понимала, откуда мне это известно: Дедушка при мне ни словом на эту тему не обмолвился. Но я все равно знала.
В этот раз он окинул меня мрачноватым взглядом из-под сведенных щетинистых бровей:
— Я смотрю, ты нынче при мехах? И при золоте?
Должна сказать, что меня воспитывали подобающим образом, и прекословить дедушке я не привыкла. Но тогда я была сердита. Потому что мама переживала и бабушка как будто ничуть не радовалась, а тут еще и дедушка пытается меня поддеть. Уж ему-то я чем не угодила? Поэтому я сказала:
— Почему бы и нет? Лучше при мехах и золоте буду я, чем те, кто купит их на деньги моего отца.
Как и следовало ожидать, дедушка удивился внучкиной дерзости. В ответ на мои слова он снова сдвинул брови:
— Так это все отец тебе купил?
Любовь и верность замкнули мои уста в тот миг. Я опустила голову, молча налила горячей воды в дедушкин самовар и заварила чай заново. Дедушка ничего не сказал мне вслед, однако наутро он уже все откуда-то знал. Всю историю о том, как я взялась за отцовскую работу. И дедушка проникся ко мне неожиданной и внезапной симпатией. Ни он, ни кто другой никогда не выказывал мне ничего подобного.
Его две другие дочери устроились в жизни удачнее моей мамы. Обе вышли замуж за процветающих торговцев из большого города. Но ни одна дочь не подарила дедушке внука, который унаследовал бы его дело. В большом городе наших собратьев было много; тут мы могли позволить себе быть не только ростовщиками или земледельцами, работавшими лишь на себя. Здешние горожане охотнее покупали наш товар: прямо у стены нашего квартала располагался бойкий рынок.
— Это занятие не для девицы, — попыталась вмешаться бабушка, но дедушка только фыркнул.
— Золоту неведомо, в чьей оно руке, — заявил он и, нахмурившись, повернулся ко мне. Теперь он хмурился по-другому, совсем не сердито, скорее наоборот. — Тебе надо завести слуг, — сказал он мне. — Для начала хотя бы одного — хорошего простого парня или девушку, чтоб не гнушались наняться к еврею. Есть кто на примете?
— Есть, — кивнула я, думая о Ванде. Она ведь уже привыкла к нам, а в нашем городке у крестьянской дочки не очень-то много возможностей работать за жалованье.
— Очень хорошо. Больше не ходи сама к заемщикам, — продолжил дедушка. — Отправляй вместо себя слугу, а все недовольные пускай идут разбираться в твой дом. И заведи себе стол. Будешь принимать за ним заемщиков: ты сиди, а они пусть стоят.
Я опять кивнула. Когда мы уезжали, дедушка вручил мне полный кошель пенни — всего там было пять копеек, — чтобы я пустила их в дело в окрестных городишках, где нет своих заимодавцев. Дома я спросила отца, приходила ли Ванда. Отец тоскливо посмотрел на меня; глаза у него ввалились и были полны печали, хотя мы уже много месяцев не голодали.
— Да, приходила, — тихо ответил он. — Я сказал ей, что это не обязательно, но она все равно приходила каждый день.
Вот и прекрасно, решила я. И в тот же день, как только Ванда закончила работу, я завела с ней разговор. Отец у нее здоровяк, да и сама Ванда высокая, плечистая. Ладони у нее широкие, руки покраснели от работы, ногти подстрижены коротко, лицо перепачканное, а длинные золотистые косы убраны под платок. Вечно она угрюмая, бессловесная и ходит вся набыченная.
— Я хочу больше времени уделять расчетам, — сказала я Ванде. — Мне нужен кто-то, чтобы обходить заемщиков и собирать с них деньги. Если возьмешься за такую работу, я буду платить в день не полпенни, а целый пенни.
Она долго стояла в нерешительности, словно не была уверена, что правильно меня поняла.
— Тогда отцовский долг будет выплачен скорее, — наконец выдавила Ванда, как бы уточняя, не ошиблась ли она.
— Когда долг будет выплачен, я буду все так же платить тебе, — опрометчиво заверила я ее. Но если Ванда займется моей работой, у меня появится время объехать окрестности и найти новых заемщиков. Мне не терпелось распорядиться тем озерцом серебра, которое разлил передо мной дедушка. Превратить озерцо в полноводную реку из текущих в наш дом пенни.
Ванда снова умолкла, а потом спросила:
— Вы будете платить мне деньгами?
— Именно, — ответила я. — Ну так как?
Ванда кивнула, и я кивнула в ответ. Рукопожатием мы обмениваться не стали; известно, что никто не подаст руки еврею. А кто подаст, тот сделает это неискренне. Если Ванда нарушит условия нашего договора, я перестану ей платить, вот и все. Больше никаких подтверждений и не требуется.
Папаня ходил мрачнее тучи с тех самых пор, как я начала работать в доме заимодавца. Теперь продать меня он не мог, и дома я работала меньше, а еды у нас не прибавилось. Орать он стал чаще, и рука у него сделалась тяжелее. Стефан и Сергей по большей части были с козами и дома не показывались. Я сносила побои молча и уворачивалась, когда получалось. И чтобы не кричать, я считала про себя. Жалованье в полпенни покроет отцовский долг за четыре года, а жалованье в пенни, выходит, за два. Два года — это шесть копеек. И я смогу работать еще два года, а папаня-то будет думать, что это в счет его долга. И я заработаю шесть копеек для себя. Мое собственное серебро.
Я такие деньги видела только мельком, когда отец вложил две блестящие монеты в открытую ладонь доктора. Может, если бы он не пропил и не проиграл еще четыре, этого хватило бы на лечение.
Ходить по чужим домам, стучать в двери и собирать деньги — оказалось, не такая уж это морока. Я же была вроде как не я, а Мирьем; это были ее деньги, и она этими деньгами со мной, получается, делилась. Стоя на крыльце, я заглядывала в дома заемщиков — видела там красивую мебель, горящие камины. И никто в этих домах не кашлял. «Я к вам от заимодавца», — говорила я и сообщала каждому заемщику, сколько он должен. Если они пытались доказать, что мои цифры неверные, я просто молчала. В иных домах охали, что им, дескать, платить нечем, и я отвечала, что, значит, надо им явиться к заимодавцу, иначе тот привлечет их к суду. И тогда они мне хоть что-нибудь да отдавали. Выходит, сперва-то они мне неправду говорили. Ну да мне до этого дела нет.
Я таскала с собой большую крепкую корзину и складывала туда все, что мне давали. Мирьем поначалу беспокоилась, что я перезабываю, кто что дал, но я все помнила. Каждую монетку, каждую вещь. Мирьем все записывала в свою здоровенную черную книгу; она царапала там толстым гусиным пером прытко, без остановки. В базарный день она отбирала тот товар, который был ей не нужен, и отправлялась в город. А я ее сопровождала и несла корзину. Мирьем продавала и выменивала, покуда корзина не пустела, а кошелек не полнел — покуда ткани, фрукты и пуговицы не обращались в монеты. Иногда она и по-другому поступала: отдаст ей крестьянин, скажем, десять куделей шерсти, а она отнесет их к ткачихе. И та в счет долга сделает плащ, а плащ Мирьем продаст потом на рынке.
В конце дня Мирьем высыпала пенни на пол и заворачивала их в бумажки. Получались кулечки; кулечек длиной с мой безымянный палец равнялся копейке. Я это узнала, когда однажды Мирьем отправилась на рынок спозаранок и отыскала там купца, который как раз вернулся в город из отлучки. Он еще только раскладывал товар, а Мирьем протянула ему свой кулечек, и он, пересчитав пенни, дал ей копейку серебром взамен. Серебряные монеты Мирьем не тратила, не разменивала на рынке. Она приносила их домой и тоже заворачивала в бумажку. Кулечки получались поменьше, как мой мизинец, и такой кулечек равнялся уже золотому. Серебряные кулечки Мирьем хранила в кожаном кошеле, который дал ей дед. Этот кошель я, кроме как в базарные дни, и не видела. В базарные дни, когда я приходила, он лежал на столе, да так и оставался там до самого моего ухода. Мирьем никогда не доставала и не прятала свой кошель при мне; ни отец ее, ни мать до него пальцем не дотрагивались.
Я сперва не могла уразуметь насчет тех вещей, которые она продавала: откуда она знает, что сколько стоит? Но понемногу я научилась разбирать цифры в книге, куда она заносила платежи. И когда она называла цену покупателю на рынке, это всегда была та же цифра. Мне хотелось понять, как она все это высчитывает. Но спросить я робела. Я ведь для нее была чем-то вроде лошади или вола — угрюмая, бессловесная и двужильная. Я как-то так себя и чувствовала рядом с ней и ее семьей. Мне казалось, они целый день не умолкали: то беседы у них, то песни, а случались и споры. Но не бывало такого, чтобы они вдруг закричали или кто-то на кого-то руку поднял. А еще они все время друг дружки касались. Мать Мирьем то и дело гладила дочку по щеке, а отец как ни пройдет — поцелует ее в макушку. Иногда по пути домой, когда я, сойдя с дороги, шла уже через поле, где никто не видит, я клала себе ладонь на затылок. Тяжелая у меня стала ладонь, большая, крепкая. И я представляла, будто это матушкина ладонь у меня на затылке.
А у нас дома все точно воды в рот набрали. В тот раз зимовали мы совсем не сытно, даже мой обед в доме Мирьем не спасал. Мне же после того обеда еще шесть миль надо было шагать. И вот уже весна пришла, а мы все равно ходили полуголодные. По дороге домой я всегда собирала грибы, а если везло, то и зелень попадалась, и дикая брюква. Но из всего этого мы мало что могли есть, большую часть я отдавала козам. В доме я мешала угли под капустной похлебкой, которую я еще утром ставила на огонь. В это варево я добавляла грибы и что там еще находила в лесу. Потом я выкапывала несколько молодых картофелин — еще зеленых, их и есть-то, по-хорошему, было нельзя, но мы все равно их ели. Каждый кусочек с глазком я старательно вырезала и сажала снова. А остальное шло в похлебку. Мы садились за стол и ели — понурые, молчаливые.
Росло у нас все плохо. Земля в апреле еще была твердой как камень и холодной — рожь никак не хотела подниматься. Когда наконец потеплело и папаня посадил бобы, через неделю снова пошел снег и половину посадок сгубил. В то утро я проснулась и решила, что еще ночь. За окном все заволокло непроглядно серым, и снег вовсю валил. Папаня начал браниться на чем свет стоит и затрещинами выгнал нас из постели. Мы кинулись наружу за козлятами. Один козленок уже умер, а четверых мы успели занести в дом и коз загнали. Они блеяли во все горло, и жевали наши одеяла, и едва не свалились в очаг, но зато живы остались. Как снегопад утих, мы освежевали мертвого козленка и засолили — хоть и немного, но все же мясо. Из костей я сварила суп, а еще мы съели печенку и легкие. И наелись досыта хоть однажды.
Сергей мог бы есть за троих. Он уже большущий вымахал. Я догадывалась, что он потихоньку себе охотится, хотя знает ведь, что за браконьерство положена виселица и еще чего похуже, если поймают с поличным в лесу. Из леса мы могли приносить только пятнистого зверя и птицу с черными или коричневыми отметинами. А все, что чисто-белое, принадлежало Зимоярам. Не знаю, что Зимояры делали с теми, кто охотился на белых животных, потому что никто не смел на них охотиться. Что зимоярово — то отнять нельзя. При этом сами-то зимоярские рыцари могли прийти и отнять у нас что угодно, а вот нам воровать у них не дозволялось.
Иногда Сергей приходил домой и быстро глотал еду, не поднимая глаз. Приканчивал всю свою долю без остатка. Он будто скрывал, что на самом деле съедает больше, чем все остальные. Я и сама ела так же. Поэтому я и решила, что, должно быть, он охотится там, где никто не видит. Предостерегать его я не стала: он и сам должен понимать, не маленький.
В общем, у нас дома совсем другие были порядки, не как у заимодавца. Слово «любовь» мне и в голову-то не приходило. Была любовь, да вся вышла: закопали ее в могилу вместе с матушкой. А что до Сергея со Стефаном — так они те же младенчики, из-за которых матушка слегла. Просто те умерли, а они нет. Как они народились, хлопот изрядно прибавилось — сначала у матушки, а после у меня. Их ведь и кормить надо было, и одевать. Мне приходилось прясть козью шерсть, вязать им одежду и стирать ее. Поэтому, если Зимояры что-то и сотворили бы с Сергеем, я бы не слишком горевала. Я как-то подумала, надо бы сказать ему: пусть хоть кости приносит с охоты, я бы суп варила. Но потом я решила, что нет, лучше не надо: окажется, что мы все в это дело впутались. Не стоит связываться с Зимоярами ради разгрызенных косточек, которые мой брат к тому же обглодал дочиста.
А вот Стефан Сергея любил. Когда матушки не стало, я Стефана спихнула на Сергея. Мне было одиннадцать, я уже могла прясть, а Сергею только семь минуло, толку от него тогда было немного. Поэтому отец ничего не сказал. Сергей подрос и стал работать в поле, но Стефана от себя не прогнал. Тот так и ходил за ним хвостиком: под ногами старался не путаться, носил Сергею с отцом воду и с козами помогал. Они с Сергеем и спали вдвоем, чтобы теплее было. Если папаня буянил в доме, они могли и снаружи спать, даже зимой. Случалось, конечно, что Сергей и наподдаст Стефану, но несильно.
Поэтому Стефан прибежал за мной в тот день, когда с Сергеем приключилась беда. Время было не позднее, еще полдень не настал. Я возилась у заимодавца на огороде, срезала кочаны капусты. Накануне ночью землю прихватило морозцем, хотя осень еще только-только началась. Капуста не совсем созрела, но Мирьем сказала, лучше сейчас ее срезать на всякий случай, уж какая есть. Я трудилась и поглядывала на дверь. Вот-вот она отворится, и жена заимодавца позовет меня в дом обедать. В сегодняшнее зерно для кур полагалось намешать корок черствого хлеба, а я сама их все съела. Сжевала кусочек за кусочком и запила холодной водой из дождевой бочки, затянутой тонким хрустким ледком. Но живот у меня по-прежнему сводило от голода. Я как раз снова посмотрела на дверь, и тут Стефан позвал меня:
— Ванда! — Он стоял, привалившись к изгороди, и хватал ртом воздух. — Ванда!
Когда он меня окликнул, я аж вздрогнула, будто папаня прошелся по моей спине хворостиной.
— Чего еще? — Я на него разозлилась. И чего его сюда принесло?! Тут ему не место.
— Ванда, идем! — Стефан манил меня рукой. Он был не больно разговорчивый. Сергей и без слов его понимал, а когда дом ходуном ходил от отцовского крика, Стефан удирал, если получалось. — Ванда, идем!
— Дома что-то случилось? — На пороге, зябко кутаясь в шаль, стояла жена заимодавца. — Ступай, конечно, Ванда. Я скажу Мирьем, что отправила тебя домой.
Не хотела я никуда идти. Я сразу догадалась, что, видно, с Сергеем что-то неладно, потому-то Стефан и прибежал. Сергей мне ни разу в жизни не помог — с чего бы мне ради него надрываться? Да еще и без обеда ходить. Но жене заимодавца такое ведь не скажешь. Поэтому я поднялась и направилась к калитке, и когда мы уже были на дороге под деревьями, я встряхнула Стефана как следует и прошипела сердито:
— Не смей больше за мной приходить! — Ему только десять было, он пока еще ростом не вышел, так что я могла его трясти сколько душе угодно.
Но он молча схватил меня за руку и куда-то потащил. И я пошла с ним. Можно было бы отправиться домой и рассказать отцу, что с Сергеем беда. Но я так делать не стала. Не то чтобы я Сергея любила, но он бы на меня никогда отцу не донес, и я на него не донесу. Стефан все пытался бежать. Я поспешила вдогонку: на бегу можно хотя бы не думать. Так мы и бежали: сначала я останавливалась, потом он, мы оба переводили дух, а потом Стефан опять пускался бегом. Шесть миль мы одолели за час. Уже немного оставалось до дома, но Стефан увел меня с дороги в лес. Тут-то я и насторожилась.
— А ну говори: что с ним? — спросила я.
— Он встать не может, — сказал Стефан.
Сергея мы нашли на берегу ручья. Мы сюда, случалось, ходили за водой летом, когда ближний источник пересыхал. Сергей лежал на боку и вроде бы не спал. Глаза у него были открыты. Я поднесла палец у его губам: он дышал, но внутри его словно все умерло. Я попробовала взять его за руку — рука оказалась тяжелая, как неживая. Я огляделась по сторонам. Рядом, наполовину в воде лежала тушка белого кролика с грубой веревкой из козьей шерсти на лапе. Ни единого пятнышка на этом кролике я не увидела. Тропинки подернулись инеем, по краям ручья был лед. Значит, Зимояр поймал его за охотой и похитил его душу.
Я отпустила руку Сергея. Стефан смотрел на меня, будто ждал, что я сейчас что-нибудь сделаю. А что тут сделаешь? Священник к нам из города в такую даль не потащится. Ну и в конце-то концов, Сергей ведь сам виноват: знал же, что воровать нельзя. А если ты сам виноват, Бог вряд ли станет с тобой возиться, защищать тебя от Зимояров.
Я молчала. Стефан тоже молчал, но не сводил с меня глаз. Надеялся, что я сейчас Сергея спасу. И вдруг где-то внутри себя я поняла, как его спасти. Только мне не очень-то хотелось со всем этим связываться. Я стиснула зубы и велела себе ни о чем таком не думать. И принялась хлопать Сергея по щекам, чтобы привести в чувство, плескала ему в лицо холодной водой, хотя знала, что это не поможет. Оно и не помогало. Сергей не шевелился. Вода лилась ему на лицо, даже в глаза попадала и вытекала назад точно слезы. Но он не плакал. Он просто лежал совсем полый, как сгнившее изнутри бревно.
Стефан на Сергея не смотрел. Он вместо этого уставился на меня, почти не мигая. Так и хотелось ему врезать или прогнать прочь палкой. Да что они оба мне хорошего сделали?! Не обязана я тут ради них морочиться. Но я уже решила про себя. Я поднялась, стиснула кулаки и велела Стефану взять Сергея за ноги. И обычные слова, которые я сказала, на вкус были как гнилые прошлогодние желуди.
Сергей вырос уже большой, но еще не настолько, чтобы нам вдвоем его не поднять. Я подтолкнула его в спину и ухватила под мышки, а Стефан положил его ноги себе на тощие плечи. Так мы и тащили его всю дорогу через лес к нашему полю. Всю дорогу к белому дереву. Я в лесу трижды упала. Приходилось ведь пятиться, да еще с ношей в руках — и я то о корень споткнусь, то поскользнусь на мерзлой грязи. Я больно ушиблась о камень, вся перемазалась и вляпалась в ядовитые ягоды, которые еще поди отстирай. Но злилась я не из-за этого. Они отняли ее у меня, все они: и Сергей со Стефаном, и те мертвые мальчики в могилках. Они лишили меня матушки. А ее я ни с кем бы делить не стала. Какое они вообще право на матушку имели?!
Но вслух я ничего такого не говорила. Я бухнула Сергея у подножия белого дерева, рядом с матушкиной могилой, встала возле дерева и произнесла:
— Матушка, Сергей хворает.
Воздух был холодный, недвижный. Вдаль тянулось ржаное поле, наполовину зеленое — рожь только начала всходить. И все росточки низенькие, меньше, чем им положено быть в эту пору. А из печной трубы поднимался в небо ровный серый столб дыма. Отца нигде не было видно. Стояло безветрие, но белая крона вздохнула, ветви затрепетали, и от ствола отделился кусочек коры. Я схватилась за него и, потянув, оторвала длинную полосу.
Мы подхватили Сергея и потащили его к нашему ручью. Стефана я отправила в дом за горячими углями и посудиной. Сама я тем временем надергала сухой травы, собрала в кучу ветки, и когда Стефан принес угли, разожгла небольшой костерок. И на этом костерке я приготовила отвар из коры белого дерева. Вода сделалась пепельно-серая, пошла пятнами, а пахло из посудины как будто землей. Мы подержали Сергею голову и заставили его отпить. Он весь содрогнулся, как звери, когда летом отгоняют от себя мух. Я дала ему еще один глоток, и третий, и тут его начало выворачивать наизнанку. Его тошнило и тошнило, и из него вышла наружу целая горка сырого красного мяса, еще дымящегося, пахучего, гадкого. Наконец его отпустило, и он, тихонько плача, сам отполз от кучи.
Я напоила Сергея водой, а Стефан закопал сырое мясо, которым стошнило брата. Сергей поплакал еще немножко, глотая воздух. На вид он был измученный, какой-то истончившийся, но хорошо хоть вернулся к жизни. Чтобы встать, ему пришлось опереться на меня. Мы пошли вдоль ручья к камню, где пили козы. Они и сейчас там паслись, блеяли, чавкали листочками на берегу. Самая старая коза побрела нам навстречу, болтая длинными ушами, и Сергей обхватил ее за шею и уткнулся ей в бок. А я надоила чашку молока и протянула ему.
Он выпил все до капли и облизал чашку. А потом тревожно глянул на меня. Отец всегда следил, какая коза сколько дает молока, и если чего недосчитывался, нам доставалось по первое число. Но я забрала у Сергея чашку, снова наполнила и дала ему. Даже не знаю, почему я так поступила. Но что сделано, то сделано. И наутро, когда отец принес ведра с молоком и принялся орать, я встала и громко произнесла:
— Сергею надо больше есть!
Отец вылупился на меня, и Сергей со Степаном тоже. Да я и сама на себя бы вылупилась. Потом отец опомнился: закатил мне затрещину и велел придержать язык. Но на этом все и закончилось: отец просто взял да и вышел вон. Мы с Сергеем и Стефаном ждали в доме, когда же он вернется, но он не вернулся. Нас никто в этот раз не стал бить. Сергей посмотрел на меня, а я на него, но мы ни слова не сказали. Тогда я повязала платок, взяла свою котомку и отправилась на работу. Одежда моя так и осталась перепачканной и задубевшей от грязи. Придется теперь ждать большой стирки, решила я про себя, а то возиться с платьем мне недосуг.
Я вернулась домой в середине дня, и оказалось, что Сергей со Стефаном уже натаскали из ручья воды в большую лохань. И даже согреть ее успели — теперь совсем легко будет стирать, в горячей-то воде. Я на все это посмотрела и достала из кармана три свежих яйца, что дала мне жена заимодавца. Я ей рассказала, что брат у меня захворал, видно поел чего-то плохого. А она мне в ответ: мол, от боли в животе лучше всего сырые яйца. И дала мне целых три. Я съела одно, Сергей — полтора, а Стефан — половину. Пока я стирала платье, братья порезали за меня капусту, а потом я сварила обед.
Глава 4
Весь холодный год я сеяла серебро. Весна снова запоздала, а лето было скоротечное, и на огородах все поспевало медленно. Даже в апреле еще шел снег. Люди приходили ко мне издалека, из десятков окрестных деревень, и брали взаймы, чтобы продержаться. Следующей весной, когда мы поехали в Вышню, я везла с собой дедушкин кошель, набитый бумажными кулечками с копейками. Их я собиралась обменять на злотек и положить его в банк. Стены банка крепкие, городские стены еще крепче — они защитят мое богатство от зимоярских рыцарей. Дедушка при виде кошеля ничего не сказал, только взвесил его на ладони. Но я видела, что он мною гордится.
Во время наших визитов дедушка с бабушкой избегали приглашать других гостей — разве только своих дочерей. Прежде я об этом не задумывалась, а сейчас задумалась, потому что дом внезапно оказался полон разных людей. Кто-то заходил выпить чайку, кто-то — отобедать; и повсюду горел свет, мельтешили платья, слышался смех. За одну неделю я повстречала больше горожан, чем за всю жизнь. Я всегда смутно догадывалась, что дедушка мой — важная персона, но оказалось, что он в десять раз важнее, чем я могла вообразить. К нему обращались, называя его панов Мошель, а порой и рабби; за столом они с еще несколькими мужчинами очень серьезно рассуждали об устройстве квартала и разных квартальных делах и частенько спорили таким тоном, словно они эти дела и решали.
Я не сразу поняла, почему раньше все эти люди тут не показывались. Они все были такие милые и при встрече со мной явно радовались.
— Неужто это малютка Мирьем? — улыбаясь, воскликнула Панова Идин и потрепала меня по щеке. Она была женой одного из дедушкиных друзей, и я даже не помнила, когда мы с ней виделись в последний раз. Наверное, очень давно. — Совсем уже взрослая! Скоро нам танцевать на твоей свадьбе, уж будь уверена!
Бабушка, услышав это, поджала губы, а у матери сделался еще более безрадостный вид. При гостях мать вечно забивалась в уголок гостиной и сидела там, склонившись над рубашкой из простого льна, которую шила для отца. В разговоры она вступала неохотно, вела себя почти неприветливо. И это моя-то мать, такая учтивая с нашими соседями, которые у нее последний кусок изо рта вырвут, а после и из дома выставят.
— Людей встречают по одежке, — без обиняков объяснил дедушка, когда я наконец отважилась спросить про гостей. — Люди, что приходят в мой дом, ожидают, что моя внучка обеспечена должным образом. Твой отец не смог тебе этого дать. Когда твоя мать выходила за него, я поклялся, что не стану сыпать деньги в его дырявый карман.
Тогда мне и стало понятно, почему дедушка не приглашал при нас богатых гостей и почему не хотел, чтобы бабушка покупала мне платья с мехом и золотыми пуговицами. Он считал, что мельниковой дочке, чей наряд куплен в долг, не годится строить из себя принцессу. Не пытался подсунуть мельникову дочку в жены какому-нибудь простаку или заморочить голову жениху поумнее, который расторгнет брак, едва распознает обман.
И я на него не рассердилась. Наоборот, мне понравилась эта его холодная жесткая честность. Я гордилась тем, что он больше не стыдится звать гостей и даже хвастается мною перед ними: глядите-ка, мол, какая у меня внучка — взяла кошель с серебром, вернула кошель с золотом. Мне нравилось, как все эти гости на меня смотрят: оценивающе, будто я и есть тот самый кошель. Мне нравилось, что теперь я могу ходить с гордо поднятой головой, как и они, и чувствовать, что я это заслужила.
На кого я сердилась по-настоящему, так это на мать. Накануне нашего отъезда ее сестры с семьями, как обычно, съехались на ужин. Нас за столом собралось двенадцать человек, да еще ребятишки с шумом и гамом носились по двору. Рядом со мной сидела моя кузина Бася. Она была годом старше меня — с холеными руками и блестящими каштановыми волосами, в ожерелье и сережках, вся такая невозмутимая и изысканная. Месяц назад Бася побывала у свахи. Моя кузина скромно опускала взгляд; в ее глазах и в уголках рта начинала играть улыбка, стоило ее матери завести разговор о юноше, которого прочили ей в женихи. Юношу звали Исаак; как и Басин отец, он был ювелиром, и, похоже, умелым. Однако дедушка недоверчиво качал головой и подробно расспрашивал о нем и его деле. У Баси такие гладкие ухоженные руки. Она не знала тяжелой работы, и ее одежда ладно скроена и красиво расшита цветами и певчими птицами.
Я не завидовала Басе. Особенно сейчас — ведь я и сама могла купить себе передник с вышивкой, если бы захотела тратить на это деньги. Моя работа приносила мне радость. Но я чувствовала, как сидящая рядом мать напрягалась словно струна. Она точно хотела отгородить меня решеткой от Баси и от жизни, которую та вела.
Назавтра мы умчались на санях через лес по хрустящему морозному снежку. Для весны было холодно, но у меня был плащ с меховым подбоем, да еще три нижние юбки под платьем, да еще мы кутались в три одеяла. Так что ехали мы в тепле и уюте. Но лицо у матери было несчастное. Мы не разговаривали. Молчание стеной встало меж нами посреди темной чащи, и наконец я не выдержала и взорвалась:
— Ты хочешь, чтобы мы так и ходили нищими и голодными?!
Мать обвила меня руками, поцеловала и прошептала:
— Милая моя, милая, мне так жаль. — И негромко заплакала.
— Жаль? — переспросила я. — Чего тебе жаль? Что нам тепло, а не холодно? Что мы богаты, а не бедны? Что твоя дочь обращает серебро в золото? — И я отшатнулась от нее.
— Мне жаль видеть, что твое сердце превратилось в лед ради всего этого, — отозвалась она.
Я не ответила, только закуталась плотнее в свои одеяла. Олег понукал лошадей: поодаль меж деревьев серебрилась Зимоярова дорога. Лошади зарысили побыстрее, да только от сверкающей дороги нам было не скрыться; она так и мелькала за деревьями до самого дома. И я ее ощущала, эту дорогу, — в бок мне дул особый ветер, холоднее обычного, он льнул ко мне, пытался пробрать до самых костей. Но мне этот ветер не досаждал. Стужа внутри меня была сильнее, чем снаружи.
На следующее утро Ванда запоздала. Прибежала запыхавшаяся, взмокшая, щеки разрумянились, на чулках и на юбке налипли комья снега, словно она шла не по дороге, а по сугробам через поле.
— Зимояры в лесу! — выпалила она, пряча глаза.
Мы вышли на двор и встали перед домом. Зимоярова дорога слабо поблескивала меж деревьев — всего в какой-то четверти мили от нас.
Я не слышала, чтобы дорога подходила так близко к городку. Городские стены нас не защищали, но ведь у нас и брать-то особо было нечего. Подать мы платили зерном и шерстью; те, кто побогаче, меняли серебро на золото в большом городе, под прикрытием стен, и хранили его в тамошнем банке, как я. Иные женщины, конечно, носили золотые ожерелья или кольца — я вдруг подумала о пуговице у себя на вороте, — но даже если бы зимоярские рыцари обобрали дочиста каждый дом на главной улице, они с трудом наскребли бы маленький ларчик золота.
Колючий холод расползался из леса. Стоило опуститься на колени и поднести ладонь к земле — и руку обдавало морозом, точно неведомый великан тихо дышал где-то вдалеке. В воздухе стоял крепкий густой запах сосновых веток. Зима была в самом разгаре, но было что-то уж слишком холодно, холоднее, чем всегда. Я глянула на соседние дома: и там народ тоже высыпал на дворы и во все глаза таращился на дорогу. Панова Гавелите встретилась со мной взглядом, нахмурилась и ушла в дом, будто это я во всем виновата.
Но больше ничего не происходило, а утренние хлопоты никто не отменял. Так что один за другим мы все вернулись в дома. А не видишь дороги — так и не думаешь о ней. Я уселась за свои книги посмотреть, что там принесла Ванда за те две недели, пока нас не было. А Ванда подхватила корзину, полную зерна и черствых корок, и направилась на двор — покормить кур и собрать яйца. Мать наконец-то оставила все попытки работать на дворе, и я этому радовалась. Она сидела за столом, чистила картошку на обед и согревалась у огня. Лицо у нее успело немного округлиться, а на щеки вернулся румянец, истаявший прошлой зимой. И раз так, пусть мать бросает на меня и мои книги свои унылые взгляды. Мне все равно.
Все расчеты оказались в полном порядке, цифры сошлись как надо. Дедушка спросил меня о служанке: хороша ли она? И похвалил меня за то, что я обещала платить Ванде деньгами. «Очень неглупый ход, — сказал дедушка. — Если служанка приносит деньги тебе, а сама их в руках не держит — считай, она на пути к воровству. Пускай думает, что ее прибыль зависит от твоей прибыли».
К своей прибыли я относилась весьма серьезно. Под замком в дедушкином банке у меня лежало уже четырнадцать золотых, но это все были не мои деньги. Это было приданое матери, которое я возвращала. Отец раздал его в долг, едва они с матерью поженились; наше золото перетекло в чужие карманы, когда меня еще на свете не было. И с тех пор вернули нам так мало, что по сей день все соседи на несколько миль окрест ходили у нас в должниках. Однако при этом они чинили свои дома и амбары, покупали коров и семена на посев, выдавали замуж дочерей и помогали сыновьям встать на ноги. А меж тем моя мать голодала, а отца они гнали со двора поганой метлой. Поэтому я твердо вознамерилась заполучить назад каждую монетку и взыскать все проценты без остатка.
Легкие долги я собрала быстро. Но часть наших денег уже никогда не вернуть, это я понимала. Кто-то из должников успел сойти в могилу. Кто-то уехал так далеко, что и концов вовек не найти. Больше половины платежей мне приходилось принимать товаром или работой — обращать все это в звонкую монету было не так-то легко. Теперь дом наш стал уютным, мы завели кур — сколько смогли содержать. Мне часто предлагали овцу или козу в уплату долга, но мы не знали, как с ними обращаться. Продавать их на рынке было уж очень хлопотно, и мне хватало ума не пытаться. Поэтому я списывала из суммы долга на пенни меньше, чем товар стоил на рынке. Заемщики считали это надувательством — ну так ведь я тратила свое время и силы, стоя за прилавком.
Новые займы я давала только тем, в ком могла быть более-менее уверена. Давала очень осмотрительно и небольшими суммами. Правда, и прибыль получалась небольшая. И к тому же с новым заемщиком никогда не знаешь, сумеет ли он выплатить долг до конца. Но при всем при том, еще раз внимательно изучив свою бухгалтерию и проверив аккуратно поступающие платежи, я решила, что начну платить Ванде. Отныне каждый день полпенни будет уходить на покрытие долга ее отца, а полпенни пусть она забирает себе. У нее заведется собственная звонкая монета; и ее отец, и сама она почувствуют, что значит постоянный заработок.
Я как раз решила про себя, что поговорю с Вандой после обеда, когда она соберется домой, и тут дверь с грохотом распахнулась. Ванда вбежала в дом, прижимая к груди корзину, все еще полную зерна и корок, и выкрикнула:
— Они были тут, возле дома!
Я не поняла, о ком это она, но, встревожившись, мигом вскочила на ноги. Лицо у Ванды побелело от страха, а ведь она была не из пугливых. Отец выдернул из очага кочергу и сказал:
— Пойдем покажешь.
— Это разбойники? — прошептала мать. Я тоже первым делом подумала про разбойников, когда вообще обрела способность хоть что-то соображать. Хорошо, что мои деньги в банке, далеко отсюда. Мы поспешили следом за отцом. На заднем дворе недовольно попискивали куры, которым не дали еды. Ванда показала нам следы. И сразу стаю ясно, что никакие это не разбойники.
Копыта как будто едва-едва коснулись легкого свежего снежка, не проломив наста. Однако это были именно копыта: большие, размером с лошадиные, только раздвоенные, как у оленя, и с не очень хорошо заметными острыми выступами спереди. Следы вели прямо к нашему дому, а потом кто-то, вероятно, спешился и заглянул к нам в окно. У этого кого-то были очень странные сапоги с длинными острыми носами. И сапоги тоже почти не проваливались в снег.
Сначала мне это показалось каким-то бредом. Да, конечно, следы необычные, но наверняка кто-то просто зло подшутил над нами. Как те мальчишки, что швырялись в меня камнями, когда я была маленькая. Кто-то подобрался к дому и оставил такие вот следы нарочно, чтобы напугать нас. Или еще хуже: чтобы отвлечь нас, пока он нас ограбит. И я уже раскрыла рот, чтобы все это изложить, но тут же осеклась. Ведь тогда злоумышленник должен был сам наследить рядом с фальшивыми следами. Разве что он свесился с крыши и нарисовал следы палкой. Но снег на крыше тоже оставался нетронутым. Раздвоенные следы цепочкой тянулись через весь двор, уходили в лес и терялись под деревьями. Я глянула в ту сторону. Меж деревьев все еще поблескивала дорога.
Я ничего не сказала, и отец с матерью тоже промолчали, мы лишь смотрели и смотрели на лес, не в силах отвести взгляда. Из всех нас заговорила только Ванда.
— Это Зимояр, — произнесла она. — Зимояр приходил сюда.
Лесные цари и всякое там волшебное зверье совершенно не вязались с нашим двором и с курами. И мне очень трудно было представить, чтобы какой-то колдун явился сюда из леса поглазеть в наше окно. Ну что здесь может быть интересного? Моя узкая кровать прямо под окном, очаг с маленьким котелком, буфет, который отец сам смастерил в подарок матери, да мешки с зерном в кладовой. Самый обычный дом, обычнее не придумаешь. И все домыслы о чародеях и водяных показались мне еще более бредовыми. Я выпрямилась и снова посмотрела на следы, почти ожидая, что они чудесным образом исчезнут. Пускай они пропадут пропадом, а с ними и все смятение, которое они привнесли в нашу жизнь!
И вдруг отец принялся разметывать следы кочергой. Он медленно прошел вдоль всей цепочки, до самой опушки леса, волоча по следам кочергу, а потом, вернувшись к дому и затоптав остатки следов, подошел к нам и сказал:
— Больше ни слова об этом. Неизвестно, чьи это шутки, возможно всего лишь детские шалости. А ты, Ванда, займись своими делами.
Я, признаться, очень удивилась. Никогда я не слышала, чтобы он говорил таким резким тоном. Ванда колебалась. Она еще раз глянула туда, где только что были следы, но все же ступила на развороченный снег и принялась кормить кур. Мать стояла, плотно завернувшись в шаль, сжав губы и стиснув руки.
— Зайди-ка в дом, Мирьем, помоги мне с картошкой, — сказала она.
Мы с матерью зашли в дом, и она беспокойно окинула взглядом соседские дома и городской тракт. Но все соседи уже давно разбрелись кто куда по своим делам. На Зимоярову дорогу больше никто не глазел.
Отец же подошел к окну, что над моей кроватью, и, измерив его длину и ширину, сделал зарубки на палке из поленницы. Потом надел кафтан и шапку, взял топорик и ушел, прихватив с собой палку.
Я проводила его глазами, потом посмотрела на мать. Та выглядывала из окна на двор, который уже вовсю подметала Ванда.
— Мирьем, — заговорила мать, — твоему отцу нужен парень в помощь. Мы попросим брата Ванды ночевать у нас и будем ему за это платить.
— Платить за то, что он у нас ночует? Да если этот Зимояр и заявится сюда, какой прок от мальчишки? — Сказав это, я рассмеялась: придет же матери такая чушь в голову! Мне показалось тогда, что мать шутит, а потом я не могла вспомнить, отчего я так решила. Беседуя с матерью, я чувствовала себя едва очнувшейся от сна; будто бы этот сон еще не до конца растаял.
Но мать резко одернула меня:
— Не смей болтать о таких вещах. Чтобы я больше ничего подобного от тебя не слышала. И ни слова о Зимоярах, ни одной живой душе в городе.
Тут уж я совсем запуталась. О Зимоярах судачат все, кому не лень, — ведь дорога-то теперь рядом. И к тому же завтра базарный день, о чем я поспешила напомнить матери.
— Значит, не пойдешь на рынок, — отрезала мать.
Я, конечно, заспорила: у меня же товар из Вышни, его надо продать. Но мать взяла меня за плечи и сказала:
— Мирьем, послушай меня. Брат Ванды будет приходить к нам и ночевать у нас, а мы будем ему за это платить. Тогда Ванда никому не скажет, что у нас побывал кто-то из Зимояров. И ты никому не говори, что он наведывался к нам. — Я промолчала, а мать продолжила, уже мягче: — Два года назад неподалеку от Минаска шайка Зимояров напала на три городка вроде нашего. Они сожгли церкви и богатые дома и забрали с собой все золото до крупинки. Но деревню Йазуда, где жили евреи, они не тронули, все тамошние дома уцелели. Люди решили, что евреи в сговоре с Зимоярами. И с тех пор нет больше ни одного еврея в Йазуде. Ты поняла меня, Мирьем? Никому ни слова о том, что к нам наведывался Зимояр.
Лесные цари, волшебство и разные глупые выдумки оказались тут ни при чем. Теперь мне все стало ясно.
— Завтра я пойду на рынок, — задумчиво проговорила я. Мать хотела было возразить, но я перебила ее: — Если не пойти — все сразу это заметят. Я пойду, продам два новых платья, которые купила, и поболтаю о том, что нынче носят в Вышне.
Мать медленно кивнула, погладила меня по волосам и сжала в ладонях мое лицо. А после мы вдвоем уселись за стол чистить оставшуюся картошку. Со двора доносился мерный стук топора: Ванда колола дрова. Вскоре вернулся отец с охапкой веток. До самого вечера он сидел у очага, обстругивал эти ветки и мастерил из них небольшие решетки, которые потом прибил к оконным рамам.
Пока он работал, мать вязала и, не поднимая глаз от вязания, произнесла:
— Мы тут подумали: не позвать ли нам брата Ванды? Он мог бы ночевать у нас.
Отец, похоже, обрадовался.
— У меня душа не на месте всякий раз, как в доме деньги, — сказал он. — Крепкий парнишка нам пришелся бы кстати. Да и помощник не помешал бы — все-таки я не молодею.
— Может, тогда и коз заведем, — вздохнула я. — Он бы за ними присматривал.
— Мы хотели бы нанять парня в помощь. Чтобы ночевал у нас и помогал по хозяйству, — сказала мне Мирьем в тот день, когда вернулась. — Мы тут решили коз завести, так чтобы он и за козами приглядывал. Твой брат согласился бы на такую работу?
Я не сразу ответила. Сперва я хотела сказать «нет». Все те две недели, что Мирьем не было, я вела записи в ее книгах. Сама вела, в одиночку. Каждый день я совершала свой обход, и каждый день это были разные дома. Потом я возвращалась, готовила обед для себя и для заимодавца, а после усаживалась за стол с книгой, и руки мои слегка дрожали. Я касалась кожи переплета — такой мягкой. Тонкие странички были испещрены цифрами и буквами. Я листала страницы, одну за другой, отыскивая записи о тех домах, где я побывала нынче. Мирьем особой цифрой помечала каждый дом; цифра стояла и напротив имени его владельца. Я обмакивала перо в чернильницу, вытирала кончик, снова обмакивала и писала — очень медленно, старательно выводя каждую цифру. Потом я закрывала книгу, чистила перо и убирала чернильницу на полку. И все это я проделывала сама.
Летом, когда дни были долгими и я могла немного замешкаться у заимодавца, Мирьем научила меня писать цифры пером. После обеда она вела меня на двор и рисовала их в пыли — снова и снова. И она не только учила меня писать цифры. Она научила меня, откуда они берутся. Как из двух цифр получается одна, новая, и как из цифры можно вычесть сколько-то. И это были не маленькие цифры — те-то я и сама могла сосчитать с помощью камешков. Мирьем учила меня большим цифрам. Она рассказала мне, как из сотни пенни получается копейка, а из двадцати копеек — злотек и как из серебряной монеты снова сделать пенни.
Поначалу я боялась. Только через пять дней я отважилась взять в руки палку и повторить те линии и загогулины, что рисовала Мирьем. Она говорила об этом как о сущем пустяке, но я-то знала: меня обучают волшебству. Я и потом продолжала бояться, но уж больно мне было любопытно. Так я стала рисовать волшебные знаки в пыли. Затем мне дали истертое перо и старый обрывок бумаги. Я смешивала золу с водой на плоском камне и писала, а потом смывала — и мой листок от этого совсем посерел. Поэтому к концу зимы, когда Мирьем уехала в гости, я уже могла вести записи за нее. Я даже понемногу начала разбирать буквы. Имена с каждой страницы я знала на память. Я шептала имя себе под нос — и касалась букв, которые обозначали эти звуки. Если я ошибалась, Мирьем меня останавливала и говорила, как правильно. Она дарила мне волшебство, тайное знание. И я не хотела ни с кем этим знанием делиться.
Год назад я бы твердо ответила «нет». Но миновал уже почти целый год с тех пор, как я спасла Сергея от Зимояра. С тех пор, если я задерживалась, он грел ужин. Они со Стефаном собирали для меня с кустов и изгородей козью шерсть — за год ее скопилось довольно, чтобы я смогла связать себе теплую шаль ходить в ней в город. Сергей стал мне братом по-настоящему.
Поэтому я испугалась. И чуть не сказала «нет» из страха. А что, если он проболтается? Мне самой-то тяжело было держать язык за зубами. Каждый вечер перед сном я думала о шести блестящих серебряных копеечках, которые холодят мой кулак. Я складывала и складывала пенни, один за другим, и получала свои копеечки, пока ко мне не подкрадывался сон.
Я немного подумала и сказала:
— А если он будет работать, мы выплатим долг быстрее?
— Да, — подтвердила Мирьем. — Каждый день вы с братом будете получать два пенни. Один — в счет долга, второй — вам. И вот первый пенни за сегодня, держи.
Она вытащила чистый сияющий кругляшок и вложила мне в руку. Словно бы в награду за то, что я сказала ей «да» вместо «нет». Я уставилась на монету и сомкнула вокруг нее пальцы.
— Я поговорю с Сергеем, — кивнула я.
Я все ему рассказала — шепотом, в лесу, подальше от папаниных ушей. А он спросил:
— Так я, что ли, должен только в их доме ночевать? Я буду у них спать да за козами ходить — а они мне платить станут? Как это так?
— Разбойников они боятся, — пояснила я. И только я это сказала вслух, как тут же поняла, что нет, неправда это. А в чем правда, я никак не могла вспомнить.
Я тогда встала и будто бы взяла в руки корзину для кур и походила с ней туда-сюда. И вот тогда воспоминания о том утре начали возвращаться. Я вспомнила, что вышла на двор, спряталась за угол, чтобы ни хозяева меня не видели, ни куры, и давай жевать черствый хлеб из корзины. Вот тут-то я и заметила следы…
— Зимояр, — прошептала я. — К ним в дом Зимояр приходил.
Если бы Мирьем не сунула мне тот пенни, даже не знаю, как бы мы поступили. Отцовский долг тут уже ничего не значил. Никакой судья не заставил бы меня работать в доме, куда являются Зимояры и смотрят в окна. Но Сергей не сводил взгляда с монеты на моей ладони. И я тоже не сводила. И Сергей спросил:
— Каждому по пенни, каждый день?
— Один пенни в счет долга, — уточнила я. — А второй мы берем себе.
Сергей подумал и сказал:
— Ты тогда бери этот. А я возьму завтрашний.
Надо было предложить ему: мол, давай-ка сходим к белому дереву, спросим совета. Но я ничего такого не предложила. Потому что я, совсем как папаня, не хотела слышать матушкин голос, который говорит: «Не ходите туда, а то лихо накличете». Я понимала, что накличем. Но еще я понимала, что случится, если я оставлю работу у заимодавца. Стоит мне заикнуться об этом папане — он тут же скажет, что да, негоже мне ходить в дом, где знаются с дьяволом. Отведет меня на рынок и продаст за двух коз первому встречному, которому нужна женушка поздоровее, да без всяких там цифр в голове. Я небось и шести копеек-то не стою.
Поэтому я сказала отцу, что заимодавец ищет кого-нибудь, чтоб ходил за козами, и если бы Сергей взялся, то с долгом мы управились бы поскорее. Только Сергею надо будет там ночевать. Папаня помрачнел и ответил:
— Чтобы через час после рассвета дома был. И сколько тогда еще долг платить?
Сергей посмотрел на меня. А я уверенно произнесла:
— Три года.
Я-то думала, он заорет, с кулаками на меня накинется, скажет, что за дурища такая, два и два сложить не умеет. Но папаня в ответ прорычал:
— Пиявки и кровопийцы, вот они кто! — И, обращаясь к Сергею, добавил: — Скажи им, пусть завтраком тебя кормят. Тогда молоко у коз брать не будем.
Теперь у нас три года в запасе. В первый год каждый получает по пенни через день, а потом — каждый день. Мы с Сергеем на заднем дворе радостно ухватили друг дружку за руки. И он прошептал:
— А что мы на это купим?
Я не знала, что ответить. Я никогда не размышляла, как потрачу деньги. Я просто мечтала ими владеть. Настоящие деньги в моих руках — вот о чем я думала. А Сергей прибавил:
— Если мы что-то купим себе, он узнает. И все отберет.
Хорошо хоть папаня меня на рынок не тащит, подумала я. И того довольно. Приноси я каждый день в дом пенни — он бы только радовался, что я работаю у заимодавца. Но затем я представила, как он отбирает у меня пенни. Как блестящие монетки одна за другой ложатся к нему в ладонь. А он идет в город, и пьет там, и играет напропалую, и плевать он теперь хотел на работу. То-то папаня будет счастлив — и так день за днем. Живот мне скрутило изжогой.
— Ничего он от меня не получит, — прошептала я. — Ни единой монеточки.
Но что делать с деньгами, мы все равно не знали. И тогда я сказала:
— Мы их спрячем. Все спрячем, что заработаем. Если будем работать три года, у нас скопится по десять копеек у каждого. А это один злотек. Золотая монета. Мы заберем Стефана и уйдем.
Куда мы уйдем? Я понятия не имела. Зато была уверена, что с такими деньгами мы где угодно не пропадем. Иди куда вздумается и делай что вздумается. Сергей кивнул: он был согласен.
— А где мы будем прятать деньги? — спросил он.
Так что волей-неволей пришлось нам идти к белому дереву. Под могильным камнем матушки мы выкопали ямку, положили туда пенни и снова завалили камнем.
— Матушка, милая, сбереги это, — попросила я. И мы поспешили прочь, не дожидаясь, пока что-нибудь случится. Сергею тоже не очень-то хотелось слышать, как матушка нас отговаривает.
Вечером после обеда Сергей отправился в город. Я ему из тряпья сделала что-то вроде чепца на голову, чтобы уши не замерзли. Стоя на переднем дворе, я глядела ему вслед. Зимоярова дорога все так же поблескивала возле леса. Она светила не как лампа, а скорее как звезды на облачном небе. Смотришь на нее в упор — и не видишь. А отвернешься — и она тут как тут, блестит, а ты ее замечаешь лишь краем глаза. Сергей, как мог, старался держаться от нее подальше. К лесу он даже не совался, а все жался к обочине деревенской дороги — к той, что подальше от деревьев. Иногда ему приходилось шагать по снегу рядом с утоптанной дорогой. Вскоре Сергей скрылся в темноте.
Утром я сама отправилась в город. На снегу все еще были видны следы Сергея. Лучше бы он шел по дороге, думала я. Мне было страшно: а вдруг следы где-нибудь возьмут и оборвутся? Но они не оборвались, а привели меня прямо к дому Мирьем, где Сергей сидел за столом и уплетал пахучую гречку. У меня тут же слюнки потекли. Мы-то дома больше не завтракали: еды не хватало.
— Ночью все тихо было, — сообщил мне Сергей.
Я подхватила корзину и отправилась на двор. Среди зерна завалялась целая горбушка, еще мягкая в середине. Я сжевала ее и пошла к курам. Но куры куда-то вдруг подевались.
Я медленно приблизилась к курятнику. Вокруг него весь снег был в следах — копыта вроде оленьих, но больше и с когтями. Окошко наверху, которое я вчера закрыла, оказалось открыто, будто кто-то заглядывал внутрь. Я нагнулась и просунула руку в курятник. Куры все сбились в кучу, нахохлились, встопорщили перья. Яиц оказалось всего три, все маленькие. Я их вытащила наружу. Одно было беловато-серое, как зола в очаге.
Я зашвырнула серое яйцо подальше в лес и подумала: может, замести следы и прикинуться, что ничего не видела? А то вдруг заимодавец скажет Сергею больше не приходить, раз уж он проворонил Зимояра. Вдруг они и меня отошлют заодно? А если замести следы, они и забудутся — вчера ведь так и случилось. Были следы — и нет следов, и никто о них ни сном ни духом. И я пошла за метлой, которой обычно мела двор. Но метла стояла прислоненная к стене дома, а там оказалось видимо-невидимо следов. В этот раз не копыта, а сапоги. Зимояр побывал на заднем дворе и трижды прошелся туда и обратно вдоль стены — как раз там, где спали заимодавец с семьей.
Глава 5
Брат Ванды оказался мальчишка как мальчишка: долговязый, нескладный и неотесанный. Такой недокормленный жеребенок с костлявыми локтями и запястьями. В первый же вечер он объявил, что отец отпускает его, только если мы его кормим ужином и завтраком. И когда он уселся за стол, я сразу подумала, что Горек молодец, своего не упустит. Потому что ел-то этот парнишка за троих. При нынешних ценах съедал он на второе жалованье, никак не меньше. Но я ничего не сказала. Даже не возражала, если мать подсовывала ему еще хлеба с маслом. Родители унесли мою кровать к себе в спальню, а Сергею дали пару одеял и устроили его на моем прежнем месте.
Я проснулась в самый темный час, посреди ночи. Отец прошел в гостиную, скрипнула дверь, и в дом влетел порыв ледяного ветра. Я услышала, как Сергей стряхивает снег с башмаков и говорит отцу:
— Ничего, все тихо.
— Иди спать, Мирьем, — негромко позвала мать. — Сергей просто глянул, как там на дворе.
В ту ночь меня еще дважды будили отцовские шаги и острые уколы стужи. Я открывала глаза, но почти сразу снова закрывала. Ничего не случилось. Утром мы проснулись и принялись варить гречку. Сергей на дворе вбивал в землю столбики — делал сарай для коз. Зимоярова дорога была на месте, меж деревьев, но когда я вгляделась попристальнее, то мне показалось, будто она чуть отступила. День выдался сумрачный, холодный, солнце не показывалось, но дорога все равно сверкала. До меня доносились звонкие голоса: ребятня гомонила неподалеку от нашего дома. Мальчишки подначивали друг дружку кинуть камень в Зимоярову дорогу или потрогать ее.
Когда появилась Ванда, ее брат все еще сидел за столом и завтракал. Она сразу же ушла кормить кур. Вернулась она с почти пустой корзиной — на дне лежали только два яйца, а ведь у нас сейчас девять несушек. Ванда водрузила корзину на стол, и мы все вперили взгляд в эти яйца. Они были какие-то маленькие и очень уж белые. И тут Ванда нежданно-негаданно объявила:
— Там, за домом, еще следы.
Мы пошли смотреть. Я их мгновенно узнала, хотя почти успела позабыть, как они выглядели в прошлый раз. Я и вовсе о них позабыла бы, если бы Ванда не напомнила. Кто-то, обутый в остроносые сапоги, рыскал под стеной спальни — прошел три раза туда и обратно. А возле курятника потоптался зверь с раздвоенными копытами — словно лиса, вынюхивающая, где тут лазейка. Куры все сбились в нахохлившуюся пернатую кучу.
— Я смотрел, клянусь! — испуганно воскликнул Сергей.
— Ничего страшного, Сергей, не переживай, — успокоил его мой отец. — Это просто те сорванцы шалят.
Ванда подмела двор, а два яйца мы выкинули в мусор. По дороге в дом мать крепко обнимала меня за плечи.
Сергей ушел домой к отцу, а Ванда покончила с уборкой и отправилась за водой. Следы в этот раз не шли у меня из головы — а ведь я была бы не прочь их забыть. И все же, когда Ванда вернулась, я решительно встала и как ни в чем не бывало произнесла:
— Идем на рынок.
Я закуталась в шаль, и мы пошли. В сторону леса я старалась не смотреть. Студеный ветер обвивался вокруг моих щиколоток, норовил скользнуть под длинный подол. Но я упрямо не оборачивалась. Не проверяла, серебрится ли меж деревьев Зимоярова дорога.
Ванда тащила за мной корзину со всякими побрякушками, которых я набрала в Вышне. Помимо побрякушек в этой корзине лежали два платья, купленные мною в порыве дерзкого расточительства, — мать ни за что не приняла бы от меня такой подарок. Это были теплые платья, шерстяные, и к тому же красивые: по подолу яркими пятнами разбегались большие цветы — темно-зеленый, глубокий синий на красном. Я направилась прямиком к прилавку портнихи Марьи, развернула перед ней два подола и сказала:
— Гляди, такой узор в этом году носят в Вышне.
Вокруг меня тут же столпились женщины. Модные новинки отвлекли их и надежной стеной защитили меня от слухов и пересудов. Здешним сплетницам роскошный узор куда интереснее всяких там Зимояров, тем более что о них и думать-то никому не хотелось. И по рыночной площади никакие Зимояры не слонялись. Марья, разумеется, поинтересовалась, сколько я хочу за эти наряды. Ответила я не сразу. Шесть женщин стояли возле меня, алчно глазея на платья, как сороки на блестящую вещицу. Я чуть было не поддалась искушению отдать платья по бросовой цене — чтобы расположить к себе покупательниц. Если вдруг кто заведет разговор о Зимояровой дороге и о том, как близко пролегла она к нашему дому, эти женщины будут вроде как на моей стороне. Внезапно я осознала, что в чем-то понимаю отца.
Я вдохнула поглубже и выпалила:
— Ох, даже не знаю, стоит ли мне их продавать. Видите, сколько в них вложено мастерства. Самые искусные руки в Вышне над ними трудились. Они сшиты для свадьбы. И мне недешево встало купить их и привезти сюда. Меньше чем за злотек я их продать не могу.
Я весь базарный день простояла на одном месте, а женщины подходили, смотрели на наряды ценой в злотек и перешептывались насчет вышивки, и кроя, и ярких цветов. Они внимательно изучали швы и согласно кивали, когда я с важным видом расписывала им, с каким тщанием и сноровкой выполнены эти мелкие стежки и какие тут использованы тончайшие нити. А между делом я продала им остальной товар — все, что я привезла из Вышни. И за каждую безделицу я выручила больше, чем заплатила, — словно отсвет великолепия платьев падал и на обычные побрякушки тоже. А под конец дня объявился сборщик податей. Он любил время от времени сам потолкаться на рынке, хотя у него для этих дел имелся слуга. Сборщик торжественно вручил мне два злотека и забрал оба платья в сундук с приданым для своей дочки.
Я вернулась домой, и сердце мое колотилось от яростного ликования. И все же мне было страшно: продавая их, я ничего не могла с собой поделать. А ведь за каждое платье я отдала в Вышне всего-навсего копейку. Дома я выложила на стол два злотека, да еще кучу пенни и три копейки, заработанные в придачу. Отец с матерью молчали. Потом отец еле слышно вздохнул.
— Ну что ж, моя дочь и впрямь мастерица обращать серебро в золото, — произнес он сокрушенно. И погладил меня по голове, точно жалел меня, вместо того чтобы мною гордиться.
К моим глазам подступили злые горючие слезы, но я стиснула зубы, сгребла золото в кошель и вручила матери горшочек засахаренных вишен. Это лакомство я купила для нее. После обеда мать заварила крепкий чай и выложила вишни на стеклянную тарелку крошечной серебряной ложечкой — остатки чайного прибора из ее приданого. Большая часть этого прибора давным-давно, когда мы голодали, ушла на рынке в чьи-то чужие руки. Мы опускали сахарные ягоды в чай, выпивали сладкий горячий напиток и съедали все до одной чуть согретые вишенки, деликатно снимая ложкой косточки с губ.
Ванда убрала со стола, повязала свой платок и приготовилась уже идти домой, но тут внезапно потемнело. В окнах густо повалил снег, и когда мы открыли дверь, то даже не сумели разглядеть соседний дом — настолько сильный был снегопад. А вот Зимоярова дорога в другой стороне еще просматривалась и поблескивала. И мне даже на миг почудилось, будто среди деревьев на дороге кто-то двигается.
— Куда ты пойдешь в такое ненастье? — сказала мать Ванде. — Подожди, пока развиднеется.
Но вьюга не утихала допоздна. Она даже ничуть не ослабела. Вечером отец с Вандой вышли на двор разгрести снег вокруг курятника и почистить крышу, чтобы куры не задохнулись. Мы и сами-то были как те куры — сгрудились испуганно в доме. Куда-то подевался запах стряпни — а ведь жаркое все еще грелось на огне, да и мать сунула в золу несколько картофелин, чтобы испечь к ужину. Воздух почему-то сделался стылый, едкий, от него ощутимо покалывало в ноздрях, и не было в нем ни тепла, ни жизни, ни даже запаха земли и палой листвы. Я попыталась было сесть за свои книги, а потом пошить — но куда там: стояла такая темень, что даже свеча светила не дальше стола.
— Что это мы сидим такие унылые? — произнес наконец отец. Мы и правда сидели всем скопом, набычившись под меховыми плащами, шалями и одеялами. — Давайте-ка лучше споем.
Ванда слушала наше пение, и, когда мы сделали паузу, чтобы перевести дух, она вдруг спросила:
— Это что, волшебство?
Отец перестал петь, а мать ответила твердым тоном:
— Ну конечно же, нет, Ванда. Это гимн Богу.
— А-а, — протянула она и умолкла. Но мы тоже молчали, и тогда она спросила еще: — Значит, это их отпугивает?
Чуть помедлив, отец негромко проговорил:
— Я не знаю, Ванда. Господь не спасает нас от страданий в земной жизни. Зимояры подобны горю и недугам — они чинят беды и праведным, и грешным.
И он по памяти рассказал нам историю Иова. История эта вообще-то мало утешает — если, конечно, вам ее конец не кажется счастливым. Мне, например, не кажется. Но в тот вечер отец так и не добрался до конца. Он как раз дошел до того места, где Иов горюет об утраченной семье и стенает по поводу немилости Божьей, — и тут раздался сокрушительный удар в дверь. Словно в нее со всей мочи ткнули концом тяжелого посоха. Мы все подскочили, отец прервал рассказ. Мы сидели молча и смотрели на дверь. Наконец отец сказал:
— Напрасно Сергей затеял приходить в такую погоду.
Он поднялся и двинулся к двери. Я хотела закричать, остановить его. Ванда, съежившись под своими одеялами, опасливо таращилась ему вслед. Она не верила, что это ее брат стоит на пороге. Да и отец-то в это не верил. По пути к двери он прихватил кочергу. Отец встал на пороге и резко толкнул дверь левой рукой, держа кочергу на изготовку.
Но за дверью никого не оказалось. Даже ветер не ворвался внутрь. Вьюга улеглась так же внезапно, как началась. На дворе стояла обычная ночная темнота. Несколько редких снежинок, покружившись на свету от очага, опустились у порога. Я глянула в зарешеченное окно на лес: Зимоярова дорога исчезла.
— Что там, Йозеф? — спросила мать.
Отец все так и стоял в дверях, опустив взгляд. Я откинула одеяла, подошла к нему и встала рядом. Снаружи даже холодно уже не было: тепла моей шали вполне хватало, чтобы согреться. На тропинке к дому снега теперь было мне по колено, даже под карнизами намело, и наше старое каменное крыльцо тоже укрывал глубокий слой снега. Цепочка раздвоенных следов тянулась вокруг дома с заднего двора, а прямо перед домом на свежем снегу виднелись отпечатки остроносых подошв. В самой середине крыльца, едва придавливая снег, лежал завязанный мешочек из белой кожи.
Отец огляделся. Соседний дом уже можно было различить в темноте. Все окрестные дома теперь походили на стайку толстеньких белых грибов; только окошки светились желтым над занесенными снегом подоконниками. На улице не было ни души, но, пока мы смотрели, в одном из окон показалась детская ручонка и протерла кружок на морозном стекле. Отец быстро нагнулся, поднял кожаный мешочек и внес его в дом. А я закрыла за ним дверь.
Отец положил мешочек на стол. Мы встали вокруг и во все глаза на него смотрели, словно в этом мешочке скрывался раскаленный уголь, который вот-вот спалит наш дом дотла. Мешочек был сделан из кожи, только эту кожу, кажется, окрашивали каким-то неизвестным мне способом. Или она всегда была белая, что ее и красить не пришлось. И нигде не было видно ни единого шва, ни единого стежочка. Никто не смел первым прикоснуться к мешочку, и тогда я решилась. Я дернула за белую шелковую тесемку, что стягивала горловину, и высыпала на стол монеты. Шесть маленьких серебряных копеек — тонких, плоских, круглых — горкой легли на стол, звякнув как бубенчики. Дом весь был залит теплым светом от очага, но монеты блестели холодно, точно не в доме, а под луной.
— Они очень добры, что сделали нам такой подарок, — глухо проговорил отец.
Все знают, что от Зимояров никаких подарков ввек не дождешься. Бывают, конечно, истории о всяких волшебных созданиях, которые являются к людям с дарами. Бабушка иногда рассказывала мне похожую историю: она слышала ее от своей бабушки, а та — от своей. Будто бы, когда прапрабабушка моей бабушки была еще девочкой и жила на западе, в Элькурте, она нашла раненую лису. Та истекала кровью у окна в мансарде, где была девичья спальня, — видно, лисицу потрепала собака. Бабушкина прапрабабушка взяла ее в дом, перевязала рану, напоила и уложила к себе на колени. И та вдруг заговорила человеческим голосом: «Ты спасла мне жизнь, и однажды я отблагодарю тебя». С этими словами лисица выпрыгнула из окна и скрылась. Прошло много лет, девочка выросла, у нее родились свои дети. И как-то раз в кухонную дверь кто-то поскребся. Она отворила — за дверью стояла та самая лисица. И лисица сказала: «Возьми всю семью и все деньги, что есть в доме, и спрячьтесь в погребе».
Бабушкина прапрабабушка поступила как велела ей лисица. Едва все ее семейство укрылось в погребе, как раздались свирепые голоса. Какие-то люди ходили по дому, опрокидывали мебель и крушили все подряд — прямо над погребом. А потом вдруг запахло дымом. Но почему-то погромщики не нашли погреб, и пламя с дымом туда не добралось.
Бабушкина прапрабабушка и ее семья отважились выбраться наружу только ночью. И они увидели, что от дома осталось пепелище, и синагога тоже сгорела, и соседские дома вокруг. Потому мои предки взяли то немногое из имущества, что уцелело, наняли возчика, чтобы вез их на восток, и отправились в Вышню. Тамошний герцог был благосклонен к евреям, если у тех водились деньги.
Но бабушкина история была про совсем другие края. А про Зимояров таких историй вы не услышите. Здесь вам поведают, что однажды в крестьянский амбар забрел чудной белый зверь с раненым Зимояром, едва державшимся на его спине. Крестьяне перепугались, внесли Зимояра в дом и перевязали его раны. И когда он очнулся, он взял меч и убил всех своих спасителей, а потом запрыгнул на своего скакуна и умчался в лес, все еще истекая кровью. А узнали об этом только потому, что хозяйка велела двум своим ребятишкам спрятаться наверху, в сене, и носа оттуда не показывать, пока Зимояр в доме.
Поэтому нам было ясно, что Зимояры подбросили нам серебро не от сердечной щедрости. Но тогда зачем, спрашивается? Кошелечек лежал на столе, и монеты сверкали в них словно таилось послание, которое нам надлежало прочесть. Мать тяжко вздохнула, посмотрела на меня и тихо произнесла:
— Они хотят, чтобы ты обратила это в золото.
Отец сел за стол, закрыв руками лицо. Я сама во всем виновата, я это понимала. Нечего было в санях посреди леса болтать о том, что я обращаю серебро в золото. Зимояры всегда жаждут золота.
— Мы возьмем деньги из банка, — сказала мать. — Хорошо, что у нас они есть.
— Завтра же я отправлюсь в Вышню, — отозвалась я.
А потом я вышла на двор. Я стояла, глядя на свежий снег, и стискивала кулаки. Снег уже подмерз и затвердел: сани по насту полетят с ветерком. В кошелечке лежат шесть копеек; в прошлый свой визит я положила в банк четырнадцать золотых монет. Что мне стоит заплатить Олегу, одним духом домчаться до Вышни, взять из дедушкиного банка шесть золотых монет и отдать их Зимоярам? Шесть монет, ради которых я трудилась не покладая рук, отдать просто за то, чтобы меня оставили в покое.
Ванда, закутанная в шаль, вышла покормить козу, которую мы вчера привели с рынка. Сергей, разумеется, в такую непогоду не явился, а ей уже поздно было идти домой. Ванда посмотрела на меня, молча зашла в сарай, а выйдя, вдруг спросила:
— Вы отдадите им свое золото?
— И не подумаю! — гневно отрезала я, больше обращаясь к Зимоярам, чем к Ванде. — Они хотели, чтобы я обратила серебро в золото. Так я и сделаю.
Глава 6
Наутро Мирьем взяла Зимояров кошелек и пошла просить Олега, чтобы тот свозил ее в Вышню. Она не приказала мне делать записи в книгах. Даже не напомнила, чтобы я собрала платежи с заемщиков. Уселась в сани и укатила, а взгляд у нее был, как река, подернутая льдом. Ее мать в накинутой на плечи шали провожала ее, стоя у калитки. Она долго еще не сходила с места, даже когда сани скрылись из виду.
Но я и без напоминаний свое дело знала. Я взяла корзину и отправилась в свой обход. Шел шестой день месяца, поэтому сегодня я собирала платежи в городке. Никто никогда мне не радовался, а вот Кайюс всегда улыбался, будто мы с ним задушевные приятели. Хотя с чего бы нам Дружбу водить? Когда я только начинала работать на Мирьем, он всегда расплачивался кувшинами с крупником. Мирьем этого не любила, потому что он-то продавал свой крупник на рынке каждую неделю свеженьким да горяченьким. Понятно, что все предпочитали брать у него, а не у Мирьем. Если набирался десяток кувшинов, она пристраивала их на постоялом дворе неподалеку — но ведь их туда еще доставить надо было, а это тоже денег стоило. Так что возни с этим крупником получалось больше, чем выгоды.
Как-то раз он всучил мне порченый крупник. С виду-то кувшин был как кувшин. Мирьем понюхала горлышко у самой пробки, откупорила — и сразу пахнуло гнилыми листьями. Она поначалу сердито скривилась, но потом велела мне поставить кувшин отдельно от остальных, в уголке. А в следующие два месяца Кайюс снова подсунул мне порченые кувшины, один за другим. И после третьего такого кувшина Мирьем выдала мне все три пробки и послала к нему, чтобы я ему сказала: мол, три порченых — это уж слишком, и отныне она платежи крупником не принимает. Я ему так и передала, и в этот раз улыбаться он не стал.
А вот нынче снова заулыбался.
— Заходи, погреешься, — позвал он, хотя на улице было уже не очень-то холодно. — Тебе придется подождать немного. Мой старшенький понес панове Людмиле свежий товар. Вернется с деньгами — я тебе и отдам.
Кайюс даже угостил меня стаканом крупника. Обычно деньги у него уже лежали наготове и не было нужды приглашать меня в дом.
— Так Мирьем поехала в Вышню за новыми платьями? Дела у нее, видать, неплохи! Повезло ей с тобой — есть кому приглядеть за всем, пока ее нет.
— Благодарствую, — вежливо отозвалась я. — Вкусный крупник.
Похвалила, а сама подумала, что он небось задобрить меня хочет. Многие пытались, не он один. Хотя я никак не могла понять: неужто они и правда надеются, что я их слушать стану? Ну, принесу я Мирьем меньше, чем требуется, совру ей, скажу, что у таких-то вовсе денег нет. Так она же просто запишет цифру поменьше в свою книгу, но долг-то выплачивать все равно придется — не в этот раз, так в следующий. А когда придет срок уплаты, они возьмут да скажут, будто бы я украла деньги — ведь только так они выгоду поимеют. Раз они Мирьем хотят надуть, значит, и меня надуют за здорово живешь.
— Да, Мирьем своего не упустит, — покивал Кайюс. — Ведь какую работницу себе в помощь отыскала! Ты ж не одним только личиком вышла. А вот и Лукас.
Вошел его сын с ящиком пустых кувшинов. Чуть постарше Сергея и не такой высокий, как Сергей и я. Но зато лицо у этого парнишки было покруглее, да и мяса на костях наросло побольше нашего. Он-то явно голодным не ходил. Парень оглядел меня с головы до ног, и отец сказал ему:
— Лукас, отсчитай семь пенни для заимодавца.
Лукас вложил мне в руку семь монет. Это было больше чем надо.
— У меня в последнее время дела идут на лад, — усмехнулся Кайюс и по-приятельски подмигнул мне. — Уж эта стужа! Людям надо чего-то горяченького залить в брюхо. Вы-то у себя в ноле, верно, совсем окоченели, — прибавил он. — Отец твой что-то давненько не захаживал.
— Да, — кивнула я. И впрямь не захаживал, потому что пропивать ему было нечего.
— Вот, возьми-ка. — Кайюс протягивал мне запечатанный кувшинчик. Совсем маленький — он такой в базарный день отдает за несколько медяков, если кувшин вернешь. Я замялась. Чего это он? Он ведь сполна за сегодня все выплатил. Но Кайюс всунул кувшинчик мне в руки. — Да бери, — сказал он. — Отнесешь отцу в подарок. А после, как случай будет, кувшин вернешь.
— Благодарствую, панов Симонис, — выдавила я. Потому что как еще ответить? Нести отцу кувшин крупника мне не больно-то хотелось. Ведь известное дело: папаня напьется — и нас всех поколотит. Но деваться мне было некуда. В следующий раз папаня притащится в город, и Кайюс его спросит: ну как там мой подарочек, в охотку ли пошел? Тут-то папаня и поймет, что я утаила от него подарочек, и мне все равно достанется. Поэтому я затолкала кувшин к себе в корзину.
В других домах меня крупником не поили. Просто отдавали деньги, и все. Марья, портниха, — единственная, кто со мной хоть чуть-чуть разговаривал.
— Мирьем, значит, покатила в Вышню за новыми платьями? — вдруг спросила она меня. И вручила мне только один пенни. — Долог путь, да и товар недешев. Уж не знаю, продаст ли она еще кому свои наряды.
— Я не знаю, за платьями ли она поехала, Панова, — отозвалась я.
— Мирьем себе на уме, а до остальных ей и дела нет, — фыркнула Марья и хлопнула дверью прямо у меня перед носом.
Я вернулась в дом заимодавца и разобрала что принесла. Один из заемщиков отдал мне курицу, которая перестала нестись, — такую только в суп.
— Хотите, приготовлю ее сегодня, Панова Мандельштам? — спросила я у матери Мирьем. — Я бы ей шею свернула да ощипала, вы только скажите.
Мать Мирьем склонилась над шитьем, и когда я заговорила с нею, она подняла голову и заозиралась, словно искала кого-то.
— А где Мирьем? — спросила она, будто позабыв, но тут же спохватилась и покачала головой. — Ох, какая же я глупая! Она же поехала в город за платьями!
— Да, она поехала в город за платьями, — медленно повторила я. Только что-то в этом было не то. Но ведь она именно за платьями и поехала. Все так считали.
— Сейчас в доме довольно еды, — продолжила мать Мирьем. — Посади эту курицу к остальным, пусть пока походит. А сама возвращайся в дом, уже обедать пора.
Я посадила курицу в курятник. Я стояла и разглядывала снег — глубокий, нетронутый. У стены метла, наполовину занесенная снегом. Я же вот этой самой метлой вчера заметала следы Зимояра, который бродил тут на ночь глядя. И он еще оставил Мирьем кошелек с серебром, чтобы она обратила его в золото. Я вся затряслась и поспешила назад в дом, чтобы забыть обо всем этом поскорее.
После обеда я засобиралась домой. Отец и так, наверное, взбесился, оттого что я из-за снегопада не явилась и кормить его было некому. Зато я подмела пол, проверила, как там куры, и сделала все положенные записи в книге. Спать меня положили на Сергееву постель, и мне спалось тепло и уютно в большой теплой комнате с очагом. Там пахло тестом, и жарким, и медом, и гречкой. У нас дома ничем таким не пахло. Мать Мирьем дала мне на обед кружку свежего жирного коровьего молока из того большого ведра от Пановы Гизис и вручила два серебряных пенни — за два дня, хоть Сергей прошлой ночью и не появлялся. А еще она дала мне узелок с хлебом, маслом и яйцами.
— Сергей же не съел свой ужин и завтрак, — объяснила она.
Я закуталась в платок и пошла, и ее щедрость оттягивала мне руку.
Я сделала крюк через лес и спрятала узелок в корнях белого дерева. А два серебряных пенни я закопала — получилось две стопки монет: моя и Сергея. Только после этого я пошла домой. Дома сидел Стефан — пытался мешать в горшке затвердевшую овсянку. На лице у него красовалась красная отметина, и он морщился, когда шевелился. Вид у Стефана был самый несчастный. Вчера вечером отец велел ему приготовить ужин, а Стефан не знал, как это делается, вот отец его и взгрел.
— Посиди пока, — сказала я ему. — У меня кое-что припасено.
Я разбавила кашу водой и приготовила капусты. Вернулся отец — злой как собака. Еще с порога, не успев снять сапоги, принялся орать, что нечего мне было торчать в городе из-за какого-то мелкого снежка, который к тому же мигом закончился. И пускай заимодавец вычтет из долга лишний пенни за то, что я была всю ночь у него в доме.
— Я ему передам, — поспешно сказала я, бухая на стол горшок с капустой, пока он еще не вошел в дом. — У меня для тебя подарок, отец. От Панова Симониса. — И я водрузила на стол кувшин крупника. По крайней мере, прямо сейчас он меня лупить не будет, а потом напьется.
— С чего это Кайюс такой добренький? — осведомился папаня и недоверчиво понюхал пробку. Но крупник оказался непорченым, и вскоре отец уже вовсю тянул его большими глотками, налегая заодно и на капусту с овсянкой. Он прикончил половину; мы сжевали свою долю, не поднимая глаз.
— Надо хвороста набрать на растопку, раз меня дома вчера не было, — сказала я.
Папаня возражать не стал. Сергей со Стефаном выскользнули из дома следом за мной, и я отвела их к белому дереву. Узелок был там, где я его оставила, его даже не подморозило. Мы поделили еду на троих, а после братья помогли мне набрать хвороста. Потом Сергей ушел по дороге в город. А мы со Стефаном спрятались за поленницей; он тесно прижался ко мне, согревая меня. Мы сидели и через щель в стене слушали, как папаня в доме распевает песни.
Он вдруг перестал распевать и позвал меня во всю глотку. Я не ответила.
— И где ее носит, дурищу! — зарычал папаня. — Огонь сейчас погаснет!
Он еще долго не утихомиривался. Наконец улегся и захрапел. У нас со Стефаном уже зуб на зуб не попадал. Мы неслышно прокрались в дом, поворошили огонь, чтобы не погас к утру, и я поставила вариться гречку на завтрак. Я показала Стефану, как ее готовить, чтобы он знал в следующий раз. А потом мы залезли в постель и заснули. Наутро папаня шесть раз врезал мне ремнем за то, что меня где-то носило, хотя огонь не потух и завтрак стоял на столе. Думаю, он лупил меня больше за то, что вчера не пришла — ему и злость сорвать было не на ком. Но голова у папани раскалывалась, и есть ему хотелось страшно, поэтому, когда Стефан поставил на стол горшок с гречкой, он от меня отстал и уселся за стол. А я утерла лицо, проглотила слезы и уселась рядом.
Олег доставил меня в Вышню уже ближе к ночи. Я переночевала у дедушки, а наутро отправилась на рынок в нашем квартале и принялась расспрашивать всех встречных, пока не отыскала лавку Исаака-ювелира, того самого, за которого собиралась замуж моя кузина Бася. Это был молодой человек приятной внешности, в очках, с коротенькими, но чуткими пальцами, с крепкими зубами и красивыми карими глазами. Борода у него была коротко обстрижена, чтобы не мешала при работе. Склонившись над малюсенькой наковаленкой, Исаак с небывалой точностью орудовал крошечными инструментами — выковывал серебряный диск. Я минут десять простояла у него над душой и смотрела, как он работает, пока наконец он не соизволил оторваться:
— Да? — Судя по голосу, он бы предпочел не отвлекаться. Ему словно хотелось, чтобы я, постояв еще, отправилась восвояси и оставила его в покое. Я вытащила белый мешочек и высыпала шесть копеек на черную ткань, покрывавшую прилавок. Исаак едва взглянул на монеты:
— На это тут ничего не купите. — Произнеся это будничным тоном, ювелир вернулся к работе, но тут же слегка нахмурился и снова обратился к моим копейкам. Он взял одну и внимательно рассмотрел, повертел в пальцах, потер, положил на место и поднял на меня взгляд: — Откуда это у вас?
— Хотите верьте, хотите нет, но это от Зимояров, — отозвалась я. — Можете сделать из них что-нибудь? Кольцо или браслет?
— Я куплю их у вас, — предложил он.
— Нет, спасибо, — ответила я.
— Сделать из них кольцо обойдется вам в злотек, — сказал Исаак. — Или я беру у вас все за пять.
Мое сердце забилось чаще: если он дает мне пять злотеков, значит, сам надеется продать дороже. Но торговаться с ним я не стала. У меня было другое предложение:
— Я должна отдать Зимояру шесть золотых монет в обмен на эти. Я плачу вам злотек, и вы делаете для меня кольцо. Или же вы сами продаете свое изделие, из выручки мы вычитаем шесть злотеков для Зимояра, а остаток делим пополам. — Именно на это я и рассчитывала. Все-таки Исаак больше меня понимает в торговле кольцами. — Кстати, я Мирьем, кузина Баси. — Эти сведения я приберегла напоследок.
— А-а, — кивнул Исаак. Снова посмотрел на шесть монет, поворошил их пальцами и наконец согласился. Я устроилась на табурете за прилавком, а ювелир принялся за дело. Он расплавил монеты в маленьком жарком горне, который был общим у всех ювелиров и стоял посреди их лавок. Серебряную жидкость Исаак вылил в массивную железную форму. Дав серебру немного остыть, он выудил кольцо и нанес на его поверхность причудливый узор из ветвей и листьев.
Времени это заняло немного: серебро плавилось легко, и остывало легко, и легко поддавалось его крошечному резцу. Когда кольцо было готово, Исаак положил его на черный бархат, и мы оба молча воззрились на украшение. Узор двигался и менялся как живой — от него невозможно было отвести взгляд. Кольцо ярко сверкало на полуденном солнце.
— Его купит герцог, — сказал Исаак и велел ученику сбегать в город. Мальчик привел с собой высокого надменного слугу в бархатном костюме с золотыми нашивками. Вид у него был недовольный, как у человека, которого оторвали от важных дел, чем бы он ни занимался. Но стоило ему увидеть кольцо и взять его в руки — недовольства как не бывало.
Слуга выложил за кольцо десять злотеков и унес покупку в запертой шкатулке, трепетно сжимая ее обеими руками. Исаак держал на ладони десять золотых монет, и все равно мы с ним оба не двинулись с места. Мы сидели и глядели в спину удаляющемуся слуге, точно кольцо не хотело отпускать нас. Слуга становился все меньше и меньше, и все же я легко различала его в плотной базарной толпе. Наконец он миновал ворота квартала и скрылся из виду. Теперь ничто не приковывало наши взоры и мы могли сполна насладиться нашей добычей — десятком злотеков, в которые обратилось серебро Зимояра.
Шесть я засунула назад, в белый Зимояров кошелечек. Два получил Исаак — хорошая прибавка к выкупу за невесту. А два оставшиеся я отнесла дедушке, чтобы он положил их в банк к остальным моим сбережениям. Дедушка одарил меня скупой улыбкой. Он явно остался доволен: слегка надавил мне на лоб указательным пальцем и сказал:
— Ты моя умница-разумница.
И я улыбнулась в ответ — такой же скупой, но довольной улыбкой.
— Ну куда ты поедешь, поздно уже! — укорила меня бабушка, когда после обеда я засобиралась домой. Была пятница.
— Я доберусь еще засветло, если мы поторопимся, — заверила я. — Олег ведь будет править, не я.
Олег остался в Вышне дожидаться меня — в счет следующего платежа. Мне так выходило дешевле, чем нанимать возчика в городе. Олег переночевал в дедушкиной конюшне с лошадью, но дольше он задерживаться не захотел бы, по крайней мере без оплаты. А завтра мы могли выехать только по окончании шаббата, как сядет солнце. Но как бы то ни было, Зимояры вряд ли соблюдают шаббат, а я пока еще не очень-то понимала, как отдам им деньги. Я думала, что, наверное, положу кошелечек на крыльцо — пусть приходят и забирают.
— Она успеет вовремя, — твердо произнес дедушка, тем самым отпуская меня. Я взобралась в Олеговы сани.
Нам хорошо ехалось по мерзлому снегу; лошадка бойко рысила вперед с нетяжелыми санями, где сидела я одна. Среди деревьев уже темнело, но солнце еще не зашло и дом был совсем близко. Я надеялась успеть до заката, но вдруг лошадь поскакала медленнее, перешла на шаг, а потом и вовсе встала. Она больше не двигалась, беспокойно насторожила уши, и теплое дыхание паром вырывалось из ее ноздрей. Я сперва подумала, что, может, лошадке нужно передохнуть, но Олег не стал понукать и не пошевелился, чтобы подстегнуть ее.
— Почему мы стоим? — наконец подала голос я. Олег не ответил; он вдруг осел на облучке, словно заснул. Морозный ветер забормотал что-то у меня за спиной, подкрался, окутал сани и скользнул под теплые одеяла, пытаясь добраться до кожи. На снег упали синие тени; их отбрасывал бледный слабый свет, исходивший откуда-то из-за моей спины. Из моих ноздрей вырывались облачка пара, снег похрустывал: кто-то большой приближался к саням. Я сглотнула, поплотнее запахнулась в плащ, собрала все свое ледяное хладнокровие, какое было, и обернулась.
Зимояр оказался не таким уж диковинным с виду. И от этого было по-настоящему страшно. Но я не отводила взгляда, и мало-помалу в его облике проступало что-то нечеловеческое. Его черты были точно отлиты изо льда и стекла. Глаза отточенно сверкали будто серебряные клинки. Борода у З�
