Шепот под землей
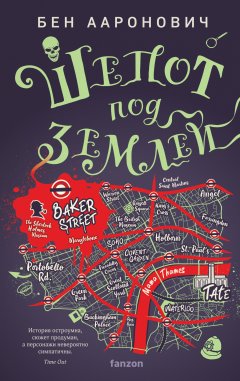
Ben Aaronovitch
Whispers Under Ground
Copyright © Ben Aaronovitch 2012
First published by Gollancz,
an imprint of the Orion Publishing Group, London
Fanzon Publishers
An imprint of Eksmo Publishing House
© Трубецкая Е., перевод на русский язык, 2023
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023
Воскресенье
1. Тафнелл-парк
Еще летом я совершил ужасную ошибку: рассказал маме, чем зарабатываю на жизнь. Я имею в виду не службу в полиции: мама о ней прекрасно знает, ибо своими глазами видела, как мне торжественно выдали диплом в Хендоне. Нет, я поведал ей, что работаю в особом подразделении столичной полиции, которое расследует сверхъестественные преступления. Мама тут же окрестила мою деятельность «охотой на ведьм», и это было хорошо, поскольку она, как многие уроженцы Западной Африки, считает охоту на ведьм профессией гораздо более престижной, чем служба в полиции. И вот, в порыве внезапной гордости за сына, она принялась расписывать его, то есть мои, трудовые подвиги всем друзьям и родичам. А это, насколько мне известно, минимум двадцать процентов сьерра-леонской диаспоры, проживающей ныне в Соединенном Королевстве. Включая Альфреда Камару, маминого соседа, – и, соответственно, его тринадцатилетнюю дочь Эбигейл. В последнее воскресенье перед Рождеством эта самая Эбигейл решила, что я просто должен взглянуть на привидение, которое она якобы обнаружила. И так допекла мою маму, что та в конце концов не выдержала, позвонила мне на мобильный и попросила приехать.
Это не слишком радовало, ибо воскресенье – один из немногих дней, когда не надо с утра тренироваться в тире. Я как раз планировал до упора валяться в кровати, а потом отправиться в паб смотреть футбол.
– Ну и где твое привидение? – с порога спросил я.
– А чего это вас двое? – удивилась Эбигейл. Худенькая и невысокая, она, будучи плодом смешанного брака, обладала не слишком темной кожей, которая к зиме вдобавок слегка пожелтела.
– Это Лесли Мэй, мы работаем вместе, – пояснил я.
Эбигейл перевела взгляд на Лесли и недоверчиво сощурилась.
– А почему ты в маске? – спросила она.
– Потому что у меня лицо отвалилось, – ответила Лесли.
Эбигейл пару секунд размышляла, стоит ли верить. Потом кивнула.
– Окей.
– Так где оно? – спросил я.
– Не «оно», а «он», – поправила Эбигейл. – Призрак. Там, в школе.
– Тогда пошли.
– Прямо сейчас? Ты чего, холодно же.
– Мы в курсе, – сказал я. Был один из тех унылых и мрачных зимних дней, когда ледяной ветер со злобным упорством забирается вам под одежду. – Так идем или нет?
Она уставилась на меня, как смотрят подростки-бунтари на родителей и учителей. Но, в отличие от упомянутых, я не собирался заставлять ее что-то делать, а хотел просто поехать домой смотреть футбол.
– Как хочешь, – сказал я и развернулся, делая вид, что ухожу.
– Погоди, – буркнула она, – сейчас выйду.
Я повернулся обратно к двери, и Эбигейл ее захлопнула у меня перед носом.
– А войти не предложила, – заметила Лесли.
Если хозяева не предлагают зайти в дом, заполняется одна клеточка на эдакой «карточке бинго», которую каждый коп держит в голове. Там много «подозрительных» клеточек, вроде «глупой буйной собаки», которая помешала вовремя открыть дверь, или с ходу представленного идеального алиби. Заполните их все – и выиграете экскурсию в полицейский участок за казенный счет.
– Сейчас утро воскресенья, – напомнил я. – Папа у нее, небось, еще дрыхнет.
Решив подождать внизу, мы спустились, сели в машину и от нечего делать стали рыться пакетах со «стратегическими запасами», которых к концу года набралось изрядно. Нашли целую пачку жевательного мармелада. Лесли успела только попросить меня не смотреть, как она сдвигает маску и жует, когда Эбигейл постучала в стекло.
Как и мне, волосы ей достались «не от того родителя». Но я был мальчик, и меня просто-напросто стригли под ноль. А Эбигейл папаша вечно таскал по многочисленным парикмахерским, родственникам и добрым соседям в надежде, что хоть где-то ее волосы приведут в порядок. Она всякий раз ныла, вертелась и мешала тому, кто в данный момент заплетал ей косичку или выпрямлял волосы с помощью бальзама либо плойки. Но папочка был непреклонен: дочь ни в коем случае не должна его позорить своим видом. Произвол закончился, когда Эбигейл исполнилось одиннадцать и она совершенно спокойно, без скандала, заявила: у нее теперь есть телефон Детской службы доверия[1] и любой, кто подойдет к ней с шиньоном, плойкой или, прости господи, горячей расческой, будет иметь дело с Обществом защиты детей. И с тех пор она стягивает свое афро, которое становится все пышнее и пышнее, на затылке в пучок. Он не поместился под капюшон зимней розовой куртки, поэтому Эбигейл вышла к нам в огромной вязаной растаманской кепке: классический негритос в представлении расистов семидесятых годов. Мама говорит, прическа Эбигейл – стыд и позор, так ходить нельзя. А мне очевидно, что кепка, надетая поверх гигантского пучка, хорошо защищает от дождя лицо.
Я открыл заднюю дверь, и Эбигейл села в машину.
– А где же твой «Ягуар»? – спросила она.
У моего шефа есть самый настоящий раритетный «Ягуар-марк-2», с однорядным двигателем на 3,8 литра. Я как-то припарковал его во дворе, заехав к родителям, и с тех пор он стал местной легендой. Такой раритет считается крутым даже по меркам подростков, выросших на смартфонах, в то время как мой ярко-оранжевый «Форд ST» – всего лишь обычная полицейская машина.
– Ему пока запретили ездить на «Ягуаре», – сказала Лесли. – Надо пройти дополнительный курс вождения.
– А-а-а, потому что ты врезался в «Скорую помощь» и столкнул ее в реку?
– Ничего я никуда не сталкивал, – буркнул я, выруливая на Лейтон-роуд. И решил вернуться к насущному вопросу: – А где именно в школе ты видела это привидение?
– Не прямо в школе, – ответила Эбигейл, – а под школой. Там, где поезда ходят. И не привидение, а призрака.
Речь шла о ближайшей школе: Экланд Баргли, той самой, в которой учились бесчисленные поколения обитателей «Пекуотер Истейт», включая меня и Эбигейл. Найтингейл обязательно поправил бы: Эбигейл и меня. Насчет «бесчисленных поколений» я, конечно, вру: их было от силы четыре, школу-то построили только в конце шестидесятых.
Ее здание, третье по счету вверх по Дартмут-парк-хилл, явно проектировал какой-то страстный поклонник Альберта Шпеера[2]. Особенно его позднего творчества, колоссальных военных сооружений Атлантического Вала. Из этой школы, с ее тремя башнями и толстыми бетонными стенами, легко можно было бы контролировать стратегически важный перекресток пяти улиц, да так, чтобы ни один летучий отряд Айлингтонской легкой пехоты не подобрался по Тафнелл-парк.
На Инжестр-роуд я нашел пятачок прямо возле школы и припарковался там. Мы вышли из машины и двинулись, хрустя гравием, к пешеходному мосту за школой: под ним тянулась двухпутная линия. Ветка, идущая на юг, скрывалась в тоннель как минимум на два метра ниже северной. Это означало, что нам надо одолеть целых два пролета скользких ступенек, чтобы подняться на пешеходный мост и оглядеть окрестности сквозь сетку ограды.
Школьная спортивная площадка и крытый спортзал находились на бетонной платформе как раз между двумя рядами рельсов. И на схеме, и отсюда, с моста, все это выглядело точь-в-точь как бункер для подводной лодки.
– Вон там, – показала Эбигейл на левый тоннель.
– Ты что, ходила по путям? – нахмурилась Лесли.
– Ну, я осторожно.
Но Лесли сердилась, да и я, по правде сказать, тоже. Ходить по рельсам смертельно опасно. В год около шестидесяти человек гибнет под колесами поездов. Плюс у этой статистики только один: когда кого-то насмерть сбивает поезд, это не наша головная боль, а транспортной полиции.
Хороший, правильный полицейский не станет делать глупостей вроде прогулки по рельсам без предварительной оценки рисков. По всем правилам я сейчас должен был связаться с транспортниками, чтобы они выслали на место техническую группу по обеспечению безопасности. Эта группа, возможно, перекрыла бы движение в обе стороны линии, дабы мы с Эбигейл могли отправиться на поиски призрака. Допустим, я не стану им звонить – но, случись что с Эбигейл, я однозначно попрощаюсь с карьерой. Да наверняка и с жизнью тоже, учитывая патриархальные западноафриканские взгляды ее папочки.
А если позвонить, придется объяснять, что именно я ищу в тоннеле. И конечно, транспортники поднимут меня на смех. Подобно юным героям древности, я предпочел возможную гибель неизбежному позору.
Лесли, правда, заметила, что неплохо бы сперва глянуть расписание.
– Воскресенье же, – напомнила Эбигейл. – Путевые работы весь день.
– А ты откуда знаешь? – удивилась Лесли.
– Специально проверила. А почему у тебя лицо отвалилось?
– Болтала слишком много, вот и отвалилось.
– Где спускаться будем? – поспешно вмешался я.
Из-за близости к железной дороге земля здесь была дешевая, и с обеих сторон от путей тянулись муниципальные жилые дома. На северной стороне за одной такой многоквартирной коробкой виднелся пятачок жухлой травы, окруженный кустами, а за ними – сетчатый забор. Сквозь кусты проходил узкий лаз, как раз ребенку пролезть. Он вел к дыре в заборе и, соответственно, к путям. Скрючившись, мы полезли через кусты вслед за Эбигейл. Лесли, шедшая впереди, ехидно фыркала, когда ветки хлестали меня по лицу. У забора она остановилась, внимательно осмотрела дыру и сказала:
– Сетку не резали, а просто растянули. Скорее всего, лисы.
Под ногами у самого забора валялось множество банок из-под колы и пакетиков от чипсов и шоколадок. Лесли расшвыривала их носком ботинка.
– Нарики, – заметила она, – эту дыру еще не разнюхали. Шприцов не видно. А ты-то откуда про нее знаешь? – спросила она Эбигейл.
– Да с моста увидела, – ответила та.
Держась как можно дальше от рельсов, мы спустились под мост и направились ко входу в тоннель. Его стены до самого верха покрывали граффити. Поверх аккуратных круглых букв, искусно выведенных с помощью баллончика и уже слегка выцветших, пестрели всевозможные каракули начинающих «художников», нарисованные чем попало, от аэрозольной краски до маркера. Виднелась даже пара свастик, и все равно этот «бункер для подлодок» вряд ли впечатлил бы адмирала Дёница[3].
Под мостом нас хотя бы не донимала морось. Правда, воняло мочой, но вряд ли человеческой: уж очень едким был запах. Наверняка тоже лисы, подумал я. Своими гигантскими размерами, плоским потолком и толстыми бетонными стенами это место скорее напоминало заброшенный склад, чем железнодорожный тоннель.
– Так где ты его видела? – снова спросил я у Эбигейл.
– Вон там, подальше, где темно, – ответила она.
Как же иначе-то, подумал я.
Лесли спросила, за каким чертом она вообще сюда лазила.
– Хотела увидеть Хогвартс-экспресс, – сказала девчонка.
Ну, не прямо настоящий Хогвартс-экспресс, тут же поправилась она. Потому что такого поезда не существует на самом деле, правда ведь? Так что это никак не мог быть Хогвартс-экспресс. Но вот у подружки Кары окна выходят на железную дорогу, так она сказала, что там иногда ездит паровоз – эта штука ведь так называется, да? Вот она и подумала, что его снимали в роли Хогвартс-экспресса.
– Ну, в кино, про Гарри Поттера, – уточнила она.
– А с моста нельзя было посмотреть? – спросила Лесли.
– Не-а, едет слишком быстро, – помотала головой Эбигейл, – не успеваю пересчитать колеса. В кино был локомотив GWR4900 класс 5972, там схема колес 4–6–0[4].
– А ты у нас, оказывается, настоящий трейнспоттер[5], – улыбнулся я. – Не знал.
– Да ну тебя! – Эбигейл стукнула меня кулаком по руке. – Трейнспоттеры коллекционируют номера поездов, а я хочу проверить свою догадку. Это совсем другое дело.
– Так ты видела этот поезд? – снова спросила Лесли.
– Нет, – сказала Эбигейл, – но зато я видела призрака. Потому и хотела, чтоб Питер приехал.
Я спросил, где конкретно видела, и Эбигейл показала отметки, которые сделала на стене мелом.
– И ты уверена, что привидение появилось на этом самом месте? – уточнил я.
– Призрак, – недовольно поправила Эбигейл, – ну сколько можно повторять?
– Но сейчас-то его тут нет, – заметил я.
– Еще бы, – фыркнула Эбигейл, – если бы он тут был все время, кто-нибудь давно бы уже заметил и сообщил.
В точку, подумал я. Доберусь до Безумства – обязательно проверю, не было ли похожих заявлений. Рядом с общей библиотекой я нашел подсобку, в которой были архивные шкафы с документами довоенной поры. Среди них попадались тетради, от корки до корки полные наблюдений за призраками. Видимо, это было популярное хобби у тогдашних будущих волшебников.
– Ты не сфотографировала его? – спросила Лесли.
– Я ждала поезд, поэтому заранее включила камеру на телефоне, – сказала Эбигейл, – но когда сообразила, что можно и призрака снять, он уже исчез.
Лесли обернулась ко мне.
– Чувствуешь что-нибудь?
Я шагнул точно туда, где, по словам Эбигейл, появился призрак. Стало зябко, и сквозь запахи лисьей мочи и мокрого бетона едва уловимо потянуло бутановым топливом. Донеслось хихиканье Маттли, пса из мультика, и далекий глухой рев гигантского дизельного двигателя.
Магия всегда оставляет следы. Вестигии, если говорить научным языком. Лучше всего вестигии держит камень, а хуже всего – плоть живых существ. Бетон в этом смысле от камня почти не отличается, и все равно следы магии могут быть очень слабы. Ничего не стоит перепутать их с плодами собственного воображения. Умение отличать одно от другого – важнейший навык, без которого не обойтись, если хочешь заниматься магией. Холодно, например, сейчас было и снаружи, а хихиканье, всамделишное или нет, могло исходить от Эбигейл. Но вот запах газа и рев двигателя указывали на трагедию, вполне понятную и знакомую.
– Ну? – не выдержала Лесли. Я лучше нее улавливаю вестигии, и не только потому, что учусь дольше.
– Что-то есть, – кивнул я. – Хочешь, повесь светлячок.
Лесли вынула из телефона аккумулятор и велела Эбигейл сделать то же самое. Та не поняла, и я сказал:
– Магия уничтожит микропроцессор, если батарейка будет внутри. А вообще, как хочешь, это же твой телефон.
Эбигейл достала из кармана «Эрикссон» последней модели, привычным движением сняла крышку и извлекла аккумулятор. Я кивнул Лесли – мол, теперь можно. Свой аккумулятор вынимать не стал: один кузен, с двенадцати лет умеющий взламывать защиту на телефонах, уже давно установил мне ручной выключатель.
Лесли вытянула вперед руку, произнесла волшебное слово, и шарик света величиной с мяч для гольфа поднялся над ее ладонью. Волшебное слово было «Люкс», а само заклинание в быту называется «светлячок». Это первое, чему наставники учат будущих магов. Светлячок Лесли озарил тоннель неярким жемчужным светом, по бетонным стенам пролегли мягкие тени.
– Вау! – выдохнула Эбигейл. – Вы реально колдуете!
– Вон он, – сказала Лесли.
Около стены появился какой-то парень. Лет восемнадцати-двадцати, белый, с неестественно светлыми волосами, собранными с помощью геля в «шипы». Одет он был в рабочую куртку и джинсы, на ногах были дешевые белые кроссовки. При помощи баллончика с аэрозольной краской он тщательно выводил какую-то надпись на своде тоннеля. Но краска распылялась почти без шипения и не оставляла никаких следов на бетонной стене. Когда райтер встряхнул свой баллончик, характерного звука я тоже не услышал.
Светлячок Лесли потускнел и стал из жемчужного красным.
– Добавь чуть-чуть силы, – посоветовал я.
Лесли сосредоточилась, шарик снова вспыхнул, но сразу померк. Шипение краски стало громче, надпись на стене начала проявляться. Тянулась она от самого входа в тоннель: самоуверенности автору было не занимать.
– «Будьте добры друг…» – прочитала Эбигейл. – И как это понимать?
Я приложил палец к губам и глянул на Лесли. Та помотала головой – мол, силы у меня хватит, могу хоть весь день держать. Но я, конечно, этого допускать не собирался. А потому достал из кармана казенный блокнот и ручку и самым профессиональным полицейским тоном окликнул «художника»:
– Простите, можно вас на минутку?
В Хендоне будущим копам на полном серьезе «ставят» голос. Цель – выработать тон, который пробьется сквозь все, что может затуманить сознание гражданина, будь то алкогольные пары, пелена ярости или внезапное чувство вины.
Парень даже не повернул головы. Вынул из кармана второй баллончик с краской и принялся штриховать краешки буквы К. Я попробовал еще пару раз, но он, не обращая внимания, продолжал сосредоточенно зарисовывать внутреннюю сторону «К».
– Эй, белобрысый! – подключилась Лесли. – А ну прекрати! И повернись, когда с тобой разговаривают.
Шипение умолкло. Парень рассовал баллончики по карманам и повернулся к нам. Лицо было бледное, угловатое, глаза скрывали темные очки а-ля Оззи Осборн.
– Я занят, – сказал он.
– Мы заметили, – кивнул я и показал удостоверение. – Как тебя зовут?
– Макки, – ответил он. И повторил, разворачиваясь обратно к стене: – Я занят.
– И чем же? – спросила Лесли.
– Делаю этот мир лучше.
– Это призрак! – изумленно выдохнула Эбигейл.
– Ты же сама его увидела и позвала нас посмотреть, – напомнил я.
– Да, в тот раз он был гораздо прозрачнее!
Я объяснил, что сейчас призрак поглощает магию Лесли и становится более плотным. И конечно, за этим последовал вопрос, которого я так боюсь.
– А что вообще такое магия?
– Никто не знает, – ответил я. – Наверняка могу сказать только, что электромагнитное излучение тут ни при чем.
– Может, тогда мозговые волны? – предположила Эбигейл.
– Вряд ли, – покачал я головой, – мозговые волны – это электрохимия. Но если в голове идут электрохимические процессы, они должны как-то проявляться внешне.
Поэтому все магические феномены мы списываем на действие волшебной пыльцы либо квантовой запутанности, которая суть то же самое, только со словом «квантовая».
– Ну так что, будем разговаривать? – не выдержала Лесли, и шарик у нее над ладонью слегка колыхнулся. – Или я гашу.
– Эй, Макки! – позвал я. – Поди-ка сюда на пару слов.
Но Макки не собирался отвлекаться от своих художеств: он продолжал аккуратно штриховать внутреннюю часть буквы.
– Я занят, – повторил он, – делаю мир лучше.
– И каким же образом?
Макки наконец решил, что «К» готово, и отошел на пару шагов полюбоваться своим творением. Мы с девчонками старательно держались как можно дальше от рельсов, а вот он либо намеренно захотел рискнуть, либо, что вероятнее, просто забыл об опасности.
Я увидел, как Эбигейл беззвучно прошептала «о, черт!» – поняла, видимо, что сейчас будет.
– Потому что, – сказал Макки, и тут его сбил призрачный поезд.
Он промчался мимо совершено бесшумно и незаметно, обдав нас жаром и вонью дизельного топлива. Макки смело с рельсов, и он свалился бесформенной кучей прямо под буквой Д в слове «ДРУГУ». Издал странный булькающий звук, дернул пару раз ногой и затих. А затем растаял, и вместе с ним исчезла надпись на стене.
– Теперь-то можно гасить? – спросила Лесли. Шарик не становился ярче: Макки по-прежнему поглощал из него магическую энергию.
– Подержи еще чуть-чуть.
Послышался негромкий шорох. Обернувшись ко входу в тоннель, я увидел прозрачный силуэт: он начинал выводить на стене букву Б с помощью все того же баллончика аэрозольной краски.
Проявляется циклично, пометил я в блокноте, возм., невосприимчив. Потом кивнул Лесли, та погасила светлячок, и Макки сразу же исчез. Эбигейл, опасливо прижавшись к стене тоннеля, глядела, как мы бегло осматриваем полоску земли вдоль рельсов.
На полпути к выходу я наклонился и выудил из перемешанного с мусором песка очки Макки – вернее, то, что от них осталось. Сжал в ладони и закрыл глаза. Когда речь идет о вестигиях, и металл, и стекло могут вести себя одинаково непредсказуемо, но сейчас я, хоть и с трудом, уловил пару баррэ на электрогитаре.
Отметил в блокноте, что очки – вещественное доказательство существования этого призрака. И задумался: а стоит ли брать их с собой? Что станется с призраком, если оттуда, где он появляется, забрать его вещь, его неотъемлемую часть? И если он от этого пострадает или вовсе исчезнет, будет ли это преступлением против личности? И считается ли личностью бесплотный дух?
Из тех книг о призраках, что стояли на полках общей библиотеки Безумия, я не прочитал и десятой части. А по правде говоря, вообще только те, что велел Найтингейл. Ну, и еще несколько, вроде Вольфе и Полидори[6], которые нужны были в ходе расследования. Из прочитанного я уяснил одно: отношение официальных магов к призракам сильно менялось с течением времени.
Сэр Исаак Ньютон, основатель современной магии, похоже, считал призраков досадным изъяном, портящим прекрасный облик его чистой, уютной вселенной. В семнадцатом веке все оголтело принялись классифицировать духов, словно животных или растения, а в эпоху Просвещения велись горячие дискуссии на тему свободной воли. Современники же королевы Виктории четко разделились в этом смысле на две партии: одна полагала, что призраки – это души, которые следует спасать, другая же считала их своего рода бестелесными паразитами и призывала искоренять. А в тридцатые годы, когда релятивизм и квантовая теория, ворвавшись в Безумство, нарушили там старые порядки и сорвали вековые покровы, рассуждения о призраках достигли накала. И несчастные духи попали под раздачу, став удобным материалом для всевозможных магических опытов. Ибо все пришли к единому выводу: призрак – это неодушевленный оттиск ушедшей жизни, нечто вроде граммофонной записи. А значит, этический статус у него такой же, как у плодовой мушки в биолаборатории.
Я пытался выяснить подробности у Найтингейла – как-никак, он застал этот период. Но он сказал только, что в те времена нечасто появлялся в Безумстве: постоянно колесил туда-сюда по всей Империи и даже ее окрестностям. Я спросил, с какой целью, и он ответил:
– Помню только, что составлял великое множество отчетов. Правда, никогда толком не понимал зачем.
Я не считал, что призраки являются «душами», но решил на всякий случай соблюдать нормы этики, пока не узнаю, чем же они являются. Раскидал носком ботинка мусор там, где показала Эбигейл, и зарыл очки в получившейся неглубокой ямке. Потом записал в блокнот точное время и место обнаружения призрака, чтобы, добравшись до Безумства, внести эти данные в базу. Лесли, в свою очередь, отметила расположение дыры в заборе, но, поскольку официально все еще числилась на больничном, вызывать транспортную полицию все равно пришлось мне.
Мы купили Эбигейл твикс и банку колы, заставив дать честное слово, что она и близко не подойдет к этой железной дороге, пусть там едут хоть десять Хогвартс-экспрессов. Я надеялся, что, став свидетельницей трагической, хоть и призрачной, кончины Макки, девчонка сама не захочет больше сюда соваться. Мы завезли ее домой и поехали к себе на Рассел-сквер.
– Куртка ей маловата, заметил? – спросила Лесли. – И ты видел, чтоб нормальная девчонка так интересовалась паровозами?
– Думаешь, у нее с родичами проблемы?
Лесли засунула палец под маску, чтобы почесать лицо.
– Ни хрена эта штука не гипоаллергенная.
– Так сними, – посоветовал я, – мы почти приехали.
– Думаю, тебе стоит сообщить о своих опасениях в Службу социальной защиты, – сказала Лесли.
– А ты отмечала время?
– Если ее родители – твои знакомые, – не дала себя увести от темы Лесли, – это не повод закрывать глаза на такие вещи. Ты окажешь ей очень плохую услугу, если ничего не сделаешь.
– Хорошо, – сказал я, – поговорю с мамой. Так ты засекала время? Сколько было минут?
– Пять.
– Разве? А по-моему, около десяти.
Лесли можно колдовать всего по пять минут в день. Это одно из условий, на которых доктор Валид разрешил ей поступить в ученицы к Найтингейлу. Кроме того, он обязал ее вести «магический дневник», каждый раз подробно расписывая используемые заклинания. А еще раз в неделю ей надо таскаться в Королевский госпиталь и засовывать голову в магнитно-резонансный томограф: доктор Валид проверяет, не появилось ли у нее в мозгу патологических изменений, первых признаков гипермагической деградации. Если злоупотреблять магией, в лучшем случае можно заработать обширный инсульт. А в худшем – аневризму сосудов головного мозга, которая несет верную смерть. До изобретения МРТ смерть адепта была первым и единственным признаком передозировки магии – неудивительно, что мало кому хотелось колдовать ради удовольствия.
– Нет, пять, – уперлась Лесли.
В итоге сошлись на шести.
Старший инспектор отдела расследования убийств Томас Найтингейл – мой шеф, наставник и мастер (ну в смысле взаимодействия «мастер – ученик»), и по воскресеньям мы с ним обычно вкушаем ранний ужин в так называемой малой столовой.
Найтингейл чуть ниже меня ростом, худощавый, волосы у него темные, а глаза серые. На вид ему лет сорок, взаправду же гораздо больше. К ужину он обычно не переодевается, но я сильно подозреваю, что это чисто из солидарности со мной.
Сегодня нас ждала свинина в сливовом соусе, вот только Молли почему-то считает, что идеальный гарнир к этому блюду – йоркширский пудинг с тушеной капустой. Лесли, как обычно, ушла есть к себе в комнату. Нисколько ее не осуждаю: трудно есть йоркширский пудинг, сохраняя достоинство.
– Мне надо, чтобы вы завтра совершили небольшую вылазку за город, – сообщил Найтингейл.
– В самом деле? Куда же на этот раз?
– В Хенли-он-Темз.
– А что там такое?
– Возможно, очередной Крокодильчик. Профессор Постмартин провел кое-какую работу и нашел еще нескольких членов клуба.
– Все метят в сыщики, – усмехнулся я.
Хотя это я зря – профессор Постмартин, хранитель университетских архивов и оксфордский старожил, как никто другой годился для поиска студентов, которых подпольно учили магии. Нам уже известно минимум о двух: из них выросли черные маги – и мерзавцы – очень высокого пошиба. Один действовал в Лондоне еще в шестидесятые, а другой и сейчас жив-здоров. Нынешним летом он пытался скинуть меня с крыши. До земли было целых пять этажей, так что я обиделся.
– Думаю, Постмартин всегда числил себя сыщиком-любителем, – сказал Найтингейл, – особенно если говорить о сборе университетских слухов. Теперь он уверен, что обнаружил одного Крокодильчика в Хенли, а другого – в нашей богоспасаемой столице. Аж в Барбикане, представляете? Словом, поезжайте завтра в Хенли и проверьте, действительно ли профессор обнаружил адепта магии. Если что, порядок действий вам знаком. А мы с Лесли тем временем навестим второго.
Я промокнул с тарелки сливовый соус последним кусочком пудинга.
– Боюсь, Хенли лежит за границами моей территории.
– Что ж, это прекрасный повод их расширить, – ответил Найтингейл. – Кроме того, вы сможете заодно навестить Беверли Брук в ее… сельском уединении. Думаю, она по-прежнему живет в верхнем течении Темзы.
Интересно, подумал я, он это в переносном смысле или в прямом?
– Был бы рад.
– Я так и думал, – улыбнулся Найтингейл.
Лондонская полиция почему-то не удосужилась разработать специальную форму для отчетов по призракам. Пришлось самому состряпать ее в экселе. В прежние времена в каждом полицейском участке был сверщик, в чьи обязанности входило поддерживать порядок в архиве и сортировать каталожные карточки сообразно тематике: местные правонарушители, старые дела, всяческие слухи и тому подобное. То есть делать все, чтобы облаченные в синюю форму герои закона и порядка могли пойти и сразу постучать в нужную дверь. Или хотя бы в соседнюю. В Хендоне даже сохранился кабинет сверщика: запыленная каморка, полностью забитая ящиками каталожных карточек. Курсантам показывают это помещение и вполголоса рассказывают о далеких днях прошлого столетия, когда данные вручную писали на клочках бумаги.
В наши дни, имея соответствующий уровень доступа, получить информацию можно в считаные минуты. Просто заходите в терминал AWARE и выбираете нужную базу: в CRIS хранятся заявления о преступлениях, в CRIMINT – оперативная информация, в NCALT – библиотека учебных программ, а в MERLIN – данные по преступлениям против несовершеннолетних.
Но Безумство, официальное хранилище таких материалов, о которых добропорядочные копы предпочитают не говорить, не доверяет электронным базам данных: до них могут добраться все, кому не лень, хоть репортеры из «Дейли мейл». Нет, Безумство пользуется старым добрым средством передачи информации – живым словом. Основная часть этой информации поступает Найтингейлу, а он все записывает – надо признать, исключительно разборчивым почерком – на листах обычной бумаги. Эти листы я потом складываю в нужные папки, после того как перенесу краткое содержание на карточку размером 5 на 3 дюйма и помещу ее в соответствующую секцию каталога общей библиотеки.
В отличие от шефа я набираю отчеты на ноутбуке, на специальном бланке. Потом распечатываю и прячу в соответствующую папку. В общей библиотеке таких папок, наверно, тысячи три или даже больше. И это не считая тетрадей с описанием призраков – с тридцатых годов они нигде не учитывались. Когда-нибудь я и их внесу в базу, но для этого, наверно, придется научить Молли печатать.
Покончив с бумагами, я на полчаса – предел моих возможностей – погрузился в творчество Плиния Старшего, который прославился в веках тем, что его, во-первых, угораздило написать первую в мире энциклопедию, а во-вторых, плыть мимо Везувия, когда тот учинил свое показательное выступление.
Закрыв книгу, я взял Тоби и пошел гулять с ним вокруг Рассел-сквер. Заглянул в «Маркиз», выпил пинту пива и, вернувшись в Безумcтво, завалился спать.
Если отдел состоит из одного старшего инспектора и одного констебля, то угадайте, кто из них отвечает на ночные звонки. Угробив три мобильника подряд, я завел привычку в стенах особняка отключать телефон. Но это означало, что, если будут звонить по работе, Молли возьмет трубку внизу, в атриуме. А потом придет за мной, встанет в дверях спальни и будет стоять до тех пор, пока я не проснусь от чистого животного ужаса. Я уже и табличку «Стучите» вешал, и дверь изнутри закрывал, и стулом ее подпирал – бесполезно. Нет, я очень люблю стряпню Молли, но как-то раз она меня самого чуть не съела. Потому одна только мысль о ней, беззвучно вплывающей туда, где я мирно сплю, почти лишила меня этого самого сна. Понадобилось два дня тяжелого труда и помощь эксперта из Музея науки, чтобы провести, наконец, ко мне в спальню добавочную телефонную линию.
И вот теперь, когда могучему воинству закона и порядка, именуемому лондонской полицией, бывают нужны мои особые услуги, мне шлют вызов по изолированному медному проводу. Вызов этот достигает моих ушей посредством электромагнитного звонка, который издает телефонный аппарат в бакелитовом корпусе. Он лет на пять старше моего папы и издает звук, по музыкальности равный грохоту отбойного молотка. Но это все равно лучше, чем Молли.
Лесли называет это приспособление «горячей линией Супермена».
Оно-то и разбудило меня в три с лишним часа ночи.
– Вставай, Питер, – раздался в трубке голос инспектора Стефанопулос, – пора немножко поработать как нормальный коп.
Понедельник
2. Бейкер-стрит
Мне недостает общества других полицейских. Нет, поймите меня правильно: поступив на службу в Безумство, я получил возможность дорасти до констебля криминальной полиции года на два раньше, чем это обычно бывает. Но поскольку весь личный состав отдела – я, старший инспектор Найтингейл и, в перспективе, констебль Лесли Мэй, то на задания мы толпой не ездим. Есть вещи, к которым привыкаешь исподволь и не замечаешь, пока они не исчезнут из твоей жизни. А потом начинаешь понимать: чего-то не хватает. Запаха мокрых клеенчатых плащей в раздевалке, ажиотажа у терминала в кабинете для работы с документами в пятницу утром, когда в систему загружают новые задания. Сонного ворчания и шуток на планерке в шесть утра. В общем, чувства, что ты не один, а вас много и вы вместе делаете общее дело.
Вот почему при виде моря голубых мигалок около метро «Бейкер-стрит» я словно вернулся в каком-то смысле домой. Трехметровый бронзовый Шерлок Холмс – как полагается, в шляпе с двойным козырьком и с трубкой – возвышался над ними и неусыпно следил, чтобы сыскная работа велась в строгом соответствии с высокими стандартами детективной литературы. Металлические решетчатые двери метро были закрыты, и двое констеблей из транспортной полиции прятались внутри, словно желая скрыться от сурового взгляда Шерлока. Хотя, скорее всего, просто зашли погреться, потому что холод был собачий. Они впустили меня, толком и не глянув на удостоверение, – рассудили, видимо, что, кроме копов, в такую рань шататься дураков нет.
Я спустился по лестнице к кассам. Створчатые дверцы всех турникетов были зафиксированы в открытом положении для легкого доступа. Рядом тусовалась компания парней в ярких куртках с люминесцентными полосками и тяжелых ботинках. От нечего делать они пили кофе, трепались друг с другом или играли в игры на мобильниках. Стало быть, ночных путевых работ сегодня не будет – значит, утром поезда пойдут с задержкой, подумал я.
Станция «Бейкер-стрит» открылась в 1863 году, в двадцатые годы ее отделали деревянными панелями, кованым железом и кремовой плиткой, но теперь это все почти полностью скрыто под кабелями, распределительными щитками, динамиками и камерами видеонаблюдения.
На месте серьезного преступления, даже таком непростом, как станция метро, легко понять, где находится жертва. Достаточно найти самое большое скопление людей в защитных костюмах. Их количество в дальнем конце третьей платформы наводило на мысль о вспышке сибирской язвы. И явно недаром: полиция не станет проявлять такого интереса к самоубийце или одному из пяти-десяти бедолаг, каждый год случайно погибающих под колесами метро.
Платформу номер три строили открытым способом – это когда пара тысяч работяг сначала роют здоровенную глубокую траншею, затем по ней прокладывают рельсы, после чего тоннель сверху закрывают. Но поскольку дело было еще во времена паровозов, добрую половину платформы оставили под открытым небом, чтобы паровозный чад мог свободно выходить наружу, а осадки – проникать внутрь.
Попасть на место преступления не проще, чем в клуб для избранных: амбал на входе пустит вас, только если обнаружит в списке. В нашем случае это был список официальных лиц, допущенных к месту преступления, а в роли амбала выступал сурового вида констебль из транспортной полиции. Я сообщил свое имя и звание, и он оглянулся назад: чуть поодаль стояла и хмуро взирала на нас невысокая женщина с коренастой фигурой и унылым плоским бюстом. Это была шеф-инспектор Мириам Стефанопулос, которой, как я понял, предстояло первое расследование в новом, свежеполученном звании. Нам уже доводилось работать вместе – возможно, потому она и помедлила, прежде чем кивнуть констеблю-транспортнику. Вот вам еще один способ получить доступ на место преступления: надо иметь знакомых среди большого начальства.
Я отметился в журнале регистрации и взял со спинки складного стула один из защитных костюмов. Облачившись в него, направился туда, где Стефанопулос контролировала работу ответственного за вещдоки офицера. Который, в свою очередь, внимательно следил за криминалистами, снующими туда-сюда по платформе.
– Доброе утро, босс, – поздоровался я. – Звонили?
– Привет, Питер, – кивнула она.
По столичной полиции ходят слухи, что она якобы хранит коллекцию человеческих тестикул в банке на прикроватном столике – на память о мужчинах, которым хватило глупости над ней подшучивать. И еще, представьте, я слышал, будто у нее есть большой дом в какой-то несусветной глуши, где она разводит кур. Но спросить ее прямо духу у меня никогда не хватало.
Парень, чье бездыханное тело лежало на дальнем краю платформы, был красавчиком – пока был живой. Лежал он на боку, щекой на выброшенной вперед руке, сгорбив спину и согнув ноги в коленях. Не совсем то, что патологоанатомы называют «позой боксера»[7], – скорее «спасительное положение», которое нам показывали на курсах первой помощи.
– Тело двигали? – спросил я.
– Нет, смотритель нашел его в таком виде, – ответила Стефанопулос.
На трупе были голубые тертые джинсы и темно-синий пиджак поверх черной кашемировой водолазки. Очень хороший пиджак, судя по крою и качеству ткани, явно шитый на заказ. Но вот на ногах были «Мартенсы» классической модели 1490, то есть не легкие туфли, а настоящая рабочая обувь. Странное сочетание. От подошвы до третьей снизу пары дырочек их покрывала грязь, но выше шла гладкая кожа, чистая, жесткая, без единой царапинки. Почти новые, подумал я.
Парень был белым, на бледном лице выделялся прямой нос и волевой подбородок. Действительно, красавчик. Длинная светлая эмо-челка свисала на лоб и ниже, рассыпаясь по щеке. Глаза были закрыты.
Все эти подробности уже наверняка задокументировали люди Стефанопулос. И сейчас, когда я сидел на корточках возле тела, за моей спиной стояло полдюжины криминалистов, готовых взять образцы всего, что не приколочено, а за ними еще одна толпа, вооруженная режущими инструментами – чтобы так же поступить со всем остальным.
Моя же задача состояла в другом.
Надев защитную маску и очки, я наклонился к телу как можно ближе и закрыл глаза. Трупы людей очень плохо держат вестигии, но если магический импульс (допустим, это был именно он) оказался достаточно силен, чтобы убить человека, то не мог не оставить следа. Однако сейчас я если что и почуял, то в рамках обычного восприятия: запахи крови, пыли и мочи, на этот раз уж точно не лисьей.
Насколько я мог судить, никаких вестигиев это тело не хранило. Я выпрямился и обернулся к Стефанопулос. Она нахмурилась.
– Зачем вы меня вызвали? – спросил я.
– С этим делом что-то не так, – бросила она. – Я подумала, лучше позвать тебя сразу, чем привлекать потом.
Утром, например, когда удалось бы выспаться и позавтракать, добавил я про себя. Вслух нельзя: в должностных обязанностях офицера полиции четко указано «режим готовности в любое время суток».
– Я ничего не чувствую, – сказал я.
– Тогда не мешай. – Она жестом велела мне отойти. Коллегам из других отделов мы, как правило, не объясняем, как работает наш, – в основном потому, что все руководства и процедуры приходится выдумывать по ходу дела. В итоге офицеры высокого ранга, вроде Стефанопулос, обычно знают, что мы что-то делаем, – но не знают, что именно.
Я отошел от трупа, и заждавшиеся криминалисты бросились дальше терзать место преступления.
– Кто такой? – спросил я.
– Пока не знаем, – ответила Стефанопулос. – Одиночная колотая рана в нижней части спины, кровавый след уходит в тоннель. Трудно сказать, притащили его сюда или сам дополз.
Я глянул вниз, на рельсы. В тоннелях, построенных открытым способом, пути идут совсем рядом, как в наземном железнодорожном полотне. Значит, на время работы следственной группы перекрыли обе линии – и туда, и обратно.
– Это какое направление? – спросил я, ибо слегка потерял ориентацию в пространстве.
– Восточное, – отозвалась Стефанопулос.
То есть в сторону Юстона и Кингс-Кросса, подумал я.
– Но это еще ладно, – добавила она и кивнула в противоположную сторону. – Вон там, сразу за поворотом, она пересекается с линиями Дистрикт и Хэммерсмит, так что перекрывать придется всю развязку.
– Транспорт Лондона будет в восторге, – заметил я.
– Да у них уже счастья полные штаны, – усмехнулась старший инспектор.
Метро должно открыться на вход меньше чем через три часа, и если к этому времени станция «Бейкер-стрит» будет перекрыта, движение полностью встанет. И это в начале последней рабочей недели перед Рождеством!
Но все же Стефанопулос не ошибалась: что-то в этом деле было странное. И не только смерть несчастного парня. Скользнув взглядом по черному провалу тоннеля, я ощутил на миг… нет, даже не вестигий, а отголосок чего-то гораздо более древнего. Нутряного инстинкта, который мы пронесли через все века эволюции, с момента, когда покинули верхушки деревьев, и до того, как взяли в руки «большую дубинку»[8]. Который приобрели еще в те времена, когда в царстве высших хищников были стаей голых прямоходящих обезьян, эдаким обедом на ножках. Инстинкта, который безошибочно предупреждает: кто-то следит за тобой из темноты.
– Хотите, чтобы я осмотрел тоннель? – поинтересовался я.
– Ну наконец-то, – фыркнула Стефанопулос, – я уж и не чаяла дождаться.
Люди как-то странно представляют себе работу полицейских. Они, например, уверены, что мы с восторгом бросаемся разруливать любую, сколь угодно опасную ситуацию, ни на секунду не задумавшись об угрозе собственной жизни. Да, действительно: мы, подобно солдатам или пожарным, часто встречаем опасность лицом к лицу, но всегда помним о возможных сложностях и препятствиях. В данном случае – о контактном рельсе и о том, как легко можно расстаться с жизнью, если его потрогать. Краткий инструктаж о чудесах электрификации провел мне, а заодно и криминалистам, жизнерадостный сержант-транспортник по имени Джагет Кумар. Редкая птица: офицер транспортной полиции, прошедший пятинедельный курс по безопасности в подземке, который позволяет лазить по путям, даже когда контактный рельс под напряжением.
– По правде, не очень-то хочется, – пояснил Кумар. – Первое правило работы при включенном контактном рельсе – не выходить на пути.
Я направился вслед за ним, а криминалисты остались. Они, может, и не в курсе, чем именно я занимаюсь, но зато четко знают правило: место преступления загрязнять нельзя. К тому же теперь у них появилась возможность проверить, не убьет ли нас током, и только потом лезть на пути самим.
Когда мы отошли достаточно далеко, чтобы нас никто не услышал, Кумар спросил, правда ли, что я из охотников за привидениями.
– Что? – переспросил я.
– Ну, защищаете общество от тварей, что бродят в ночи?
– Вроде того, – кивнул я.
– И что, вы правда занимаетесь… – он замялся, подыскивая нужное слово, – необычными случаями?
– С НЛО не работаем, похищения пришельцами тоже не расследуем, – сказал я, предвосхищая уже привычные вопросы.
– А кто же тогда их расследует? – поднял брови Кумар, и, глянув на него, я понял: стебется.
– Давайте ближе к делу.
– Кровавый след хорошо виден, – послушно сменил тему сержант. – Потерпевший держался за стену, подальше от контактного рельса.
Он посветил фонариком на углубление в щебне – явный след ботинка.
– На шпалы не наступал, значит, что-то знал из техники безопасности.
– Откуда такой вывод? – удивился я.
– Если уж ты оказался на путях при включенном контактном рельсе, держись подальше от шпал. Они скользкие. Человек поскальзывается, падает, хватается руками за что попало и – жах!
– Жах, – повторил я. – Это у вас официальная терминология? А тех, кого жахнуло, вы как называете?
– Хрустиками, – ответил Кумар.
– Неужели ничего лучше не придумали?
– Ну, – пожал плечами сержант, – как-то не задавались такой целью.
За поворотом мы потеряли платформу из виду, зато нашли место, откуда начинался кровавый след. Досюда он был совершенно сухой, поскольку вся кровь впиталась в грунт, но здесь в луче моего фонарика блестела неровно растекшаяся темно-красная лужа.
– Я пойду дальше, осмотрю ту часть тоннеля. Может, выясню, как он вообще сюда проник, – сказал Кумар. – Вы тут как, справитесь?
– Да-да, все будет в порядке, – отозвался я, – не волнуйтесь.
Присев на корточки, я внимательно осмотрел лужу по периметру. Примерно в метре от нее ближе к платформе заметил какой-то коричневый прямоугольник и посветил туда фонариком. Луч блеснул на дисплее телефона в кожаном футляре – сломанного либо отключенного. Я протянул было за ним руку, но вовремя одумался.
Перчатки я, конечно, надел, и пакеты для вещдоков тоже лежали в карманах. Если бы это была кража, или грабеж, или другое не очень тяжкое преступление, я бы забрал телефон сам и промаркировал как положено. Но речь шла об убийстве – и горе тому копу, который таким образом нарушит цепь доказательств! Его усадят перед монитором и станут подробно объяснять, что пошло не так во время следствия по делу О. Джея Симпсона[9]. Долго и мучительно, со слайдами.
Я вынул из кармана гарнитуру «Эйрвейв», на ощупь вставил аккумулятор и связался с криминалистом, ответственным за вещдоки, – сказал, у меня для него кое-что есть. В ожидании принялся снова осматривать лужу крови, и внезапно что-то в ней мне показалось странным. Кровь гуще, чем вода, особенно если уже начала сворачиваться, и разливается по поверхности совсем иначе. И она не позволяет разглядеть предмет, лежащий посреди лужи. Пришлось наклониться пониже, но так, чтобы не испортить улику. И тут меня вдруг обдало жаром, в нос ударил запах угольной пыли и такая едкая вонь дерьма, словно я ничком рухнул в навоз на скотном дворе. Аж глаза заслезились.
Вот это уже были вестигии.
Я опустился на четвереньки и пригнул голову к полу, чтобы разглядеть, что там все-таки, в этой луже. Увидел нечто треугольное, цвета горшечной глины. Сначала показалось, что камень, но присмотревшись, я увидел острые края и понял: это осколок чего-то керамического.
– Что-то еще нашли? – спросили вдруг у меня над головой. Я поднялся и увидел одного из криминалистов. Показал ему телефон и осколок и отошел в сторону, чтобы фотограф заснял их на месте обнаружения. Направил фонарик в тоннель, и луч выхватил из темноты люминесцентные полоски на защитной куртке Кумара: он стоял метрах в тридцати. Помигал мне в ответ, и я осторожно подошел.
– Ну как?
Сержант осветил фонариком стальные двухстворчатые двери в заложенной кирпичом арке, однозначно Викторианской эпохи.
– Я подумал, он проник сюда через старый служебный вход, но эти двери наглухо закрыты. Если надо, можете проверить их на отпечатки пальцев.
– А что у нас наверху? – спросил я.
– Мэрилебон-роуд, восточное направление. Там, подальше, есть пара старых вентиляционных шахт, и я хочу их осмотреть. Пойдете со мной?
Отсюда до следующей станции, «Грейт-Портленд-стрит», оставалось семьсот метров. Но мы дошли только до того места, с которого уже было видно платформу. Проверив все точки доступа, Кумар объявил, что, если бы наш паренек спрыгнул на пути с этой платформы, камеры круглосуточного наблюдения обязательно бы его засекли.
– Но тогда как он сюда попал? – удивился сержант.
– Может, есть еще какой-то вход? – предположил я. – Которого нет на планах? И который мы могли пропустить?
– Вызову обходчика, – решил Кумар. – Он точно знает все входы и выходы.
Ночные обходчики патрулируют тоннели и следят, чтобы все было в рабочем состоянии. Они, по словам сержанта, являются хранителями Тайных Знаний Подземки.
– Или вроде того, – добавил он.
Оставив его дожидаться туземного проводника, я направился обратно, в сторону станции «Бейкер-стрит». Где-то на середине пути крупный кусок щебня вывернулся у меня из-под ноги, я потерял равновесие и упал на живот. Чтобы не удариться лицом, машинально выбросил вперед руки – и левой ладонью как раз приложился к контактному рельсу. Ну зашибись, подумал я: коп с хрустящей корочкой!
Залезая обратно на платформу, я обливался потом. Вытер лицо салфеткой и увидел на ней черные пятна угольной пыли, которая тонким слоем покрывала мои щеки. И, как оказалось, ладони тоже. Пыльный налет на щебне, подумал я. А может, вековая сажа, осевшая еще в те времена, когда паровозы влекли по этим тоннелям вагоны с мягкими сиденьями, в которых ехали чопорные лорды и леди Викторианской эпохи.
– Ради бога, дайте парню салфетку! – прогремел надо мной голос с акцентом, выдававшим уроженца Севера. – А мне объясните, какого хрена он тут делает.
Старший инспектор Сивелл – очень крупный джентльмен из очень маленького городка неподалеку от Манчестера. По словам Стефанопулос, именно в таких городках как-то сразу начинаешь понимать, откуда в творчестве Моррисси[10] столько дружелюбия и позитива. Я уже работал с Сивеллом: он пытался повесить меня на сцене Королевской оперы, и мне пришлось вкатить ему пять кубиков транквилизатора для слонов. Поверьте, все эти действия были абсолютно оправданны! Я бы сказал, нам даже удалось выпутаться из той ситуации почти без потерь – если не считать того, что старшему инспектору пришлось провести несколько месяцев на больничном. Большинство нормальных копов на его месте только порадовались бы такому отпуску.
Однако теперь Сивелла выписали, и он вернулся на службу, руководить отделом расследования убийств. Явившись сюда, занял стратегически выгодную позицию на лестнице, откуда мог следить за работой криминалистов, не приближаясь к ним. Соответственно, ему не пришлось снимать пальто из верблюжьей шерсти и шитые на заказ ботинки «Тим Литтл». Подошла Стефанопулос, и Сивелл отозвал нас с ней в сторону.
– Рад, что вам уже лучше, сэр, – не подумав ляпнул я.
– Что он тут забыл? – кивнул на меня старший инспектор.
– Да дело это какое-то странное, – пояснила Стефанопулос.
Сивелл вздохнул.
– Что, успел сбить мою бедную Мириам с пути истинного? Но теперь-то я снова в строю и надеюсь, старое доброе следствие, основанное на фактах и доказательствах, скоро возьмет верх над вашей паранормальной хренотенью.
– Конечно, сэр, – согласился я.
– Да, коли уж зашла речь – в какую паранормальную хренотень вы меня втянули на сей раз?
– Сэр, вряд ли здесь имело место какое-то магич…
Сивелл поднял руку, обрывая меня на полуслове:
– Чтобы я не слышал от тебя слова на букву «м», парень!
– Не думаю, что в его гибели было что-то странное, – поправился я, – вот только…
– Причина смерти? – спросил Сивелл у Стефанопулос, снова не дав мне договорить.
– Тяжелое ранение в нижнюю часть спины, возможно с повреждением внутренних органов. Но смерть наступила от потери крови, – ответила она.
Дальше Сивелл спросил про орудие убийства, и Стефанопулос подозвала ответственного за вещдоки криминалиста. Он протянул ей прозрачный пакет, в котором лежала моя находка: треугольный кусок чего-то светло-коричневого.
– Это что за фигня? – нахмурился Сивелл.
– Кусок тарелки вроде бы, – сказала Стефанопулос, медленно поворачивая пакет так, чтобы можно было как следует разглядеть треугольный осколок разбитого блюда или миски.
– Похоже, керамической, – добавила она.
– И они уверены, что это орудие убийства?
Стефанопулос ответила, что до вскрытия патологоанатом не может предложить другой версии.
Мне очень не хотелось рассказывать Сивеллу о маленьком, но концентрированном сгустке вестигиев, который исходил от орудия убийства. Но поразмыслив, я пришел к выводу, что, если промолчать, проблем потом будет еще больше.
– Сэр, – тихо сказал я, – вот это и есть источник… «паранормальной хренотени».
– С чего это вдруг?
Я подумал, не пора ли уже рассказать ему, что такое вестигии, но Найтингейл говорил, что коллегам нужны простые, естественные объяснения, на которые можно опираться.
– От него исходит своего рода свечение, сэр, – сказал я.
– Свечение? – подозрительно сощурился Сивелл.
– Именно.
– Которое, конечно, видишь только ты? – язвительно добавил он. – С помощью своих таинственных суперспособностей?
– Да, – твердо ответил я, не опуская взгляда, – с помощью моих суперспособностей.
– Ладно, – сдался Сивелл. – Значит, картина такая: в тоннеле потерпевшего пырнули в спину волшебным глиняным черепком. Он вышел на пути искать помощь, дошел до платформы, влез на нее, потерял сознание и скончался от потери крови.
Благодаря камерам видеонаблюдения мы узнали точное время смерти: 1:17 пополуночи. В 1:14 ближайшая к платформе камера зафиксировала бледное, смазанное пятно его лица, когда он залезал наверх. На записи было видно, как парень безуспешно пытается встать, как в конце концов бессильно заваливается на бок и больше уже не двигается.
Смотритель выбежал к нему спустя всего несколько минут после того, как увидел на мониторах камер. И, по его словам, застал уже абсолютно бездыханным. По-прежнему непонятно было, как убитый оказался в тоннеле и как оттуда выбрался убийца, но, когда криминалисты закончили с бумажником, удалось хотя бы установить личность.
– Вот черт, – буркнул Сивелл. – Американец!
Он протянул мне пакет для вещдоков, в котором лежала пластиковая карточка. Первая строчка на ней гласила «ШТАТ НЬЮ-ЙОРК», ниже значилось «ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ», затем шли имя, дата рождения и адрес. Джеймс Галлахер, двадцать три года, приехал из некоего Олбани, что в штате Нью-Йорк.
После недолгого спора о том, сколько времени сейчас в Нью-Йорке, Сивелл поручил одному из подчиненных, работающих с родственниками жертв, связаться с полицейским управлением города Олбани. Это, оказывается, столица штата Нью-Йорк – а я и не знал, пока Стефанопулос не сказала.
– Степень твоего, Питер, невежества, – покачал головой Сивелл, – прямо-таки пугает.
– А нашего бедолагу снедала жажда знаний, – заметила Стефанопулос, просматривая документы. – Он учился в колледже Святого Мартина.
В бумажнике обнаружилось удостоверение члена Национального союза студентов, несколько визитных карточек, на которых стояло имя Джеймса Галлахера, а также (как мы надеялись) его лондонский адрес: бывшие конюшни рядом с Портобелло-роуд.
– Как я люблю, когда нам облегчают жизнь, – довольно ухмыльнулся Сивелл.
– Итак, Питер, что дальше? – спросила Стефанопулос. – Обыск дома, допрос родственников и знакомых? С чего начать?
До этого момента я в основном помалкивал и сейчас вообще-то больше всего хотел смыться отсюда и отправиться домой. Но Джеймса Галлахера прикончили магическим оружием. Ну, то есть черепком от магического горшка. И вот этот-то факт я никак не мог оставить без внимания.
– Надо бы заглянуть к нему на хату, – наконец выразил я свое мнение. – На случай, если он сам был адептом.
– Адептом, значит? – хмыкнул Сивелл. – Это у вас терминология такая?
Я снова умолк, и Сивелл бросил на меня взгляд, полный скупого одобрения.
– Значит, решили, – подытожил он. – Сначала обыск, затем найдите всех знакомых и родственников и составьте расписание их допроса. Транспортники пришлют сюда еще несколько человек – надо прочесать тоннель в обе стороны.
– Транспорт Лондона нам за это спасибо не скажет, – заметила Стефанопулос.
– Ну что ж, я им сочувствую.
– Надо сказать криминалистам, что орудие убийства, возможно, является археологическим артефактом, – сказал я.
– Археологическим артефактом? – переспросил Сивелл.
– Возможно.
– Это твое экспертное мнение?
– Да.
– И как обычно, – усмехнулся Сивелл, – толку от него как от козла молока.
– Если хотите, можем подключить моего шефа, – предложил я.
Сивелл промолчал, брюзгливо поджав губы, а я потрясенно осознал, что он реально подумывает привлечь Найтингейла. Это бесило, ибо значило, что сам я, по его мнению, не справлюсь. И немного выбивало из колеи: раньше как-то спокойно было оттого, что Сивелл вечно сопротивляется вмешательству «магической херни» в работу его отдела. И если он теперь всерьез прислушался ко мне, то мне за все и отвечать.
– Я слышал, к вашей братии присоединилась Лесли, – сказал он вдруг.
В корне менять тему разговора – излюбленный прием всех копов. Но со мной это не прокатило: я отрабатывал нужный ответ с тех самых пор, как Найтингейл и Комиссар заключили соответствующее «соглашение».
– Неофициально, – сказал я. – У нее бессрочный лист нетрудоспособности.
– Какая потеря, – покачал головой Сивелл. – Прямо до слез жаль.
– Так как будем действовать, сэр? – спросил я. – ЭйБи займется убийством, а я – прочими… вопросами?
ЭйБи – радиожаргонное название участка Белгравия, где базируется отдел Сивелла. Мы, полицейские, предпочитаем не использовать нормальные слова, если можем заменить их никому непонятным сленгом.
– Чтобы опять было как в прошлый раз? – отозвался Сивелл. – Хрена с два. Будешь у нас работать, в нашей диспетчерской. В моей, мать ее так, команде, у меня под присмотром!
Я глянул на Стефанопулос.
– Добро пожаловать в убойный отдел, – пожала она плечами.
3. Лэдброк-Гроув
Столичная полиция славится простым и незатейливым подходом к расследованию убийств, равно презирая и нутряное, интуитивное чутье матерых следователей, и затейливые цепочки логических заключений гениальных сыщиков. Что здесь любят, так это припахать чертову тучу народу, которая будет методично долбить все мало-мальски возможные версии, пока те не иссякнут или же убийцу не найдут. Или, как вариант, пока руководитель следственной группы не умрет от старости. Вот поэтому дела об убийствах в основном ведут отнюдь не психи следователи, изнуренные алкоголем / семейными неурядицами / умственными расстройствами, а толпа констеблей, только начинающих карьерный путь и оголтело рвущихся к успеху. Так что влился я весьма удачно.
К четверти шестого на станции «Бейкер-стрит» нас таких собралось уже больше тридцати человек, поэтому мы все дружно отправились в Лэдброк-Гроув. Стефанопулос поехала на своем «Фиате Пунто» пятилетней давности, а я предложил подбросить двоих констеблей из отдела убийств. Среди них была моя знакомая – Сара Гулид, мы пересекались по поводу очередного трупа в Сохо. Плюс она участвовала в обыске в «Стрип-клубе Доктора Моро», поэтому как нельзя лучше подходила для «странных дел».
– Я отвечаю за связь с семьей жертвы, – сказала она, усаживаясь на заднее сиденье.
– Сочувствую.
Второй констебль из отдела убийств – упитанный, светловолосый, в мятом костюме от «ДиСи» – сел рядом с Гулид и представился:
– Дэвид Кэри. Тоже связь с семьей.
– На случай, если семья у него большая, – добавила Гулид.
Очень важно связаться с семьей жертвы как можно скорее. Во-первых, чисто по-человечески нужно известить родственников, что случилась беда, до того как они узнают о ней из новостей по телевизору. Во-вторых, надо создать иллюзию, что полиция работает как часы. А в-третьих и главных, мы должны оценить реакцию родственников, посмотреть им в глаза. Искреннее удивление, шок и горе невозможно сымитировать.
Лучше уж Гулид и Кэри, чем я.
Ноттинг-Хилл находится в трех километрах от Бейкер-стрит, поэтому минут через пятнадцать мы были на месте. Могли бы еще быстрее доехать, если бы мне не пришлось разворачиваться перед Портобелло-роуд. В свое оправдание должен заметить, что все эти поздневикторианские особняки в стиле «под Регентство», выглядят, черт их дери, абсолютно одинаково. К тому же я редко бываю в Ноттинг-Хилле иначе как на карнавале[11].
У Гулид и Кэри был ДжиПиЭс в телефонах, но мне это мало помогло: по очереди сверяясь с навигатором, они то и дело указывали диаметрально противоположные направления. Наконец места пошли знакомые, и я остановился у местной церкви, которая и послужила мне ориентиром. Это здешний оплот пятидесятничества, и прихожане – люди истово верующие и ужасно шумные. Именно такие места любит посещать моя матушка в те редкие дни, когда вспоминает, что вообще-то христианка.
Что до папы, то он и вовсе ходил в церковь только в тех случаях, когда ему нравилась музыкальная часть службы. То есть, как вы понимаете, почти никогда. В детстве я, помнится, очень любил надевать по воскресеньям нарядный костюмчик, и к тому же в церковь все приводили детей, и мне было с кем поиграть. Но посещения воскресных служб быстро заканчивались. Мама вдруг находила подработку по уборке офиса в выходные, или успевала внезапно разругаться с пастором, или же просто теряла интерес к религии. И все возвращалось на круги своя: по воскресеньям я снова сидел дома и смотрел мультики или менял пластинки на папином проигрывателе.
Я вышел из машины и погрузился в жутковатую тишину. Желтые лучи уличных фонарей отражались в темных стеклах витрин. Ветра не было, и ни один звук сюда не долетал. Вся картина выглядела как-то искусственно, словно декорация для кино. Низкие, тяжелые облака, подсвеченные снизу фонарями, зловеще нависали над пустыми улицами. Холодный сырой воздух глушил даже хлопанье дверей моей машины.
– Наверно, снег пойдет, – заметил Кэри.
Запросто, по такой-то холодрыге. Руки я мог погреть в карманах, но вот уши, казалось, уже заледенели. Гулид надела поверх хиджаба меховую ушанку и весело глянула на нас, замерзающих без головных уборов.
– Вот так вот: надежно и практично!
Она ждала, что мы ответим, но никто не стал доставлять ей такого удовольствия.
Все втроем мы двинулись к бывшим конюшням.
– Где ты взяла эту шапку? – поинтересовался я.
– У брата стащила, – ответила Гулид.
– А я слышал, – вклинился Кэри, – в пустыне бывает холодно и без такой шапки точно не обойтись.
Мы с Гулид молча переглянулись – что тут скажешь?
Ноттинг-Хилл десятилетиями героически ведет тяжелые арьергардные бои с превосходящими силами денег, волны которых периодически захлестывают его с тех самых пор, как Мейфэйр отдали на откуп толстосумам. Невооруженным взглядом видно: тот, кто проектировал перестройку старых конюшен в жилые дома, несомненно, проникся духом этого места, ибо ничто так не отражает принадлежность к оживленному и шумному району, как здоровенные кованые ворота, воткнутые на въезде в улицу. Мы с Гулид и Кэри глядели сквозь их толстые прутья, словно нищие дети Викторианской эпохи.
Перед нами были классические конюшни старого Ноттинг-Хилла: по обе стороны мощенного булыжником тупика тянулись здания, в которых когда-то давно богачи держали лошадей и ставили кареты. Теперь это были жилые дома, местами даже поделенные на несколько квартир. В таких домах, подальше от чужих глаз, высокопоставленные геи из кабинета министров селили своих бойфрендов в те времена, когда это вызывало общественное порицание. Теперь же здесь наверняка жили сплошь одни банкиры и их ближайшие родственники. Свет ни в одном окне не горел, но небольшая парковка была забита «БМВ», «Рейндж Роверами» и «Мерседесами».
– Ну что, будем дожидаться Стефанопулос? – спросил Кэри.
Мы какое-то время обдумывали эту перспективу, но очень недолго – те из нас, кто чужд религии и оттого не носит головные уборы, рисковали напрочь отморозить себе уши. На воротах висела серая коробочка домофона, и я без колебаний набрал номер дома Галлахера. Никто не ответил. Я позвонил еще пару раз – та же история.
– Наверно, сломан, – предположила Гулид. – Может, позвоним к соседям?
– Нет, соседям пока знать рановато, – возразил Кэри.
Я внимательно осмотрел ворота. Их железные прутья в виде пик с тупыми концами располагались довольно далеко друг от друга. Но рядом очень кстати лежал бетонный ограничитель въезда, который я и использовал как ступеньку. Холодный металл обжигал руки, но уже через пару секунд мне удалось подтянуться, поставить ногу на перемычку между пиками и, перемахнув ворота, спрыгнуть вниз. При соприкосновении с обледенелой брусчаткой ноги у меня поехали, и я чуть не упал, но все-таки удержал равновесие.
– Девять и пять десятых балла, – прокомментировал Кэри. – Ваша оценка, коллега?
– Девять и два, – ответила Гулид. – Приземлился не очень чисто.
На стене рядом с воротами обнаружилась кнопка выхода, как раз на высоте поднятой руки. Я нажал и впустил остальных.
Будучи лондонцами, мы задержались на несколько мгновений, чтобы соблюсти обязательный ритуал «оценки имущества». Я предположил, что, учитывая расположение, дом наверняка сто́ит миллион с хвостиком.
– Полтора, не меньше, – высказал свое мнение Кэри.
– Может, и больше, – отозвалась Гулид, – если он в свободном владении[12].
Над входной дверью, в ознаменование того, что вкус за деньги не купишь, висел самый что ни на есть старинный каретный фонарь. Я нажал кнопку, и звонок оглушительно зазвонил внутри. А я не спешил убирать палец с кнопки – прелесть работы в полиции в том и состоит, что копу не обязательно быть тактичным в пять утра.
Наконец мы услышали шаркающие шаги на лестнице и гневный вопль: «Да вашу мать, иду уже!» А потом дверь открылась.
Он был высокий, белый, небритый, лет двадцати, с густой копной спутанных темных волос и в одних трусах. Стройный, но без болезненной худобы. Ребра немного выпирали, но пресс был накачанный, чуть ли не с кубиками. Руки и ноги тоже выглядели вполне мускулистыми. На узком лице выделялся большой рот, который при виде нас изумленно открылся.
– Э! – сказал он. – Вы кто, на хрен, такие?
Мы достали удостоверения и показали ему. Он пялился на них несколько долгих секунд, затем спросил:
– Дадите пару минут форы, припрятать заначку?
Мы дружно ломанулись в дом.
Первый этаж, очевидно, перестроили из гаража и чисто номинально поделили на две части: впереди «гостиная» со свободной планировкой, за ней кухня, отделанная искусственным кирпичом. От левой стены наверх шла лестница без боковой панели. Свободная планировка – это, конечно, хорошо, но когда у вас в доме нет обычного узкого коридора, в котором можно застрять, трое энергичных копов играючи нейтрализуют кого угодно.
Я занял позицию между парнем и лестницей. Гулид, скользнув мимо меня, стала подниматься на второй этаж: следовало удостовериться, что в доме больше никого нет. Кэри же подошел к незнакомцу близко-близко, умышленно нарушая личное пространство.
– Мы – уполномоченные по связям с семьями жертв, – сообщил он, – так что при обычном раскладе нас бы не очень интересовало ваше увлечение наркотиками. Но сейчас это полностью зависит от того, насколько усердно вы будете помогать следствию.
– И угостите ли нас кофе, – добавил я.
– У вас же есть кофе?
– Кофе есть, – кивнул парень.
– Хороший? – донесся сверху голос Гулид.
– Нормальный. Который в кофеварке варят. Ну, в зернах. Реально клевый.
– Ваше имя? – спросил Кэри.
– Зак. Закари Палмер.
– Это ваш дом?
– Я здесь живу, но хозяин – мой приятель. Мой друг, Джеймс Галлахер. Он американец. Вообще дом принадлежит какой-то конторе, а Джеймс его снимает, и я живу тут вместе с ним.
– Вы состоите в близких отношениях с мистером Галлахером? – спросил Кэри. – В каких? Гражданский брак, сожительство… или как?
– Не-не, мы просто друзья, – ответил Зак.
– В таком случае, мистер Палмер, предлагаю переместиться в кухню и выпить кофе.
Я отошел в сторону, чтобы Кэри мог сопроводить слегка ошалевшего Зака в кухню. Теперь он узнает имена и адреса друзей Джеймса Галлахера и, если повезет, его родственников. А еще спросит, где сам Зак находился в момент убийства. Этот вопрос надо задавать сразу, чтобы никто не успел ни с кем сговориться насчет алиби. Гулид наверху, выискивает улики – дневники, записные книжки или даже ноутбук, – которые помогут определить круг знакомых Джеймса Галлахера и восстановить хронологию событий в последний день его жизни.
Я оглядел гостиную. Дом, похоже, сдавали вместе с мебелью, и его атмосфера позволяла предположить, что оную мебель заказывали по каталогу. И, судя по ее добротности и полному отсутствию деталей из ДСП, каталог был покруче тех, которые выбрала бы моя мама. Большой телевизор с плоским экраном поставили года два назад, рядом с ним стояли блюрей-плеер и игровая приставка «Икс Бокс». Однако ни проводов, ни спутникового приемника я не нашел. Рядом с телевизором стоял деревянный стеллаж с дисками, цветом «под дуб». Подборка фильмов была показушно иностранной, сплошное «кино не для всех»: реставрированные ленты Годара, Трюффо, Тарковского. Диск с «Телохранителем» Куросавы кощунственно бросили рядом с проигрывателем поверх футляра: видимо, достали из плеера и, судя по второму пустому футляру, вставили вместо него одну из частей «Пилы».
Настоящий камин – большая неожиданность, учитывая, что это бывший каретный сарай, – заложили кирпичами и заштукатурили. Но каминная полка сохранилась, и на ней стояла навороченная акустическая система «Сони» с выходом для айпода. Самого айпода нигде не было – значит, его еще предстояло найти. Кроме стереосистемы я обнаружил на каминной полке некрашеную статуэтку из глины, колоду карт, упаковку папиросной бумаги «Ризла» и грязную чашку.
Кэри тем временем усадил Зака за кухонный стол, а сам принялся варить «нормальный кофе», попутно заглядывая во все шкафы и ящики, чисто на всякий случай.
Если вы, подобно моей маме, профессионально занимаетесь уборкой помещений, то с пылью в углах поступаете так: берете швабру, мочите в воде и проходитесь вращательными движениями вдоль плинтуса. Пыль скатывается в комочки, потом надо немного подождать, пока они высохнут, и собрать пылесосом. После такой чистки остаются характерные круговые следы, которые я и нашел на ковре за телевизором. Это означало, что Джеймс и Зак не убирались здесь сами. А еще – что мне в гостиной ловить нечего. Поэтому я отправился на второй этаж.
Ванная комната сияла столь же идеальной чистотой. Однако я надеялся, что неведомая домработница все же не стала переступать последнюю черту приватности и заходить в спальни. И был прав, судя по запаху грязных носков и марихуаны, который я ощутил в меньшей из двух спален. Принадлежала она, видимо, Заку. Одежда, разбросанная по комнате, в основном была отечественных брендов, а под кроватью обнаружился бульбулятор – хитрая конструкция, сделанная из плексигласовой трубки при помощи паяльника. Сумку для вещей я нашел одну-единственную – спортивную, с потрепанными лямками и в пятнах на дне снаружи. Осторожно понюхал. Похоже, недавно стирали, но, помимо запаха стирального порошка, от нее едва заметно тянуло чем-то противным. Папа сказал бы, что бомжом.
Но чем здесь не пахло ни в каком смысле, так это магией. Я развернулся и вышел. И столкнулся на лестнице с Гулид.
– Ни дневника, ни записной книжки, – пожаловалась та, – видно, у него все было в телефоне. Нашла пару писем, присланных авиапочтой. Наверно, от матери – там тот же адрес, что и на правах.
Она сказала, что свяжется с полицией штата Нью-Йорк, попросит позвонить родственникам. Я спросил, где она возьмет контакты.
– А интернет на что?
– Нет, так не пойдет, – возразил я, но она не среагировала. – Думаю, владелец дома захочет познакомиться с Заком поближе, особенно если выяснится, что алиби у него нет.
– Почему это?
– Я сомневаюсь, что он где-то учится. Похоже, он вообще какое-то время жил на улице.
Гулид криво усмехнулась.
– Ну все, тогда однозначно злодей.
– А ты уже пробила его по общей базе?
– Питер, это мое дело. А твое – искать магические вещоки, или что вы там ищете?
Она улыбнулась, желая показать, что это наполовину шутка. Но только наполовину. Так что я оставил ее заниматься своим делом и пошел в спальню Джеймса, надеясь хоть там обнаружить какую-нибудь сверхъестественную фигню.
Увы, меня ждало разочарование.
На стенах не висело никаких плакатов, что мне сначала показалось странным. Но Джеймсу Галлахеру было двадцать три – возможно, он уже вышел из того возраста, когда увешивают стены плакатами. А может, собирался повесить что-то более серьезное: у стены пачкой стояли несколько картин в рамках. В основном городские пейзажи, причем местные: я узнал на одной из картин Портобелло-роуд. На сувенирный ширпотреб они совсем не походили, и я понял, что, возможно, их написал сам Джеймс, хотя стиль был малость старомодным для современного студента-художника. Смятая постель выглядела свежей, край одеяла без пододеяльника был отогнут. На прикроватном столике высилась стопка книг по искусству, но не альбомов с картинками, а серьезных фундаментальных трудов: искусство соцреализма, сборник агиток тридцатых годов, историческая подборка плакатов с лондонским метро, а также фолиант под названием «Наше Время – искусство и мысль с девяностых годов». Только две книги не касались искусства: объемистая «Лондонская трилогия» Колина Макиннеса и справочник «Пятьдесят признаков психического расстройства». Я взял его в руки, перевернул корешком вверх и несколько раз встряхнул, но он упорно не раскрывался на одних и тех же страницах и не выдавал, соответственно, наиболее зачитанные места.
Что Джеймс искал в этом справочнике? Темы для работ? Или опасался за свое – а может, чье-то еще – психическое состояние? Страницы были совсем свежие, незамусоленные, значит, книгу купили недавно. Может, это Зак его так встревожил?
Я еще раз оглядел комнату. Ничего оккультного, никаких намеков на мистику. Ни малейшего отголоска вестигиев, кроме обычного городского фона. Классический пример того, что я в последнее время привык называть обратным законом магической пользы. То есть вероятность обнаружить какие-либо магические предметы или явления обратно пропорциональна пользе, которую они, мать их, могли бы принести, если б их нашли.
А вообще магический отголосок убийства, каким бы он ни был, запросто мог прицепиться не к жертве, а к преступнику. Лучше б я остался в тоннеле метро, с сержантом Кумаром и поисковой группой.
И конечно, стоило подумать об этом, как искомое нашлось – пять минут спустя, когда мы спустились побеседовать с Заком.
Тот к моему возвращению уже успел облачиться в футболку и штаны от спортивного костюма. Cидел, слегка сгорбившись, за кухонным столом и давал показания Кэри. Гулид заняла стратегическую позицию, прислонившись к кухонному шкафчику в деревенском стиле, и наблюдала за Заком, оставаясь в поле его бокового зрения. Внимательно вглядывалась в его лицо и хмурилась – наверняка тоже видела в спальне психиатрический справочник.
На столе меня ждал кофе. Я сел рядом с Кэри и расслабился: откинулся на спинку, взял чашку и сделал большой глоток. Мы попросили Зака перечислить все свои действия за последние сутки. У него тряслись руки, и он неосознанно раскачивался на стуле. Полезно, когда свидетель немного нервничает, но все хорошо в меру.
На столе стояла керамическая миска с двумя яблоками, пятнистым перезрелым бананом и пачкой визиток такси. Того же сочного цвета горшечной глины, что и осколок, который я нашел в тоннеле метро. Только осколок был от гораздо более плоского сосуда.
Я глотнул еще кофе – действительно очень неплохого – и, ставя чашку на стол, как бы невзначай задел кончиками пальцев край миски. И снова, хоть и слабее, чем тогда, в тоннеле: жар и запах угольной пыли, вонь дерьма (видимо, свиного) и еще… не понял толком что.
Выложив фрукты и карточки на стол, я медленно провел пальцами по внутренней поверхности миски. Гладкой, приятно скругленной. Я не мог понять, чем она мне так нравится – круг он и есть круг. Но она была прекрасна, как… как улыбка Лесли. Я имею в виду, той поры, когда Лесли могла улыбаться.
Тут я заметил, что вокруг воцарилась полная тишина.
– Откуда взялась эта миска? – спросил я у Зака.
Судя по его взгляду, он решил, что у меня не все дома. Гулид и Кэри смотрели так же.
– Эта миска? – переспросил он.
– Да, эта миска. Где вы ее взяли? – повторил я.
– Миска как миска, самая обычная.
– Я знаю, – терпеливо сказал я. – Вам известно, откуда она здесь появилась?
Зак в ужасе воззрился на Кэри, явно решив, что мы придерживаемся малоизвестной схемы допроса «добрый коп / ненормальный коп».
– Джеймс вроде на рынке купил.
– На Портобелло?
– Ага.
Рынок Портобелло в длину простирается минимум на километр, и ларьков там не меньше тысячи. Не считая сотни с лишним магазинчиков, теснящихся по обеим сторонам Портобелло-роуд, а местами выползающих и на соседние улицы.
– А если малость поподробнее? – спросил я.
– Кажется, в верхнем конце, – ответил Зак. – Ну вы поняли, не в пафосном, а там, где нормальные ларьки. Больше ничего не знаю.
– Надо ее упаковать, – сказал я. – Есть у кого-нибудь пузырчатая пленка?
4. Арквей
Ответ был, как ни странно, «да». Видимо, студентам-художникам нередко приходится возить в транспорте свои работы, а они бывают хрупкие. Поэтому в кухонном шкафу обнаружились не только просроченные макароны и сомнительные супы в пакетиках, но и пузырчатая пленка, оберточная бумага и клейкая лента.
Здесь же, в шкафу, Зак хранил свою заначку – в небольшой сумочке на молнии мы обнаружили какие-то желтоватые листики. Кэри предложил считать их скорее пряными травами, нежели запрещенным веществом. Но сумочку тем не менее изъял – правда, неофициально. На случай, если нужен будет предлог для ареста Зака.
Миска теперь лежала в пакете для вещдоков, края которого были намертво склеены стикером с моим именем, званием и табельным номером. На том же стикере я нацарапал число, время, адрес и обстоятельства изъятия улики. Мелким, неразборчивым почерком – всегда считал, что в Хендоне очень не хватает соответствующего спецкурса.
Я прямо-таки разрывался: хотелось скорее выяснить, откуда взялась эта миска, и одновременно надо было проверить, не оставил ли Джеймс Галлахер каких-то магических штуковин в колледже – в шкафу, в мастерской, или где там они хранят свои работы. Поразмыслив, я решил ехать сначала в колледж, поскольку было восемь утра, а рынок полностью заработает не раньше одиннадцати. По негласным правилам городских рынков раннее утро принадлежит зеленщикам, а не торговцам посудой, ибо на сложный участок пути между метро «Ноттинг-Хилл» и пересечением с Пембридж-роуд у туристов уходит часа два.
Кто-то должен был остаться сторожить Зака до приезда Стефанопулос с командой. Зак пока не считался подозреваемым, но своим поведением здорово на него смахивал. Гулид с Кэри решили выяснить, кто же станет счастливчиком, и сыграли в «камень, ножницы, бумага». Кэри проиграл.
Гулид я обещал подбросить до Белгравии, ей надо было передать показания Зака коллегам из отдела обработки сведений для загрузки во всезнающую систему ХОЛМС. Эта система создана, чтобы сопоставлять и анализировать данные, что, как мы надеемся, помогает полицейским не выглядеть полными идиотами в глазах общества. Самый блеск, если еще и настоящего преступника удается поймать.
Мы вышли на улицу, в тускло-серую утреннюю мглу. Из-за нее, казалось, стало еще холоднее, но пейзаж, по крайней мере, перестал напоминать декорации к фильму. Пакет с волшебной миской я держал обеими руками и осторожно ступал по обледенелой брусчатке. Все машины, включая мой «Форд», покрывал толстый слой инея. Я завел мотор, откопал в бардачке скребок и минут десять чистил лобовое стекло, а Гулид, устроившаяся на переднем пассажирском сиденье, все это время давала мне ценные советы.
– А у вас тут обогреватель лучше, чем у нас, – заметила она, когда я наконец уселся за руль. Я сердито зыркнул на нее. Руки совсем онемели, и пришлось несколько секунд побарабанить пальцами по рулю, чтобы вернуть им чувствительность и без опаски вести машину.
Выруливая на Кенсингтон-парк-роуд, я подумал, что надо бы добавить в список пожеланий на Рождество новые перчатки для вождения.
Когда я сворачивал на Слоун-стрит, пошел снег. Я надеялся, что это будет меленькая крупа и припорошит совсем чуть-чуть – в детстве я очень расстраивался, если так бывало. Однако вскоре снег повалил огромными мокрыми хлопьями. Ветра не было, они спокойно опускались на землю, быстро покрывая все вокруг, даже проезжую часть. «Форд» начало заносить на поворотах. Я сбросил скорость и вздрогнул от неожиданности: какой-то придурок на «Рейндж Ровере», остервенело сигналя, пролетел мимо меня и въехал в зад «Ягуару XF».
Осторожно объезжая этих двоих, я, несмотря на холод, опустил стекло и популярно объяснил, что полный привод и великолепная маневренность не спасут, если толком водить не умеешь.
– Не заметила, пострадавшие есть? – спросил я Гулид. – Может, остановимся?
– Не-а, – мотнула она головой. – Это не наша забота, а день жестянщика только начался.
И точно: на пути к Слоун-сквер нам попались еще два небольших ДТП. Снег уже лежал небольшими сугробами на крышах машин, на тротуарах и даже на головах и плечах пешеходов. К тому моменту, как я припарковался перед отделом в Белгравии, монументальным зданием из красного кирпича, движение сократилось до тоненькой цепочки машин: лишь самые отчаянные и упрямые водители еще пытались форсировать пробку. Снегом покрылась даже Бакингем-Пэлес-роуд, а на моей памяти такого еще не случалось. Я не стал выключать мотор, когда Гулид выходила из машины. Она предложила забрать миску, но я отказался:
– Сначала пусть мой шеф ее посмотрит.
Я подождал, пока она войдет в здание и закроет за собой дверь. И только потом вылез из машины, открыл багажник и извлек оттуда форменную куртку со светоотражателями и бордово-фиолетовую шапку с помпоном, которую мне связала одна из тетушек: при определенной температуре даже я готов пожертвовать шиком в угоду комфорту. Утеплившись, я сел обратно и медленно-медленно порулил в западную часть города.
Джеймс Галлахер учился не в новом ультрасовременном кампусе в Кингс-Кроссе, а в отделении имени Байама Шоу[13], небольшом здании на выезде с Холлоувэй-роуд, рядом с Арквеем. И это, по мнению Эрика Хьюбера, куратора Джеймса и директора мастерской, было хорошо и правильно.
– Слишком уж там все новенькое, – отозвался он о главном здании, – слишком приспособленное. Полная инфраструктура, все блага цивилизации, а еще здоровенный офис, где сидит руководство. Все равно что пытаться творить за столиком в Макдоналдсе.
Хьюбер оказался невысоким мужчиной среднего возраста, в дорогой лиловой рубашке с воротником на пуговицах и коричневых слаксах. Насколько я понимал, гардероб ему нынче подбирал спутник жизни, какой-нибудь молодой натурщик. Это угадывалось по встрепанным волосам и байкерской косухе в качестве «зимней одежды». Косуха была старая и потрескавшаяся, похоже, ее извлекли из закромов по случаю внезапного снегопада.
– Гораздо полезнее заниматься творчеством в помещении, которое оптимизируешь своими силами, – пояснил Хьюбер. – Так сразу чувствуешь свой вклад.
Он встретил меня в приемной и провел внутрь. Колледж занимал два здания красного кирпича – корпуса бывшего завода, построенного еще в конце девятнадцатого века. Хьюбер с гордостью поведал о том, что во время Первой мировой войны здесь производили боеприпасы и поэтому стены очень толстые, а потолки высокие. Студенческая мастерская располагалась в огромном помещении – бывшем производственном цеху. Когда здание передали колледжу, этот цех от пола до потолка разделили белыми перегородками на несколько отсеков.
– Как можно заметить, у нас тут нет никакого личного пространства, – сказал Хьюбер, пока мы петляли между этими перегородками. – Мы хотим, чтобы каждый студент мог видеть, как работают другие. Зачем поступать в колледж, чтобы потом затворяться в какой-нибудь каморке?
Странное дело, я как будто вернулся в школьный кабинет рисования. Те же самые пятна краски, рулоны ватмана и стеклянные банки из-под варенья, полные мутной воды, из которой торчат недомытые кисти. Незаконченные работы висят на стенах, и горьковато пахнет льняным маслом. Только, конечно, все это в гораздо большем масштабе. На одной перегородке лепились друг к другу наросты из искусно сложенной цветной бумаги. А то, что я сначала принял за шкаф со стеклянными дверцами и старыми ламповыми телевизорами внутри, оказалось недособранной инсталляцией.
В основном, насколько я мог судить, нам попадались по пути абстрактные скульптуры и инсталляции из природных материалов. Поэтому, добравшись до закутка, в котором работал Джеймс Галлахер, я так удивился, обнаружив множество картин. Очень хороших картин. Те, что я нашел в Ноттинг-Хилле, действительно написал он.
– Эти работы отличаются от других, – заметил я.
– Вопреки ожиданиям, – пояснил Хьюбер, – мы не чураемся реализма.
Картины изображали улицы Лондона, Кэмден Лок, собор Святого Павла, Велл Уок в Хэмпстеде и прочие подобные места. На каждой – теплый солнечный день и веселые люди в яркой цветной одежде. Не знаю, как насчет реализма, но мне эти картины подозрительно напомнили фуфло, которое впаривают в «антикварных» лавках наряду с портретами клоунов и собачек в шляпах.
Я спросил, не считает ли он их слегка похожими на ширпотреб для туристов.
– Скажу вам откровенно, – ответил он, – когда Джеймс при поступлении сдавал конкурсные работы, они показались нам э-э-э… несколько простоватыми. Нужно абстрагироваться от их тематики, и тогда становится очевидна блестящая техника.
Ну и взнос за учебу, конечно, сделал свое дело: иностранный студент уплатил его одним куском, да еще и добавил немного для лояльности.
– Так что же случилось с Джеймсом? – поинтересовался Хьюбер. Осторожно и как-то неуверенно.
– Его нашли мертвым сегодня утром, и мы считаем обстоятельства смерти подозрительными. Больше ничего не могу сказать.
Это стандартный ответ на такие вопросы. Хотя труп, найденный на станции метро «Бейкер-стрит», наверняка пойдет в дневных новостях вторым номером после «пассажиров, возмущенных транспортным коллапсом в Лондоне после снегопада». Если только телевизионщики не сумеют как-то увязать оба этих события вместе.
– Он покончил с собой?
Очень интересно.
– У вас есть основания полагать, что он мог это сделать? – спросил я.
– Качество его работ в последнее время стало меняться к лучшему, – сказал Хьюбер, – они стали очень непростыми с точки зрения идеи.
С этими словами он отошел в дальний угол, где у стены стояла большая плоская кожаная папка для рисунков. Открыл ее, некоторое время перебирал лежавшие там работы. Наконец выбрал одну. И не успел еще целиком извлечь ее из папки, как я уже понял: она кардинально отличается от всех остальных картин Джеймса. Тона были мрачные и какие-то злые. Хьюбер перевернул картину и поднял на уровень груди, чтобы я мог как следует ее рассмотреть.
Темно-синие и бордовые изгибы олицетворяли свод тоннеля, из тьмы которого выходил кто-то со странными, нечеловечески вытянутыми руками и ногами, нарисованный размашистыми мазками черного и серого. Лицо было гораздо выразительнее, чем у персонажей других картин: широкая щель рта, кривящаяся в злобной ухмылке, круглые как блюдца глаза и большая, абсолютно безволосая голова.
– Как видите, – сказал Хьюбер, – в последнее время он стал писать гораздо лучше.
Я снова глянул на картину с подоконником в солнечных бликах: для полной слащавости на нем недоставало только кота.
– Как давно у него изменился стиль? – спросил я.
– Нет-нет, стиль не менялся, – поправил меня Хьюбер. – Техника в высшей степени напоминает предыдущие картины Джеймса. Однако перед нами значительно более глубокая работа. Радикально изменилась, я бы так сказал, тематика, но полагаю, надо вникать даже глубже. Стоит только взглянуть на эту работу, и видишь эмоции, даже страсть, которых не было ни в одной из предыдущих. Он не просто стремился выйти из зоны комфорта в плане техники…
Хьюбер внезапно умолк.
– Такое уже бывало, – после долгой паузы сказал он. – К вам приходят учиться молодые люди, вы думаете, что понимаете их, а потом они вдруг сводят счеты с жизнью, и становится ясно: все это время вы принимали за их успехи нечто совершенно противоположное.
Я не совсем лишен сострадания к ближнему, а потому сообщил, что самоубийство все же маловероятно. У Хьюбера явно свалился с души такой камень, что он даже не спросил, как именно погиб его ученик. Что само по себе повод заполнить квадратик на уже упомянутой «карточке бинго».
– Вы сказали, он решил выйти из зоны комфорта, – напомнил я. – Что вы имели в виду?
– Он хотел поработать с новым для себя материалом: заинтересовался керамикой, к сожалению.
Я спросил, почему к сожалению, и Хьюбер пояснил, что им пришлось перестать использовать печь для обжига здесь, в колледже.
– Каждый обжиг стоит очень дорого, и мы должны продавать много готовой керамики, чтобы окупать работу печи, – сказал он, явно досадуя, что и сюда, в обитель искусства, добралась реальность и ее финансовые проблемы.
А я вспомнил об орудии убийства – том осколке горшка, который нашли в тоннеле. И спросил, есть ли печь для обжига в новом здании и мог ли Джеймс Галлахер работать с керамикой там?
– Нет, – покачал головой Хьюбер. – Если бы он попросил, я мог бы это устроить, но он не просил.
Нахмурившись, он извлек из папки еще одну «позднюю» работу. Бледное лицо женщины с большими глазами, а вокруг пурпурно-черная тьма. Некоторое время смотрел на нее, потом вздохнул и осторожно убрал на место.
– Знаете, – сказал Хьюбер, – он часто где-то пропадал подолгу…
И снова пауза. Я тоже помолчал, надеясь, что он скажет что-то еще. Но ничего не дождался, а потому задал следующий вопрос: был ли у Джеймса шкаф для личных вещей.
– Пойдемте, – кивнул Хьюбер, – это там, дальше.
На одном из многочисленных шкафчиков серого металла висел дешевый замок. Я сбил его при помощи резца, который прихватил из ближайшего «рабочего отсека». Хьюбер поморщился, когда замок с глухим стуком упал на пол, но, похоже, его больше волновала сохранность резца, нежели шкафа. Натянув резиновые перчатки, я принялся исследовать содержимое. Обнаружил две коробки карандашей, набор кистей в футляре (половины не хватало), небольшую книжку «Глаз в пирамиде»[14] в мягкой обложке с ценником из «Оксфэма»[15] и путеводитель по городу. Туда была вложена рекламная брошюрка о выставке художника по имени Райан Кэрролл, в галерее «Тейт Модерн». Она служила закладкой на соответствующей странице, и «Тейт Модерн» в Саутворке была обведена в кружок карандашом.
Значит, он точно туда собирался, подумал я. А торжественное открытие выставки как раз завтра. Я записал данные, сложил в пакет и промаркировал все, что нашел в шкафу, опечатал его изолентой, оставил мистеру Хьюберу визитку и двинул домой.
Счистив с лобового стекла трехсантиметровый слой снега, я сел за руль и двадцать минут спустя наконец поставил свой «Форд» в гараж, где стихия ему больше не грозила. Потом, набравшись храбрости, форсировал обледенелую лестницу, которая вела на второй этаж бывшего каретного сарая. Там, в моем логове, стоит телевизор, хорошая стереосистема, ноутбук и прочие атрибуты двадцать первого века, олицетворяющие связь с внешним миром. Это оттого, что сам особняк Безумство полон тайных защитных сил (не мои слова), которые могут ослабеть, если протянуть внутрь нормальные современные провода. Вайфай я предлагать не стал, потому что сам не очень дружу с информационной безопасностью. И потом, хотелось иметь какой-то угол лично для себя.
Первым делом я включил масляный обогреватель, который нашел однажды на цокольном этаже особняка, когда от старого, электрического, три раза подряд выбило пробки на его допотопном щитке. Потом проверил запас вкусняшек в шкафу и отметил, что пора его пополнить. А еще пора либо вымыть свой мини-холодильник, либо плюнуть уже и признать его биологически опасным объектом. Но когда все же нашелся кофе и пол-упаковки печенек – «Маркс и Спенсер», со вкусом натуральных печенек, я решил сперва разобраться с документами, а потом уж наведаться к Молли на кухню.
Следующие два часа я оформлял показания мистера Хьюбера, попутно отмечая, что резкая смена тематики в работах Джеймса Галлахера может говорить о вероятных изменениях его личности. Потом, чтобы немного взбодриться, решил погуглить Райана Кэрролла и выяснить, чем таким необычным он заинтересовал погибшего американца. Информации нашлось немного: родился и вырос в Ирландии, до недавнего времени жил и работал в Дублине. Известен главным образом благодаря своей инсталляции в виде фермерских домов из деталей лего в четверть натуральной величины. Крыши у них из библиотечных томов классической ирландской литературы, покрытых сверху слоем конского навоза. Для раннего Джеймса Галлахера недостаточно слащаво, для позднего не хватает извращенности. В онлайн-журналах нашлось несколько обзоров выставок Кэрролла, все за последние два месяца. И даже одно интервью, в котором он утверждал, что промышленную революцию важно воспринимать как раскол между человеком – высокодуховной личностью и человеком – грубым потребителем. Родившись в Ирландии, собственными глазами увидев и расцвет, и последующее угасание феноменального «кельтского тигра»[16], Райан Кэррол имеет совершенно уникальный взгляд на разобщение человека и машины. Так, по крайней мере, он сам считает. Новая же работа должна, по его замыслу, пошатнуть взгляды общества на взаимодействие людей и машин.
– Мы и есть машины, – сказал он в интервью, – мы перерабатываем еду в дерьмо. И создали другие машины, которые помогают нам повышать производительность труда: перерабатывать еще больше еды в большее количество дерьма.
У меня сложилось впечатление, что на этого Кэрролла было бы любопытно посмотреть, но лучше не во время еды. Я не знал, насколько важно, что студент художественного колледжа собирался посетить художественную выставку, но на всякий случай внес эту информацию в отчет. Золотое правило современной полиции гласит: фиксируй все, мало ли что пригодится. Сивелл – хотя скорее Стефанопулос – просмотрит отчет и решит, что с этим делать дальше.
Я позвонил в Белгравию, в отдел обработки данных, который отвечает за ввод информации в систему, и сказал, что направляю показания свидетеля по электронной почте. Они сказали, что это, конечно, хорошо, но им нужны правильно оформленные оригиналы, и как можно скорее. А еще напомнили, что, если Безумство не располагает безопасным хранилищем вещдоков, я должен немедленно передать ответственному за улики все, что нашел в шкафу Джеймса Галлахера.
– Не волнуйтесь, хранилище у нас есть, – заверил я. – И весьма надежное.
Еще полчаса я корпел над бланками, а потом наконец отправил все это в Белгравию. Как раз в этот момент позвонила Лесли – напомнить, что мы сегодня должны побеседовать с предполагаемым Крокодильчиком. Найтингейл уехал в Хенли еще утром, когда стало ясно, что я занят и вернусь нескоро.
Съездил, называется, к Беверли. Теперь в этом году уже не увидимся.
Лесли поинтересовалась, ждать ли сегодня Найтингейла.
– Нет, – ответил я, – не в его правилах рулить в такую погоду.
Мы встретились у служебной лестницы, притулившейся сбоку в передней части особняка, и Лесли спустилась со мной в подвал, где у нас было специальное секретное хранилище и по совместительству оружейный склад. После того как я весьма эмоционально пообщался с Безликим на крыше дома в Сохо, Найтингейл на пару с Кэффри, нашим знакомым бывшим десантником, целую неделю развлекались вывозом оружия и боеприпасов, которые лежали и ветшали здесь шестьдесят лет с хвостиком. А веселее всего было, когда я случайно открыл ящик с осколочными гранатами, который валялся в луже аж с 1946 года, и Кэффри рявкнул мне медленно отойти в сторону, и голос у него был на пару октав выше обычного. Пришлось вызывать парочку взрывотехников, чтобы они забрали этот ящик и увезли подальше. Мы с Лесли наблюдали за ними из кафе в сквере по другую сторону улицы.
Все вооружение, которое Кэффри счел пригодным для использования, привели в порядок и сложили на новенькие стеллажи вдоль одной стены и на металлические полки вдоль другой. Именно они предназначались для хранения вещдоков. Я выписал перечень всего, что принес, на листе бумаги, зажатом в планшет, и мы с Лесли свалили в Барбикан.
5. Барбикан
После Второй мировой войны от английского магического сообщества почти ничего не осталось. Только раненый Найтингейл и еще несколько магов, слишком старых или недостаточно хороших, чтобы полечь в последней отчаянной битве в лесах под Эттерсбергом. Я точно не знаю, за что они там сражались, но догадки есть: нацистские идеи, концлагеря, потусторонние силы… словом, предположений хватает. Один Найтингейл да еще пара магов постарше, ныне давно покойных, продолжали свою деятельность после войны. Все остальные умерли от ран, сошли с ума либо отказались от своего призвания, выбрав обычную жизнь. Преломили посох, по выражению Найтингейла.
Сам он согласился «уйти в режим ожидания»: затаился в Безумстве и появлялся, только когда у cтоличной или региональной полиции возникали проблемы по части потусторонних сил. Вокруг теперь был новый, незнакомый мир скоростных магистралей и атомных бомб. Найтингейл, как и большинство посвященных, полагал, что магия угасает, ее свет уходит из мира и он – последний практикующий маг.
Как выяснилось, он был не прав. Но, когда это стало очевидно, было уже поздно: кто-то другой взялся обучать людей магии еще в пятидесятые годы. Не понимаю, почему мой наставник так удивился – сам я успел выучить от силы четыре с половиной заклятия и ни за что на свете не остановился бы на достигнутом. Хотя то и дело оказываюсь на волосок от смерти: мне грозят то вампиры, то петля, то злонамеренный дух и озверевшие погромщики, то человек-тигр. А еще постоянный риск переборщить с магией и заработать аневризму сосудов головного мозга.
Цепочка событий, насколько мы смогли ее восстановить, выглядит так: Джеффри Уиткрофт, маг, по общему мнению, не слишком выдающийся, после войны оставил это поприще и стал преподавать теологию в Оксфорде, в колледже Магдалины. Через некоторое время, в середине пятидесятых, он организовал там обеденный клуб «Крокодильчики». Университетские обеденные клубы – это сборища, популярные в пятидесятые и шестидесятые годы у богатеньких старшекурсников. Они проводили там все время, свободное от роковой любви, шпионажа в пользу русских или оттачивания современной британской сатиры.
Джеффри Уиткрофт, стремясь разнообразить клубные вечера, взялся обучать некоторых своих молодых друзей основам ньютоновой магии, чего ему делать не следовало. И, по определению Найтингейла, довел минимум одного из них до «уровня магистра», чего делать совсем не следовало. Потом – мы не смогли установить, когда именно, – этот его ученик поселился в Лондоне и перешел на темную сторону. То есть Найтингейл, конечно, никогда не говорит «на темную сторону», но мы с Лесли не можем удержаться.
Он творил с людьми ужасные вещи. Я знаю это наверняка, сам видел ожившую голову Ларри Жаворонка. Видел и других… обитателей «Стрип-клуба Доктора Моро». Найтингейл видел гораздо больше, но не хочет об этом рассказывать.
Благодаря показаниям очевидцев мы знаем, что наш герой при помощи магии скрывал лицо. Похоже, он отошел от дел где-то в конце семидесятых и, насколько мы можем судить, его эстафету долго никто не принимал. До тех пор, пока три или четыре года назад на сцену не вышел тот, кого мы называем Безликим. Осенью, в октябре, он был настолько близок к тому, чтоб снести мне голову с плеч, что я отнюдь не жажду новой встречи. По крайней мере, один на один.
Но пока адепт магии с ограниченными понятиями об этике все же не бродил у нас под окнами. В связи с чем мы решили избрать тактику его ареста, основанную на оперативно-аналитических данных. А такая тактика в работе полиции означает следующее: вы сначала все просчитываете, разрабатываете план, а потом уж бросаетесь на преступника, и он сносит вам голову с плеч. И вот мы стали исследовать список возможных сподвижников Безликого, надеясь отыскать информацию, которая поможет выяснить, кто он такой. Неспроста же он так тщательно это скрывает.
Шекспировская башня – один из трех жилых высотных корпусов архитектурного комплекса Барбикан в Сити. Построили ее в шестидесятые годы те же самые приверженцы стиля орудийных площадок острова Гернси, которые проектировали нашу школу. Это еще один образчик английского брутализма, башня из шершавого бетона, которой даже дали Вторую категорию[17] – иначе пришлось бы публично признать, что она страшная как смертный грех. Однако, хоть Шекспировская башня и так себе с точки зрения эстетики, есть в ней одна очень редкая для лондонских зданий черта, за которую я был очень благодарен, когда с трудом дополз сюда на своем «Форде» по скользким заснеженным улицам. А именно – подземная парковка.
Мы въехали туда, показали удостоверения типу в кабине у шлагбаума, и он выделил нам машино-место. И даже объяснил, где вход, но мы все равно минут пять нарезали круги по парковке, пока Лесли не заметила маленькую табличку, которую загораживали от глаз многочисленные трубы и перекрытия.
Мы позвонили в дверь, и консьерж впустил нас в холл.
– Мы пришли побеседовать с Альбертом Вудвилл-Джентлом, – сообщил я.
– И предпочли бы, чтобы вы ему об этом не сообщали, – добавила Лесли, заходя следом за мной в лифт.
– Мы просто хотим с ним поговорить, – заметил я, как только двери закрылись.
– Питер, мы же копы, – напомнила Лесли. – Наш приход всегда должен быть неприятным сюрпризом, так труднее что-либо скрыть.
– Логично, – кивнул я.
Лесли в ответ только вздохнула.
Лифтовые холлы на всех этажах были одинаковые: в форме усеченного треугольника, с голыми бетонными стенами, серым ковровым покрытием на полу и аварийными выходами, по форме и размерам напоминающими гермолюки подводных лодок.
Альберт Вудвилл-Джентл жил на тридцатом этаже, это две трети высоты башни.
Там оказалось очень чисто. Когда я вижу в общественном месте столько чистых бетонных поверхностей, мне становится не по себе.
Мы подошли к двери, и я нажал кнопку звонка.
На практике весь смысл полицейской работы в том, что нужную информацию не надо искать тайком. А надо внезапно заявиться к человеку, ввергнуть его в трепет масштабами своих полномочий и задавать нескончаемые вопросы. До тех пор, пока он не скажет то, что вам нужно узнать. К сожалению, Безумство придерживается несколько других правил (в рамках соглашения, не иначе): факт, что в мире есть сверхъестественное, следует если не скрывать, то хотя бы не подчеркивать.
По этой причине не годилось начинать беседу с вопроса: «Эй, а вы, случайно, не изучали магию в университете?» И мы разработали хитрый план. Ну, то есть Лесли разработала.
Дверь открылась сразу же: консьерж все-таки предупредил хозяев. На пороге стояла женщина средних лет, с усталым лицом, голубыми глазами и волосами цвета грязной соломы. Увидев Лесли в маске, она непроизвольно шагнула назад. Неудивительно – все так реагируют.
Я представился и показал удостоверение. Она подозрительно сощурилась на него, затем на меня. На ней была простецкая коричневая юбка и такого же цвета блузка, а поверх нее – шерстяной жакет. Но из нагрудного кармана торчали механические часы, перевернутые вверх ногами. Видимо, сиделка с проживанием.
– Мы бы хотели видеть мистера Вудвилла-Джентла, – сказал я. – Он дома?
– Он сейчас должен отдыхать, – ответила женщина. С явным славянским акцентом. Русская, подумал я. Или украинка.
– Можно узнать, кто вы?
– Я Варенька, – сказала она, – сиделка мистера Вудвилла-Джентла.
– Мы можем войти? – спросила Лесли.
– Не знаю, – ответила Варенька.
Я вынул блокнот.
– Назовите, пожалуйста, вашу фамилию.
– Мы ведем официальное расследование, – сообщила Лесли.
Варенька еще помедлила, потом – очень неохотно, на мой взгляд, – посторонилась и впустила нас.
– Пожалуйста, – сказала она, – заходите. Я сейчас посмотрю, может быть, мистер Вудвилл-Джентл уже проснулся.
Очень интересно, подумал я. Ей проще впустить нас, чем назвать свое полное имя.
Квартира представляла собой длинный прямоугольный коридор с гостиной и кухней по правой стороне. По левой размещались спальни и, как я понял, ванные комнаты. Все стены занимали книжные полки. Было душно из-за задернутых штор, едва заметно пахло дезинфектантом и плесенью. Варенька повела нас в гостиную, и я по пути успел глянуть на книги. Похоже, все они были куплены в благотворительном секонд-хенде: твердые переплеты сверкали дырами в суперобложках, а у мягких были потертые и выцветшие корешки. И при этом все они были тщательно отсортированы сначала в тематическом, а затем в алфавитном порядке. Аж две полки занимали книги Патрика О’Брайана – видимо, все, что есть, включая «Желтого адмирала». Целая этажерка была отведена под книги в мягкой обложке, вышедшие в пятидесятые годы в издательстве «Пенгуин букс».
Для моего папы такие книги – настоящий предмет культа. Он говорит, тогда пенгвиновские издания были жутко популярны: стоило только сесть за столик в нужном кафе в Сохо, открыть такую книжку, притвориться, будто читаешь, – и готово. Не успеешь заказать вторую чашку эспрессо, как вокруг тебя уже будут виться эффектные юные дамы.
Лесли тайком пихнула меня под локоть, чтоб собрался и сделал суровое лицо. Мы вошли в гостиную, и Варенька, оставив нас, отправилась нарушать отдых Альберта Вудвилла-Джентла.
– Он колясочник, – шепнула Лесли.
Судя по тому, где стоял обеденный стол и как располагались другие предметы мебели, квартиру действительно обставляли с учетом нужд инвалида-колясочника. Лесли носком ботинка поковыряла следы на ковре – там, где узкие колесики кресла протерли две светлые полоски на темно-красном плюше.
С другого конца коридора донеслись приглушенные голоса. Варенька свой пару раз повышала, но, очевидно, не смогла переспорить мистера Вудвилла-Джентла, ибо уже через несколько минут вкатила его коляску в гостиную, чтобы он мог поприветствовать нас.
Всегда ожидаешь, что человек в инвалидном кресле будет выглядеть слабым и измученным. И мы поразились, увидев пухлого и розовощекого пожилого джентльмена с радостной улыбкой. По крайней мере, на левой половине лица – справа явно угадывался парез лицевого нерва. Возможно, последствие инсульта, но обе руки, как я заметил, двигались вполне нормально, хотя и заметно тряслись. Ноги до самого пола скрывал клетчатый плед. Вудвилл-Джентл был гладко выбрит, аккуратно подстрижен и, похоже, искренне рад нас видеть. Последнее, если хотите знать, заполняет очередное поле на нашей «карточке бинго».
– Бог ты мой! – воскликнул он. – Это же надо – копы!
Заметив, что Лесли в маске, он нарочито внимательно вгляделся ей в лицо.
– Вам не кажется, юная леди, что вы слишком буквально понимаете термин «работа под прикрытием»? Может быть, хотите чаю? В плане чая на Вареньку можно положиться. При условии, что вы любите пить его с лимоном.
– О, я бы как раз хлебнул чайку, – сказал я. Если Вудвилл-Джентл решил изображать вальяжного представителя высшего общества, то мне отнюдь не слабо прикинуться копом из низов.
– Садитесь, садитесь! – Он махнул рукой в ту сторону обеденного стола, где стояла пара стульев. Сам же объехал его с другой стороны и устроился прямо напротив нас, сцепив пальцы в замок, чтоб не дрожали.
– Ну а теперь будьте добры объяснить, чего ради ворвались в мой дом.
– Не знаю, известно ли вам, мистер Вудвилл-Джентл, что Дэвид Фейбер недавно пропал, но мы как раз ведем расследование и занимаемся его розыском, – сказал я.
– Не припомню, чтобы когда-либо слышал это имя, – покачал головой старик. – Он чем-то известен?
Я открыл блокнот и стал листать, вроде как сверяясь с данными.
– Он учился Оксфорде, в колледже Магдалины, с 1956 года по 1959-й. Тогда же, когда и вы.
– Не совсем так, – ответил Вудвилл-Джентл. – Я учился там с 1957 года и, хотя память у меня уже не та, могу сказать наверняка, что фамилию Фейбер не забыл бы. А фотографии у вас нет?
Лесли достала из внутреннего кармана куртки цветную фотографию, явный репринт со старой черно-белой. На ней был молодой человек в твидовом пиджаке и со стрижкой, модной в пятидесятые годы. Он стоял возле какой-то кирпичной стены, увитой плющом.
– Узнаете? – спросила Лесли.
Вудвилл-Джентл близоруко сощурился на фото.
– Боюсь, что нет, – покачал он головой.
Я бы сильно удивился, если бы он сказал «да», – учитывая тот факт, что мы с Лесли распечатали ее с одной из страниц шведской соцсети. Дэвида Фейбера мы придумали сами, а шведа выбрали, чтобы никто из клуба его уж точно не узнал. Все это был предлог, чтобы разузнать, как поживают бывшие Крокодильчики, причем если кто-то из них практикует магию, то не должен заподозрить, что мы ищем его.
– По нашим данным, вы с ним состояли в одном общественном клубе. – Я снова «сверился» с блокнотом: – Он назывался «Крокодильчики».
– В обеденном клубе, – поправил меня Вудвилл-Джентл.
– Простите?
– Такие клубы назывались обеденными, – сказал он, – а не общественными. В них вступали, просто чтобы есть и пить сверх всякой меры, хотя, должен сказать, мы и благотворительностью там занимались, и еще всяким разным.
Варенька принесла чай. Действительно по-русски: черный, с лимоном и в стеклянных стаканах. Поставила на стол и встала позади нас с Лесли, так, чтоб мы не могли видеть ее, не поворачиваясь. Это наш, полицейский прием, и мы очень не любим, когда его используют против нас.
– Увы, боюсь, в доме совсем нет ни печенья, ни кексов, – вздохнул Вудвилл-Джентл. – Доктор запрещает. А то я, если захочу найти вкусненькое, которое мне нельзя, могу быть очень изобретательным и подвижным.
Я молча прихлебывал чай, а Лесли задавала гостеприимному хозяину стандартные вопросы. Он припомнил имена нескольких сокурсников, которые тоже состояли в клубе. И еще нескольких, которые могли, по его мнению, там состоять. Большинство этих имен уже были у нас в списке, но всегда полезно, когда твои данные подтверждает свидетель. Было еще несколько студенток, их он упомянул как «непостоянных участниц» – тоже дело.
Спустя еще пять минут я сказал, что слышал, будто из этой башни открывается великолепный вид на город. Вудвилл-Джентл велел чувствовать себя как дома, а Варенька показала, как открывается балконная дверь. Поднимаясь со стула, я как бы непроизвольно хлопнул себя по нагрудному карману. Там лежал коробок спичек – на всякий случай, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что я иду покурить. Это тоже входило в хитрый план Лесли.
Вид и правда впечатлял. Облокотившись на балконное ограждение, я устремил взгляд на юг. На собор Святого Павла и дальше, за реку, на Элефант энд Касл, где высотка, нежно именуемая лондонцами «Электробритвой», соперничает в оригинальности с детищем Штромберга, бездарной одой бетону и нищете – Скайгарден Тауэром. А за всем этим, несмотря на низкую облачность, сияли огни Лондона аж до самой гряды холмов Норт Даунс. Развернувшись направо, я увидел остроконечные готические шпили Парламента: уменьшенные расстоянием, они вписывались в кольцо Лондонского глаза, а под ними шумел неугомонный центр. Все его улицы пестрели рождественскими украшениями, еще более яркими на фоне свежевыпавшего снега. Я мог бы еще несколько часов так стоять, но боялся отморозить задницу, а кроме того, должен был разнюхать, что здесь к чему.
Балкон имел форму буквы Г. Длинная сторона располагалась вдоль гостиной, видимо, чтобы летом можно было греться на солнышке, попивая чай, а короткая, не сильно меньше, но гораздо у́же, шла по ширине квартиры. Благодаря риэлтору, на сайте которого был поэтажный план здания, мы знали, что все комнаты, кроме ванных и кухни, имеют выход на балкон. А благодаря полицейскому опыту – что люди, живущие на тридцатом этаже, вряд ли запирают балконные двери. В ширину балкон не дотягивал даже до трети метра. Ограда высотой была по пояс, и все равно я почувствовал себя как-то нехорошо, засмотревшись налево и вниз. Рассудив, что спальня сиделки – меньшая из двух, я двинулся в конец балкона, к очередному запасному выходу в форме гермолюка. Затем, натянув перчатки, толкнул створки окна. Они распахнулись легко и беззвучно, что было мне на руку. Я шагнул через порог.
Открытая дверь вела из спальни в коридор, но свет там не горел, поэтому в самой комнате невозможно было ничего разглядеть. А я и не за этим пришел. Воздух был спертый, пахло больничной палатой и немного тальковым порошком. А еще, как ни странно, духами «Шанель номер пять». Глубоко вдохнув, я постарался ощутить вестигий.
Тщетно – никаких вестигиев тут не было, по крайней мере явных.
Я, конечно, отнюдь не так опытен, как Найтингейл, и все же готов был поспорить, что в этой квартире за всю ее историю не происходило ничего магического.
Досадно. Я стал медленно, осторожно продвигаться вперед, к двери в коридор. Наконец выглянул из нее, встав так, чтобы видеть вход в гостиную и какую-то ее часть. Лесли продолжала расспрашивать Вудвилл-Джентла. Ей, оказывается, удалось полностью завладеть его вниманием – старик даже чуть подался вперед, с интересом рассматривая… ее лицо без маски, с изумлением понял я. Варенька тоже смотрела как зачарованная. Я не расслышал, что она спросила, но увидел, как изуродованные губы Лесли шевельнулись, произнося ответ. Она по дороге сюда шутила – мол, придется снять маску, если не будет другого варианта их отвлечь, но я не верил, что она реально это сделает. Вудвилл-Джентл медленно, осторожно протянул руку, намереваясь коснуться щеки Лесли, но она резко отстранилась и тут же надвинула маску на лицо.
Вдруг я заметил, что Варенька, которая держалась чуть в стороне, тоже глядя на Лесли, обернулась и смотрит теперь на коридор. На дверь хозяйской спальни. Я стоял в тени, к тому же совершенно неподвижно. И был полностью уверен, что, если не буду шевелиться, она меня не заметит.
Вот она повернула голову, что-то сказать своему подопечному, и я молниеносно шагнул назад в комнату, за предел ее видимости. Один – ноль в пользу храброго ниндзя из Кентиш-тауна!
– Видишь, чем я жертвую ради тебя, – сказала Лесли, когда мы спускались на лифте. Она имела в виду маску, которую сняла. – Оно хоть того стоило?
– Ничего я там не почувствовал, – сознался я.
– Интересно, почему его хватил инсульт, – задумчиво протянула Лесли.
Инсульт, повлекший за собой паралич, – одно из возможных последствий магической практики. Последствий этих бывает великое множество, и все они весьма впечатляют.
– Понимаешь, когда кучка мажоров начинает изучать магию, рано или поздно кто-нибудь из них нарушит технику безопасности. Наверно, надо попросить доктора Валида собрать статистику по инсультам и тому подобному в рамках нашего круга подозреваемых.
– Как же ты любишь возиться с бумажками.
Двери лифта открылись, и мы пошли искать нашу машину на выстуженной парковке.
– А тебе, Питер, лишь бы побегать. Твой любимый способ ловить преступников.
Я рассмеялся, и она двинула меня кулаком в плечо.
– Чего ржешь?
– Мне правда тебя очень недоставало, пока ты болела, – признался я.
– Хм, – сказала она и всю дорогу до Безумства хранила молчание.
В особняке нас не удивило ни отсутствие Найтингейла, ни то, что Молли, поджидая его, расхаживала по атриуму. Я направился в малую столовую, где Молли накрыла стол на двоих в надежде, что Найтингейл вернется. Тоби прыгал вокруг и путался у меня под ногами. В камине столовой горел огонь – впервые с того дня, как я тут поселился. Я вышел обратно, на маленький внутренний балкон, и увидел, как Лесли поднимается по лестнице к себе в комнату.
– Лесли! – окликнул я ее. – Погоди-ка!
Она обернулась. Лицо, как всегда, скрывала грязно-розовая маска.
– Поужинай со мной. Ты ведь тоже голодная, а мне одному много, потом все равно придется половину выкидывать.
Лесли глянула наверх, на свою дверь. Потом снова на меня. Я понимал, что кожа у нее под маской чешется и что ей, наверно, до смерти охота как можно скорее закрыться у себя и снять ненавистную штуковину.
– Я видел твое лицо, – сказал я, – и Молли тоже видела. А Тоби вообще все пофиг, покуда есть сосиски.
Тоби согласно тявкнул.
– Так что снимай эту хрень и пошли. Терпеть не могу есть один.
– Окей, – кивнула Лесли и двинулась вверх по лестнице.
– Куда? – возмутился я.
– Кремом намажусь, дурачок, – отозвалась она.
Я глянул на Тоби – тот увлеченно скреб лапой за ухом.
– Смотри-ка, кто будет с нами ужинать! – сказал я ему.
Должно быть, Молли в какой-то момент обиделась, что мы так часто заказываем в техкаморку доставку еды, и с тех пор увлеклась экспериментами. Но сегодня, видно, решила от них отдохнуть и вернулась к классике. К самой что ни на есть старой и доброй Англии.
– У нас сегодня оленина в сидре, – объявил я. – Всю ночь мариновалась. Сам видел – зашел вчера вечером в кухню чего-нибудь зажевать, и алкогольные пары чуть дух из меня не вышибли.
На гарнир Молли подала жареную картошку с грибами, кресс-салатом и зеленой фасолью. Все это красиво лежало в большой форме для запекания. Оленина же представляла собой порционные стейки, чему лично я был очень рад. Ведь Молли, задавшись целью готовить традиционное, может дойти и до «сладкого мяса»[18], а это, должен сказать, не совсем то, что вы себе представляете. Посмотрев на пару-тройку автоаварий со смертельным исходом, начинаешь прохладнее относиться к блюдам из субпродуктов. Даже странно, что я до сих пор могу есть кебабы.
Лесли сняла маску, и я замучился отводить взгляд. На лбу у нее блестела испарина, кожа на щеках и обрубке носа была ярко-розовая, воспаленная.
– Я могу нормально жевать только левой стороной, – предупредила она. – Имей в виду, зрелище не ахти.
Оленина, запоздало сообразил я. Вкусно, конечно, но жевать замучаешься. Ну ты молодец, Питер.
– Типа как если ешь спагетти? – спросил я.
– Я ем спагетти так, как это делают итальянцы.
– А, нырнув лицом в тарелку, – понимающе кивнул я. – Просто шик.
Оленина оказалась вовсе не жесткой – напротив, она резалась легко, как сливочное масло. Но Лесли не лукавила: было действительно странно видеть, как она запихивает еду за щеку и жует ее только одной стороной. Словно бурундук, у которого болят зубы.
Она сердито зыркнула на меня, и я ухмыльнулся.
– Ну чего опять? – спросила она, дожевав и проглотив. Шрамы после очередной операции на нижней челюсти все еще были ярко-красные.
– Хорошо, что я снова вижу выражение твоего лица, – пояснил я.
Лесли словно застыла.
– Ну, должен же я как-то определять, издеваешься ты надо мной или нет, – сказал я.
Ее ладонь дернулась к лицу и замерла в воздухе. Лесли скосила на нее глаза, словно не понимая, почему она там оказалась. Рука опустилась, пальцы сжали стакан с водой.
– Просто считай, что я всегда издеваюсь, – предложила она.
Я пожал плечами и решил сменить тему:
– Так что скажешь о нашем отшельнике из башни?
Лесли нахмурилась. Не ожидал, что она в нынешнем состоянии на это способна.
– Любопытный тип, – ответила она. – А сиделка у него какая страшная, да?
– Надо было взять с собой кого-то из Рек, – вздохнул я. – Они могут отличить адепта магии по запаху.
– Серьезно? И чем же мы пахнем?
– Я не стал спрашивать.
– Беверли Брук наверняка нравится, как ты пахнешь, – заметила Лесли.
И верно: даже без маски непонятно, издевается или нет.
– Интересно, только Реки обладают этой способностью или вообще все… – Я поймал себя за язык, с которого чуть не сорвалось «волшебные существа». Надо же соблюдать какие-то нормы.
– Твари? – подсказала Лесли. – Или, может, монстры?
– …все, кто наделен магией, – нашелся я.
– Уж Беверли-то еще как наделена, – сказала Лесли.
Нет, точно издевается.
– А этому можно научиться, как думаешь? – спросила она. – Если мы сможем их чуять, искать будет в разы легче.
Всегда заметно, когда человек выстраивает в сознании форму. Это как с вестигием: почуять может любой. Штука в том, чтобы распознать, что именно ты почуял. Найтингейл говорит, можно научиться распознавать мага по его сигнаре, своего рода «почерку» – индивидуальному характеру магии. Когда Лесли влилась в наши ряды, я провел что-то вроде слепого опыта и понял, что вообще не могу разобрать, кто колдует. А у Найтингейла получилось десять раз из десяти.
– Это приходит с опытом, – сказал он тогда, – нужно тренироваться.
И еще добавил, что может по заклинанию не только определить адепта магии, но и понять, кто его учил. И даже иногда вычислить автора заклинания. Ну уж в это я почти совсем не поверил.
– Я тут придумал один эксперимент, – сказал я. – Чтобы его провести, надо заставить кого-нибудь из Рек сидеть спокойно и принюхиваться, в то время как мы по очереди будем колдовать. А Найтингейл пусть проверяет.
– Вряд ли он будет в ближайшее время что-то у нас проверять, – возразила Лесли. – Разве что в библиотеке. Как поживает твоя латынь?
– Да уж получше, чем твоя – aut viam inveniam, aut faciam.
Эта фраза означает «Либо найду дорогу, либо проложу ее сам», принадлежит Ганнибалу и очень нравится Найтингейлу.
– Vincit qiu se vincit, – парировала Лесли. Она питала к латыни столь же нежную любовь, как и я. «Побеждает тот, кто властвует над собой», еще одно любимое высказывание нашего шефа. И девиз главного героя диснеевского мультика «Красавица и чудовище», но этот факт мы от него пока скрываем.
– Надо говорить не «вин-сент», а «вин-кит», – поправил я.
– Ой, не умничай, – отмахнулась Лесли.
Я расплылся в улыбке, и она улыбнулась в ответ. Вроде бы.
Вторник
6. Слоун-сквер
Оперативное подразделение отдела расследования убийств занимает просторное помещение на первом этаже Белгравии. По соседству с одной стороны сидит подразделение обработки сведений, а с другой – аналитический отдел, чей девиз: «Работаем головой так, чтобы другим копам не приходилось». Зал оказался действительно большой, с бледно-голубыми стенами и темно-синим ковролином на полу. Там стояло штук двенадцать столов и множество крутящихся стульев. Некоторые были повернуты спинками друг к другу и стянуты скотчем. В былые времена здесь пахло бы дешевым куревом, а сейчас я сразу уловил знакомый дух полицейского аврала. Не знаю даже, что хуже.
Мне было велено явиться к семи утра на планерку, и я, нарисовавшись без пятнадцати, обнаружил, что буду сидеть за одним столом с Гулид и констеблем Кэри. В отделе расследования убийств около двадцати пяти человек, и к четверти восьмого почти все уже подтянулись. Кто-то шумно прихлебывал кофе, кто-то жаловался на погоду. Я кивнул паре человек, которых помнил по делу Джейсона Данлопа, и мы все расселись (кое-кто даже на столах) в той части зала, где Сивелл пафосно стоял рядом с маркерной доской. Прямо как в телепередаче.
Что ж, иногда мечты и правда становятся реальностью.
Сивелл в общих чертах напомнил нам картину убийства. Стефанопулос вкратце рассказала о жертве, Джеймсе Галлахере, и, указав на фото Закари Палмера, приклеенное скотчем к доске, добавила:
– Исключен из круга подозреваемых.
Я вздрогнул: мне ведь даже не сказали, что он туда входил. Да уж, с этими боссами надо держать ухо востро.
– У нас есть записи камер наблюдения над обоими выходами из дома в Кенсингтон-Гарденс, – сказала она. – До нашего приезда Палмер его не покидал.
Она стала перечислять все возможные нити будущего расследования. Какой-то констебль, сидевший с рядом, пробурчал себе под нос:
– Копать будем до посинения.
Пошел второй день, а у нас до сих пор нет главного подозреваемого. Констебль прав, теперь предстоит рыть во всех направлениях, пока не нароем что-нибудь важное. Если, конечно, нет более простого пути – какой-то сверхъестественной разгадки. А если есть, то это должно стать моим звездным часом. Возможностью проявить себя, заслужить уважение и благодарность…
По морде бы дать себе за такие мысли.
Сивелл тем временем представил нам худощавую белую брюнетку в дорогом костюме с юбкой, хотя и слегка помятом из-за долгой дороги. На поясе у нее висел золотистый металлический значок.
– Спецагент Кимберли Рейнолдс, ФБР, – сказал он, и мы дружно издали многозначительное «ооооо!». Ну не могли удержаться. Ничего хорошего в плане международного сотрудничества это не сулило: теперь все будут вынужденно вести себя нарочито грубо, чтобы скрыть неловкость.
– Отец Джеймса Галлахера – сенатор, и посольство США требует, чтобы агент Рейнолдс получила разрешение следить за ходом расследования в качестве их официального представителя, – сообщил Сивелл. И, кивнув на сержанта за соседним с нами столом, добавил: – А Боб будет курировать вопросы безопасности по данному делу, если они будут касаться сенатора.
Боб приветственно поднял руку, и агент Рейнолдс кивнула в ответ – как-то нервно, на мой взгляд.
– По моей просьбе агент Рейнолдс поделится с нами дополнительной информацией о жертве, – сказал Сивелл.
Говорила она, впрочем, абсолютно спокойно, без всякой нервозности. Произношение, изначально характерное то ли для Юга, то ли для Среднего Запада, изменилось за время работы в ФБР, став более четким и отрывистым. Агент Рейнолдс коротко прошлась по детским годам Джеймса Галлахера: родился в Олбани, был третьим, самым младшим, сыном сенатора штата. Она неспроста так сказала: «член сената» звучало бы гораздо менее значительно. Учился в частной школе, тяготел к изобразительному искусству, поступил в колледж Нью-Йоркского университета. В возрасте семнадцати лет был единственный раз оштрафован за превышение скорости. За год до выпуска фигурировал в расследовании инцидента с наркотиками: один его приятель перебрал. В целом, по отзывам сокурсников, был приятным, обаятельным парнем, хотя и довольно замкнутым.
Не зная, как еще привлечь к себе внимание, я поднял руку.
– Да, Питер? – заметил меня Сивелл.
По-моему, сзади кто-то хихикнул. А может, это просто подала голос моя паранойя.
– У членов его семьи отмечались психические заболевания? – спросил я.
– По нашим данным, нет, – покачала головой агент Рейнолдс. – Никаких записей к психоаналитику, никаких особых назначений, только обычные рецепты на средства от простуды и гриппа. А у вас есть причины полагать, что его гибель как-то связана с психическим состоянием?
Даже не глядя на Сивелла, я понял, какого ответа он ждет.
– Нет-нет, это так, просто пришло в голову.
Она пристально посмотрела прямо на меня – в первый раз. Глаза у нее были зеленые.
– Идем дальше, – скомандовал Сивелл.
Я как бы невзначай благоразумно переместился подальше, на галерку.
Каждому делу об убийстве, как и вообще любому крупному делу, отдел по борьбе с серьезными преступлениями присваивает специальное кодовое название. Раньше это всегда делал административный ассистент: брал словарь и вычеркивал все слова, какие уже использовали для названий. Но теперь процесс слегка усовершенствовали, дабы в прессу не просачивались ужасы вроде «ТОПЬ81» или «МОЛОДЦЫ». Убийство Уильяма Скермиша проходило под названием «ОПЕРАЦИЯ БИРЮЗА», гибель Джейсона Данлопа значилась как «ОПЕРАЦИЯ КОЛЕСО», и вот теперь печальная кончина Джеймса Галлахера будет навечно занесена в здешний архив как «ОПЕРАЦИЯ СПИЧЕЧНЫЙ КОРОБОК». Так себя эпитафия, но, по словам Лесли, это лучше, чем в Штатах. Там любое дело называется «ПОИМКА МЕРЗАВЦА» в том или ином варианте.
Вернувшись, я обнаружил, что за время планерки в зал наверняка пробрались эльфы и оставили на моем пятачке стола две фиолетовые картонные папки. На каждой в верхнем углу был приклеен стикер: дата, «ОПЕРАЦИЯ СПИЧЕЧНЫЙ КОРОБОК» и мое имя. А ниже – задание: узнать происхождение керамической миски из-под фруктов, важность – высокая. Стикер на второй папке требовал «выяснить, как часто Джеймс Галлахер посещал Галерею искусств, по необходимости допрашивать свидетелей, важность – высокая.
– Первое задание, – заметила Стефанопулос, – наверно, ужасно гордишься.
Она помогла мне залогиниться в систему, что со стороны начальства подозрительно любезно, и разъяснила градацию приоритетности.
– Низкая важность означает, что задание должно быть выполнено в течение недели, – сказала она. – Средняя – что на него отводится пять дней, а высокая – что три.
– Это формально, – кивнул я. – А фактически?
– А фактически – «сегодня», «сейчас» и «мать твою, вчера!».
Я уже выходил из системы, когда ко мне подошла агент Рейнолдс.
– Прошу прощения, констебль Грант, – сказала она, – можно задать вам вопрос?
– Зовите меня Питером.
Она кивнула.
– Констебль, не могли бы вы поделиться соображениями, которые позволяют вам предполагать, что кто-то из родственников погибшего страдал психическими расстройствами?
Я рассказал ей, как нашел в колледже Святого Мартина картины Джеймса с резко изменившейся тематикой. И как заподозрил, что это может быть признаком начальной стадии психического заболевания. Или наркотической зависимости. Или того и другого сразу. Рейнолдс, похоже, не слишком поверила. Наверняка судить было трудно – она избегала смотреть мне в глаза.
– Объективные доказательства есть?
– Есть картины Джеймса Галлахера, показания его преподавателя, справочник по психическим заболеваниям, найденный в доме, а также сосед, который увлекается травкой. Других доказательств нет.
– Значит, нет никаких, – отрезала она. – Вы вообще изучали когда-нибудь расстройства психики?
Я подумал было о своих родителях, но они явно не считаются, поэтому сказал «нет».
– В таком случае лучше не строить безосновательные предположения, – сухо бросила она. Тряхнула головой, словно желая выбросить из нее эту чушь, развернулась и ушла.
– Похоже, – проворчала Стефанопулос, – кое-кто не в курсе, что у нас тут не Канзас.
– Какая-то она злая, а? – заметил я.
– Я уж думала, она сейчас потребует у тебя свидетельство о рождении, – ответила сержант. – Загляни к нам перед уходом, Сивелл просит на пару слов.
Я пообещал зайти.
Когда она ушла, я воспользовался случаем немного понаблюдать за агентом Рейнолдс: она стояла возле кулера и пила из пластикового стаканчика. Вид у нее был усталый и нервный. Я прикинул: полдня она здесь пашет на родное ведомство, стало быть, прилетела ночным рейсом из Вашингтона или Нью-Йорка. И сразу из аэропорта поехала сюда. Немудрено, что так хреново выглядит.
Она поймала мой взгляд. Моргнула, узнала, нахмурилась и отвела глаза.
А я двинулся вниз, узнать, насколько сильно влип.
Логово Сивелла и Стефанопулос располагалось на первом этаже. Рабочее пространство там поделено на четыре части: одна, побольше, – для самого Сивелла, а остальные три – для непосредственных подчиненных. Это всех устраивает: нам, рядовым копам, гораздо спокойнее заниматься своими делами не под наздором начальства. А оно, соответственно, наслаждается внизу тишиной и покоем, зная наверняка, что мы рискнем туда спуститься только по очень срочному делу.
Сивелл ждал меня в своем кабинете, за рабочим столом. С кофе и вроде бы спокойным лицом. Очень подозрительно, подумал я.
– Будешь прорабатывать все, что связано с тем горшком и картинной галереей, раз уж думаешь, что это источник непонятной херни, – сказал старший инспектор, – только чтоб был у нас на глазах, черт тебя дери! А то привык неотложки с вертолетами крушить – вряд ли тебе сойдет с рук, если что-нибудь еще грохнешь.
– С вертолетом я вообще ни при чем, – возразил я.
– Не строй тут дурачка, парень, – сказал Сивелл. Взял из лотка скрепку и принялся машинально разгибать и сгибать.
– Если хоть что-то разнюхаешь, мигом передаешь информацию мне. В виде отчета, понял? Если будет такое, что нельзя писать в отчете, тогда сообщаешь лично мне или Стефанопулос.
– Отец жертвы – сенатор, – напомнила та. – Думаю, нет нужды говорить, как важно, чтобы ни он, ни агент Рейнолдс, ни тем более американская пресса не прознали хоть о чем-то… странном?
Сивелл наконец сломал несчастную скрепку.
– Сегодня утром мне позвонил Комиссар, – сказал он, доставая из лотка еще одну. – И однозначно дал понять: если вдруг журналисты обратят на тебя свой цепкий взгляд, ты должен немедленно вырыть глубокую-глубокую нору, забиться туда и сидеть, твою мать, смирно, пока мы не скажем, что можно вылезать. Понятно?
– Делать, что говорят, докладывать вам обо всем, не рассказывать ничего американцам и не попадать в объективы, – перечислил я.
– Ну наглец, – покачал головой Сивелл.
– Еще какой, – согласилась Стефанопулос.
Старший инспектор бросил обратно в прозрачный пластиковый лоток сломанную скрепку: будет теперь служить страшным предупреждением остальной канцелярской мелочи.
– Вопросы есть?
– Вы уже закончили с Закари Палмером? – спросил я.
7. Найн Элмс
Закари Палмер мне совсем не обрадовался. Это было странно, если учесть, что я не только вытащил его из-под стражи, но и предложил подбросить до дома.
– С какой стати меня вообще замели? – спросил он по пути.
Я объяснил, что это был не арест и что он в любой момент мог попросить, чтобы его отпустили. Зак, похоже, сильно удивился. Значит, либо не успел стать матерым преступником, либо мозгов не хватило стать даже начинающим.
– Я хотел прибраться в доме, – сказал он. – Чтобы было чисто. Ну, к приезду его родителей.
Вчера вечером снег перестал, и его остатки уже почти исчезли с центральных улиц благодаря трафику. Но в переулках по-прежнему следовало соблюдать осторожность – не в последнюю очередь из-за подростков, которые кидались снежками в проезжающие машины.
– У вас же вроде уборщица есть, – заметил я.
– Ой, да, – ответил Зак, как будто сам только что вспомнил. – Но сегодня она вряд ли придет. И потом, это уборщица Джима, а не моя. Теперь, когда его нет, она вообще, наверно, не придет. А я не хочу, чтобы они, то бишь его родители, думали, будто я лентяй. Хочу, чтобы они знали, что у него был друг.
– Как вы познакомились с Джеймсом Галлахером? – спросил я.
– Зачем ты каждый раз это делаешь?
– Что «это»?
– Называешь его полным именем, – пояснил Зак. Он сидел, уныло опустив плечи. – Ему больше нравилось, когда его называли Джимом.
– Мы в полиции всегда так говорим, – ответил я, – чтобы избежать путаницы и одновременно выразить уважение. Так где вы с ним познакомились?
– С кем?
– С твоим другом Джимми.
– Мы можем заехать куда-нибудь позавтракать?
– А ты, кстати, в курсе, что именно от меня зависит, попадешь ли ты под суд? – солгал я.
Зак рассеянно забарабанил пальцами по боковому стеклу.
– Я был другом друга одного из его друзей, – сказал он через некоторое время. – Мы как-то сразу нашли общий язык. Ему понравилось в Лондоне, но сам он был какой-то нерешительный. Ему нужен был кто-то, кто покажет ему город и будет везде с ним ходить. А мне надо было где-то перекантоваться.
Это соответствовало показаниям, которые он дал Гулид и затем Стефанопулос, – значит, могло оказаться и правдой. Стефанопулос спросила насчет наркотиков, но Зак поклялся жизнью матери, что Джеймс Галлахер не употреблял. Осуждать не осуждал, но самому ему не хотелось.
– Куда ходить? – спросил я, с трудом вписываясь в коварный поворот возле Ноттинг-Хилл Гейт. Опять пошел снег. Не такой сильный, как вчера, но его хватило, чтобы на дорогах снова стало скользко и любая неосторожность могла обернуться аварией.
– По всяким клубам, пабам, – ответил Зак, – ну, там, музеи посмотреть он хотел, галереи картинные. В общем, пошататься по Лондону.
– Это ты показал ему, где купить ту миску, что была у вас на столе?
– Не понимаю, чего она вам так далась. Обычная миска.
Я почему-то не стал объяснять, что миска, возможно, волшебная. Наверно, потому, что не хотел выставлять себя на посмешище.
– В нашей работе мелочей не бывает, – сказал я.
– Я знаю, где он ее купил, – признался Зак, – но, может, сначала позавтракаем?
Портобелло-роуд – длинная узкая улица, которая тянется, изгибаясь, от Ноттинг-Хилла до Вествея и дальше. Со времен свингующих шестидесятых, когда на Лэдброк-Гроув вместе с поп-звездами и кинорежиссерами пришли большие деньги, здесь не прекращается джентрификация. Портобелло-роуд была и остается передовой линией этого фронта. Здешний рынок стоит еще с тех пор, когда к северу отсюда лежали поля, а в речке Каунтерс-крик ловилась рыба. Антикварная же барахолка, которая каждое воскресенье притягивает сюда туристов, открылась только в сороковые, но именно она первым делом приходит на ум всякому, кто слышит название Портобелло-роуд.
Когда в восьмидесятые сытая богема уступила место истинным толстосумам, Портобелло-роуд стала индикатором перемен в жизни общества. Начиная от Ноттинг-Хилла, все небольшие викторианские особнячки прибрали к рукам те, чьи зарплаты измеряются шестизначными числами. Дорогие сетевые магазины возникали там и тут, вытесняя антикварные лавки и ямайские кафе. И только последний оплот старой жизни, муниципальные жилые дома из красного кирпича, еще стоят, как скала, на пути безжалостного потока денег. Они мрачно взирают сверху на дельцов и медиамагнатов и одним своим присутствием снижают стоимость здешнего жилья.
Яркий пример – жилой комплекс Портобелло Корт. Он, словно крепость, защищает перекрестки с Элгин-кресент, а также переход между антикварным и овощным рынками. И держит там оборону, позволяя, как в прежние времена, позавтракать в кафе всего за пять фунтов, взяв двойную порцию сосисок, яичницу, фасоль, тост и картошку. И при этом наблюдать за торговой площадкой лавки, где, как божился Зак, Джеймс Галлахер купил свою керамическую миску. Зак выбрал полный английский завтрак, а я взял омлет с грибами – кстати, неплохой – и чашку чая. На столике кто-то оставил газету «Сан», Зак взял ее, скользнул взглядом по заголовку первой полосы, гласившему «Кишечная палочка в Лондоне – данные подтвердились», и развернул на последней странице. Я же, неотрывно глядя в окно, за которым снег продолжал заметать ту самую площадку, достал телефон и позвонил Лесли.
– Как выяснить, кому принадлежит лавка на Портобелло?
Зак перестал жевать и уставился на меня.
– Звони в обработку данных, – сказала Лесли. – Им как раз платят за ответы на такие идиотские вопросы.
На заднем плане слышался уличный шум.
– Ты где? – спросил я.
– На Гауэр-стрит, – ответила она, – опять надо к доктору.
Пожелав ей удачи, я полез в записную книжку искать телефон отдела обработки данных. И тут Зак протестующе замахал рукой.
– В чем дело? – спросил я.
– Мне надо кое-в чем признаться, – сказал он, – я немного солгал.
– Да неужели?
– На самом деле не этот ларек, а вон тот, – сообщил он, указывая на лавку чуть подальше от нашей. Там продавались кастрюли, горшки, сковородки и всякие хитрые прибамбасы для кухни. Причем полчаса назад, когда мы сели завтракать, она еще работала.
– У меня к тебе один философский вопрос, – задумчиво протянул я. – Сознаешь ли ты, что, продолжая врать, сильно подрываешь мое доверие и это может повлечь негативные последствия в будущем? Скажем, минут через пять?
– Неа, – ответил Зак с полным ртом картошки, – я считаю, надо жить сегодняшним днем. Я не муравей, я стрекоза. А что будет через пять минут?
– Я допью чай.
Живя в Лондоне, никак не ожидаешь, что наступит Белое Рождество. Вот и хозяин ларька подготовился к празднику как положено: украсил все внешние стойки мишурой и поставил рядом маленькую пластмассовую елочку с табличкой: «Финальные Рождественские Скидки!» вместо звезды на верхушке. Однако теперь ему приходилось то и дело скидывать снег с навеса, чтобы тот не обвалился. Вот почему он обрадовался мне гораздо больше, чем мог бы. Его не напугало даже мое удостоверение.
– О, здравствуй, брат, здравствуй, – улыбнулся лавочник. – Правосудие, конечно, никогда не дремлет, но сегодня ты ищешь подарок для кого-то особенного, верно?
– Я ищу керамическую миску для фруктов. Вот такую. – Я показал фото на телефоне.
– А, такую, – кивнул торговец, – да, я их помню. Тот, кто мне их продал, сказал, они не бьются.
– И что, правда?
– Не бьются-то? Вроде бы да.
Торговец подышал на ладони, а затем сунул их под мышки, зябко ежась.
– Он сказал, эта посуда сделана по древней технологии, секрет которой хранится в тайне с начала времен. Не знаю уж, как по мне – обычная керамика.
– А кто вам их продал?
– Один из братьев Ноланов, – ответил торговец. – Самый младший – Кевин.
