Эротика.Iz
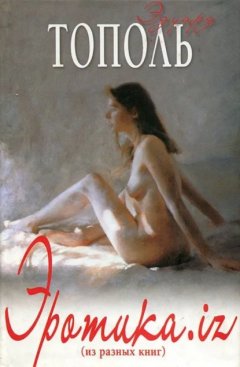
Предисловие
– Можно ли так рисковать своей репутацией? Вы, Эдуард, только-только выбились из категории «детективщиков» в разряд серьезных писателей, и вдруг – эта «Эротика»!
– Я понимаю, когда у вас в «У.е.» или в других книгах эротические сцены погружены в ткань романа, когда читатель знакомится с ними по ходу сюжета и тайно ждет следующую такую сцену, как некий приз, а вы все оттягиваете и оттягиваете этот момент, а потом, после серьезных событий, как бы награждаете его за терпение… Но вытащить из всех своих книг только постельные сцены – это, знаете, как-то не очень…
– А в чем, собственно, проблема? Будем называть вещи своими именами. Многие покупают «Россию в постели» вовсе не из-за сюжета или каких-то художественных достоинств. А просто для самообразования в этой области. И для них искать в книгах Тополя какие-то дополнительные инструкции по этому делу – задача непростая. А если собрать это все в «Эротику»…
– И что? И мы выставим нашего автора на съедение «Идущим вместе»!..
Вот такая примерно дискуссия происходила в издательстве во время подготовки этой книги к печати. И, честно говоря, я до последнего дня колебался – издавать этот сборник или не издавать? С одной стороны, действительно репутация пострадает. Назовут бульварным или еще как-то уничижительно. Но, с другой стороны, разве не получаю я письма, в которых и мужчины, и особенно женщины пишут, что только после «России в постели» и «Русской дивы» им открылся мир секса? Некоторые пожилые дамы печалятся, что слишком поздно прочли эти книги, мол, жизнь уже прошла! А одна семидесятилетняя старушка написала, что только из моих книг узнала про французскую любовь, и теперь завела себе 76-летнего бойфренда, и счастлива с ним…
Конечно, я не склонен думать, что мои скромные (или нескромные?) тексты могут стать учебником или хотя бы пособием для начинающих свое сексуальное образование. Мне ли соревноваться с такими учеными профессорами в области секса, как Владимир Жириновский и Владимир Шахиджанян! Они пишут учебники про то, как делать это, и у меня нет и малейшего повода усомниться в том, что они знают предмет. Разве что их абсолютная уверенность в этом знании…
Я же, как простой самоучка со скромным опытом женатого человека, могу похвастать лишь парой смешных случаев практического применения читателями моих текстов. Как-то в Нижнем Новгороде, на открытии большого книжного магазина я презентовал читателям свою новую книгу, и люди стояли в небольшой очереди за автографом автора. При этом каждый подавал на подпись одну книгу, максимум – две. И вдруг одна девушка поставила на стол целую стопку, чуть ли не полное собрание моих сочинений. Я удивленно поднял глаза:
– Девушка, зачем вам столько?
Но вместо девушки ответил парень, который стоял рядом с ней. Он сказал:
– Это моя невеста, и я ей сказал: пока всего Тополя не прочтешь, в загс не пойдем! Подпишите ей, для образования…
А второй случай еще смешней. Как-то Оля Галицкая, ведущая радиостанции «Маяк», пригласила меня на журналистскую тусовку в московском клубе «Сохо». Но я где-то задержался и пришел с часовым опозданием, когда огромный зал «Сохо» был уже полон и закурен до полумрака. Не зная, как мне найти Галицкую в этом сонмище журналистской братии, я медленно брел по залу и вдруг услышал: «Эдуард! Эдуард!» Оглянулся и увидел Ольгу, машущую мне рукой от стола, за которым сидели еще десять или двенадцать молодых женщин. Я подошел к ним, Ольга сказала:
– Девочки, знакомьтесь! Это Эдуард Тополь…
И вдруг одна из этих дам махнула рукой:
– Да знаем мы его! Мы все с ним спали!
Я напрягся и стал всматриваться в эту даму, мысленно прикидывая: черт возьми, я провел в эмиграции пятнадцать лет, а этой шатенке от силы тридцать. Неужели я знал ее, когда ей было всего пятнадцать?
– Да что вы так смотрите? – усмехнулась она. – Тут все с вами спали, каждая из нас!
На моем лице появилось такое идиотское выражение, что они дружно расхохотались. А шатенка сказала:
– Это же вы написали «Россию в постели»?
– Я…
– Ну вот! И все мы спали с этой книгой! И не одну ночь! Присаживайтесь, что вам заказать?
Ну и третий случай, классический – поскольку я где-то о нем уже писал.
Несколько лет назад, московский магазин «Библио-глобус», второй этаж, презентация читателям моей новой (на тот момент) книги «Китайский проезд». Подписывая книги, я поднимаю глаза и вижу за очередью покупателей девушку лет шестнадцати – она стоит и смотрит на меня, но к стойке не подходит. Минут через десять снова поднимаю глаза – стоит эта девушка, не уходит. И спустя еще какое-то время вижу опять: нет, не ушла. «Девушка, – говорю, – что вы там стоите? Чего ждете?» – «А я, – отвечает, – хочу взять у вас интервью». – «Так идите сюда, за стойку, я буду подписывать книги и отвечать на ваши вопросы». Она зашла за стойку, достала из сумочки диктофон. Я спросил: «Вы из какой газеты?» – «Из школьной, – вдруг сказала она. – Я редактор школьной стенгазеты». Очередь, как вы понимаете, любопытно заулыбалась. А я спросил: «И сколько же тебе лет?» – «Четырнадцать». – «Гм! Ладно, давай твои вопросы». – «Спасибо, – сказала она. – Вопрос первый: вы себе, как писателю, какую бы поставили отметку?» Очередь навострила ушки, я сказал: «Знаешь, писатель тоже человек. Один завышает свои достижения, другой от скромности занижает их. Пусть лучше читатели ставят нам отметки…» Короче, я кое-как выплыл. И тут она меня просто сразила. «Хорошо, – сказала она. – А вот в ваших книгах очень много постельных сцен. Скажите, это действительно так красиво, как вы описываете, или вы все это просто придумали?»
Очередь просто замерла и уставилась на меня с острым любопытством зрителей корриды, причем быком, которого только что пронзили копьем-вопросом, был, конечно, именно я.
Господи, я до сих пор не помню, как меня осенило, но я сказал:
– Знаешь, детка, когда это по любви, то это действительно очень красиво. А если это без любви, а просто так, для спорта, то это скотство.
И – очередь зааплодировала.
Теперь, спустя годы, я пользуюсь комплиментом той четырнадцатилетней девушки из школьной стенгазеты как индульгенцией, которая дает мне право издать этот сборник. А если это отразится на моей репутации «серьезного писателя» – что ж, авось школьные стенгазеты за меня заступятся.
Желаю вам полезного чтения.
Эдуард Тополь
Москва, 5 февраля 2004 года
Эротика – это вкус яблока,
который Ева попробовала в раю…
Тенгиз Гудава, грузинский писатель
Кто из моих земляков не учился
любовной науке,
Тот мою книгу прочти
и, научась, полюби…
Овидий. Наука любви(конец I века до новой эры)
Из романа «Любожид, или Русская дива» (1991 год)
…так прекрасны русские девушки и так сильны их фарджи, что ничто не может оторвать мужчину от сочетания с ними.
Ахмед ибн Фадлан, первый персидский посол на Руси. 921 год
Фарджа русской девушки подобна сластолюбивому питону, который затягивает мужчину в себя с силой быка. Я никогда не испытывал ничего подобного ни с одной арабской женщиной в гаремах моей страны.
Анонимный арабский путешественник, конец IX века
– Знаете ли вы, что такое быть русской женщиной? Я имею в виду – что такое быть настоящей русской женщиной?
Он обвел взглядом лица окружавших его девчонок. Тридцать юных комсомолок – весь шестой отряд летнего пионерлагеря «Спутник» – примолкли и смотрели на него с выжидательным интересом. Блики вечернего костра освещали их алые пионерские галстуки, синие маечки, облегающие упругие грудки, и коротенькие шорты, специально застиранные ими добела, чтобы оттенить шоколадный загар их ног, окрепших за лето от волейбола, плавания и туристических походов. Дальше, за ними, в ночной темноте больше угадывались, чем видны были, широкая река, маяки бакенов и тихо проплывающие по речной стремнине плоты лесосплава.
– И кто она – настоящая русская женщина? – спросил он, не повышая голоса. – Анна Каренина, изменившая мужу? Или Наташа Ростова, рожающая каждый год по ребенку? Или куртизанка Настасья Филипповна из «Идиота» Достоевского? Или жалкая проститутка Сонечка Мармеладова из романа «Преступление и наказание»? Не смейтесь, это интересный вопрос! Смотрите: французы внушили миру, что француженки – самые изысканные модницы. Верно? Испанцы – что испанская женщина самая пылкая и чувственная, так? Про англичанок мы знаем, что они холодные и чопорные. Про евреек и японок – что они лучшие матери. А как насчет русских? Вы – будущие русские женщины. Да, да, нечего хихикать, вам быть русскими женщинами, а кому же еще? Но что вы знаете о себе?
Он надломил коленом сухую еловую ветку и пошевелил ею обуглившиеся дрова костра. Огонь жадно вспыхнул на еловых иглах, и он снова глянул на своих слушательниц. Он был ненамного старше их – лет на шесть-семь, и ежедневная война за их внимание утомила его. Вечно их мысли блуждают где-то в стороне от разговора, вечно в их глазах какая-то усмешка и вызов, словно эти пигалицы знают тайну, неведомую ему, двадцатилетнему. Но теперь, кажется, он задел их за живое. Еще бы! В этом возрасте их, конечно, интересует все, что хоть как-то связано со словом «женщина». Но он не будет спешить…
– «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет», – процитировал он русского поэта. – Вот определение, которое дано русской женщине в литературе. Русские писатели, даже самые великие, даже Толстой, не добавили ничего к этим двум строчкам. Так неужели это и есть ваше главное качество – быть эдакими Геркулесами в юбках? Или пожарными? А?
Он переждал их смех и продолжил:
– Нет, я думаю, должно быть что-то еще, из-за чего именно в русских женщин влюблялись когда-то монархи Европы и, пренебрегая своими принцессами, возводили русских девушек на английские, французские, британские и норвежские престолы. Но – что? Красота? Вот я смотрю на вас. Конечно, вы все прекрасны и все красавицы. Тихо, не смейтесь. Но намного ли вы красивее француженок или, скажем, итальянок? Ну, честно – красивее? Вот и я не знаю. И тогда я обращаюсь к истории. Я хочу в древних веках найти ответ: что же отличало русских женщин от всех других? И вдруг… вдруг я узнаю, что никаких русских уже давно не существует. Нету русских почти тысячу лет! Да, да, мы живем в России, и весь мир называет нас русскими, но… факты упрямая вещь – от русских у нас только название. Все историки – и российские, и западные – потеряли следы русов еще в десятом веке. Русы, настоящие русы – огромное племя, целый этнос, который в первом тысячелетии прокатился по всей Европе, – исчезли! Пропали во тьме веков, оставив после себя скифским племенам только имя свое да позднее династию царей Рюриков. И все. Ни языка, ни культуры, ни письменности, ни легенд. Только имена: Олег, Ольга, Игорь. Да названия рек: Днепр, Днестр. Впрочем, ведь и эти названия звучат больше по-немецки, чем по-русски, правда? Но как же так? Как мог без следа исчезнуть целый народ? И почему? И исчез ли?
Он порывисто встал. Пламя костра отбросило от его худощавой фигуры большую изломанную тень на белеющие в ночи тенты туристических палаток. Лицо его, узкое и освещенное снизу багровыми бликами, вдруг обрело какое-то мефистофельское и в то же время вдохновенное выражение, темные глаза загорелись внутренним светом, а широкие крылья крупного носа хищно вздрогнули при неожиданно близком всплеске речной рыбы, словно это плеснулась в речной воде та самая тайна, разгадку которой он искал.
– Посмотрите вокруг! – вдруг приказал он, очертив в темноте широкий полукруг своей обгорелой еловой палкой, и от этого резкого жеста угольно-красный конец палки вспыхнул, как огненное копье. – Двадцать веков назад здесь была такая же тьма, те же леса и те же комары. Вдоль берегов этих рек жили мелкие племена – какие-то угры, буртасы, гузы. Они занимались рыбалкой, охотой и собирали мед в лесах. Но в пятом – седьмом веках черт знает откуда – с севера, от Прибалтики – сюда хлынули орды воинственных ругов. Это были бандиты, завоеватели. Они не производили ничего, а занимались лишь грабежами и жили за счет мародерства. В девятом веке они покорили славянскую столицу Киев и с тех пор стали править и помыкать всеми, кто был вокруг – полянами, древлянами, северянами. Они грабили их, брали с них тяжелые дани и продавали в рабство в Византию, в Грецию, в Хазарию. Они были грубыми, жестокими, беспощадными в битвах и вероломными в быту, и все свое достояние, нажитое разбоем, они оставляли в наследство дочерям. А сыновьям они завещали только оружие, говоря: «Этим мечом я добыл свое состояние, возьми его и иди дальше меня!» Иными словами, это был этнос бандитов. Но!..
Он поднял горящую еловую палку, как саблю или как жезл. Он уже давно расхаживал вдоль темного берега, вдохновленный вниманием своих слушательниц и теми миражами прошлого, которые виделись ему во мраке этой летней ночи.
– Но они были красивы! – объявил он. – Этого отнять нельзя – руги, которых в этих местах стали называть «русами», были очень красивы. Как в 922 году написал своему владыке иранский посол Ахмед ибн Фадлан: «Я видел русов. Я видел русов, когда они прибыли по своим торговым делам и расположились у реки Итиль. Я не видел людей с более совершенными телами, чем у них. Они подобны пальмам, белокуры, красивы лицом и белы телом. Они не носят ни курток, ни кафтанов, но у них мужчина носит кису, которой он охватывает один бок, причем одна из рук выходит из нее наружу. И каждый из них имеет топор, меч и нож, причем со всем этим он никогда не расстается. И у иных от ногтей до шеи все тело разрисовано изображением деревьев, птиц, богов и тому подобного. А что касается их женщин, то они все прекрасны, их тела белы, как слоновая кость, и на каждой их груди прикреплена коробочка в виде кружка из железа, или из серебра, или из меди, или из золота, или из дерева в соответствии с богатством их мужей. Они носят эти коробочки с детства, чтобы не позволять их груди чрезмерно увеличиваться. На шеях у них мониста из золота и серебра и нож, спадающий меж грудей, а самым великолепным украшением у русов считаются зеленые бусы из керамики. За каждую такую бусину они готовы отдать шкуру соболя.
Они прибывают из своей страны и причаливают свои корабли на Итиле – а это большая река, – и строят на ее берегу большие дома из дерева. И собирается их в одном таком доме десять или двадцать, у каждого своя скамья, на которой он сидит, и с ним сидят девушки-красавицы для купцов… Если умрет глава семьи, то его родственники говорят его девушкам: «Кто из вас умрет вместе с ним?» Одна из них, которая любила его больше других, говорит: «Я». Тогда собирают то, чем он владел, и делят это на три части, причем одна треть – для его семьи, вторая – чтобы на нее скроить одежды, а третья – чтобы на нее приготовить набиз, который они все пьют десять дней, пока кроят и шьют одежду умершему. На эти десять дней они кладут умершего в могилу, а сами пьют, сочетаются с женщинами и играют на сазе. А та девушка, которая сожжет себя со своим господином, в эти десять дней пьет и веселится, украшает себя разными нарядами и украшениями и так, нарядившись, отдается людям».
«Мне все время хотелось, – писал Ибн Фадлан, – познакомиться с этим обычаем, пока не дошла до меня весть о смерти одного выдающегося мужа из их числа. Когда же наступил день, в который должны были сжечь его и девушку, я прибыл к реке, на которой находился его корабль, – и вот этот корабль уже вытащен на берег, на деревянное сооружение вроде больших помостов. В середину этого корабля они поставили шалаш из дерева и покрыли этот шалаш разного рода кумачами. Потом принесли скамью, покрыли ее стегаными матрасами и византийской парчой, и подушки – византийская парча. И пришла женщина-старуха, которую называют Ангел смерти, это она руководит обшиванием умерших, и она убивает девушек. И я увидел, что она старуха-богатырка, здоровенная, мрачная.
Когда же они прибыли к могиле, они удалили землю и извлекли умершего в покрывале, в котором он умер. Еще прежде они поместили с ним в могиле набиз, какой-то плод и лютню. Теперь они вынули все это. И я увидел, что умерший почернел от холода этой страны, но больше в нем ничего не изменилось, кроме его цвета. Тогда они надели на него шаровары, гетры, сапоги, куртку, парчовый кафтан с пуговицами из золота, надели ему на голову соболью шапку из парчи и понесли его на корабль, на стеганый матрас, подперли его подушками и принесли набиз, плоды, цветы и ароматические растения, и положили это вместе с ним. И принесли хлеба, мяса и луку, и оставили это рядом с ним. Потом принесли его оружие и положили его рядом с ним. Потом взяли двух лошадей, рассекли их мечами и бросили их мясо в корабль.
Собралось много мужчин и женщин, играют на сазе, и каждый из родственников умершего ставит шалаш, а девушка, которая захотела быть сожженной со своим господином, разукрасившись, отправляется к шалашам родственников умершего, входит в каждый из шалашей, и с ней сочетается хозяин шалаша и говорит ей громким голосом: «Скажи своему господину: “Право же, я совершил это из любви и дружбы к тебе”». И таким образом она проходит все шалаши…
Когда же пришло время спуска солнца, она поставила свои ноги на ладони мужей, поднялась и произнесла какие-то слова на своем языке, после чего ее спустили. Потом подняли ее во второй раз и в третий раз, и я спросил переводчика об этих действиях, и он сказал: «Она сказала в первый раз, когда ее подняли: “Вот я вижу своего отца и свою мать”, – и сказала во второй раз: “Вот все мои умершие родственники, сидящие”, – и сказала в третий раз: “Вот я вижу своего господина сидящим в саду, а сад красив, зелен, и вот он зовет меня, – так ведите же меня к нему!”»
И так они пришли с ней к кораблю. И она сняла два браслета, бывшие на ней, и отдала их той женщине-старухе, называемой Ангел смерти, которая убьет ее. После этого все мужчины делают свои руки устланной дорогой для девушки, чтобы девушка, став на ладони их рук, прошла на корабль. Но они еще не ввели ее в шалаш ее умершего господина. Пришли мужи, неся с собой щиты и палки, а ей подали кубок с набизом. Она же запела над ним и выпила его. И сказал мне переводчик, что она этим прощается со своими подругами. Потом ей был подан другой кубок, а старуха, имея огромный кинжал с широким лезвием, вошла вместе с ней в шалаш, а затем вошли в шалаш шесть мужей из родственников ее мужа и все до одного сочетались с девушкой в присутствии ее умершего господина до тех пор, пока стала она радостной и легкой, как ангел. Затем, как только покончили они с осуществлением своих прав любви, они уложили ее рядом с ее господином. Двое схватили обе ее ноги, двое – обе ее руки, а старуха, называемая Ангел смерти, наложила ей на шею веревку и воткнула ей меж ребер кинжал. А мужи начали бить палками по своим щитам, чтобы не слышен был звук ее предсмертного крика…
Когда же она умерла, то ближайший родственник умершего, будучи еще голым, взял палку и зажег ее у огня и пошел зажечь дерево, сложенное под кораблем.
И взялся огонь за дрова, потом за корабль, потом за шалаш, и мужа, и девушку, и за все, что в нем находится. Потом подул ветер, большой, ужасающий, и усилилось пламя огня, и разгорелось его пылание. Не прошло и часа, как корабль, и дрова, и девушка, и господин ее превратились в золу, потом в мельчайший пепел.
Тогда они соорудили на месте этого сгоревшего корабля нечто вроде круглого холма и водрузили в середине его большое дерево, написали на нем имя этого мужа и имя царя русов и удалились».
Так писал Ибн Фадлан о русах, которых он видел своими глазами вот здесь, на берегу этой реки. Да, это было именно тут – здесь сидели русы со своими товарами и юными красотками, стройными, как пальмы, и прекрасными лицом и телом. И здесь же шли в огонь русские девушки за своим возлюбленным или мужем. И было это всего тысячу сорок три года назад. Но потом за каких-нибудь семьдесят – восемьдесят лет все мужчины-русы погибли в неудачных походах на Византию, Персию и Болгарию. А что стало с их прекрасными женщинами – не написано нигде, но скорее всего они стали женами славян, полян и древлян, которые переняли их имя, потому что хотели быть такими же грозными и красивыми, как их бывшие владыки. Но стали ли? Спросите себя ночью наедине с собой: сможете ли вы пойти в огонь за своим возлюбленным? Выпить перед смертью чашу набиза, спеть прощальную песню своим друзьям и взойти на горящую ладью своего мужа? Спросите себя, и тогда вы узнаете, сохранились ли русские женщины в России. Спасибо за внимание. А теперь – все по палаткам, спать!
Он переждал их визг и крики: «Еще! Расскажите еще что-нибудь! Пожалуйста!» – потом разбросал пепельные угли догоревшего костра и сказал негромко:
– Все! На сегодня все. Отбой.
Они окружили его, прыгая и вереща:
– Нет! Вы знаете больше! Ну пожалуйста! Расскажите!
Он поднял на них глаза, и они смолкли в ожидании продолжения рассказа. А он сказал:
– Может быть, я знаю еще сотню интересных историй. Но если вы хотите когда-нибудь услышать их, вы немедленно отправитесь спать. Я считаю до трех. Раз…
Они бросились прочь, к своим палаткам. Визг, хохот и мелькание загорелых лодыжек в ночи… Он устало усмехнулся, глядя им вслед. А потом повернулся к реке.
Вдали, в темноте, уплывал от него и истаивал в черном пологе ночи последний огонек костра плотогонов. Но сверху, с севера, ему вдруг послышались какие-то звуки – не то движение нового лесосплава по реке, не то негромкие всплески весел. Он шагнул к воде, всматриваясь в темноту безлунной ночи. Армада темных силуэтов обозначилась на речной стремнине, но издали и сквозь мрак безлунной ночи он не мог понять, что это – плоты? лодки? или ладьи древних русов, плывущих за новой добычей?..
Легенда об Иосифе Рубине
…В Москве Рубинчик романов не заводил. И не только потому, что дорожил своей репутацией известного журналиста и сотрудника «Рабочей газеты», где печатался под псевдонимом «Иосиф Рубин», но и потому, что в Москве у него не было на эти романы ни времени, ни желания. Худощавый тридцатисемилетний еврей с провинциальным детдомовским воспитанием и столичным честолюбием, он в Москве целиком посвящал себя будничной редакционной лихорадке, двум малым детям, жене и стервозному быту, съедающему весь досуг, скандальным очередям за продуктами, обувью, одеждой, лекарствами для детей и всем остальным, без чего невозможно будничное существование человека. Замотанный этой колготней, Рубинчик не имел в Москве и минуты на то, чтобы взглянуть вокруг себя и увидеть чье-то женское лицо, заманчивый вырез платья или хотя бы тихий танец снежинок под уличными фонарями.
Но стоило ему выехать в командировку, стоило сбросить с себя нервотрепку московских забот, как в нем просыпался какой-то мистический, хищный и веселый азарт охотника. Но не на всякую дичь, нет. В Рубинчике не было той всеядности, какая свойственна почти всем мужьям, вырвавшимся из постели пусть даже любимой, но уже такой привычно-знакомой жены. И вообще дело было не в сексуальном голоде. Дело было в чем-то ином, чему сам Рубинчик не мог дать названия, да и не искал его. Но в тот момент, когда он садился в редакционную машину или в аэрофлотский автобус, чтобы ехать в аэропорт, а оттуда улететь на сибирские нефтяные разработки, уральские рудники или к алтайским лесорубам, мощный выброс адреналина в кровь каким-то странным образом перегруппировывал улежавшиеся на московских орбитах атомы и электроны его тела, вздрючивал их, расщеплял в них новые киловатты энергии, распрямлял Рубинчику плечи, менял посадку головы, прибавлял раскованности и остроумия и наполнял его взгляд самоуверенной дерзостью.
И с этой минуты начиналась охота.
Так тайный наркоман, почти не отдавая себе отчета в своих действиях, выходит на поиск наркотика. Так маньяк-убийца отправляется на ночную охоту за своей очередной жертвой. Так гениальный поэт бессознательно ищет одно-единственное слово, которое заставит его стих взлететь над морем презренной прозы.
Огромная страна – вся советская империя в расцвете ее могущества – лежала перед ним, вольно раскинувшись от Балтики до Тихого океана, и он с трудом сдерживал возбуждение, как инопланетянин при высадке на новую планету или как всадник из орды Чингисхана перед вторжением в Сибирь. В этой стране происходила масса событий – она открывала газ в Заполярье, ловила иностранных шпионов, готовилась к Олимпиаде, прокладывала каналы в прикаспийских пустынях, преследовала диссидентов, строила гидростанции, посылала ракеты в космос, слушала «Голос Америки» и «Свободу», и Рубинчик с профессиональной жадностью поглощал, впитывал и заносил в свои блокноты все, что слышал и видел вокруг. Это была его страна, и она принадлежала ему вся – от Молдавии и Эстонии до Туркмении и Чукотки, и всем своим маленьким еврейским сердцем он любил ее огромность, многоликость и мощь. Впрочем, он никогда не считал себя евреем в полном смысле этого слова – он был атеистом, не знал еврейского языка, укоротил свою фамилию до ее русского звучания «Рубин», пил водку не хуже любого русского, и, самое главное, он любил русских женщин. О да! Каждый раз, когда где-нибудь в сибирской, вятской или мурманской глуши его ищущий взгляд натыкался наконец на ту, которая заставляла замереть его охотничье сердце, он обнаруживал, что и эта, новая, роднится со всеми его предыдущими находками одним непременным качеством: это всегда были русские женщины, с вытянутым станом, затаенно печальными серыми или зелеными глазами и тем удлиненным лицом, высокими надбровными дугами и тонкой прозрачной кожей, которые можно увидеть на картинах Рокотова, Левицкого и Боровиковского.
Конечно, Рубинчик почти никогда не находил копию княгини Струйской или Лопухиной, хотя и эти портреты не передают в точности образ, который по необъяснимой причине жил в его подсознании. Но если объединить лик иконной Богоматери Владимирской с глазами какой-нибудь древнерусской или норвежской воительницы-княжны или хотя бы с суровой жертвенностью в глазах женских портретов Петрова-Водкина, то, может быть, это будет близко к тому идеалу, иметь который было для Рубинчика навязчивым и почти маниакальным вожделением.
Такие женские типы еще можно встретить в глубокой русской провинции – хотя все реже и реже. Косметика, мода в одежде и в прическах, кровосмесительство, прокатившееся по русской породе волнами татаро-монгольского ига, турецким пленом, польским и французским вторжениями, беспутством собственных бояр, немецкой оккупацией, чекистским раскулачиванием, подсоветской миграцией и массовым алкоголизмом, – все это замутило, испортило и растворило нордическую, но оригинально смягченную в половецких кровях красоту русских женщин, которая еще несколько веков назад настолько пленяла европейских монархов, что они вели русских невест к свадебным алтарям и сажали рядом с собой на престолы в Англии, Норвегии, Франции, Венгрии – да по всей Европе!
Теперь, в наше время, стандарт русской красоты сместился к копированию на русский манер западных кинокрасоток, и только очень редко, случайно, как выигрышное сочетание цифр в лотерейном билете, судьба вдруг сводит в одном материнском лоне старый и утраченный в веках истинно русский набор хромосом. И тогда где-нибудь в провинциальной глуши Сибири, Урала или Карелии тихо, в заурядной семье растет, сама того не зная, юная копия былинной Ярославны, сказочной Василисы Прекрасной или скифской княгини Ольги. По неосознанной для себя и странной для окружающих причине она сторонится гулящих подруг, заводских танцулек с обязательным лапаньем фиксатыми сверстниками за грудь и прочие интимные места, ранней дефлорацией в кустах районного парка культуры и модного пристрастия пятнадцатилетних к вину, сигаретам и похабели в разговоре. К шестнадцати годам она уже безнадежно «отстала» от своих подруг, она отдаляется от них в уединенную и тревожную для родителей мечтательность, чтение книг, вязание и учебу в каком-нибудь техникуме, а в двадцать два года ее, как старую деву, почти насильно выдают замуж. И, так и не отличенный от других простолюдинок, этот тайный цветок русской расы быстро увядает женой какого-нибудь прапорщика в глухом военном городке, грубеет с мужем-алкашом среди детей, грязного белья и стервозности заводской хрущобы или хиреет сам по себе от неясной и нереализованной своей предназначенности – хиреет до беспросветной русской меланхолии, панели Курского вокзала и женской тюрьмы.
Но Рубинчику было достаточно одного взгляда, чтобы среди тысяч женских лиц, что встречались ему на его журналистских маршрутах, выделить и опознать ту, в которой первозданная, исконная русскость еще не была заштрихована провинциальным бытом, изгажена поселковым блядством или замордована мужем-алкоголиком. И когда это случалось, когда он – наконец! – натыкался на то, что он называл про себя «иконная дива», все замирало в нем – пульс, мысли, дыхание. Это длилось недолго – долю секунды, но он ощущал это глубоко и мощно, как инфаркт. А затем сердце спохватывалось и швыряло по ослабевшим венам такое количество жаркой крови, что желание иметь эту древнерусскую красоту пронизывало Рубинчику не только живот, пах и ноги, но даже волосы на груди. Все в нем веселело, вздымалось, вставало, как монгольский всадник в стременах и как шерсть на звере, узревшем добычу.
Поразительно, что эти его избранницы никогда не оказывали ему сопротивления и даже не требовали предварительного флирта, длительного обольщения или хотя бы ужина в ресторане на манер московских женщин. Что-то иное, какой-то неизвестный и непереводимый на слова способ общения возникал между Рубинчиком и такой «иконной дивой», возникал сразу, в тот первый момент, когда глаза их встречались. Такое же чувство мгновенного внеречевого общения Рубинчик испытал однажды в тайге при случайной встрече с важенкой – юной оленихой, повернувшей к нему голову на таежной тропе. Они замерли оба – и Рубинчик, и важенка. Пять метров отделяли их друг от друга, ровно пять метров, не больше, и они смотрели друг другу в глаза – в упор и со спокойным вниманием. Рубинчик ясно, насквозь, до затылка, почувствовал, как важенка, вглядываясь в него, постигает его своими огромными темными глазами, влажными, как свежий каштан. Он собрал всю свою волю, чтобы тоже проникнуть в глаза и душу этого грациозного и нежного зверя, застывшего на высоких и тонких ногах. И ему показалось, что – да, есть контакт! Там, за влажной роговицей этих сливоподобных глаз, он вдруг ощутил нечто широкое, темное, теплое и густое, как кровь, которое только ждет его знака, чтобы впустить его еще глубже или просто пойти за ним по таежной тропе. Казалось, сделай он правильный жест или знак – и важенка шагнет к нему, мягко и доверчиво ткнется губами в шею и станет покорной рабыней, невестой, лесной любовницей.
Но там, в тайге, он не знал секретного знака, которого так терпеливо и долго – может быть, целых пять минут – ждала от него таежная красотка. И от досады он вздохнул, сделал какое-то мелкое движение не то рукой, не то кадыком, и в тот же миг важенка нырнула в еловую чащу, рапидно перебирая в полуполете своими тонкими ногами лесной балерины и презрительно задрав над подпрыгивающей белой попкой коротенький упругий хвостик. Оставшись на тропе в одиночестве, Рубинчик почувствовал себя неотесанным мужланом на балу жизни, отвергнутым таежной аристократкой за незнание лесной мазурки.
Однако здесь, среди людей, Рубинчику не нужны были ни секретные коды, ни магические жесты, ни слова. Как одним-единственным взглядом он узревал русскую диву в жутком коконе ее телогрейки и нелепого провинциального платья, в толстых трикотажных колготках и резиновых ботах, так и эта дива сама с первого взгляда опознавала его каким-то иным, до сей минуты даже ей самой неизвестным чутьем и какой-то другой, генной памятью. И широкая, просторная глубина, густая и теплая, как кровь, открывалась перед Рубинчиком в ее глазах.
Конечно, он знакомился с девушкой, говорил какие-то дежурные слова, но ясно видел, что она только слушает его голос и вместе с этим голосом вбирает в себя его самого, пьет его, как наркотик…
Рубинчик никогда не мог объяснить себе этого эффекта. То есть почему его влекло к русским женщинам – этому можно найти тысячу резонов: от воспитания на русской культуре до комплекса маленького и ущемленного в правах еврея в море славянского и государственного антисемитизма. Но что они – древнерусские княжны, половецкие принцессы, донские ярославны и онежские василисы – видели в нем, невысоком, худощавом еврее с жесткой черной шевелюрой, крупным еврейским носом, маленькими карими глазами и густой шерстью, выбивающейся из открытого ворота рубашки? Почему после нескольких незначительных слов знакомства они покорно, как завороженные важенки, сами приходили к нему в гостиничный номер – открыто! на глазах у всего своего города или поселка! – и даже не видя, какими глазами смотрят на них гостиничные администраторши.
Этого Рубинчик никогда не понимал и каждый раз, когда это случалось, был уверен, что на этот раз он наверняка ошибся и закадрил простую провинциальную давалку.
Но когда очередная «княжна» уходила по его приказу в душ и возвращалась оттуда босиком, с гусиной кожей на голых ногах и завернутая от груди до лобка в потертое гостиничное полотенце (с обязательным фиолетовым штампом «Госкоммунхоз», чтобы это полотенце не уперли постояльцы гостиницы), Рубинчик сразу видел, что здесь не пахнет не только блядством, но и вообще каким-нибудь сексуальным опытом. В ее походке, фигуре, вытянутой шее и в глазах было нечто завороженно-испуганное и мистически покорное его воле, слову, жесту и мысли. А самое главное – его вожделению. И, медленно отнимая это гостиничное полотенце, прикрывающее ее худое белое тело, грудь и крохотные бледные соски, Рубинчик уже видел, что – да, он не ошибся и на этот раз, она – девственница.
Он совращал их, конечно. Но только если понимать под совращением дефлорацию и ничего, кроме этого чисто медицинского акта. Потому что во всех остальных значениях этого слова – лишить женской чести, сбить с правильного пути, – то какое тут к черту совращение! Он не трахал их и не ломал целку, а проводил их по узкому мостику из девичества в женственность – проводил с почти отцовской осторожностью, терпеливостью и нежностью, а затем приобщал их к истинной и высокой женской чести быть в постели не расщепленным надвое поленом, а Жрицей.
Так в ночном тумане опытный бакенщик сначала одной интуицией находит темный буек маяка, потом на ощупь разбирает фонарь, доливает масла, заправляет фитиль, зажигает наконец огонь – и вдруг свет этого маяка слепит глаза ему самому.
Свет истинной женственности, который Рубинчик зажигал в такую ночь где-нибудь в Ижевске, Вологде, Игарке или Кокчетаве, был подобен возвращению к жизни старинной иконы, когда после осторожной и трепетной расчистки на вас вдруг вспыхнут из глубины веков живые и магические глаза.
Этот миг Рубинчик готовил особенно тщательно и даже церемониально. В стране, где сексуальное образование было предоставлено лишь темным подъездам, похабным анекдотам и настенным рисункам в общественных туалетах, где не было ни одной книги на тему «КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ» и где даже слово «гинеколог» стесняются произнести вслух, – в этой стране миллионы юных женщин знают о сексе не больше, чем домашние животные. Лечь на спину, раздвинуть ноги и поддать – вот все, чему учат своих невест и что требуют от своих жен девяносто процентов русских мужчин. Нужно ли удивляться массовой фригидности русских женщин?
В черном море сексуального невежества Рубинчик зажигал светлые лампады чувственности и первым наслаждался их трепетным пламенем.
– Сейчас, дорогая! Не спеши и не бойся! Забудь все, что тебе говорили об этом подруги, и забудь все грязные слова, которые пишут про это в подъездах. Мы сделаем это совершенно иначе. Так, чтобы ты помнила об этом всю жизнь, как о самом святом дне своей жизни, как о рождественском празднике. Выпей вина. Вот так. И еще глоток. И еще. А теперь дай мне твои губы. Нет, не так. Забудь обо мне и слушай только себя…
Черт возьми, они даже целоваться не умели как следует! Их соски не умели откликаться на прикосновения мужских губ, их руки боялись опуститься к мужскому паху, их ноги сводило судорогой предубеждения, и даже когда они делали над собой волевое усилие и разжимали ноги в ту позу готовности, которую многократно видели на похабных рисунках в школьных туалетах, – даже тогда их тело еще не было ни ложем страсти или хотя бы желания, а только – ложем страха.
Но Рубинчик был поэтом соития, терпеливым и виртуозным.
– Подожди! При чем тут ноги? Ты видишь эту ночь за окном? Это не звезды, нет. Это решето вечности. Семнадцать лет твоей жизни утекли через это решето навсегда. Их нет. Они истаяли в космосе. Что осталось от них в тебе? Ничего. Потому что ты не жила еще. Ты дышала – да. Ты ела, пила, что-то учила. Существо-вала. И только. А сейчас ты начинаешь жить. После этой ночи ни одна твоя ночь уже не утечет от тебя в никуда. Они будут все твои. Ты слышишь – твое тело наполняется солнечной силой. От каждого прикосновения к тебе этим ключом жизни все в тебе оживает – и спина… и живот… Посмотри на него. Не стесняйся. Возьми его в руки. Только не сжимай так сильно. Нежней. Ты знаешь, почему купола всех церквей и мечетей именно такой формы? Потому что это вершина божественной гармонии! А теперь приложи его к своей груди – сама. Да, милая, так. Ты чувствуешь? Твой сосок растет ему навстречу…
Он не шел ниже. Даже когда ее спина уже аркой изгибалась навстречу ему, и ее живот начинал пульсировать от первых приливов желания, и тяжелело дыхание, и губы открывались, – он не спешил. Наоборот, он отнимал свой ключ жизни от ее тела и нес его к ее губам. Это был один из самых критических моментов операции. Взращенные в советском невежественно-брезгливом пуританстве, все сто процентов юных русских женщин считают мужской половой орган таким же грязным, как их общественные туалеты. Прикоснуться к нему, а уж тем более взять его губами кажется им немыслимым унижением. Ведь хуже нет в России оскорбления, чем сказать о женщине: «Я имел ее в рот!» И такое же презрительное отвращение испытывает русский мужчина к женскому влагалищу. «Даже если когда-нибудь, – думал Рубинчик, – в двадцать третьем веке, в России будут делать эротические фильмы, невозможно представить, чтобы и в таком фильме русский мужчина поцеловал женщину меж ее ног…»
Но Рубинчик легко ломал этот дикий российский предрассудок. Он возносил свой гордый ключ жизни, напряженный и увитый набухшими венами, по груди своей наложницы к ее подбородку и губам – возносил медленно и торжественно, как приз, как божественный жезл…
Чаще всего она в ужасе закрывала глаза.
Он не настаивал, нет. Он брал ее лицо двумя руками и говорил тихо и нежно:
– Посмотри на меня!
Она открывала глаза. И всегда в них было одно и то же – покорность и готовность впустить его в теплую глубину своей души и тела и тайный ужас перед тем, как это произойдет. Нет, и еще что-то – нечто более древнее, какой-то иной, мистический ужас подневольной и завороженной жертвы…
Но Рубинчику было недосуг, да он и не пытался разгадать тайну этого страха. Зато он давал этой диве возможность заглянуть в его душу.
– Это не стыдно, милая! Посмотри мне в глаза! Нет ничего стыдного в нашем теле. Ни в твоем, ни в моем. Все сделано Богом из одной крови и одной плоти. И все одинаково прекрасно на вкус. Смотри…
И он начинал целовать ее тело сверху вниз, медленно опускаясь губами и языком по ее груди и животу, все ниже и ниже, к тонким завиткам ее пуха на лобке. А затем он мягким, но властным движением ладоней разводил ее колени. Тут, в этой лощине, находилась главная западня его жизни, тут, под пухом этих шелковых зарослей, укрывался тот магический магнит, чью неземную силу Рубинчик испытал лишь раз, давным-давно, на берегу древнего Итиля, но который с тех пор властно вырывает его из Москвы и тащит по российской грязи и снегам, через тайгу и тундру на поиски очередной русской дивы.
Осторожно, как минер или тигролов, Рубинчик приближал свое лицо к этой маленькой нежной роще и подбородком раздвигал ее спутанные лианы.
Сухие, закрытые и еще спящие губы невинного девичьего бутона представали перед его пытливым взглядом, и не было, казалось, никакой мистики в этих бледно-розовых створках, как на вид нет никакой мистики в простой раковине-жемчужнице.
Но Рубинчика не могли обмануть эти уловки природы. Не дыша, страшась и одновременно жаждая этого опасного чуда, он сначала губами, а потом языком касался этих бледно-розовых створок.
Одно это прикосновение вызывало девичий шок. Не сексуальный, нет – культурный. Пытаясь избавить Рубинчика от ненужного, как они считали, унижения, они всегда в этот миг хватали руками его голову и пытались отстранить, вынуть ее из собственных чресел. Но Рубинчик перехватывал их руки своими руками и сжимал изо всех сил, запрещая им любое движение.
Конечно, он знал, что они дадут ему и без этого.
Он мог в любую минуту разломить локтями их ноги и войти в их тело, одним ударом прорвав сухоту их девственных губ, судорожно сжатые мускулы устья и тонкую пленку там, внутри. Собственно говоря, в силу своего невежества они ничего иного от него и не ждали, хотя именно это они могли получить в любой подворотне без всякого Рубинчика.
Но ведь не в этом была его миссия и магия этой ночи!
Учитель, Просветитель, Наставник и Первый Мужчина – даже эти простые титулы наполняли его сексуальное вожделение еще одним качеством, еще одной гранью изыска. А помимо этого… да, помимо этого, он ждал от этой ночи еще чего-то – невероятного, сверхобычного, почти сатанинского, что довелось ему испытать только там, на берегу Итиля…
Сжав руками запястья тонких девичьих рук, он продолжал нежно, в одно касание, целовать еще сухие и спящие губы девичьего бутона. Этот бутон всегда напоминал ему заспавшегося ребенка, навернувшего на себя теплое байковое одеяло, которое Рубинчику предстояло развернуть языком и губами. И он приступал к этому процессу с тем ликованием, с каким его трехлетний сын разворачивал обертку шоколадной конфеты. Заострив язык, он медленно, как в рапиде, раздвигал эти оживающие лепестки. Он знал, что в ее подсознании этот маленький бутон начинал увеличиваться, гипертрофироваться, вырастать до гигантских размеров. По силе вожделения это было несопоставимо с любым ее прежним девичьим томлением или безотчетными позывами ее юного тела к мастурбации. Сейчас в ее разгоряченном мозгу ее маленькая лагуна превращалась в отдельное тело, в жадного зверя и в один гигантский рот, алчущий новых прикосновений, поцелуев, ласк, слюны. Так пустыня, высыхающая от многолетней засухи, корчится от жажды и нетерпеливо открывает свои пересохшие поры первым же тучам, наплывающим к ней с горизонта.
Но чудо, которого ждал Рубинчик и которое он хотел взрастить, как опытный садовник взращивает редкий экзотический цветок, – это чудо нельзя было ни торопить, ни перегреть своей лаской. Нет, теперь нужно было дать этому чуду возможность самому прорасти, как зерну, проснувшемуся от весеннего дождя. И в тот момент, когда язык и губы Рубинчика начинали ощущать увлажнение ее нижних губ и нащупывали вверху их складок крохотный узелок-жемчужину, Рубинчик останавливал себя. Своим примером он сломал первый барьер – отношение к половому органу как к чему-то грязному и стыдному, что немыслимо тронуть губами, и теперь он снова возносил свой ключ жизни к лицу юной дивы. И еще не было случая, чтобы на этот раз она отвергла его, сомкнула губы или отвернулась. Наоборот, порывисто схватив его руками и губами, как пионерский горн, она показывала Рубинчику, что урок усвоен, что можно идти дальше, дальше…
Однако он и тут не давал воли девичьей самодеятельности. Он отнимал свой волшебный ключ жизни от ее губ и приказывал жестким тоном владыки и господина:
– Без зубов! Нежней и глубже!
Да, теперь он не выбирал выражений и не обращал внимания на испуганные глаза, горящие в темноте, как у маленького зверька. Она должна усвоить терминологию вместе с процессом.
– Только медленно, не спеша! И играть языком! Играть, как на флейте! Вот так, да!
Он знал, что в ее подсознании нижние и верхние ее губы уже соединились в единого монстра, способного поглотить все его тело и душу, но еще дальше, на периферии ее сознания все равно бьется, замирая от ужаса и ликования, последняя нетерпеливая мысль: «Ну когда же? Когда? Я сделаю все, что прикажешь, только и ты быстрей сделай то, главное!» И даже не мыслью это было в них, а сутью и главной задачей их пребывания на земле: стать женщиной. Это записано в их генетическом коде, в подкорке их мозга и в каждой клетке их тела. Дары Господни неотторжимы!
Однако Рубинчик оттягивал этот главный момент. Эта оттяжка стоила ему здоровья, поскольку он должен был усилием воли укротить бушующее в его гениталиях давление. Но он шел на эту пытку сознательно, как на жертву ради возвышенной цели. Он приказывал себе отключиться, терпеть, ждать! Ее сознание уже смято жаждой соития, и она уже отдалась этому потоку, открылась ему и поплыла в нем, и вожделение крутит ее, и она получает кайф от всего – от вкуса его плоти, оттого, что – наконец, после стольких лет ожидания! – держит в руках этот живой и горячий ключ жизни, и даже от того, что дышит его запахом! Теперь и не видя ее в темноте, Рубинчик ощущал, что ее язык и губы выполняют его приказ не из страха, не вынужденно, а – с ликованием! Так юный музыкант, который подневольно, по принуждению родителей выучил первую мелодию, вдруг начинает испытывать удовольствие от своей игры – ликуя и гордясь, он играет ее снова и снова, все громче, быстрее, артистичнее, выделяя нюансы, переходы, окраску тембром и уже не желая выпускать изо рта эту волшебную флейту.
Именно эта восторженная беглость языка и губ новой ученицы, ее жадное, захлебывающееся упоение от поглощения его плоти говорили Рубинчику, что – все, это состоялось, чувственность проснулась в этом сосуде, Женщина родилась в нескладном ребенке, самка ожила в девственном теле, огонь возгорелся в лампаде.
А теперь – к делу!
Он погружал свою руку в меховую опушку ее лобка и начинал готовить плацдарм. Медленно, еще медленней, только двумя пальцами… А когда ее ноги уже сами в диком позыве упирались ступнями в матрас и аркой вздымали ее тело навстречу его пальцам, а ее рот, и губы, и язык уже не просто лизали и сосали, а сжирали его, захлебываясь собственной слюной, – в этот момент Рубинчик, уже и сам захваченный потоком вожделения, заставлял себя дотянуться до ночника и включить свет.
Нет, она не реагировала на это, она даже не видела этого света. Потому что жила уже не в мире наружного сознания, а, как морская медуза, только внутри себя – своей чувственностью и своей жаждой соития.
Однако Рубинчик не знал пощады. Он возвращал свою ученицу в реальный мир, отнимая от ее губ свой горделивый ключ жизни, и подносил к ним новый бокал вина. Она открывала глаза, и дикие, шальные, ничего не видящие зрачки выкатывались к нему из-под надбровных дуг, выкатывались, словно из другого мира, и смотрели на него с вопросом, мольбой и нетерпением.
– Сейчас ты станешь женщиной. Сейчас, – успокаивал он. – Просто я хочу, чтоб ты видела это своими глазами. Выпей вина…
Ее тело еще пульсировало внизу, но она послушно делала один или два судорожных глотка, а потом откидывалась головой на подушку, готовая на все и даже, наверно, досадуя на него за то, что он уже не сделал это – пока она была там, по другую черту, за пределами сознания.
Рубинчик, однако, не сожалел о такой упущенной возможности. Женщина в постели, как хорошая проза, требует неспешности. А мужчина именно в сексе приближается к истинному творчеству – сотворению Жизни. Бог, творя земную жизнь, наверняка испытывал оргазм, ведь никак иначе не объяснить происхождение этого самого высшего в мире наслаждения.
Рубинчик извлекал подушку из-под головы своей ученицы, подкладывал под ее ягодицы и начинал языком вылизывать ее ушные раковины. Это тут же возвращало ее и его самого в прежнюю пучину вожделения, в самый круговорот чувственности.
И тогда он возносил над ее открытыми и горячими чреслами свое темное от застоявшейся крови и напряженное до дрожи копье и медленно, снова медленно, крошечными ступенями начинал погружать его жаркий наконечник в тесную, влажную, розовую расщелину, с каждым шажком все раздвигая и раздвигая нежно-мускулистое устье – до тех пор, пока не упирался в неясную, слепую преграду.
Это был святой и милый его душе момент.
Теперь он извлекал свое копье на всю его длину, отжимался на руках и смотрел на распростертое под ним тело.
Так всадник поднимается в стременах, чтобы вложить в удар копья весь свой вес и всю силу размаха.
Бесконечная белая река женской плоти струилась под ним на скрипучей гостиничной кровати. Двумя скифскими курганами вздымалась на этой реке грудь с темными маяками островерхих сосков. Две распахнутые руки отлетали бессильными потоками. Длинная половецкая шея тянулась к подбородку запрокинутой головы. А за ней, дальше, падал с кровати безвольный водопад густых русых тонких волос.
Рубинчик смотрел на это тело с нежностью, с умилением, с любовью. Здесь была его Родина, его Россия. Тридцать лет назад она била его, мальчишку, до крови, обзывала «жидом», валила на землю, заламывала руки, мазала губы салом и заставляла жрать это сало вместе с землей и пылью. Двадцать лет назад она срезала его на вступительных экзаменах в Московском, Ленинградском и других университетах только за то, что в пятой графе его паспорта значится короткое слово «еврей», а затем мотала его по солдатским казармам и рабочим общагам. Но он прорвался! И теперь она, эта же Россия, принадлежала ему вся – всей своей плотью, реками, лесами и птицами, поющими в ее туманных садах. И – своей упругой шеей, потемневшими сосками белой груди, трепетной впадиной живота, доверчиво распахнутыми объятиями чресел.
Он любил ее в эту минуту. Он любил эту русскую землю так полно и нежно, как ни один русский, как может любить землю только человек, чудом выплывший к берегу из морских штормов, или как любит свой дом ребенок, переживший побои в доме злобной мачехи…
Он делал глубокий вдох и без излишней резкости, но мощно и решительно входил в ее родное и прекрасное тело.
Тепло ее крови, тихий стон, слезы боли и кайфа, первая несказанная истома от поглощения его ключа жизни и сжатия его девственными мускулами, и почти тут же, через минуту, – бешеные конвульсии ее тела наполняли его радостью. Наконец ее тело дождалось главного, ради чего оно росло и зрело все годы своей юной жизни! Оно дождалось соития с полярной плотью и там, внутри, в глубине своей, салютовало этому соитию гейзерами нежности и влаги, собранной за всю предыдущую жизнь.
Ощущение этих горячих и бурных фонтанов защемляло душу Рубинчика божественным, неземным наслаждением. Тонкие руки обнимали его шею и сжимали судорожно и благодарно, не давая шевельнуться; ее губы впивались в его губы до боли; ее ноги замком обхватывали его ноги; а ее трепещущий лобок следовал за ним, не позволяя ему вынуть себя из ее глубин даже на микрон.
Так капкан зажимает живую добычу, так ножны обхватывают смертельно-живительный клинок.
В этот миг Рубинчик всегда завидовал им. Какие космические ливни сотрясают их плоть! Какие молнии пронизывают! В какие пропасти падают они в момент оргазма! Он видел и понимал, что ни один мужчина, даже самый сладострастный, не может испытать и десятой доли тех божественных мук наслаждения, которые приходят в такие минуты к женщинам. Но он испытывал гордость и радость быть курьером, поставщиком этого Божьего дара, который он держал сейчас в женском теле на копье своей плоти. Бог послал им дикие муки родовых схваток, неведомые мужчинам, и Бог – через него, Рубинчика! – воздавал им за эти муки такой силой наслаждения, которую не дано испытать мужским особям. Рубинчик испытывал наслаждение дарить наслаждение, он чувствовал себя в это время и. о. – исполняющим обязанности – Всевластного Бога и старался продлить свое пребывание в этой роли так долго, как только мог. Осиротев в бомбежках 41-го года, когда ему было всего три или четыре месяца, он видел смерть в течение всей войны – в поездах, в голодающих сиротских домах, на горящих волжских баржах с детьми и орущими воспитательницами. И это сделало для него смерть не отдаленным и абстрактным будущим, а такой же реальной, ежеминутной возможностью, как постельное наслаждение. Они – смерть и наслаждение – приближались друг к другу в его сознании, почти смыкались – не зря в момент оргазма все живое, от человека до лесного зверя, испытывает странную, захватывающую, кружащую голову близость смерти. «Эту радость-Смерть, – думал Рубинчик, – может дать только Бог, но мужчина может подвести женщину почти вплотную к этой роковой и восхитительной пропасти экстаза». И он вкладывал все свои силы и талант в это искусство. Ради продления своей роли посланника Бога, ради удержания накала вожделения он умудрялся даже в самые святые и сладостные минуты первовхождения не терять голову и не иссякнуть, а извлечь свое орудие из замка женской плоти – извлечь на микрон.
Извлечь и вернуть…
Выйти и войти…
Сначала – на чуть-чуть…
А потом – чуть больше…
А потом – еще шире, мощней…
Иноходью…
Рысью…
И наконец, вскачь! До хрипа! До крика!
Как копыта, стучали пружины кровати!
Белое тело половецкой невольницы выло по-волчьи – но уже не от боли, нет!
Она уже не ощущала боли, потому что пламя ее вожделения работало как наркоз, как веселящий газ.
В живом синхрофазотроне ее пульсирующего тела их русско-еврейская эротическая полярность разряжалась бурными потоками сексуальной энергии и поила их обоих новым томлением и такой дикой жаждой нового соития, какая неизвестна мужчинам и женщинам одной национальности.
Рубинчик скручивал тело своей русской пленницы в кольцо и спираль, он разламывал ей ноги до шпагата – она доверяла ему во всем, слушалась каждого приказа и была уже той ученицей, которая сама тянет руку, чтобы ее вызвали к доске. Зверея от экстаза, она перехватывала инициативу, ускоряла ритм до галопа, билась головой из стороны в сторону, хлестала воздух гривой волос, хватала руками спинку кровати, скрипела зубами, истекала слезами восторга, извергалась жаркими и клейкими фейерверками, опадала, как мертвая, и снова взлетала аркой, и ее рот находил и обсасывал его пальцы, прихватывая их острыми звериными укусами, а ее ноги взлетали ему на плечи. Что-то, какое-то подсознательное чутье, какой-то интуитивный биологический манометр говорили ей, что только с ним – евреем! жидом! – возможна такая полная, такая почти враждебная половая полярность, при которой столкновения разнополярных потоков их сексуальной энергии достигают мощности ядерных взрывов. И она отдавалась этим разрядам всей своей плотью и кровью, и ее тело своей собственной плотской памятью запоминало каждый миг этого наслаждения.
После каждого ее оргазма, когда она, обмирая, падала и затихала на его груди, Рубинчик чувствовал себя Паганини или Рихтером, только что блистательно сыгравшим сложнейшую симфонию. В ночной сибирской тишине ему даже слышались беззвучные аплодисменты православных и еврейских ангелов и крики «бис!». И он не вредничал и не заставлял себя долго просить, а, тихо шевельнув своими чреслами и сам изумляясь, откуда у него взялись новые силы, неведомые при его общении с еврейской женой, играл на бис – сначала в миноре, но уже через минуту переходя к мощным мажорным аккордам и к настоящему крещендо.
Позже, перед тем как отпустить себя, Рубинчик, из последних сил контролируя ситуацию, снова отжимался на своих волосатых руках и с нежной улыбкой смотрел на новорожденную русскую Женщину. Он гордился собой. Пожар чувственности уже пылал в этом камине на полную мощь и сам, без его помощи, уже выбрасывал жаркие протуберанцы страсти. Не в силах дотянуться до губ Рубинчика, она лизала языком волосы на его груди, прикусывала зубами его плечи и вонзала свои ногти в его спину и голову.
Он смотрел на нее и знал, что теперь она сделает все, что он повелит, и будет выполнять его приказы не из мистической завороженности, как вначале, а с ликованием новообращенной служительницы Бога. Да, лежа под ним на спине, на боку, на животе, на локтях и коленях или взлетая над ним скифской амазонкой, она, эта русская дива, будет всегда видеть в нем Бога. В нем, в Рубинчике. И к утру, когда она истечет, как ей будет казаться, уже абсолютно всеми соками своего тела, и когда ее тело станет прозрачным, невесомым и падающим в свободном, как в космосе, падении, – в это время, при рассветной прохладе, вползающей в просветлевшее окно, она даже в самых потаенных уголках своего сознания будет молиться на него и нежить в себе его образ, как в двенадцатом веке женщины поклонялись чувственно-эротическому культу Христа.
В свете сиреневого русского рассвета он поднимал ее удивительно легкую голову на свои колени и гладил, гладил, гладил ее тонкие русые волосы. А она, бессильная, безмолвная и легкая, как ангел, тихо, не открывая своих половецких глаз, начинала вылизывать его опавшую плоть, отлетая в сон, в забытье, в младенчество, где она такими же сытыми губами подбирала, перед тем как уснуть, последние капли молока из соска своей матери.
Но, даже гладя и любовно нянча эту новую русскую диву, Рубинчик уже знал, что того мистического, колдовского, сатанинского чуда, в поисках которого мотался он в командировках по этой гигантской стране, – этого чуда не случилось и здесь. Вернувшись из командировки в Москву, в редакцию «Рабочей газеты», он подходил в своем кабинете, который делил еще с тремя собкорами, к огромной настенной карте Советского Союза, находил на этой карте место, где он только что зажег очередной маяк женственности, и вставлял в эту точку новую красную кнопку-флажок. За десять лет его работы разъездным корреспондентом «Рабочей газеты» таких флажков на этой карте было уже больше сотни, но странного чуда, которое он испытал лишь однажды, в юности, в пионерском лагере «Спутник», – этого чуда не было нигде. И значит, через две-три недели он опять рванет в дорогу. Вот только – куда?
Он не знал, однако, что с недавних пор совсем в другом кабинете – с окном на площадь Дзержинского – кто-то на такой же карте тоже отмечает маршруты его поездок и зажженные им в России «маяки».
Этим человеком был Олег Дмитриевич Барский, полковник КГБ.
Легенда о Раппопорте
…Он не позвонил и не появился, и за два часа до отлета его самолета она прыгнула в свой «жигуленок» и сломя голову понеслась в Шереметьево. Но Максима там не было. Самолет, улетающий в Вену рейсом 228, был, туристы-австрийцы были, евреи-эмигранты – целых шестнадцать семей с детьми, чемоданами и баулами – тоже были. Но Максима Раппопорта не было. Она хотела спросить о нем у дежурной по посадке, но в последний момент остановила себя – вспомнила его «атташе», набитый американской валютой. Она была адвокатом и хорошо знала правила игры. Империя могла смотреть сквозь пальцы на хозяйственные преступления, но становилась беспощадной к тем, кто нарушал ее монополию на печатание денег и особенно на валютные операции. Даже «либерал» Хрущев вышел из себя, когда узнал о валютчиках Рокотове и Файбышенко. Хрущев приказал расстрелять их – до суда! А ведь у Рокотова было «всего» двести тысяч долларов…
Сколько было у Раппопорта, Анна узнала через три недели. Впоследствии, когда история Раппопорта стала легендой, эта цифра все увеличивалась и увеличивалась, но, наверно, та, которую называли первоначально, по горячим следам, была ближе к истине.
У Раппопорта, сказали, был миллион долларов.
И это было похоже на него, он любил эффектные цифры. Уехать из СССР с неполным миллионом – нет, его самолюбие страдало бы от этого. А везти больше миллиона – миллион с каким-нибудь хвостиком – тоже было не в его характере, он не был мелочным. Поэтому Анна сразу поверила в эту цифру – у Раппопорта был миллион долларов стодолларовыми купюрами. Он скупал эти стодолларовые банкноты у мелких и крупных фарцовщиков в Москве, Ленинграде, Риге, Одессе и платил за них советскими деньгами, практически любую цену, а валютой – 125 и даже 150 долларов за сотенную купюру.
Конечно, он накололся на слежку, это было неизбежно. Но, говорила легенда, он продолжал открыто и даже вызывающе открыто ездить по Москве и другим городам со своим неизменным черным «атташе», пристегнутым к запястью левой руки. Он возил в этом «атташе» пачки советских и несоветских денег, встречался с фарцовщиками и скупал у них стодолларовые банкноты, которые затем аккуратно складывал в потайной сейф, вмурованный за камином в своей квартире на Фрунзенской набережной.
«На что он рассчитывал?» – недоумевали рассказчики легенды. Ведь в КГБ, в 10-м Управлении Политической службы безопасности, созданном специально для борьбы с «экономическими преступниками», то есть со спекулянтами иностранной валютой, знали о каждом его шаге и, конечно, о том, что он подал документы на выезд. Почему же они не взяли его? Не арестовали его при встречах с фарцой? А наоборот, даже дали ему разрешение на эмиграцию! Разве они не понимали, что он скупает валюту не для того, чтобы оставить ее в московской сберкассе, а для того, чтобы вывезти?
Они понимали. Бригада офицеров КГБ, которая вела Раппопорта и его черный «атташе», понимала все. И тем не менее они не мешали ему собирать этот миллион. И когда Раппопорт с какой-то любовницей, говорила легенда, укатил в Сочи, эти офицеры своими руками пересчитали валюту в его квартире, в секретном сейфе. Но в те дни там еще не было миллиона, там до миллиона недоставало каких-нибудь семидесяти тысяч. И они оставили в сейфе все деньги нетронутыми. Потому что у них были свои амбиции – они тоже хотели миллион. «Зачем рыскать по мелким валютчикам, арестовывать, допрашивать, вскрывать полы в их квартирах и вспарывать матрасы в поисках каких-нибудь десяти – пятнадцати тысяч долларов? – рассуждали эти гэбэшные волки. – Пусть Раппопорт сделает эту работу, пусть он соберет миллион, а мы просто изымем эти деньги в момент передачи их за границу».
Иными словами, они играли против него уверенно и спокойно, в солидной манере шахматного чемпиона Карпова. И именно ради этого миллиона попросили Прокуратуру СССР не быть слишком настойчивой в процессе Раппопорта. Ведь, в конце концов, что важнее – отправить Раппопорта в Сибирь за его аферы с икрой и мочевиной или заставить его собрать для государства миллион долларов?
Правда, чем ближе становился день отъезда Раппопорта, тем тревожней чувствовали себя эти офицеры КГБ – они не понимали, как он собирается переправить свой миллион за рубеж. Однако он «успокоил» их: за неделю до отъезда он привез в мастерскую «Кожгалантерея», что на Комсомольской площади, шесть огромных новеньких кожаных чемоданов и лично директору этой мастерской Арону Гуревичу заказал снабдить эти чемоданы двойным дном и двойными стенками. А на следующий день некто по имени Гриша Мендельсон передал начальнику шереметьевской таможни десять тысяч рублей с просьбой запомнить только одну фамилию – Раппопорт.
В КГБ поняли, что заветный миллион собран. И теперь им оставалось одно из двух – либо нагрянуть к Раппопорту домой и изъять миллион из сейфа за камином, либо ждать, когда этот миллион сам, в подкладке кожаных чемоданов, прикатит в Шереметьево к отлету самолета Москва – Вена. Ясно, что они выбрали второй вариант. Ведь одно дело доложить на Политбюро, что в квартире у жулика по фамилии Раппопорт нашли миллион долларов, а другое – что изъяли этот миллион на таможне у еврея-эмигранта! «Миллион на таможне» – это международное событие, это героизм и бдительность органов безопасности страны, это ордена и медали, и статьи в прессе, и еще один виток антисионистской кампании. Конечно, они выбрали второй вариант!
Между тем Раппопорт наглел уже буквально по часам. За четыре дня до отъезда он закатил у себя дома «отвальную» на сто персон. Там был цвет Москвы, Ленинграда, Риги и Одессы. Там были самый знаменитый бард со своей женой-кинозвездой, и цыгане из театра «Ромэн», и половина кордебалета Большого театра, и модные художники, и поэты, и кинозвезды, и капитаны самого популярного в стране телешоу «КВН», а также несколько дипломатов из посольств Нигерии, Австралии, Аргентины и США.
Конечно, за домом на Фрунзенской набережной, где жил Раппопорт, была установлена слежка, но «отвальная» прошла без инцидентов – гости пили шампанское и виски, ели черную икру из магазина «Дары моря» и шашлыки из ресторана «Арагви», слушали знаменитого барда, танцевали при свете камина с цыганами и девочками из Большого театра и фотографировались на память с хозяином. Наблюдая снизу, с набережной Москвы-реки, за окнами на шестом этаже и слушая знаменитого барда с помощью скрытых в квартире Раппопорта микрофонов, офицеры КГБ не переставали удивляться, каким образом в стране всеобщей поднадзорности, многолетних очередей на жилье и строжайшего учета распределения жилого фонда комиссиями старых большевиков, райкомами партии и Моссоветом этот аферист Раппопорт ухитрился, нигде не работая, получить пятикомнатную квартиру, да еще в доме категории «А-прим», который построен исключительно для высшего эшелона партийной номенклатуры! И, томясь в ночной сырости, плывущей с реки, они согревали себя зыбкой надеждой на то, что после триумфального завершения операции «Миллион на таможне» им тоже улучшат жилищные условия. Не в таком доме, конечно, но все-таки…
Под утро, когда гости Раппопорта стали расходиться, несколько групп «уличных хулиганов» ощупали иностранных дипломатов, когда те вышли от Раппопорта. Но ни пачек денег, ни вообще каких-либо пакетов не было ни у кого из тех, кто покидал в эту ночь квартиру Раппопорта. Правда, у барда была гитара, но, судя по той легкости, с какой его жена несла эту гитару за пьяным мужем к их «мерседесу», и гитара была пуста. И правда, у американского и австралийского дипломатов, которые вышли от Раппопорта почти последними, были фотоаппараты «Canon», но разве можно спрятать миллион долларов в миниатюрном японском фотоаппарате?
Весь последующий день, 16 июля, Раппопорт не то спал, не то приходил в себя с похмелья. А 17 июля в два часа дня он вызвал из соседнего таксопарка такси, погрузил в него шесть своих пустых кожаных чемоданов, сел рядом с водителем и приказал: «Поехали!»
Конечно, дежурная бригада наблюдателей сидела у него на хвосте, но паники еще не было – мало ли куда мог везти Раппопорт свои чемоданы? Может, валюта не поместилась в тайнике, и он решил эти чемоданы переделать?
Однако, поколесив по центру Москвы и нигде не остановившись, такси с Раппопортом проскочило мимо Белорусского вокзала и продолжило путь по Ленинградскому проспекту – все дальше и дальше от центра Москвы, мимо Речного вокзала… загородных новостроек… Куда?
В Шереметьево?!
Когда такси свернуло к международному Шереметьевскому аэропорту, паника воцарилась в эфире. Он что, с ума сошел? Или он с похмелья дату перепутал? Он же не сегодня летит, а послезавтра! Кто из КГБ дежурит сейчас в аэропорту? Что? В списках пассажиров сегодняшнего рейса номер 228, отбывающего в 15.20, тоже есть М. Раппопорт? Как это может быть? Что? У этих евреев каждый шестой – Раппопорт? Черт возьми, неужели у него два билета – один на послезавтра, на 19-е, а второй – на сегодня? А начальник таможни на месте? Нет его? Выходной? Господи, может быть, предупредить этого жида, что он не в свой день летит?
Предупреждать, конечно, не стали. Успели организоваться.
Пока Раппопорт стоял в очереди евреев-эмигрантов на проверку багажа, вся бригада гэбэшников, которая вела его последние семь месяцев, примчалась в Шереметьево и была на местах по ту сторону таможенного контроля. И даже майора Золотарева, начальника таможни, выдернули с его дачки. Еще бы! Ведь предстояло брать самого крупного валютчика и к тому же еврея-эмигранта! Миллион долларов! Вот так эти эмигранты разворовывают советскую страну!
Шесть филеров не только не спускали глаз с заветных чемоданов Раппопорта, но, стоя за ним в очереди, практически почти касались их ногами – каждый вел свой, персональный чемодан. А старшие офицеры КГБ, следившие за Раппопортом издали, нервничали особым радостным ознобом охотников, обложивших крупного зверя.
Между тем общая атмосфера в зале ожидания Шереметьевского аэропорта изменилась совершенно неузнаваемым образом. Евреи-эмигранты, которым выпало улетать из Москвы 17 июля 1977 года, не могли понять, почему таможенники вдруг прекратили придираться к их багажу, перестали конфисковывать икру, мельхиор, лекарства и даже серебряные вилки, а стали наспех просматривать один-два чемодана, спешно шлепать штампы в зеленые проездные визы и торопить: «Следующий! Быстрей! Проходите! Следующий!»
Следующим – наконец! – был Максим Раппопорт. Он ничего не замечал вокруг себя – ни слежки, ни спешки таможенных инспекторов. И матерые гэбэшные волки ловили свой кайф – они снимали Раппопорта скрытыми фото- и кинокамерами – и позволили ему самому, собственноручно принести на таможенный стол все шесть его подозрительно легких кожаных чемоданов и неизменный черный «атташе».
Так кот растягивает процедуру поедания мышонка, попавшего ему в лапы, – кот играется с ним…
– Ваш билет, – сказал таможенный инспектор.
Раппопорт положил на стойку свой билет на сегодняшний рейс.
– Визу!
Раппопорт – с наигранной, конечно, беспечностью – предъявил листок с советской выездной и австрийской въездной визами-штампами.
– Откройте замки чемоданов.
– Они открыты.
– Что?
– Они не заперты.
– Гм… Откройте этот чемодан!
Это был пароль. Шесть офицеров КГБ в сопровождении майора Золотарева возникли за спиной таможенного инспектора, уже подготовленного к своей миссии героя-разоблачителя сиониста-валютчика.
Раппопорт удивленно посмотрел на них и с беспечным видом отбросил крышку первого чемодана.
В чемодане лежали семь нестираных мужских сорочек. И все.
Однако работники органов безопасности знали секрет Раппопорта, а потому таможенный инспектор уверенной и вооруженной ланцетом рукой аккуратно вспорол дно и стенки этого чемодана. А кинооператор вышел из-за стеклянного барьера и, уже не таясь, навел объектив на вспоротое днище этого чемодана.
Но там было пусто.
Между первым и вторым дном чемодана, а также между его двойными стенками не было абсолютно ничего, даже пыли.
Таможенник, удерживая на лице бесстрастное выражение, пропорол этот чемодан насквозь – вдоль и поперек его днища, крышки и стенок.
Пусто.
– Следующий чемодан! Открывайте!
Раппопорт пожал плечами и открыл второй чемодан.
В этом чемодане тоже были грязные мужские сорочки в количестве шести штук. И три пары мужских трусов.
Таможенник небрежно вышвырнул это барахло на пол и занес над пустым чемоданом свой остро отточенный ланцет.
– Может, не надо? – попросил Раппопорт, изображая невинность на своем носатом лице. – Хороший чемодан. Чем портить, могу подарить.
Но, как пишут в советских газетах, «врагу не удалось вывести из себя инспектора таможенной службы, границы Советского государства охраняют выдержанные и тренированные офицеры». Опытная рука снова аккуратно, без аффектации вспорола днище, крышку и стенки роскошного кожаного чемодана.
Однако и здесь не было ни-че-го.
– Следующий чемодан!
В следующем – третьем – чемодане была та же потайная пустота, прикрытая лишь двумя парами потертых джинсов.
– Следующий!..
Нужно ли рассказывать, как, позеленев от злости, они изрезали в клочья все шесть его чемоданов и буквально разрубили на куски его пресловутый черный «атташе»? Нужно ли говорить, что они обыскали его самого, просветили рентгеном и провели через унизительную процедуру проверки анального отверстия? И нужно ли говорить, что, кроме 90 долларов, которые эмигрантам разрешено легально купить в банке в обмен на 136 советских рублей, они не нашли в его карманах, в его зубах и даже в анальном отверстии абсолютно ничего ценного?
– Можете взять свои вещи!
Он собрал с пола свои рубашки, трусы и две пары джинсов, свернул одну рубашку и пару джинсов, а все остальные вещи бросил в урну и, обмахиваясь от жары австрийской визой, пошел на второй этаж аэровокзала, на паспортный контроль.
Здесь, уже перед выходом на посадку, офицеры КГБ остановили его:
– Одну минутку, Раппопорт!
– Простите?
– Где валюта?
– Вот… Вы же видели… – Он вытащил из кармана жалкую пачку – 90 долларов.
– Не морочьте голову! Вы знаете, о какой валюте мы говорим! Смотрите! – И они протянули Раппопорту несколько больших черно-белых фотографий, на которых Максим был снят в моменты приобретения валюты у фарцовщиков в Москве, Ленинграде, Риге и Одессе. – Итак! Или вы скажете, где эта валюта, или мы снимем вас с рейса!
– Ах, эта валюта! Вот вы что искали! – воскликнул Раппопорт. – Но, дорогие, вы бы так и сказали с самого начала! А то изрезали такие прекрасные чемоданы! И с чем я поеду? Стыдно в Вене выйти из самолета!
– Не валяйте дурака! Ну!
Глубокая печаль легла на носатое лицо Максима Раппопорта.
– Разве вы не знаете, что случилось, товарищи? – сказал он. – Эти жулики надули меня. Ужасно, страшно надули! Они подсунули мне фальшивые стодолларовые купюры! Я собирал их по всей стране! Я так старался – вы же видите! – Он кивнул на уличающие его фотографии. – И что? Боже мой, вчера ночью я чуть не получил инфаркт! Я показал эти гребаные деньги американским и австралийским дипломатам, и они тут же сказали, что все мои деньги – туфта! Подделка! Даже нигериец понял это с первого взгляда! И я их сжег. А что мне оставалось делать? Я сжег их в камине. Позвоните вашим людям, они, наверно, уже сидят в моей квартире, и попросите их пошуровать в камине как следует. Эти фальшивые деньги плохо горят, и, я думаю, там еще можно найти какие-то клочки…
Но им не нужно было звонить в бывшую квартиру Раппопорта, они уже разговаривали со своими коллегами, которые помчались на Фрунзенскую набережную, как только оказалось, что и третий чемодан Раппопорта пуст. И эти коллеги уже сказали им, что в камине среди груды пепла они нашли 649 несгоревших клочков американских стодолларовых купюр. «Он сжег миллион долларов!» – кричали они в телефон.
– Что же делать, дорогие мои? – грустно сказал Максим Раппопорт окружившим его офицерам КГБ. – Как говорил мой папа Раппопорт, с деньгами нужно расставаться легко. Даже с миллионом. «Даже миллион, – говорил мой папа, – не стоит буквы «п» в нашей фамилии». Я могу идти?
Они молчали.
Раппопорт пожал плечами и пошел на посадку в самолет, все так же обмахиваясь австрийской визой и держа под мышкой сверток с джинсами и рубашкой.
Они смотрели ему вслед до самого конца, до отлета его самолета.
А назавтра эксперты КГБ доложили, что спектральный и химический анализы обгоревших клочков стодолларовых купюр, найденных в камине Максима Раппопорта, показали совершенно определенно: это были настоящие, подлинные американские деньги! Но даже и в этот день они еще не поняли, что же случилось. Неужели Раппопорт сам, своими руками сжег миллион долларов?
И только через неделю, ночью, говорит легенда, один из этих гэбэшников, самый главный, проснулся в холодном поту оттого, что во сне, в ужасном, кошмарном сне, он вдруг увидел, как обвел их Раппопорт. Он действительно сжег миллион долларов – десять тысяч стодолларовых купюр! Он сжег их на глазах трех американских и двух австралийских дипломатов. Но до этого каждый из дипломатов получил от Раппопорта микропленки с фотографиями этих купюр, а также перечень их номеров. И они сами, своими глазами сверили эти номера с оригиналами. А потом составили акт об уничтожении этих денег путем сожжения. И сфотографировали это сожжение своими фотокамерами «Canon».
А там, в США, на основании этих документов, заверенных представителями двух посольств, американский федеральный банк выдаст Раппопорту ровно миллион долларов – взамен уничтоженных.
Конечно, КГБ бросился искать тех иностранных дипломатов, которые были на «отвальной» Раппопорта. Но оказалось, что они – все пятеро – улетели из Москвы одновременно с Раппопортом – 17 июля 1977 года.
Впрочем, эти детали молва могла и переврать для пущей красоты легенды. Однако все рассказчики этой нашумевшей в Москве истории неизменно заключали ее одной фразой: КГБ, говорили они, играл против Раппопорта уверенно, как Карпов. А он переиграл их, как Раппопорт с тремя «п».
Теперь, сидя на скамейке у памятника Пушкину, Анна гадала, почему Максим не сказал ей тогда о том, что их ведут? Неужели весь этот их молниеносный роман нужен был ему только для отвода гэбэшных глаз? Нет, это не так, иначе бы он держал ее при себе до последнего дня. А он, наоборот, оттолкнул ее от себя, вывел из-под слежки. Но и – забыл. Два месяца назад кто-то из «доброжелателей» сказал ей, что Максим в Бостоне и что с ним «все в ажуре». Но за все время с момента отъезда он ни разу не позвонил ей, не написал…
«Впрочем, к черту этого Раппопорта!» – горько сказала себе Анна, выкуривая третью, наверно, сигарету. Она должна думать о себе. Да, она скрыла от мужа свой роман с Максимом. Это было нечестно, отвратительно и вдвойне несправедливо по отношению к Аркадию. Пять лет назад, в самый жуткий, самый отчаянный момент ее жизни, когда она была на грани черт-те чего – самоубийства, безумия, блядства, алкоголизма, Аркадий подобрал ее, оставленную мужем и отвергнутую отцом, привел в свою запущенную холостяцкую квартиру и сказал: «Живи здесь. Закончишь университет, подарю собаку».
Но собаку – золотого эрдельтерьера из какого-то военного спецпитомника – он подарил ей куда раньше, вместе с обручальным кольцом, а когда она окончила университет, он вручил ей ключи от новеньких «Жигулей». Казалось бы, что еще нужно женщине? Муж – директор института, доктор наук, лауреат Государственной премии, работа – в самой престижной адвокатуре Москвы, квартира в центре города, машина – последняя модель «Жигулей», и даже собака – чистейший золотой терьер! Но оказывается, кроме всех земных благ, женщине в тридцать лет нужно еще что-то. А точнее, любовь – как ни банально это звучит. И не то чтобы Аркадий не любил ее, отнюдь! Он любил ее, но – словно издалека. Во-первых, он неделями, а порой и месяцами пропадал в своем закрытом и сверхсекретном институте в Черноголовке, в двух часах езды от Москвы. А во-вторых, даже когда он приезжал в Москву или она ездила к нему в Черноголовку, он все равно отсутствовал, он мог сутками сидеть за столом за своими расчетами, не видя и не слыша ее и не обращая на нее никакого внимания! И даже в постели – она ощущала это, – даже в самые интимные моменты он не был с ней полностью, всей своей душой и сутью. А одновременно обитал в каком-то ином измерении – в своих заумных экспериментах, формулах, математических и физических теориях и гипотезах. Его мозг даже в самые святые для женщины минуты соития продолжал работать черт знает над чем, и это расхолаживало Анну, выключало в ее душе и теле какие-то главные эротические центры и не давало этому телу свободы обратиться в орган или, точнее, в органолу и взмыть над постелью в бетховенском крещендо.
Иными словами, Анна была, как говорят, при муже и видела, что ему нравится иметь такую молодую, красивую жену, ходить с ней в гости в Дом ученых или приглашать к ним кучу знакомых физиков, и он готов был – в свободное от работы время – баловать ее нарядами и цветами, но даже и в этих нечастых совместных развлечениях она была при нем, а не он при ней, и рано или поздно какой-то Раппопорт должен был возникнуть в ее жизни, как Вронский возник когда-то у Анны Карениной, ее тезки. И вся нереализованная чувственность и эротическое безумие, которые в жизни с Аркадием сдерживались в ней плотиной его отстраненности, обрушились теперь на этого Раппопорта и сводили их обоих с ума на черноморских пляжах какой-то взаимной ненасытной сексуальной жаждой, но… В отличие от Вронского Раппопорт улетел за границу один, без Анны. Оставив ее словно зависшей над самым мучительным вопросом женского бытия: что делать со своей жаждой любви? Биологические часы, заложенные Богом в душу и кровь каждой женщины, все громче и настойчивей напоминали, что ей уже тридцать два (тридцать два!!!)…
Иосиф Рубинчик, командировка в Киев
Рубинчик впервые летел в Киев. При его репутации одного из лучших журналистов газеты он уже давно сам выбирал себе и темы, и адреса командировок и легко избегал поездок в национальные республики, где, по его мнению, шансы встретить истинно русскую диву были равны нулю или близки к этому. Но отказаться от поездки в украинскую столицу на сей раз было невозможно – прочитав в газете статью о жизни мирнинских алмазодобытчиков, сто сорок киевских ткачих прислали в редакцию коллективное письмо-приглашение журналисту И. Рубину посетить их ткацкую фабрику «Заря коммунизма», а также их общежитие, клуб и столовую. Не сомневаясь, что все перечисленные в письме «прелести» труда и быта ткачих – сущая правда (ткацкие цеха, запыленные отходами пряжи до такой степени, что астма и туберкулез легких гарантированы после пяти лет работы; грязное общежитие, в котором женщины живут по шесть человек в комнатах, рассчитанных на двоих; фабричная столовая, где повара разворовывают все вплоть до соли и т. п.), Рубинчик сказал главному редактору своей газеты, что это письмо нужно переслать в ВЦСПС, или в ЦК КП Украины, или, на худой конец, Валентине Терешковой, председателю Комитета советских женщин. Однако главный покачал головой:
– За славу нужно платить, старик. Мы «Рабочая газета», и если рабочие просят Рубина, они получат Рубина, даже если бы ты в это время собирался в Париж.
– Но цензура обязательно зарежет все, что они тут пишут!
– Я знаю. Ты можешь не писать статью, но лететь придется. И потом, я не понимаю – сто сорок женщин тебя хотят! О чем тут еще говорить?
Рубинчик вздохнул и выписал себе командировку на два дня. Терять в Киеве больше двух суток он не собирался. И раз уж ему придется отбыть там эти двое суток, он выкроит пару часов на Софийский собор и Бабий Яр…
– Извините, вы будете завтракать?
Рубинчик отвлекся от опубликованного на первой странице его «Рабочей газеты» сообщения о награждении Брежнева, Косыгина и Громыко высшими наградами перуанских коммунистов – Золотыми крестами «Солнце Перу». И обомлел от изумления: чудо природы, аленький цветочек еще незрелой женственности, Аленушка из старых русских сказок стояла перед ним в голубой униформе «Аэрофлота» с подносом в руках. Тонкая шейка, наивно распахнутые зеленые глазки, кукурузно-спелая коса на чудной головке и маленькие, как кулачки, грудки чуть топорщат аэрофлотский китель.
– Буду! – тут же сказал он, хотя завтракал всего два часа назад. И заглянул ей в глаза. – Как вас зовут?
– Наташа, – зарделась она, подавая ему стандартный набор аэрофлотского завтрака: бутерброд с сервелатом, печенье и яблоко. И была в ее наивном смущении такая схожесть с сибирской стюардессой, которая угощала его завтраком по дороге из Мирного, что Рубинчик невольно оглянулся – нет ли позади него тех же гэбэшников? Но никаких гэбэшников, конечно, не было. Правда, в разных концах салона пассажиры нетерпеливо тянули к ней руки с пустыми стаканами, но Наташа не спешила к ним, спросила у Рубинчика:
– Вам чай или кофе?
– Чай, пожалуйста, – улыбнулся он. – А вы давно летаете?
– Нет. Это мой первый полет. Извините, я должна бежать.
И она ушла-убежала, поскольку со всех концов салона уже неслось нетерпеливое:
– Наташа, можно вас на минутку?
– Натуля, мне бы чаю!
– Девушка!
– Наташа, вы про меня забыли!
– Просто ужас, какие все голодные! – спустя пару минут простодушно пожаловалась Наташа Рубинчику, наливая ему чай в стакан с подстаканником.
– Ага! – сказал вместо Рубинчика его пожилой сосед – инвалид с орденскими колодками фронтовых наград на пиджаке. – Особенно на стюардесс!
Салон расхохотался – этим утренним рейсом летела в основном командированная публика – «толкачи», партработники, инженеры и армейские офицеры.
Но, как ни странно, из всей этой мужской гвардии Наташа определенно выделяла Рубинчика, останавливаясь возле него и предлагая ему то еще чаю, то печенье, то яблоко.
– Поздравляю! – сказал сосед-инвалид. – Клюет рыбка!
Рубинчик и сам видел, что клюет, и мощный выброс адреналина уже взвеселил его кровь, распрямил плечи и наполнил взгляд самоуверенной дерзостью. Черт возьми, а ведь прав был русский религиозный философ, сказав: «Есть какое-то загадочное и совершенно удивительное тяготение еврейства к русской душе и встречное влечение русской души к евреям». И не зря еще в Х веке киевские князья взимали штрафы в десять гривен с русских мужчин, которые не могли удержать своих жен от тайных визитов в еврейский квартал. Вот и сейчас – что заставило эту зеленоглазую русскую ромашку выделить его из сорока пассажиров и спросить у него как бы ненароком:
– Вы в Киев в командировку или домой?
– В командировку. А вы из киевского авиаотряда или московского?
– Московского. Но мы в Киеве сутки стоим.
– В какой гостинице?
– Еще не знаю. Нам в Киеве скажут.
– Хотите вечером пойти в театр?
– Я по-украински не понимаю.
– А погулять по Крещатику?
Она смущенно пожала плечами, но он уже уверенно написал в блокноте телефон киевского собкора «Рабочей газеты», вырвал листок и протянул ей:
– Держите. В пять часов буду ждать вашего звонка. – И заглянул ей в глаза.
И снова, как всегда в такие святые моменты его встреч с русскими дивами, и эта душа открылась навстречу его пронзительному взгляду.
– Спасибо… – почти неслышно произнесли ее маленькие детские губки, но зеленые глаза вдруг осветились каким-то внутренним жаром, вобрали его в себя целиком, окунули в свою бездонную глубину и там, в волшебно-таинственной глубине ее еще спящей женственности, вдруг омыли его жаркими гейзерами неги, страсти, оргазма.
Это длилось недолго, может быть, одно короткое мгновение, а потом Наташа, словно испугавшись своего внутреннего импульса, смущенно отвернулась и быстро ушла по проходу на своих кегельных ножках. Но и вынырнув из этого наваждения и омута, Рубинчик почувствовал, как у него вдруг ослабли ноги, перехватило дыхание и громко, как скачущая конница, застучало сердце.
