Все цвета моей жизни
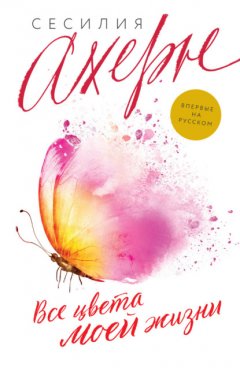
Cecelia Ahern
In a Thousand Different Ways
Впервые опубликовано на английском языке HarperCollinsPublishers в 2023 г.
В книге имеются упоминания социальных сетей Facebook (Фейсбук) и Instagram (Инстаграм). Деятельность американской транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов – социальных сетей Facebook и Instagram запрещена на территории Российской Федерации.
© Greenlight Go Ltd 2023
© Barry McCall, фотография автора на обложке
© Камышникова Т. В., перевод на русский язык, 2023
© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2023
Издательство Иностранка®
Зеленый
Я мерно шагаю под стук несъеденного яблока, которое перекатывается из стороны в сторону в коробке для завтрака. Пум-пум, пум-пум… Оно у меня в сумке с понедельника, с ним мой завтрак выглядит так образцово – только оно бьется там уже с неделю, и с каждым днем на нем появляется все больше пятен, похожих на синяки. Олли, мой младший брат, тащится рядом, опустив голову, и иногда пинает камешки, которые осмелились оказаться у него на пути. Вот уже виден наш дом, и я замедляю шаг; по утрам до школы идти далеко-далеко, а после обеда, из школы домой, – как-то не очень.
Я пристально смотрю на окно ее спальни. Шторы небрежно провисают, кое-где зажимы не держатся на кольцах, и от этого сверху как будто зияют огромные дыры. Вот у наших соседей, Гангали, шторы раздвижные, просто шикарные; такие рисуешь в детстве, представляя, как должен выглядеть настоящий дом. Их палисадник – это аккуратный газон с миленькими яркими цветочками по периметру; и красная калитка так хорошо сочетается с цветом оконных рам. Не то что у нас.
Наш газон давно пора подстричь; трава уже перерастает садовую ограду, как будто отчаянно хочет узнать, что там, за ней, а может, даже сбежать. Впрочем, этими травяными джунглями хотя бы отчасти скрыты переполненные баки. Раньше-то за этим следил папа – и за травой, и за мусором.
Я наотмашь открываю нашу шаткую, скрипучую калитку и иду мимо вонючих баков к зеленой двери с медными цифрами 47 на ней – номером нашего дома. Семерка висит кривовато. Беру теплую бутылку молока со ступеньки, заношу в дом. Уже почти три часа дня, но у нас тихо, темно, с утра не выветрился тяжелый дух. На кухонном столе красуется просыпанный сахар, глубокие тарелки сгрудились в мойке, разбухшие кукурузные хлопья плавают в желтых лужицах сладкого молока. Стулья в беспорядке стоят вокруг стола: как все было в полдевятого утра, так и осталось.
Олли швыряет портфель на пол и опускается на колени у ящика, где лежат игрушки: сломанные машинки без колес – ими играл еще мой старший брат Хью – и мои куклы-калеки, потерявшие кто голову, кто руку или ногу. Он тут же начинает возиться со своими солдатиками и борцами, что-то бубнит себе под нос – разгорается прерванная утром битва. Я не знаю других детей, которые шепчут, когда играют, а он мало говорит, но все время будто чего-то ждет, как трава и мусорные баки: одна тихо растет, другие тихо переполняются.
Я ставлю свой портфель к стулу рядом с кухонным столом, где буду делать уроки. Протираю стол, соскребаю с тарелок намертво приставшие к ним хлопья, ставлю тарелки в посудомойку. Раздвигаю шторы; в свете пасмурного дня видно, как в воздухе плавают пылинки. Смотрю на них и чутко слушаю тишину. Скоро придет Хью. Он старше, и у него уроки заканчиваются в четыре часа. Когда он дома, то все всегда в порядке. Но пока его нет. В виске у меня тикает, будто морзянкой передают какое-то сообщение. И вроде все как обычно, но все-таки что-то не так.
Я робко смотрю наверх: боюсь того, что там. Коричневый ковер на верхней ступеньке нашей лестницы кажется мне зеленым. Отсюда он похож на болотный туман, тихо висящий над ступенями. Я принюхиваюсь – не дым ли, но нет, ничем вроде бы не пахнет. Я встаю на нижнюю ступеньку, и зеленое облако медленно начинает ползти вниз. Олли бросает игру, он уставился на меня. У нас неписаное правило: она спит – мы наверх ни ногой.
– Иди погуляй, – говорю я.
Он слушается, а я сломя голову бросаюсь в зеленое, так быстро, что оно клубится вокруг меня. Зеленое ползет из-под двери ее комнаты, как будто там работает мощная дымовая пушка. Сердце бешено колотится, когда я кладу руку на ручку. Не любит она, чтобы ее беспокоили. Сон у нее плохой, так что если уж засыпает, будить ее не смей. Пока она спит, радуешься, но такое счастье выпадает не каждый день.
Я толчком открываю дверь. Вся комната залита мутно-зеленым светом. Даже глазам больно. Я оглядываюсь кругом, ищу, что это светит, – может, какой-то новый прибор, который помогает засыпать, – но не могу ничего найти, и вообще этот свет не успокаивает. Зелень какая-то густая, я просто вязну в ней, да к тому же еще и холодная. Мне становится так грустно, так одиноко, пусто и сумрачно на душе, что я готова вот прямо здесь сдаться, лечь ничком и умереть.
Я вижу, как она свернулась под одеялом; лежит на боку, лицом к зашторенному окну; там, где зажимы сорвались с колец и шторы провисли, образовались как бы кармашки, и сквозь них пробивается серый свет дня. Я тихо обхожу кровать; ее лицо закрывают нечесаные, давно не мытые волосы. Дрожащими руками я осторожно убираю их с лица.
– Служба 999. Что у вас произошло? Говорите.
– Она зеленая. Она… она… она зеленая…
– Представьтесь, пожалуйста!
– Руки… лицо… все зеле-о-ное…
– Девочка, как тебя зовут?
– Элис Келли.
– Элис, где ты живешь?
– Она зеленая, вся-вся зеленая…
– Элис, милая, скажи свой адрес.
– Брайарсвуд-роуд, Финглас. Дом сорок семь, семерка криво висит.
– Отправляю к вам скорую. Элис, а кто зеленая, скажи, пожалуйста?
– Лили Келли.
– Мама?
– Угу.
– Ты сейчас рядом с ней?
Я отрицательно трясу головой.
– Элис, ты с мамой сейчас?
Снова трясу головой.
– Элис, ты сейчас с мамой?
– Нет.
– Я тебя попрошу – подойди к ней, пожалуйста.
Я трясу головой.
– Элис, сколько тебе лет?
– Восемь.
– Понятно… Элис, с твоей мамой что-то случилось?
– Не знаю, я только сейчас пришла из школы.
– А мама где?
– В кровати. Она зеленая.
– Элис, я тебя попрошу – подойди к маме, пожалуйста.
Я последний раз трясу головой и кладу трубку.
В нашу дверь громко стучат. Двинуться не могу. Меня бьет дрожь. Я опускаю голову, кладу подбородок на колени, обнимаю ноги руками. Несколько раз звонят в звонок. Снова стучат в дверь, а потом я слышу, как по лестнице кто-то поднимается. Дверь моей комнаты приоткрывается, я замираю, становится тихо, и они отходят. Идут к соседней комнате. Ее комнате.
Стук в дверь, шаги.
И…
Крик. Это она?
Я затыкаю уши, крепко зажмуриваю глаза, еще сильнее утыкаюсь лицом в колени. От пятен на них еще пахнет травой – это Хаджра меня толкнул на спортплощадке, когда мы играли в регби. Я вдыхаю этот запах, дрожу всем телом, грудная клетка стиснута, и воздуха не хватает. Крик затихает, на лестнице слышатся голоса – мужской и женский. Говорят громко. Я сижу тихо-тихо. Потом кто-то из них – не разберу кто – что-то негромко произносит и идет сюда, наверх, а кто-то спускается вниз. Кажется, что это тянется уже долго-долго; я никогда не любила играть в прятки, всегда хотелось побыстрее домчаться до туалета, чтобы пописать. Вот и сейчас мочевой пузырь едва не лопается. Кто-то поднимается по лестнице и открывает дверь моей комнаты.
– Элис! – произносит женщина. В ее голосе нет злости. – Элис, ты здесь?
И делает шаг в комнату.
– Меня зовут Луиза, я сотрудник скорой. Ты нас вызывала.
Двигаться не могу. Боюсь: раз она открыла дверь, зеленое доберется и до меня, оно ведь, наверное, уже во всем доме. Я сняла туфли, чтобы оно меня не запачкало, но, когда я дотронулась до волос лежащей в кровати, на руке что-то осталось. Я вытягиваю руку, чтобы не касаться тела, как делают, когда капает кровь. Я не хочу что-нибудь случайно измазать, но, раз эта женщина со скорой, она, наверное, поможет.
– Я в шкафу! – отзываюсь я.
Дверца открывается, и на меня льется дневной свет.
Ко мне склоняется ласковое лицо. Она в чем-то зеленом и люминесцентно-желтом.
– Ну, здравствуй!
Я сконфуженно оглядываю комнату. Я успела навоображать себе, что зеленое растеклось по всему дому, как горячая лава. Я радовалась, что Олли нет дома. Но ничего зеленого я не вижу.
– Здрасте…
– Может, выйдешь? Мама из-за тебя переволновалась. С ней все в порядке, она только испугалась, когда увидела нас у себя в комнате. Вот поэтому и закричала. Мы ее разбудили. А зачем ты нам позвонила?
– Зеленое… – смущенно произношу я.
– Зеленое?
Смотрю на свою руку. Она думает, что я протягиваю руку ей, и берет ее в свою. Теперь зеленое и на ней, но она его даже не замечает.
– Выходи-ка, поговори со мной, – произносит она и помогает мне выбраться из шкафа. Мы садимся на кровать. – Давай-ка накроемся…
Она приподнимает с кровати мое пуховое одеяло и набрасывает его мне на плечи.
– Олли молодчина, он внизу, борется с Томом, моим напарником. Вернее, не борется, а пинает в зад, – произносит она с улыбкой.
Мне становится немного легче.
– Мама сказала, что ночью плохо спала, вот и прилегла, когда ты ушла в школу. Она и не слышала, как ты вернулась.
Я слышу, как внизу она громко и сердито выступает. Снова становится страшно, но уже по другой причине. Кто ты такой, чего тебе надо… Луиза смотрит на дверь и тоже прислушивается.
– А папа ваш где? На работе?
Я пожимаю плечами.
– Не знаешь?
– Он с нами не живет. Мы не видимся.
– И ты каждый день ходишь из школы одна?
– С Олли. Забираю его, и идем вместе.
– Умница. А мама дома вас ждет?
Киваю. Ждет иногда.
Еще один взгляд в сторону двери – так, проверить, – но нам все равно понятно, что ее здесь нет, потому что вопли доносятся снизу. Томми достается не только от потешной борьбы.
– Что, мама по ночам плохо спит?
Я передергиваю плечами.
– Поэтому и ложится днем подремать?
Киваю.
– И ты за нее переволновалась, да?
– Она была зеленая.
– Ага… – И тут до нее, кажется, доходит. – Когда папа от вас ушел?
– Не очень давно.
– Значит, у нее тоска зеленая, потому что папа ушел, – тихо произносит она.
Это не вопрос, а значит, отвечать не нужно. Она такая не потому, что он ушел; он ушел потому, что она такая. Он сказал, что больше не может с ней жить, что ей лечиться надо. Но вслух я этого не говорю.
– Ты правильно сделала, что нам позвонила.
Ничего не правильно. Когда Луиза сводит меня вниз, на лице у Лили написано, что сейчас мне влетит. Мне не хочется, чтобы они уезжали, пока она так на меня злится, но все-таки они уезжают, машут на прощание и увозят свои оживленные, веселые голоса и мой покой. Вот бы сейчас в дверях появился Хью; но, может, у него после школы футбол, а это значит, что он будет только после ужина, через несколько часов.
Лили смотрит из окна, как уезжает скорая, и сильно затягивает пояс на своем махровом халате, будто хочет перерезать себя надвое. Как только машина скрывается из виду, а соседи перестают глазеть, она разворачивается, подходит ко мне и лупит по голове.
Когда я спускаюсь вниз, Хью и Олли уже завтракают. После вчерашней драмы сил совсем не осталось, и спала я долго. Я и теперь еще окончательно не проснулась. Приостанавливаюсь на нижней ступеньке лестницы.
Хью и Олли окружают цвета.
– Ты чего? – дожевывая поджаренный хлеб, неразборчиво спрашивает Хью и ставит ногу на стул, чтобы зашнуровать ботинок.
К горлу вдруг подкатывает ком и не дает дышать. Потом раз – и все проходит.
– Опять зеленое?
Качаю головой – нет, мол. Ему я сказала, что вчера видела этот цвет в ее комнате. Он не посмеялся и не обозвал меня чокнутой, выслушал очень серьезно, но промолчал.
– Тогда что?
– Ничего.
Брат бросает на меня взгляд и опять начинает возиться со шнурками.
– Хлеб будешь? – спрашивает он.
– Угу.
Заставляю себя есть, сердце колотится, не хочется смотреть ни на того, ни на другого, но никак не получается отвести от них глаза. Смотрю внимательно, как будто в первый раз вижу, что в нашей серой кухне светятся два экзотических создания.
Она в кухне с двумя женщинами из службы социальной поддержки, которые неожиданно пришли к нам. Хью, Олли, я и соседка, миссис Гангали, та самая, у которой опрятный садик и шикарные шторы, сидим в большой комнате, где у нас телевизор. Двойная дверь в кухню закрыта, но нам немножко слышны голоса, а через матовые стекла дверей видны и фигуры, похожие на расплывчатые пятна. Я слышу слова, но не понимаю, о чем речь. Говорят взрослые; те же слова, только в другом порядке.
– Сами им позвонили? – любопытствует миссис Гангали.
– Нет. Элис тут на днях вызывала скорую. – Находчивый Хью, как всегда, приходит мне на выручку. – Ей показалось, что мама заболела. А они, по-моему, пришли проверить, все ли в порядке.
Миссис Гангали, прищурив глаза, оценивает новую информацию и произносит:
– С ними лучше не связываться. Вот не понравится им что-нибудь, так вас сразу от нее заберут. Отдадут в разные семьи и отправят по разным домам.
Олли бросает взгляд снизу, с пола, и его игрушечные борцы замирают посреди атаки.
Не знаю, почему она так злится. Может, потому, что заставили сидеть с нами, а у нее на плите стоит курица бирьяни, ведь сегодня же праздник бирьяни, и миссис Гангали нужно сходить посмотреть, как бы ничего не подгорело, а то она сильно расстроится. Соседка зашла только для того, чтобы сделать нам выговор за вонючие мусорные баки и неухоженную траву, и как раз, когда они с Лили ругались, приехали женщины из соцзащиты и попросили миссис Гангали побыть с нами, пока они поговорят с Лили. Мистер Гангали хороший человек, а у миссис Гангали лицо всегда перекошенное, сердитое, как будто она никому не верит.
В испуге смотрю на Хью. Я вовсе не против, чтобы меня забрали от Лили, но не хочу, чтобы нас с ним разлучали. Ведь, если такое случится, я буду виновата, что вызвала скорую.
– Не переживай, никто нас не разлучит, – весело говорит Хью и подмигивает мне.
В кухне Лили срывается на крик, и миссис Гангали прибавляет звук: по телевизору идет очередная серия «Жителей Ист-Энда». Мне теперь не слышно, что говорят, ну и ладно: значит, миссис Гангали тоже не слышит, о чем переговариваемся мы с Хью. А он спрашивает:
– Ты видишь вокруг нее зеленое с понедельника?
Киваю и принимаюсь разглядывать ботинки: оказывается, у них очень интересные шнурки. Я еле нахожу силы смотреть на нее, а уж находиться с ней в одной комнате совсем не могу. Новое не это, а совсем другое: когда я оказываюсь слишком близко к цвету, который ее окружает, становится как-то не по себе, и мне это совсем не нравится.
– Почему не сказала?
Пожимаю плечами.
– А вокруг меня зеленое видишь? – не отстает он.
Я качаю головой и говорю:
– Нет, не зеленое.
Он спрашивал в шутку и теперь удивляется:
– Да ладно… И какого же я цвета?
Я не боюсь разглядывать его, изучать его цвет. Он, этот цвет, меня не пугает, не липнет ко мне, не тащится за мной по всей комнате, как ее: тот-то похож на большую сеть, которая так и норовит поймать, затянуть меня.
– Розового, – отвечаю я.
– Розового?! – переспрашивает он и морщит нос.
Олли – я и не думала, что он слушает, – хохочет.
– Ну да, Олли, розовый, блин, девчачий, – говорит Хью, и Олли смеется. Смех его слышится очень редко, он все время хмурый, серьезный, только Хью и может его развеселить.
Из кухни слышится скрип стульев: они встают и то, что там происходит, заканчивается.
– Теперь, похоже, захотят с нами поговорить, – говорит Хью с видом чуть более серьезным, чем обычно. – Им, наверное, про цвет лучше ни слова.
Поначалу такое бывает только с теми, с кем я живу, и каждое утро я думаю, какие цвета меня сегодня встретят. У Хью обычно ничего не меняется: он окружен теплой розовой дымкой. Наподобие сигаретного дыма, который еще долго висит в воздухе после того, как она покурит. Его цвет спокойный, легкий, радостный, заботливый, сопутствует разным частям его тела и следует за ним, повторяя все движения, как будто притягивается магнитом.
Иногда, когда я преодолеваю страх перед тем, что со мной происходит, я вижу, как это красиво. Похоже на розовый закат или восход.
Хью замечает, что я разглядываю его.
– Сейчас какой? – весело, без раздражения, спрашивает он.
– Опять розовый.
Он улыбается; его это всегда забавляет.
– Ты мне скажи, когда какой-нибудь крутой, сильный появится, ну там черный, или синий, или хоть… – он ненадолго задумывается, – красный.
Он напрягает мускулы и замирает так, что лицо его багровеет, а на шее чуть не лопается вена.
Я улыбаюсь, но мне не хочется, чтобы он был какого-нибудь из этих цветов. Розовый подходит ему – и непонятно как, но благодаря его цвету оттенок Лили кажется не таким болезненным и злым; так в рекламе по телевизору белая таблетка гасит пламя в красной пылающей груди. Его цвет гасит любое пламя.
– А Олли такой же? – спрашивает Хью.
Смотрю на Олли. Он сидит за кухонным столом, упорно играет в своих солдатиков, перед ним в миске шоколадные шарики, голова встрепанная, глаза сонные. Отвечать не хочется, и я просто трясу головой.
Его цвет почти всегда такой же, как у нее. Она его передает.
– Аура мигрени… – читает Хью у себя в компьютере. – У тебя бывает мигрень?
– Мигрень – это что?
– Это когда голова сильно болит.
Я киваю:
– Ага, все время теперь.
С тех пор как появились цвета, не стало такого дня, чтобы голова у меня не болела. Хочется уйти к себе в комнату, задернуть шторы и лежать в темноте, но я так не делаю, потому что не хочу быть такой, как она.
– Это периодическая головная боль, появляющаяся после или одновременно с сенсорными расстройствами под названием «аура»: вспышками света, слепыми пятнами, зигзагообразными линиями, которые появляются в поле зрения, блестящими точками или звездочками, подергиванием руки или лица. Знакомо?
– Вроде да.
– Это что-то вроде электрической или химической волны, она обрабатывает зрительные сигналы и вызывает эти… ну то, что ты называешь «цвета».
– Угу.
– Тебе бы к неврологу сходить. – Хью прокручивает страницу, читая дальше: – Тебе обследуют глаза, сделают компьютерную томографию головы, а может, МРТ. Тут советуют пить лекарства, избегать стрессовых ситуаций, научиться расслабляться. Спать дольше, питаться лучше. Пить много воды…
– Ну воду-то пить я могу, – отвечаю я.
И мы улыбаемся, хотя ничего смешного в этом нет.
– Вот. – И он, крутнувшись в кресле, оказывается лицом ко мне. – Вот, наверное, что это такое.
Я согласно киваю. Аура мигрени. Наверное…
Я пью уж не знаю сколько стаканов воды, стараюсь промыть организм, как делают при простуде, но, похоже, это не помогает. Наоборот, каждую неделю цвета становятся всё ярче.
Лили говорит, что из-за моей головы к врачу мы не пойдем, и швыряет мне упаковку парацетамола.
Цвета переходят с моей семьи на других людей. Я даже перестаю на них смотреть. Вихрь красок пляшет, кружится, сверкает, цвета мигают, меняя темп и ритм, и я не могу удержать внимание. Меня, бывает, тошнит, случаются головокружения. От яркого, постоянного света болят глаза и голова. Чувство такое, как будто вокруг меня сотни людей, каждый что-то передает по своей радиостанции, и воздух вокруг них шипит, как газировка, а стоит им приблизиться ко мне, в нем будто возникает брешь, и их волны сталкиваются с моими.
Взять хотя бы мою лучшую подругу Эмму. С ней всегда было весело и вообще здорово, ее звонкий смех заражал, но сейчас она меня просто достает. Ее цвета какие-то бешеные, быстрые; желтые вспыхивают, зеленые дергаются, иногда мелькают зигзагами, как молнии, как будто ее обмакнули во что-то ядовитое. А вместе с ее скоростью речи, огромной энергией, стремлением брать верх в играх, в которые мы играем, контролировать и героинь, которых мы изображаем, и что я говорю, и как мы их играем, – это меня просто добивает.
– Ну же, Элис, – говорит она и изо всех сил тянет меня за руку. – Вставай! Пойдем на улицу, поиграем!
– Да мы недавно пришли…
Она что, каждые три минуты в новую игру готова играть? Мне нужно, чтобы она сосредоточилась, нужно, чтобы она была тихой. Мне нужно спокойствие. Мне нужен друг. Но этого я не могу выносить. Я все больше и больше отдаляюсь от нее. Это больно, но мне и правда становится легче, когда она уходит к другим девочкам, а мне удается избежать мучительных дней в обществе сверхактивных, все контролирующих подруг с яркими, навязчивыми цветами, от которых болит голова.
У куста я вижу плотное зелено-черное облако. Иду туда, где оно висит, ногой разгребаю сорняки и вижу умирающую крысу с вывернутой лапой; кровь на ней еще не высохла.
В школу я иду одна. Хью давно уже где-то впереди, с друзьями, а Олли тащится сзади; после того как к нам приходили из социальной службы, он еще больше от меня отдалился. По-моему, он мне не доверяет; он, наверное, думает, что я хочу расколоть семью. Школа превращается в сущий кошмар. Цвета окружают меня всегда и везде, их испускает все живое, что я вижу. В классе рядом со мной тридцать человек. На переменах – сотни. Это еще не считая тех, которые встречаются мне по дороге в школу и обратно. Я, как могу, увиливаю от их цветов. Это сильно выматывает. Цвета очень яркие, беспокойные, и иногда я даже не слышу, что говорят учителя. Сами-то цвета беззвучные, но кажется, что такие громкие, так отвлекают, что мне ничего не слышно. Это как если бы кто-то все время меня перебивал, мешал говорить, настырно и противно барабанил по плечу.
Теперь в школу и обратно я хожу в темных очках. Некоторые ребята сначала дразнятся, но перестают, когда проходит слух, что я особенная и почти ничего не вижу. В конце концов я так привыкаю, что надеваю очки и на улице, когда у нас перерыв на ланч. Цвета не исчезают, но как-то приглушаются, становятся не такими насыщенными. Я сижу в тихом уголке для детей, которым нездоровится, у кого сломана нога или рука или еще что-нибудь не так. А со мной «не так» то, что хочется уйти от всех. От всех и от каждого.
– Элис, перерыв закончился, очки снимаем, кладем в сумку, – обращается ко мне мисс Кроули. Она родом из Корка и говорит, как будто поет. Каждый день на ней какое-нибудь легкое платье в цветочек – их еще называют чайными – и кардиган, а еще большие очки в красной оправе и помада, подходящая по цвету. У нее много разных цветов, может, чтобы хоть как-то подкрасить ту серость, которая ее окружает.
– Не могу, – отвечаю я.
Сегодня я и правда не могу; нет у меня сил снять очки в классе. Голова болит так, что я чувствую пульс в висках. Мне кажется, если бы я посмотрела в зеркало, то увидела бы, как они шевелятся.
– Почему?
– Свет здесь очень яркий.
Кое-кто смеется, но моя оборона от этого не слабеет. День хмурый, серо не только в школе, но и на улице, но от этого цвета люди становятся только ярче, по крайней мере, я лучше их вижу. Она делает круглые глаза, говорит: «Снимаем!»
И идет дальше.
Я сижу в очках. Она пишет на доске, оборачивается, видит меня и забывает, что писала. У нее над головой неожиданно искрит гнев, который появился как бы из ниоткуда. Пока она орет, чтобы я сняла очки, вокруг нее вспыхивает и гаснет яркий металлический красный, почти такой же яркий, как ее помада, похожий на те ловушки для мух, которые стоят в нашей местной кебабной: мухи залетают в них, а ловушки их сначала ослепляют и оглушают, а потом убивают.
Сначала я чувствую Лили, а уже потом вижу и слышу. Она умеет изменять атмосферу – и, в отличие от Хью, не в лучшую сторону. Заслышав, что в замке поворачивается ключ, Олли в волнении вскакивает с кушетки. Он все время волновался, потому что ее не было, когда мы пришли домой. Мы к такому не привыкли, но я довольна, не то что он. Даже не знаю, почему ему так хочется быть рядом с ней.
– Мама, – говорит он и спешит к двери.
Я удивляюсь, как дверь не размазывает его по стене: с такой силой она ее распахивает. А когда захлопывает, кажется, будто сотрясается весь дом. Олли быстро разворачивается и возвращается на кушетку. Я стараюсь сделаться как можно меньше. Может, чем меньше я стану, тем меньше она будет злиться.
– Из-за Хью меня в школу никогда не вызывали, – говорит она и чуть не плюется от злости. – Ни разу в жизни. Тебе одиннадцать лет, а ведешь себя как скотина. Нет у меня времени на это!
Она уже орет, и я держу при себе ответ, который прямо вертится на языке. Времени-то у нее как раз полно, на все хватит. Она никогда ничего не делает; без кушетки, как будто пришитой к спине, ее трудно себе представить. Из-за меня ее уже не первый раз вызывают в школу, и после двух временных исключений пришлось-таки перестать игнорировать письма и притвориться заботливой родительницей.
Красный с металлическим отливом полыхает над ней, когда она орет на меня. Бабах! Еще один разряд. Может, она взяла этот цвет у мисс Кроули и всю обратную дорогу несла на себе? Я смотрю на него как зачарованная и почти не слушаю ее.
Цвета я вижу вот уже три года и успела привыкнуть к ним. Я знаю, что они связаны с настроением людей, хотя как именно, мне до сих пор не совсем понятно. Вот, например, бывает, что вокруг человека появляется какой-нибудь цвет, а ведет он себя не так, как должен бы вести с таким цветом. Тут есть какой-то непонятный мне алгоритм.
Хотя бы миссис Харрис на ресепшене: и улыбается всем, и сияет как солнце, и вся на позитиве, и смеется, и откалывает шуточки, но вот только чуть пониже груди, над животом, у нее висит горчично-желтое облако, верить которому нельзя. То, чем она кажется, и то, что она собой представляет, – две большие разницы. Это крутится у меня в голове, а Лили все орет и орет на меня. Входная дверь открыта нараспашку, а значит, ее слышит вся улица. Что я упряма как осел, что я дура. Что не сдам ни одного экзамена, что из меня ничего не выйдет.
Я не реагирую так, как ей хочется. Не плачу, не извиняюсь, не огрызаюсь. Ей понравилось бы, если бы я втянулась в ее драму, расстроилась и разочаровалась точно так же, как она. Красное вокруг нее темнеет и разрастается – так бывает при огнестрельной ране, когда из нее на белую футболку хлещет кровь. Я не знаю, как сделать так, чтобы такого больше не было: ее нельзя ни проконтролировать, ни предсказать. Ее цвета ведут себя не так, как у Хью: они все время меняются и быстро переходят от холодных синих к горячим, сердитым, красным. И форма у них тоже другая. Вокруг Хью висит спокойная дымка, вокруг нее все извивается и плюется. Красный вихрь движется к Олли, который преспокойно смотрит телевизор, как будто она не психует прямо у нас на глазах. Я никогда не видела, чтобы цвет вел себя как живой и точно искал, к кому бы прилепиться.
– Олли, подвинься! – успеваю предупредить я, прорвавшись сквозь ее ор.
Красное везде. Полыхает как огонь. Мне хочется, чтобы глаза этого не видели. Я закрываю их. Она вопит еще громче, я чувствую, как от нее пышет жаром, открываю глаза, но горячий красный обжигает, как пламя, и я прикрываю их ладонями.
Я слышу, как что-то грохает об пол, убираю ладони и вижу, что она стоит на картонке с яйцами, которую только что принесла из магазина. Она с хрустом топчет ее в лепешку, на лице у нее ярость, вся она перекорежена от злости. Почему я не сняла темные очки в классе, раз меня просили? У всех голова болит, подумаешь, пустяки, перестань напрашиваться на внимание! И, проорав все это, она уходит.
Красный туман ползет за ней, точно шлейф вечернего платья. Маленькое облачко зависает у потолка, как бывает в комнате, где сильно накурено. Оно алчно надвигается на Олли. Я смотрю на него, а у самой колотится сердце. Оно живое, дышит, ищет, из кого бы высосать жизнь. К Олли оно прилепляется моментально. Он резко встает, как будто подброшенный яростью. Восемь лет, а в нем уже столько злости, что весь он жесткий и прямой, точно гладильная доска.
– Ненавижу тебя! – вопит он. Гнев скопился у него в груди и в горле. Он орет не своим голосом и похож сейчас на маленького дьяволенка. – Ты все только портишь!
Он швыряет в меня пультом от телевизора, я никак этого не ожидаю и не успеваю увернуться. Пульт попадает мне в лицо, прямо под глаз. К вечеру наливается синяк противного цвета.
– Это она, что ли? – допытывается Хью, вернувшись домой.
Я трясу головой и отвечаю:
– Нет, случайно получилось.
Я-то думала, что, защищая Олли, научу его доверять мне, но, похоже, легкость, с которой я это делаю, для него бесспорное доказательство, что я вру.
Проснувшись, я вижу, что глаз у меня наполовину заплыл и стал похож на персик, завалявшийся на самом дне моего портфеля. Взволнованной мисс Кроули я заявляю, что у меня мигрень, и в этот день она разрешает мне не снимать темных очков.
– А куплю-ка я кафе на колесах, – произносит Лили; щеки ее пылают, от нее пышет здоровьем, лоб взмок: так усердно она взбивает яйца.
Не знаю, что это за женщина, которая называет себя моей мамой, но мне она нравится. Она прямо бурлит энергией, силой, идеями для бизнеса и надеждами.
– Буду на праздники блинчики печь. Их ведь начинять можно, – объясняет она. – Чем хочешь. Расширишь рынок и денег заработаешь.
У нее на груди и под мышками мокро от пота. Она энергично замешивает уже третью миску жидкого блинного теста.
Один блинчик она жарит для меня, складывает его вчетверо. Он очень тонкий, почти прозрачный. А уж вкусный…
– Начинку разную можно делать, – продолжает она, сдувая волосы с мокрого лба. – Острую, сладкую… Или просто сахарной пудрой посыпать. Банан, карамель, клубника, «Нутелла»… Ну, а острая – это сыр с ветчиной, мексиканская… Попробуй-ка!
Она кладет мне на тарелку еще один блинчик и начинает жарить следующий. Он тоже вкусный, но к четвертому блинчику я чувствую, что наелась. Горка растет на моей тарелке, и я перекладываю блинчики к Олли. А она все взбивает яйца, отмеряет молоко, просеивает муку, подсаливает. Жарит она теперь аж на четырех сковородках, чтобы сделать как можно больше, прикидывает, сколько человек сможет обслужить одновременно, а сколько – за целый день или вечер.
Больше в меня уже не вмещается, и, когда она оборачивается, чтобы положить еще один блинчик на горку тех, которые съесть я уже не могу, я готовлюсь, что сейчас она выйдет из себя, но нет: она без единого слова кладет новый блинчик на предыдущий. Работа кипит: в высокой стопке у меня на тарелке уже восемь штук. До меня быстро доходит, что отвечать совсем не обязательно. И вообще не важно, здесь я или нет. Она говорит, а не разговаривает, строит планы чего-то большого, масштабного, способного изменить жизнь. Мое радостное волнение немножко стихает. Она думает и двигается с одержимостью маньяка; кроме взгляда, почти никакой другой связи с ней нет.
Ее цвета прямо завораживают: глубокие лиловые и темно-синие как будто повторяют ее движения. Они крутятся, смешиваются, все время меняются, как будто болтаются в миске вместе с яйцами, мукой и молоком.
Она составляет список праздников, на которых можно будет развернуться, рассуждает о том, какие фургончики бывают, какой она выберет и что в нем поставит, где его купить и у какого знакомого. Стоимость фургона сравнивается со стоимостью всего, из чего делают блинчики; она подсчитывает, сколько понадобится яиц, сколько весят мука и сахар. И все это сравнивает с тем, какая будет прибыль. Она говорит и говорит со страшной скоростью. Разбивает еще яиц, замешивает еще теста, льет масло на сковороды. На лбу и груди у нее висят капли пота.
Я уже не облизываю тарелки и не пробую блинчики. Полночь, пятница закончилась; Хью ушел на работу, Олли лупит мячом по стенам. Она замешивает очередную порцию теста, открывает еще одну упаковку яиц. Мы с Олли выскальзываем из кухни. У Олли прихватило живот, и он засыпает на кушетке. Я сижу рядом с ним, а она все орудует на кухне, говорит сама с собой, вслух составляет списки. И вдруг эта горячка обрывается так же неожиданно, как началась. Она бросает свои миски и сковородки и в три часа ночи отправляется в постель.
Я надеюсь, что теперь утром она долго не встанет, но ошибаюсь.
Утром в субботу она отправляет нас с Олли в садик позади дома и запирает за нами дверь. Если мы хотим вести себя как скоты, то и обращаться с нами нужно как со скотами, – так она рассуждает. Я бы и не возражала, чтобы она меня отправила на улицу, только сначала дала бы сходить в туалет. Я сажусь на холодную бетонную ступеньку, прислоняюсь спиной к двери, поджимаю ноги, стараясь, чтобы ничего не вытекло.
Олли лупит и лупит футбольным мячом о стену.
– Можно поиграть? – спрашиваю я, чтобы хоть как-то оттянуть момент, когда напущу полные трусы.
– Нельзя. Это из-за тебя все.
Он так думает потому, что она это сказала, а он верит каждому ее слову.
Она громко стыдила меня: какая девочка в одиннадцать лет не соображает, чем помочь! Ее до глубины души оскорбило, что я не убрала за ней кухню. Миски, где она мешала тесто, валяются немытыми в мойке, на венчики налипло тесто, повсюду рассыпаны мука и яичная скорлупа, брызги теста на полу и даже на стенах, как будто здесь произошло массовое убийство блинчиков.
А я и правда хотела убраться в кухне, только потом, попозже. Рано она никогда не встает, особенно по субботам, и особенно после таких ночей, какая выдалась накануне. Я и не думала, что она вообще поднимется с постели. А она поднялась, выползла на лестницу и вышвырнула меня на улицу. Теперь она гремит в кухне, вокруг нее, как в стиральной машине или в сушилке, крутятся красные сполохи, а она бубнит себе под нос, спорит с кем-то воображаемым. Домашние дела всегда ее раздражают. Глажка, как ни мало она ею занимается, выводит ее из себя, красным пышет от нее, как паром. Красный, красный, красный: наш домашний дьявол…
Она швыряет блины прямо в мусорное ведро, и вместе с ними туда же летит ее хитроумный бизнес-план.
Олли берет с собой на улицу ее горячие, красные, сердитые цвета, поэтому я отхожу в сторону, чтобы он разрядился, надеюсь, что легкий ветерок унесет все это подальше. Все идет по нарастающей: ее ненависть становится его ненавистью, ее страхи – его страхами, ее ярость – его яростью. Ее грусть – его грустью. Такое всегда передается ему, и он жадно запихивает все это в себя, до самой последней частички. Ее потеря сегодня – это его очень большая потеря. Вчера вечером она поделилась с ним мечтой, приподняла занавес над тайной, дала ему заглянуть в новую жизнь, в новый мир, где они с мамой разъезжают в своем фургончике по музыкальным фестивалям в приморских городах, жарят блинчики, посыпают их шоколадом, режут клубнику, украшают сливками из баллончика, посыпают тертым сыром, протягивают покупателям, берут у них деньги. Одна из его любимых игр – «в магазин», и в торговле он, наверное, был бы в своей стихии. В свои восемь лет он бы с головой погружался в сладкое волнение, лез бы на стены, справляясь со всеми трудностями, а потом без сил валился бы на кушетку. Он, наверное, мечтал об этом, вскакивал с кровати, с нетерпением ждал, когда можно будет начать. А теперь у него ничего нет, у него все отобрали, безжалостно выбросили в мусорное ведро, потому что женщина, которая была здесь вчера вечером, ускользнула из дома посреди ночи, пока он спал. Я позволяю ему бушевать.
Я с Хью и Олли иду в парк. Олли нравится на игровой площадке, он, кажется, часами может не слезать с каруселей: опустит голову и, глядя на землю, крутится со страшной скоростью. Меня тошнит от одного того, что я на него смотрю. Я рада, что я сейчас с Хью. Рада, что иду рядом с ним; вокруг розовые облачка. Мы не говорим о том, что сегодня утром нас с Олли выставили на улицу, о вчерашней идее с блинами. Что толку… Мы вообще редко говорим о том, что творится дома, потому что это бесполезно. Мы просто радуемся, что вышли, что мы далеко от него. Олли все наматывает круги, опустив голову, волоча одну ногу по земле, и тут мы слышим: «Эй!»
Я поднимаю глаза. К Хью подходит симпатичная, улыбающаяся девушка.
– Привет, – говорит он, и в его голосе слышится что-то новое. – Элис, познакомься, это По. По, а это моя сестра Элис.
Она останавливается рядом с ним, так что ее плечо оказывается в его розовой зоне, как будто на них двоих надет один мохнатый розовый девчачий свитер.
– Я уже все о тебе знаю, школьный воин, – произносит она.
У нее это выходит мило. Почти как комплимент.
– Если она пропустит удар, ее тут же вышибут, – говорит Хью. – Один удар, и все.
Я отвожу глаза, оглядываюсь на Олли, но все время внимательно наблюдаю за Хью и По. Это не случайная встреча: тут все продумано. Они держатся за руки. Потом начинают целоваться. Она немножко стесняется меня, он говорит, чтобы она не переживала – ведь я не смотрю, – и для меня его слова звучат прямым приказом. И тут я замечаю у Хью новый цвет, который уже никогда не смогу забыть. Между ног у него вьется что-то темно-красное, и от этого мне неловко. А потом красное начинает полыхать.
Приходится отводить глаза. Иногда видеть цвета людей – все равно что видеть их голыми.
Я наблюдаю за тем, как мистер и миссис Муни разговаривают на парковке. Он – учитель истории, она – английского. Каждое утро они, муж и жена, вместе приезжают в школу. Вокруг нее все розовое, она милая. Когда она говорит, то посылает ему то розовое, что у нее есть, а сама для себя делает еще больше. Это розовое останавливается рядом с ним, как будто его окружает незримое силовое поле, не позволяющее ничему постороннему проникнуть внутрь. Цвету некуда двигаться, и он повисает в воздухе между ними. Он быстро чмокает ее в щеку и уходит, а она так и остается на парковке, и обратно к ней медленно плывет уже ненужный розовый цвет.
Летом с дядей Иэном, тетей Барбарой и их детьми, моими двоюродными братьями и сестрами, мы на несколько дней едем в Уэксфорд. Я сижу на теплом песке, закапываюсь в него ногами, слушаю, как бьются о берег волны, смотрю на радостных полуголых людей, легких, ярких, без одежды и груза мировых проблем на плечах.
Они вдыхают свет, а выдыхают тьму.
Она с Олли в кухне. Мне слышно, как они смеются. Звук для этого дома очень непривычный, необычный, поэтому я обращаю на него внимание. Это счастье, которому нечего стесняться. Я смотрю на них от двери, не хочу, чтобы она меня заметила, а то вдруг перестанут, и тогда все волшебство пропадет. Они что-то пекут. Но не с маниакальной суетливостью, как блины, нет, – все происходит тихо-мирно.
– Стукни о край и разъедини половинки, – спокойно говорит Лили.
Он разбивает яйцо и вбивает его в тесто. Потом макает в тесто палец и облизывает.
– Ах ты, жулик! – И она тоже макает палец в тесто и капает ему на нос.
Он хихикает.
Оба они розовые-розовые.
Как только цвета возникают вокруг нее, он всасывает их без остатка, тело его, точно пылесос, сосет из нее все, удерживает их вокруг себя, заворачивается, как в одеяло.
У нее бывают минутки доброты, хотя, по сути своей, человек она недобрый. Бывают и моменты заботливости, хотя человек она не заботливый. Одна хорошая минутка с ней не делает ее хорошей матерью, поэтому я никогда ее так не называю.
– Мне тут сказали, ты себе девушку завел, – как-то обращается Лили к Хью, и я вижу, как краснеют кончики ушей Олли: это, значит, он ей разболтал. Хью, наверное, тоже все понял, и, хотя это не бог весть какой секрет, все равно жить гораздо легче, если ничего ей не говоришь, а то она обязательно обернет твои слова против тебя же. – Соседи видели, как вы целовались взасос, говорили, что ты ей чуть голову не отгрыз.
Неправда. Это мне говорит ее кривая ухмылка, а не только цвета.
Хью водружает горку джема на ломтик хлеба, накрывает его другим ломтиком и откусывает добрую половину, не сводя с нее глаз.
– А мне ты когда собирался о ней рассказать?
Он молча показывает пальцем на набитый рот.
– Знакомить боишься? Что, стыдно меня показывать? Или дом, где живешь?
Он качает головой, не переставая жевать.
– Мне нужно посмотреть, что она собой представляет, раз уж твой папаша свалил. Пусть знает, кто в доме хозяин.
Пока она говорит, он откусывает еще один кусок.
– Когда же мы с ней встретимся?
Он глотает, мне интересно, какой будет ответ, но он задумывается. Я прямо вижу, как он все рассчитывает.
– А когда хочешь?
Меня это удивляет. Ее тоже. Она-то явно набивалась на спор. Да и всегда она набивается на спор, готовая отразить воображаемые атаки, а когда их нет, сразу попадает в тупик.
– Подумать надо, – все же не сдается она.
– Когда тебе будет удобно, – отвечает он.
– Как зовут?
– По.
– По? – переспрашивает она с кривой ухмылкой. – Она что, телепузик?
Раскаленная докрасна металлическая полоса проносится по груди Хью и исчезает.
– Я так и знал, что ты это скажешь, – произносит он с улыбкой.
Это снова отправляет ее в нокаут. В общем-то ясно, чем она может оскорбить. Поэтому его не собьешь: каждым своим ответом он окатывает ее, как ведром холодной воды. Я прямо слышу, как она шипит.
В рот отправляется последний кусок, и готово дело: как и положено мужчине, он покончил с бутербродом в три захода. Потом вынимает свои конспекты и раскладывает на кухонном столе.
– Скажешь мне, когда захочешь с ней познакомиться.
День она ему так и не называет, конечно. Это у Хью тактика такая.
Хью берет нас с Олли в парк все чаще, чтобы мы лучше познакомились с По. Мне всегда было интересно, как это – иметь старшую сестру, а эта, оказывается, хорошая. Мы никогда не жалуемся, но, хоть я и с Хью, я теперь как бы и не с ним. По теперь в центре его внимания. Все розовое-розовое двигается в ее направлении, а все красное, ярко-ярко красное, так и вьется вокруг его штанов. Мне уже не столько лет, чтобы качаться на качелях или кататься с горки, а Олли уже слишком рослый для всего этого. Он крутится себе на карусели, а я в одиночестве сижу на скамейке или качелях и просто смотрю.
Я стараюсь не глазеть на Хью и По, но у меня не очень получается.
Оказывается, я мало знаю людей, которые влюблены. Я-то думала, что таких много. Я много видела вроде бы влюбленных, но они совсем не похожи на Хью и По – эти-то все время то берут, то отдают цвета. Все поровну, ни один не жадничает, ни один не ставит преград, цвета идут туда и обратно… Смотришь на них и отдыхаешь. Иногда бывает вполне достаточно сидеть и смотреть на счастливых.
Мы с Олли играем в догонялки в парке. Олли страшно обижается, что не может догнать меня, что все время водит. Он бесится, раздражается, и я его не виню. Хью и По играют с нами, и мне нравится, когда они перестают целоваться и обращают внимание на нас. Олли все больше выходит из себя, потому что мы от него уворачиваемся, и веселые, подростково-невинные розовые тона переходят у него в кроваво-красные цвета ярости. Я это вижу. Я разрешаю ему догнать меня, пока он не вспыхнул металлическим оттенком и не испортил всю игру. Догоняя, я случайно наступаю на задник его туфли. Она снимается, и он бежит в одном носке по сырой траве; носок, конечно, намокает. Он стаскивает носок, прыгает обратно к туфле, громко орет на меня за то, что я сделала. И тут теряет равновесие и наступает босой ногой на траву. Злая красная дымка окутывает его голову и ползет вниз по телу, но становится бурой, когда спускается к ногам. Потом бурое начинает подниматься, перекрывает красное, а я стою и разинув рот смотрю на эту красивую игру цветов. Бурое захлестывает красное, как приливная волна, оттенок у него такой же, как у земли под травой, как будто оно прорастает прямо из этой земли. Когда бурое доходит ему до головы, он опускает глаза и смотрит на свои ноги, на сырую траву под ними. Он шевелит пальцами ног, загребает ими землю. И хохочет.
В следующий раз, как только он снова начинает проигрывать, я гоню его на улицу и говорю, чтобы он разулся. Он гуляет босиком, опустив голову, смотрит, как пальцы ног прячутся в траве, шлепает по грязи и только потом идет обратно домой.
Она смотрит из открытого окна и курит. Я жду, что она скажет что-нибудь хорошее, но она швыряет окурок и с грохотом опускает окно. Окурок падает в мокрую траву и с шипением гаснет.
Я обнаруживаю, что меня тянет радоваться. Но не открыто, не нараспашку, не так, чтобы в комнате была толпа громко ржущего народа, – нет, нехорошо, когда слишком много тел, а в перерывах между взрывами хохота слишком много чего происходит. Мне больше по душе спокойствие, уединение. Я часто прогуливаю школу, хожу в городской парк и смотрю, как какая-нибудь мама катает на качелях дочку, слушаю песенки, шутки, шелест чистейшего из цветов радости, вижу волну от одной к другой, и это так успокаивает, как будто смотришь на прилив. У девочки игрушка, розовая с золотым любовь к пустышке, которую она не выпускает изо рта. Мне хочется подсесть к ней, зарыться ногами в зараженный всякими бактериями песок песочницы и погрузиться в ее свет.
И тут до меня доходит.
Ведь, когда я так делаю, я его краду. А чужое счастье красть не стоит.
Нужно создавать свое.
Из-за того, что я плохо вела себя в начальной школе, в муниципальную среднюю школу меня не переведут. Взять меня соглашается только одна из четырех школ в нашем районе, да и то после того, как ее представитель посмотрит, что я собой представляю.
Я вежливо веду себя с экспертом по оценке поведения и думаю, что делаю все правильно. Проявляю доброту. Задаю вопросы о его семье, о том, куда он ездил в отпуск, вообще о всяком таком. Хью сказал мне, что это очень важно, и велел вести себя как следует. Мог бы и не напоминать. Я веду себя не как следует, только когда меня дразнят, когда сильно болит голова или когда люди выплескивают на меня свой цвет и я не могу от него отделаться.
– Как мама, придет? – спрашивает он.
– Нет. Я не знала, что ей тоже надо.
– Ей отправляли анкету. Ну ладно, давай начнем.
Он вынимает несколько листов бумаги. Поведение оценивается вот так, на бумаге; ответы нужно помечать галочками, и мне кажется неправильным, что я пришла, а она нет.
– Где были?
Все начинается, как только мы входим. Я была с Хью и По, прицепилась к ним как репей, мне было очень хорошо с ними, и я совсем не чувствовала себя лишней. Она сидит на кушетке, лицом к двери и как-то слишком спокойно ждет нас. Радость, веселье, легкость оттого, что всю субботу я провела вместе с Хью и По, исчезают, как только мы открываем дверь.
Красный туман вокруг ее головы клубится, как извержение вулкана.
Он стремительно летит к Хью, и я делаю шаг, чтобы встать у нее на пути и защитить брата, но цвет молниеносно – прежде чем я успеваю подойти – отскакивает от груди Хью, как от щита, и проходит прямо у него над головой.
Как мой брат это сделал?
– Ты еще не вставала. Не хотелось тебя беспокоить, – говорит он, бросает сумку на пол и подходит к Олли. – Олли, привет, ты поел?
Сейчас четыре часа дня. Олли не спит с семи утра, смотрит телевизор.
– Да, бутерброд себе сделал, – отвечает он; вот уж кто никогда не подведет Лили.
– Хлеба нет, – говорю я, чтобы помочь ему выкрутиться; необязательно врать, мы и так знаем, что ты голодный, но он сердито смотрит на меня.
– Я собиралась сходить за мясом, – сердито фырчит Лили. Она, как может, защищается от Хью, будто не хочет, чтобы он плохо о ней думал, ведь и она прекрасно знает, что он лучше всех нас, вместе взятых.
– Хорошая мысль, – отвечает он. – Хочешь, я сам схожу?
– Сходи.
Красный туман потихоньку возвращается в кратер, откуда вырвался. У него опять получилось изменить ее цвет; ну вот как так? Появляется зеленый, как будто в воде растворяют зеленую краску. Плюх… Плюх… На вид – прямо бактерия. Темно-зеленый, почти черный, но все же не черный. Нет, совсем не черный. Черный грозил появиться, но пока его нет; не представляю себе, что будет в тот день, когда он появится, но очень, очень боюсь.
– Можно мне с тобой? – спрашиваю я Хью, нервничая от того, что сейчас будет.
– Нет, – отрубает она. – Олли сходит. Держи. – И она протягивает ему двадцать евро. – Мне бургер из бездрожжевого теста и чипсы с карри.
Я жду, что теперь она поднимется к себе и снова ляжет, но она так и остается на диване, только переключает канал с мультиков на какую-то викторину. Уходя, Олли не сводит с меня глаз, злится, что я остаюсь, а его куда-то отправляют. Он, в отличие от меня, не чувствует, что я остаюсь не просто так и что ничего хорошего меня сейчас не ждет. Я осторожно сажусь на край кушетки и замираю.
Горчично-желтый. Зеленый, цвета соплей. Сейчас на меня обрушатся сарказм и злоба.
– Тут тебе из новой школы письмо прислали, – говорит она и взмахом руки показывает на разорванный конверт на щербатом столике у входной двери. Никто не додумывается его подвинуть; когда дверь открывается, он каждый раз получает по полной программе.
– Из какой? – спрашиваю я в надежде, что прошла тест на поведение и, значит, пойду в нормальную школу.
– Где дураков учат, – отвечает она и закуривает. – В сентябре пойдешь.
Красиво бывает, когда цвета меняются вслед за скачками ее настроений. Но только если не из-за меня. Или если у меня получается взглянуть на нее как будто со стороны. Как будто я сижу в первом ряду на волшебном представлении и смотрю, как она переходит от горчично-желтого к металлически-красному. Это перевоплощение. Оттенки цвета красивы. Но нет красоты ни в его сути, ни в ощущении, ни в виде, ни в энергии. Ничего, в общем, красивого в нем нет.
В школу мне осталось ходить всего два дня, своих одноклассников я больше никогда не увижу, и от этого немного грустно. Правду сказать, я почти со всеми ними передралась – Дженни получила фонарь под глаз, Фарадж – банкой колы по голове, и много чего еще, но это все была самозащита. Нет, конечно, меня предупреждали, – и чаще всех Хью, – и если бы я понимала, чем все это кончится, что меня вышвырнут из этой школы и посадят куда-нибудь вроде тюрьмы, то тогда бы я постаралась в упор не видеть своих обидчиков. Но я-то знаю, что бывает, когда не обращаешь на такое внимания и не защищаешься. Только хуже становится. Люди начинают думать, что ты не умеешь постоять за себя, и начинают видеть в тебе что-то вроде груши для битья. С самого начала нужно показывать, что с тобой этот номер не пройдет.
Я бы поступала так и дома, с Лили, только не помню, когда это началось; так было всегда, и все тут. Мне никогда не хотелось, чтобы в школе было как дома. Там, в школе, было мое время, время быть самой собой, правда, я не уверена, что мне нравилась та, школьная я. Рада, что за моими темными очками никто не видит моих слез.
Сегодня я не могу отвести взгляда от миссис Муни и цветов вокруг нее.
Когда мы выходим из класса, я приостанавливаюсь у стола своей учительницы и говорю: «Поздравляю».
Она смотрит на меня, удивляется, смущается, и мне ясно, что ей совсем ничего не ясно. Она еще ничего не знает. Но на следующий день, наш последний день перед летними каникулами и мой последний день в этой школе, она просит меня выйти вместе с ней из класса. Весь класс в один голос произносит «ого!». Джеймс строит мне дурацкую рожу. Я швыряю в него свой компас. Он больно ударяет его даже через джемпер, и вид у Джеймса становится такой, будто он вот-вот заревет.
Она закрывает за собой дверь, садится на скамейку у стены и негромко, почти шепотом, спрашивает:
– С чем ты меня вчера поздравляла?
– С тем, что у вас будет ребенок.
– Откуда ты знаешь?
– Знаю, и все.
– Мне ты можешь сказать, Элис. Ну скажи, откуда?
– По-моему, от кого-то слышала.
– Вчера я и сама этого не знала, – мягко произносит она. – Уж можешь поверить.
А я и правда верю миссис Муни. Она из тех немногих учителей, которые разрешают мне сидеть в классе в темных очках, потому что у нее самой брат ужасно страдает от мигреней.
– Я вижу цвета ребенка.
Золотой. Вокруг живота у нее, как корона, сияет чистый золотой свет. Такого ни у кого нет, по крайней мере, у тех, кого я видела до сих пор. Разве что на совсем маленьких детях, на тех, кому всего несколько дней или недель от роду, когда их провозят мимо меня в колясках. Вот тогда я вижу, как вокруг их головок, как корона, сверкает золотое сияние. Родильные отделения мне представляются чем-то вроде золотохранилища.
Миссис Муни обдумывает то, что я ей сказала.
– У меня такое бывает, что я вижу разные цвета, – произношу я быстро и успеваю пожалеть об этом. – Вот поэтому я и хожу в темных очках.
Она изучающе смотрит на меня и спрашивает:
– Ты кому-то еще об этом говорила?
– Брату, Хью.
– С сентября ты ведь в «Новый взгляд» будешь ходить, кажется?
– Угу. Школа для таких, кто окна лижет.
– Не надо так говорить.
– Это Фарадж сказал, – говорю я и заглядываю в класс. – Вот банкой и получил.
– Она не «для таких». Это специальная школа-интернат, Элис. Там помогают детям с расстройствами поведения, но к тебе это не относится. Теперь понятно – с тобой все время что-то происходит, потому что у тебя дар.
– У меня проклятие.
– Нет, думаю, что это дар, – говорит она и улыбается так, что вгоняет меня в краску. – Если бы ты вчера мне ничего не сказала, я не стала бы делать тест. Я уже давно этого хочу.
– А-а…
– В той школе с тобой будут работать, помогут справиться со всем этим, поэтому не сердись на тех, у кого не хватает ума. Жаль, что здесь тебя никто так и не понял как следует.
И теперь я не знаю, как мне быть. Кроме Хью, который все всегда понимает, я не помню, чтобы меня хоть кто-нибудь пожалел. Или хотя бы сделал вид, что понимает. Этот разговор приоткрывает мне, что есть мир, который может для меня существовать, что есть люди, которые могут по-настоящему меня выслушать и понять. Очень досадно, что не все такие, как миссис Муни.
Она откидывается на спинку скамейки, довольно улыбается.
– Ну а еще что-нибудь ты видишь?
Я задумываюсь и произношу:
– Он вас не любит.
– Как? – говорит она, и улыбка гаснет.
– Я вижу, что вы отдаете мистеру Муни все свое розовое, а он не берет. И оно отскакивает обратно к вам.
Выражение лица у нее такое, что, наверное, лучше бы я промолчала, но ведь так и есть, и в глубине души она, наверное, сама это чувствует. Так пусть лучше узнает сейчас, пока не появились близнецы.
Хью держит в руке письмо из школы.
– Возмутительно!
Красный туман висит над макушкой головы Лили, как будто она вулкан, извергающий горячую лаву. Я смотрю на Хью. Красный надвигается на него, отскакивает и ползет на меня. Я нагибаюсь, уворачиваюсь, увиливаю. Смотрю на Олли. Он впитывает красный; ее гнев – это теперь его гнев.
– Скорее бы эта психованная свалила! – вопит Олли, обращаясь к Хью.
– Нормальная она! – отбивает атаку старший брат.
Хью редко спорит с ней. Он, кажется, вообще мало о ней думает, не дает ей много места в своей жизни. Он всегда занят, у него всегда есть что делать, вместо того чтобы препираться с ней, а вот в моем мире больше ее ничего нет, она для меня – препятствие ко всему. Я обхожу ее стороной, не высовываюсь, стараюсь сделаться меньше, создаю свой собственный мир. А у Олли весь мир наполнен ею, для себя самого он совсем не находит в нем места.
Но такого цвета я у нее еще не видела. Рядом с вполне понятным цветом красной лавы, цветом гнева, возникает туча непонятного темного цвета: то ли зеленого, то ли бурого, то ли черного. Она ползет, как слизняк, закручивается, как торнадо. Ее медлительность беспокоит. Она как будто втягивает в себя все краски окружающего мира: маленькие, спрятанные в большой массе, мазки цветов и свет, обещания счастья, хорошие шутки – все втягивается в эту воронку. И она все время набирает скорость.
– Хью… – произношу я, предупреждая его.
Мы в кухне. Она готовит ужин. В сковороде что-то плюхает и пузырится. Сегодня она действительно постаралась. Она встала с кровати. Из всех дней, когда Хью дает ей отпор, этот, может, и не самый подходящий. Нам нужно бы поздравлять ее, дать почувствовать, что все-таки стоит подниматься каждое утро, но сейчас Хью не в своем обычном миролюбивом настроении. Он защищает меня, но напрасно, потому что в ней что-то закипает, и я хочу, чтобы ничего не вышло наружу.
Хью может поставить этому заслон.
Я могу от этого увильнуть.
Но Олли вберет это в себя.
– Они поговорили с учителями, поговорили с ней. Вот так и решили. Не злись на меня.
– Кто это «они»?
– Врачи.
– Не было там никаких врачей!
– Ну психологи, какая разница, – говорит она, рассердившись оттого, что не знает и поэтому попалась. – Школа тесты проводила.
– Они с тобой говорили?
– Говорили.
– Нет, не говорили – ты же не пришла.
– Они мне звонили. Не все ли равно?
– Кто – они? – повышает голос Хью.
– Мужчина, как зовут, не помню.
– Что ты ему сказала?
– Сказала, чтобы учителей послушали. Учителя лучше знают, так ведь?
– Они вообще ее не знают. Тебе полагается ее защищать – это твое дело. Ей всего одиннадцать лет.
– Скоро двенадцать, – отвечает она, помешивая в сковородке и внимательно глядя в нее, как будто вдруг обнаружила там ответы на все вопросы, – Она буйная, сам знаешь. Совсем не миленькая младшая сестренка, которую ты всегда защищаешь. В школе детей лупит – надавала недавно кому-то из девчонок Уорд, а с этой семейкой лучше не связываться. Из-за нее мы еще нахлебаемся.
– Она защищалась. А Олли? Ты хоть знаешь, что он запустил в стену класса маркерами, когда ему сказали, что он раскрашивает не по контурам? Ты об этом слышала? Меня вызывали в школу, чтобы я в кабинете директора помог его успокоить. Они ведь знают: сколько тебе ни звони, ты все равно не придешь. Чем он живет? Тебе наплевать? Не замечаешь? А вообще задумываешься, почему это происходит?
Циклон становится серовато-багрянистым. Сейчас разразится буря, и мне это совсем не нравится. Пока она на уровне ее талии, но не стоит на месте, а, крутясь, поднимается вверх, вьется спиралью вокруг нее, расползается во все стороны.
– «Новый взгляд», учреждение альтернативного школьного образования… – зачитывает он письмо вслух. – Предоставляет образовательные услуги детям с проблемным поведением, причиной которого могут быть значительная эмоциональная неустойчивость или психическое расстройство». Проблемное поведение… Да не проблемное оно у нее! – говорит он, помахивая письмом в воздухе и явно не веря ему.
Она противно улыбается – становятся видны ее желтые, неровные зубы – и произносит:
– Это ты сейчас паникуешь. Ты ведь боишься: если Элис уйдет, ты не сумеешь уехать учиться в университете. Кстати, ты уже сказал ей, что уезжаешь?
Я недоуменно уставляюсь на него, и ей это очень нравится. Горести и потери других людей подпитывают ее. Это заметно сразу, потому что цвета быстро меняются, становятся ярче, сильнее. Смех ее становится жестоким, циклон змеей вьется вокруг нее, обвивает голову, спускается по груди к животу, ползет ниже, по ногам, к ступням, затягивает ее всю, целиком.
– Пока нет, не до этого было.
– Хью перебирается в Кардифф, Элис, – язвительно произносит она. – В Уэльс. И на выходные не будет у нас появляться.
– Уезжаешь? – спрашиваю я Хью.
А надо было догадаться. Ну конечно, надо было догадаться. Ему восемнадцать лет, в этом году он окончил школу и, хотя она очень хотела, чтобы он сразу шел работать, он очень усердно учился, чтобы поступить в университет, работал в баре, копил деньги, ведь его мозг – это билет, чтобы выбраться отсюда. Пока я занималась саморазрушением, он обдумывал план побега. Без меня.
– Как только получится, я вас с Олли к себе заберу, – тихо говорит он, как будто не хочет, чтобы она его подслушала.
Она хохочет:
– Нечего лапшу на уши вешать! Папаша твой говорил то же самое, ну и что – с тех пор как он нас бросил, ты хоть что-нибудь о нем слышал?
Я в смятении; жизни без Хью я себе не представляю. Пусть передо мной маячит эта страшная школа, где исправляют поведение, но я-то думала, что по выходным буду приходить домой, к нему, и он сумеет приходить туда ко мне, а теперь что же – он уезжает куда-то далеко и никогда-никогда не придет? Я чувствую, как в груди разливается паника. Она хохочет, помешивает варево, радуется, что перестала быть мишенью его гнева, что сумела отразить его. Она взяла ситуацию под контроль и обернула ее против нас. Теперь циклон захватил ее полностью и начинает тянуться к Хью. Я в ужасе смотрю на это.
– После поговорим, – говорит он мне, стараясь быть поласковее, но от него так и пышет гневом. Его оранжевый переходит в красный, розового совершенно нет, но это его эмоции, а не ее.
Не знаю, что происходит с ней, но такого я никогда еще не видела. Она становится похожа на спрута и грязно-зелеными, серо-черными и лиловыми щупальцами начинает прощупывать все вокруг себя. Это безумно страшно. Меня трясет, я боюсь, как бы не вырвало. Она не выглядит настоящей, она не похожа на человека. А Хью все спорит; тихий, ласковый, дипломатичный Хью понятия не имеет, что она замышляет.
Щупальце торнадо задевает его по лицу.
– Хью, отойди, – встревоженно говорю я.
– Куда? – спрашивает он, заметив мой страх. – Что такое?
– Посмотри на нее, – шепчу я.
Щупальца хлещут, лижут его по лицу, как языки пламени.
Я шарахаюсь в сторону, опрокидываю стул и ударяюсь о стену.
– Элис, в чем дело? Цвета?
Я стою у стены. Спина прижата к ней, глаза округлились от ужаса.
– Элис, спокойно. Дыши глубже. Вдох, выдох…
– Значит, говоришь, нормальная? – произносит она.
Длинные, черно-лиловые языки-щупальца теперь везде; они лижут меня, окружают со всех сторон. Им все известно о моих увертках, они дотянулись до каждого угла.
– О господи, – произносит она и начинает хохотать. Она зажигает сигарету, мешает в кастрюле, попыхивает, потом оборачивается ко мне, кладет одну руку на бедро, а другой держит сигарету, как соломинку, и спрашивает:
– Чего это она?
– Ты ее пугаешь.
– У-у, – произносит она, и щупальца хлопают, как хлыст.
Я визжу и закрываю лицо руками.
– Никогда она такой не была. Элис, посмотри-ка на меня! И ты еще говоришь, что она нормальная? – повторяет она.
Я чувствую, как щупальца дотягиваются до моего лица. Мельком я вижу извращенное темное безумие, которое пронизывает все ее мысли. Они бешено обгоняют друг друга, и получается полная чушь. Слишком быстро, слишком тесно, в голове звенят обрывки слов. Ни порядка, ни ясности, шумно, слишком много, слишком быстро, слишком много, слишком быстро, дальше и дальше, дальше и дальше. Мысли несутся по кругу, без остановок, без выводов и решений, громоздятся, налезают одна на другую, одна на другую, одна на другую…
Олли входит в кухню и интересуется:
– А что на ужин?
– Олли, вон отсюда, – говорю я.
– Нет, я есть хочу, – отвечает он и идет прямиком к плите. Щупальца охватывают его и сжимают сильнее, чем она, когда обнимает его.
– Стой! – кричу я и кидаюсь за ним.
Он не сможет так жить, она его задушит. Она его уничтожит, а он ей это разрешит.
Я кидаюсь на него и валю на пол, закрываю, защищаю.
Щупальца крепко прижимают его к земле, и он вопит, когда они сжимаются. Я тоже воплю, но потому, что в спину втыкается жало из ее цветов. А потом до меня доходит, что я задела за ручку ковша на плите и нас обоих окатило кипятком.
– Как ты это делаешь?
Я лежу в своей кровати, на животе. Спина – один сплошной ожог после кипятка. Он почти весь пролился на меня. У Олли задеты руки и чуть-чуть лицо. Оно все забинтовано. Сколько надо будет лежать на животе, я понятия не имею. Думаю, до тех пор, пока не перестанет болеть.
– Что – это?
– Блокируешь ее цвета. Не разрешаешь им прилипать к себе.
– Правда?
– Да, так всегда бывает. Ее цвет подходит к тебе и отскакивает или проплывает над головой, а иногда возвращается прямо к ней.
Он пожимает плечами, но задумывается.
– Да не хочу пускать ее, и все. Не хочу иметь с ней ничего общего. А ты что делаешь?
– Увиливаю.
– А Олли?
– Он все это принимает. Прямо засасывает в себя, даже когда она спокойная. Похоже, ему этого хочется.
Он снова задумывается и спрашивает:
– Так ты поэтому на него прыгнула?
– Да. Я и не собиралась его бить. А ты что подумал?
Спину жжет, но я пробую сесть в постели и посмотреть на него.
– Элис, – произносит он, устало потирая глаза и лицо. – Этому все равно никто не поверит.
– Жалко.
– А мне другое жалко. Жалко, что с тобой это происходит.
Я чувствую, как к глазам подступают горячие слезы, как будто меня окунули лицом в тот кипяток, и теперь нужно смывать его собственным потом и слезами.
Он приподнимает мои темные очки и смотрит мне прямо в глаза.
– Слышишь меня?
Я киваю и смахиваю слезы.
– Попробуй… попробуй приспособиться и как-то жить с этими цветами. Все время пугать людей невозможно. Но и все время бегать от них тоже невозможно. Я хорошо понимаю, как это трудно, я не знаю, что бы я стал делать… но тебе так дальше нельзя. Ты растешь, у тебя вся жизнь впереди. Может, ты перестанешь видеть цвета, а может, и нет. Но всегда ты рядом с ней не будешь, пора начинать думать о себе. Всего-то через шесть лет, – тут он повышает голос, я понимаю, что нарочно, и для меня его слова звучат приговором суда. – А потом можешь приезжать и жить со мной.
– Хорошо бы. Тогда у меня никаких проблем не будет.
– Нет, этого мало. Образование – вот выход.
У меня делаются круглые глаза.
– Поняла? – наставительно произносит он. – Хочешь вырваться отсюда? Начать свою жизнь? Не зависеть от нее?
– Хочу, конечно.
– Тогда учись как следует. Кончишь школу, пойдешь в университет.
– Где я, а где ты, Хью.
– Начинай думать, как я. Игра будет долгая, Элис. Планируй будущее.
– Я так далеко не умею заглядывать. Я думаю почти всегда только о том, как бы побыстрее лечь в постель.
Он грустно смотрит на меня и произносит:
– Тогда хотя бы на день вперед.
«Как же она за все это заплатит?» – недоумеваю я, перелистывая проспект. Радостные подростки с радостными учителями занимаются в чистых, ярких классах. Я знаю, что это неправда: ведь настоящий бигмак тоже совсем не такой, как на рекламных постерах.
– У тебя грант, – говорит он. – За тебя платит государство.
– Как так?
– Школа организовала.
– Ничего себе! Значит, сильно там хотели от меня избавиться.
– Или, может, кому-то было не все равно. Но есть условие, – говорит он. – Платить будут, только если ты будешь ходить туда каждый день.
– Значит, если я не буду ходить, они не будут платить, и мне придется возвращаться домой?
– Да, Элис, вернешься домой и будешь сидеть с Олли и мамой, но чаще всего только с одной мамой, потому что ни в одну местную школу тебя не возьмут, и, значит, образования тебе не видать, работы не будет, денег тоже, а дома вы всегда будете вдвоем, и только вдвоем. Как тебе перспектива?
– Ладно. Пойду.
– Какого она цвета?
Он задает мне этот вопрос по дороге домой из парка, где познакомил меня с По.
– Изумрудного, – отвечаю я. – Как трава. Как лес. И чисто-желтого.
– Это хорошо? – спрашивает он.
– Да, – отвечаю я. – Это хорошо.
– Вот и хорошо.
Некоторое время мы шагаем молча.
– А ты бы сказала мне, если бы увидела что-то еще?
Я вспоминаю пульсирующий, пламенеющий красный вокруг его бедер и ее интимных мест, и улыбаюсь.
– Что такое? Чего смеешься?
– Ничего, – отвечаю я, щеки у меня вспыхивают, голова кружится, я робею и ускоряю шаг.
– Ну скажи! – твердит он, спеша за мной по улице.
– Синестезия, – волнуясь, говорит По. Она, такая же страстная читательница, как и Хью, нашла что-то такое в книге, и они позвали меня в его комнату. Вот уже несколько недель она приходит к нему, и вместе они готовятся к отъезду.
Почти все, что было в комнате, уже разложено по коробкам, и кажется, что вещам Олли стало одиноко. Хью работал все лето, и в последнее время я его почти не вижу. Я чувствую острую боль потери и ком в горле, когда смотрю вокруг себя.
Она, скрестив ноги, сидит на его кровати, он – в своем кресле-качалке, я утопаю в кресле-мешке. В комнате пахнет дезодорантом Lynx и мятной жвачкой. Перед тем как увидеться с ней, он всегда жует жвачку, и поэтому я точно знаю, что они целуются.
– «Исследование, проведенное в Испании, выявило, что у некоторых из тех, кто имеет способность видеть так называемую ауру вокруг других людей, наблюдается нейропсихологическое явление под названием “синестезия”, а конкретно эмоциональная синестезия, – читает вслух По. – В состоянии синестезиса участки мозга, ответственные за обработку каждого типа сенсорных раздражителей, начинают работать совместно. В этом состоянии можно видеть звук или ощущать его на вкус, осязать вкус, ассоциировать людей или буквы с каким-либо цветом. Впервые научное объяснение было предложено для ауры, которая считается энергетическим полем люминисцентной радиации, окружающим человека и невидимым для большинства людей».
Она смотрит на меня, широко раскрыв глаза. Хью пододвинулся к самому краю сиденья и широко улыбается.
– А не… а не об Элис ли это?
– Может быть, – пожимаю плечами я. Ему всегда очень хотелось как-то назвать это явление, дать ему объяснение, обоснование, но мне все равно. Может, это так. А может, и не так. А может, это и вообще аура мигрени. Какая разница: факт тот, что у меня это есть, и с этим надо как-то жить. Как его ни называй, оно никуда не денется.
Она читает дальше:
– «Причиной синестезии считается перекрестная работа различных участков мозга, приводящая к возникновению связей между теми участками, которые обычно работают независимо. Исследования, проводившиеся в последние годы, выявили, что многие целители, утверждающие, что видят ауру вокруг людей, возможно, являются носителями этого явления».
Возможно.
– Подожди-ка, – перебивает Хью. – Целители?
По перечитывает последнее предложение и говорит:
– Да. Те, кто видит ауру, – целители.
Он смотрит на меня, и я понимаю, о чем он думает.
Нет.
Я произношу это громко. Твердо. Громко.
– Нет!
Она спит на кушетке. Три часа ночи, а телевизор все работает. Много часов подряд он настырно повторяет эпизоды о том, как люди ищут клад в заброшенных сараях. В моей комнате все это прекрасно слышно. Завтра меня здесь не будет. Собранный чемодан уже стоит у двери. Хью уехал неделю назад, и после того, как мы помахали ему на прощание, я совсем перестала чувствовать, что это мой дом.
Я знаю, что уезжать ему было грустно, но он не мог скрывать ни свое волнение, ни облегчение оттого, что покидает нас, что все его планы исполняются именно так, как он заслужил. Мне это было понятно по его цветам, и я не могла плакать, когда обнимала его и смотрела, как он уезжает. Вокруг его груди и головы, как мини-фейерверк, сверкали разные цвета: и розовые, и желтые, и оранжевые, и зеленые, и ярко-синие, и голубые, и серебристые. Все тона были теплые и совсем не грязные. Вот только в каждом из них была небольшая точка зеленой тоски, в самом центре, как пятнышко на цветке, и я самонадеянно думала, что это из-за меня, хотя по краям цвета радостно сияли. Олли прямо повис на нем. Мне даже пришлось отрывать его, чтобы Хью мог уехать; вот всегда он такой, безжалостный, отбирает у Олли его счастье. Она не помахала ему на прощание, не думаю, что из жестокости – просто не смогла, и все. Она не вышла из своей комнаты, зеленый цвет грозил просочиться из-под двери, поэтому я закрыла щель одеялом. У нас с Олли достаточно горя, нечего ей добавлять еще и свое.
Только я закрыла за собой дверь и легла в постель, она задвигалась у себя, как будто ждала, пока я улягусь, и, шмыгая носом, сошла вниз.
И вот теперь она спит на кушетке. Всю ее, как плащом, окутывает печаль и жалость к себе густо-зеленого цвета. Подходя к ней, я надеваю старые футбольные перчатки Хью. Они огромные, слишком велики мне, все рваные, в грязи, прилипшей бог знает как давно, но зато толстые и ничего не пропускают. Я не хочу, чтобы ее цвет пристал ко мне, не хочу ощущать глубину ее печали. Я чувствую холодный, ледяной, болезненный укол потери.
Я погуглила насчет целителей и насчет того, что мне делать. Нашла кучу всякой ерунды и бреда, почти ничего не поняла, но уяснила, что самое главное – освободиться от цветов. Я точно не знаю, как это сделать, но думаю, что раз цвета двигаются, то, значит, я могу, надев перчатки, выгнать плохие цвета, может быть, из входной двери прямо на улицу. Мне жалко птиц – ведь они могут влететь в это облако и застрять в нем, жалко случайного припозднившегося пешехода, но, по крайней мере, я отгоню цвета от нее. Нужно сделать это и ради Олли, который останется с ней один на один. Хью договорился, что в школу и обратно он будет ходить с одноклассником-соседом, но я все равно переживаю за него. Что будет после обеда, по вечерам… И по выходным… Ему девять лет, он не может от нее защититься, по крайней мере, так, как ему это нужно. Я надеваю большие перчатки и поднимаю руки чуть повыше ее головы. Не стоит волноваться, что в темноте цветов я не увижу; они сияют ярко, как будто она оказалась в эпицентре ядерной катастрофы. Я начинаю гнать цвета прочь, к двери.
– Ты что делаешь? – громко спрашивает Олли.
Я пугаюсь, стремительно оборачиваюсь и вижу, что он сидит в кресле, в углу комнаты, в темноте. Мне виден только его силуэт, а вокруг – тонкое, темно-зеленое сияние, точно такое же, как у матери, как будто он заряжается, сидя в темноте и глядя на нее. От его присутствия делается жутко. Лили просыпается от звука его голоса и испуганно уставляется на мои большие руки в перчатках, распростертые над ее головой.
– Что ты делаешь? – спрашивает она, и в ее сонном голосе слышится паника.
– Ничего, – отвечаю я и стаскиваю перчатки, чувствуя себя очень глупо.
Она поспешно вскакивает с кушетки, и неуклюже, спотыкаясь, кидается прочь от меня.
– Ты чего придумала? – вопит она, а над ее головой, как молния, вспыхивает красный металлический цвет. Ба-бах! И еще один разряд. Он исчезает так же быстро, как появляется.
– Ничего, – повторяю я, не зная, как это объяснить.
Она нервно переводит взгляд с меня на Олли, потом снова на меня и думает, наверное, что мы оба сговорились о чем-то против нее. Она отступает от меня, тянет свое тускло-серое и грязно-желтое одеяло по всей комнате – так ребенок тянет за собой пеленку, волочит его за собой вверх по лестнице. Когда она запирает за собой дверь и половина одеяла остается на площадке, до меня доходит, что это вовсе не одеяло, а цвет ее страха: она меня боится.
– Это, может, и хорошо, – говорит Хью вечером накануне отъезда, когда, держа в руке письмо из школы, перечитывает его снова и снова. Ему тяжелее, чем мне. – Я уеду, но и ты здесь с ней не засидишься. Я, конечно, буду за тебя волноваться, но ты, по крайней мере, будешь с нормальными взрослыми.
И ни один из нас не говорит, что мы оставляем здесь Олли, предоставляем его самому себе, без всякой защиты от нее.
– Это тебе, – говорит он и протягивает мне подарочный мешочек из красивой ткани. – На счастье.
Я залезаю в него рукой и обнаруживаю там новенькие солнечные очки.
Он крепко обнимает меня, я прижимаюсь к нему и думаю о том, что теперь долго-долго не позволю никому к себе притронуться. На Рождество мы будем дома; вот тогда, через четыре месяца, и обнимемся. Я вдыхаю смесь запахов дезодоранта Lynx и самого Хью, стараясь привлечь к себе его цвета надежды, радостного предвкушения отъезда и всего нового, что ждет его впереди.
В новой школе Лили навещает меня всего раз. Один раз за шесть лет, за несколько месяцев до окончания, не отвечая ни на какие «почему». Я смотрю, как она стоит на улице, курит, заходит в школу, и внимательно изучаю, нет ли признаков, что она умирает. Ничего подобного; наоборот, она выглядит лучше.
– Ну что… – начинает она, когда мы усаживаемся в гостевой комнате, приспособленной для воскресных посещений. Она нервничает. Ерзает. Очень странно видеть ее за пределами своей территории, в стане врага. – Есть от Хью что-нибудь?
– Угу.
Он звонит мне почти каждый день. Недавно он устроился учителем английского языка в среднюю школу, но мне даже в голову не приходит рассказывать ей об этом. Повисает неловкое молчание, тем более неловкое, что другие семьи вокруг нас трещат не переставая.
– А… Олли? Звонил?
– Один раз.
Приемная семья, где он теперь живет, заставила его позвонить мне. Мне кажется, расчет был на то, что короткий разговор с сестрой поможет ему освоиться. Знали бы эти люди, что у меня никогда не получалось успокоить его.
– С ним все в порядке, – говорю я.
А он грозился поджечь дом приемных родителей, если его оттуда не заберут. Пятнадцать лет всего, а мнит себя совершеннолетним. Пока он жил один на один с матерью, он вел себя все хуже и хуже и не думал прятать свои непонятно откуда взятые богатства, раскидывал украденные вещи по всему дому, чтобы каждый, кто их увидит, сразу понял – от этого парня ничего хорошего не жди. Было решено, что домашняя обстановка ему вредна и его нужно поместить в приют.
– А я вот приехала сказать, что, хм… я иду на поправку, – произносит она.
Я попиваю приторный чай, потому что не знаю, что ответить. «Иду на поправку» и «последняя стадия болезни» – понятия совершенно противоположные. Меня готовили к последнему.
– Когда забрали Олли, мне было ужасно. Ужасно… – повторяет она и передергивает плечами. – Я чуть с собой не покончила.
– Как?
– Таблеток наглоталась. Миссис Гангали нашла меня в саду.
Я представляю себе высокую траву, переполненные баки, ее тело, распростертое на земле, рядом с ними.
– Мне поставили биполярное расстройство. Знаешь, что это?
Краем уха я что-то такое слышала, но пожимаю плечами.
– Так говорят, когда у человека все время меняется настроение. То очень хорошее, то очень плохое. Вот это мне дали для тебя.
Она копается в сумке, которую крепко прижимает к себе, и кидает на сосновый стол брошюрку службы здравоохранения: «Как жить рядом с человеком, страдающим биполярным расстройством».
С ней рядом никто не живет. Она живет одна. Разогнала нас всех. Я быстро раскрываю брошюрку. Правда, я не уверена, хочет ли она, чтобы я начала читать сразу же, поэтому пока я просто просматриваю ее и надеюсь, что этого никто не замечает. Семья, которая сидит у нее за спиной и передо мной, играет в шарады. Наступает очередь отца. Фильм. Название из двух слов. Он прижимает ладони к щекам и делает вид, что громко вопит.
«Один дома»! Я сразу догадываюсь. А до них-то, идиотов, не доходит, хотя брошюру службы здравоохранения листаю именно я.
«Биполярное расстройство, которое раньше называлось маниакальной депрессией, представляет собой психическое расстройство, вызывающее необычные колебания поведения, энергии, активности, концентрации и способности выполнять повседневные, обычные дела».
Так-так… Я бы сказала, они все правильно написали. Я кладу брошюрку на стол.
Соседи твердят как заведенные: «Крик». Да нет, он же загадал два слова, два, понятно? «Крик-2», «Крик-3», все гадают они, а он изо всех сил трясет головой.
– Мне таблетки от этого прописали.
Я и так вижу, что она что-то принимает: насмотрелась уже на учеников этой школы. Здесь много кто лечится от всяких расстройств, депрессии и тревожности. Ее цвета никуда не ушли, а только потускнели, потому что лекарство успокаивает. Оно окутывает настроение, подавляет его, прилепляется к нему, как белые кровяные тельца к бактериям, вот только не разбирает, какой цвет хороший, а какой плохой, вот и наваливается на каждый ее цвет, даже на хороший, приглушает все подряд, оставляет ей только простейшие эмоции.
– Если я не брошу лечиться, Олли может вернуться домой. Им нужно видеть, что я стараюсь.
Сначала уехал Хью, потом я. А потом и Олли. Надо было забрать у нее третьего ребенка, всем нам исчезнуть, чтобы она наконец взялась за себя. Я раздумываю, почему так: то ли потому, что она скучает по нас, то ли потому, что не может быть одна.
– Врач сказал – это, наверное, оттого, что у меня есть дети, – произносит она, перелистывая брошюрку.
Не понимаю, как эту жуть может вызвать такой красавец; как бурю и тьму может вызвать такой розовый, спокойный и мирный человек, как Хью.
– Из-за вас у меня случилась послеродовая депрессия. Я этого не понимала, пока не поговорила с врачом, но, оказывается, вот что со мной было. А когда родился Олли, стало совсем плохо.
Она попивает чай, а я тем временем уставляюсь в брошюрку, но буквы сливаются, и я ничего не разбираю. После ее слов у меня бешено колотится сердце. Я слышу только одно: «Это все из-за тебя». Я стараюсь понять, на что она намекает, не играет ли со мной, а она греет ладони о чашку, нагибается над ней, как горбунья. Я устала и от нее, и от ее художеств; здесь мне хорошо, спокойно, как на курорте. Я вовсе не скучаю без этого выноса мозга. Я понимаю, насколько она меня высушивает, бесконечно разбираясь с собой, наводя в себе порядок. Одно лишь ее присутствие напрягает больше, чем самые плохие слова любого другого человека. Я напоминаю себе, что скоро она уйдет, что скоро ее здесь не будет, что я от нее освобожусь, и вздыхаю. Но не позволяю ей уйти с такой мыслью.
– Так, значит, это все из-за меня.
Она делает оскорбленное лицо и произносит:
– Я не это имела в виду. Не передергивай.
– Тогда скажи как-то иначе. Ты же так долго была совсем одна, и даже за те часы, пока сюда ехала, могла бы придумать, что и как сказать. Как-нибудь подобрее.
– Да какая разница! – Она хватает сумку и поднимается. – Я знала, что это будет пустая трата времени. Я говорила воспитателю, что ты ничего не поймешь.
Сначала это место было для меня чем-то вроде тюрьмы, а потом стало тихой пристанью. Скоро я отсюда уйду, так же, как все до меня: кто-то неуверенно, как олененок, который еще только учится ходить, кто-то с большим багажом жизненного опыта. Я среди последних. У меня есть планы, я собираюсь жить с Хью и По, пока как-то не устроюсь. Ни за что не вернусь к ней. Ни за что.
Было бы гораздо легче, если бы она сказала, что умирает.
Лили держит слово. Она меняет свою жизнь, и ей разрешают забрать Олли домой из приемной семьи. Она принимает таблетки, симптомы болезни постепенно исчезают, и она получает награду – его возвращают домой. У нее появилась работа. По вечерам в китайском кафе она отвечает на телефонные звонки, принимает заказы, организует доставку, обслуживает клиентов. Я-то думала, что иметь дело с людьми, особенно с пьяными, да еще поздним вечером, не будет ей полезно, что ей нужна жизнь почти без всяких стрессов, но, оказывается, у нее хватает терпения управляться с теми, кто совсем слетел с катушек. Ей теперь есть о чем поговорить; за дверями дома для нее открылся новый мир, пусть даже в нем можно только ныть и жаловаться на клиентов, на шеф-повара, на загаженную кухню. Она флиртует с парнем-курьером.
Ради Олли она пожертвовала многим, но с ним все равно одни проблемы. Она не может справиться с ним, не может его обуздать. Они отравляют друг друга, но они все время вместе, все время неразлучны. Он не уйдет, а она не выставит его из дома. Яростные ссоры затягиваются чуть ли не за полночь, до самого утра, а Хью приходится быть их арбитром.
Да, она очень постаралась изменить свою жизнь, чтобы вернуть Олли домой, но по-настоящему Олли так и не вернулся.
А я вернулась.
Ржавый
В самом начале я видела у человека лишь один, самый заметный его цвет.
У Лили – зеленый.
У Хью – розовый.
Но мало-помалу цветов вокруг каждого становится все больше, и появляются они сразу все, слоями. Вокруг меня ходят люди, похожие на светящиеся луковицы: слои цветов то спадают с них, то снова нарастают. С годами цвета становятся все ярче, и мои инстинкты приспосабливаются к ним. Это происходит медленно, постепенно, так что мне приходится все время учиться расшифровывать, что они значат. Шесть лет в школе-интернате основательно изменили меня, хотя и не так, как все думают. В юности я получала только самое общее представление о людях, но, теперь, повзрослев, я гораздо лучше чувствую их цвета. Нравится мне, не нравится, а это так.
– Я пришла к вам не о своих месячных рассказывать! – в конце концов срываюсь я в кабинете врача. – Я пришла не потому, что меня пучит, а потому, что я вижу цвета вокруг людей, понимаете вы? Цвета! Они пляшут вокруг головы, вокруг тела. Понимаете? То они радостные, то грустные. И я их чувствую; когда люди подходят ко мне совсем близко, их цвет прилипает ко мне, и я начинаю чувствовать то же самое, что они. Ясно вам? Я уже прямо разжевала все!
Я ору. Мне все равно. Очень, очень непросто было решиться прийти сюда. Я наконец-то свободна от школы и уже некоторое время думала об этом. Найти врача. Рассказать всю правду. Вылечиться. Пусть мне выпишут волшебные таблетки, от которых все это пройдет, я буду их принимать! Сегодня ночью у меня сна не было ни в одном глазу; я лежала и представляла себе, что со мной сделают, как только я произнесу вслух: «Я вижу цвета людей». Хотя бы занесут в черный список, в который если попадешь, то уже никакой работы не видать.
– Эти сильные головные боли и то, что вы описываете как повышенный уровень чувствительности, могут означать гормональный дисбаланс или ПМС…
Аура мигрени, синестезия, а теперь еще и ПМС… Я не дослушиваю до конца. Все это пустая трата времени. Я поднимаюсь и бросаюсь вон из кабинета, с грохотом захлопнув за собой дверь. «Не собираюсь я вам платить!» – бросаю я регистраторше, проносясь через приемную. И добавляю, обращаясь уже к пораженным людям в очереди: «Дерьмовый там врач».
По выходит из комнаты, когда я возвращаюсь к ним, отработав целый день в кофейном магазине. Опустив глаза, стараясь не смотреть на меня, она, тихо щелкнув замком, осторожно прикрывает за собой дверь. Я подозрительно смотрю на Хью.
Он отодвигает стул от стола, жестом приглашает сесть. Мне предстоит выбрать курс в колледже, степень, дипломы, сертификаты.
– Рассмеши меня, – просит он.
– Пришли Педди-англичанин, Педди-ирландец и Педди-шотландец на вечеринку свингеров…
– Элис! – произносит Хью твердо, по-взрослому.
– Я тебе уже говорила – не хочу я ни в какой колледж!
– Да, там слишком много народу, – говорит он, повторяя много раз сказанное-пересказанное мной. – Новое место, новые вещи, жуткие преподы, лекции с позиции силы, когда тебе говорят, что делать. А ты терпеть не можешь, когда тебе говорят, что делать. Тебе нравится, когда все знакомо, все просто, тебе нравится все контролировать, тебе нравится кафе, где ты работаешь, – говорит он, перечисляя мои самые страшные страхи.
В какой-то момент он умолкает, и наступает тишина. Он понимает: до меня доходит, я его слушаю.
– Ведь тебе восемнадцать лет, жить так все время ты не будешь. Никто и никогда не останавливается на одной ступеньке, Элис. Колледжи – это совсем не то, что школы. Ты – взрослый человек, можешь приходить и уходить, когда хочешь, можешь сидеть на лекциях совсем одна, можешь выйти из кампуса, чтобы пообедать, можешь делать все, что тебе заблагорассудится, можешь работать неполный день в кафе – даже не то что можешь, а будешь, никуда не денешься, – но в это время учишься, трудишься, работаешь, получаешь специальность.
– А что потом?
– А потом уходишь.
– Куда?
– Куда хочешь. Куда глаза глядят. Отсюда. Специальность – это твой билет туда, где ты хочешь оказаться. Мир – это твоя устрица.
– Устрицы противные.
– Да ты еще никогда их не пробовала.
Вот в чем разница между мной и им. Он бы попробовал. Чтобы понять, нравится это ему или нет. Он открыт, я закрыта. Он называет это «ступенькой», я – безопасным домом. Он тревожится за меня, всегда тревожится. Я не так старательна, как он, а энергии у меня и вовсе нет. Нет увлечений, нет страстей, нет друзей, нет и понятия, что я хочу делать или чем хочу быть. Куда лучше у меня получается прятаться, сидеть дома, стоять в стороне. Держать все при себе, держать все в себе. Скатываться, ускользать подальше от света, в тень. Ему хочется, чтобы во мне раскрылось все лучшее, что, возможно, есть, хотя просто-напросто быть уже достаточно трудно. Я смотрю, как у него из-за плеча поднимается новый цвет. Он не такой, как его обычные цвета, и движется по-другому. Этот цвет похож на бетонную смесь: густой, вязкий, как каша-размазня. Он наверняка очень тяжелый; вес у него на плече становится все больше и больше.
Он смотрит туда же, куда и я – на прозрачный воздух у себя над плечом, потом снова на меня.
– Что такое?
– Тебе нужен массаж.
– Знаю; это плечо меня прямо с ума сводит, – говорит он, изо всех сил растирая его. – Вот, видишь?
– Ну ладно, – отвечаю я и беру первую попавшуюся брошюру. Не хочется быть обузой. – Хорошо. Я их просмотрю.
– Может, на массажистку выучишься, – говорит он, вращая плечом.
– Ага, только на такую, которая людей не трогает.
– На помощницу массажистки, а еще лучше – на начальницу. Ты можешь точно находить, где болит, а физическую работу пусть делают другие.
Он вроде бы весело шутит, но заметил мою способность распознавать боль, и это задевает.
– Найти бы работу, чтобы точно находить, где радость…
Но ни ему, ни мне ничего такого в голову не приходит.
Олли появляется дома в три часа ночи и застает меня в полной темноте: я сижу на диване, гляжу на дверь, ожидаю его. Лили позвонила к нам на квартиру, мягко выражаясь, в полном расстройстве, а Хью с По как раз не было. Она хотела, чтобы он зашел, успокоил ее, поговорил с Олли, опять рассудил бы их. А вместо него пришла я, и притом неохотно. На нем пуховик фирмы Canada Goose и кроссовки. Пуховик стоит больше тысячи евро; точно такой же он притащил Лили утром на Рождество вместе с пачкой банкнот, небрежно засунутой в коробку из-под конфет Quality Street.
Он пугается при виде меня, но тут же прикрывается своей обычной бравадой.
– Привет чокнутой, – говорит он.
– Привет торговцу наркотой, – отвечаю я.
Он хмыкает, идет в кухню, чем-то гремит там. Потом крадется мимо меня, и я вздрагиваю. Волосы на руках встают дыбом, по коже бегают мурашки. От младшего братца на меня веет ледяным холодом.
– Что ты наделал? – спрашиваю я и слышу дрожь в собственном голосе. Он тоже ее замечает. Он появляется в дверях с мрачным видом, как будто злорадствуя над моим страхом, а в руке держит упаковку ветчины.
– Чего тебе, чокнутая?
– Олли… – начинаю я, стараясь воззвать к человеческому в нем, а не к той чудовищной энергии, которой он пышет, как паром. Он на взводе – правда, энергия эта не от наркоты, а от чего-то другого, какая-то грубая, примитивная, адреналин, только наоборот.
– Если кто спросит, я весь вечер был дома, – бросает он, запихивает в рот кусок ветчины и с потемневшими глазами поднимается наверх, ложиться.
Я сижу в переднем ряду, рядом с Хью, там же, где сижу все дни, пока идет суд над Олли, и смотрю на волшебную женщину передо мной, цвета которой похожи на лавовую лампу. Великолепные большие пузыри глубокого синего цвета медленно движутся вверх и вниз в легкой ярко-желтой дымке. Пузыри медленно плывут вверх, неторопливо меняют форму, как будто мутируют, а потом так же медленно плывут вниз. Раньше я никогда не видела ничего такого точного, управляемого, и теперь это зрелище зачаровывает. По обе стороны от ее головы шары движутся с одинаковой скоростью, но в противоположных направлениях, всякий раз встречаясь точно в середине, в одно и то же время, как лезвия ножниц. Глубокий синий – это такой цвет, которому со временем я научилась доверять, если вижу его у прирожденных руководителей, поборников справедливости и равенства, а такой оттенок желтого бывает у старательных, не жалеющих себя студентов. В движении темно-синие шары могут быть текучими, менять форму, но они тщательно продуманы и измерены. Я ощущаю, что эта энергия неторопливо и методично ищет правду. Этакие весы справедливости. Ничего удивительного: шары движутся от судьи Кэтрин Рэдклифф, под чьим председательством судят Олли.
Лили не приходит. Для ее хрупкой натуры это слишком; она никогда не жертвует ради других даже самой малой малостью.
– Что думаешь? – то и дело спрашивает меня Хью. Он не о словах, которыми перебрасываются между собой юристы: этот язык ему понятен и так. Мое дело – смотреть, какие у кого цвета, пока мы держимся друг за друга, не оставляя надежды на жизнь брата.
– Она справедливая. – Я решила так с самого начала, и мы обмениваемся встревоженными взглядами, потому что оба понимаем – это значит, что Олли обречен.
Олли со своим сообщником вломились в дом и сначала угрожали двум его жильцам бейсбольной битой, а потом «запугали их и жестоко избили». Избивал как раз Олли, а сообщник в это время обчищал комнаты. Это было уже не первое его преступление. Далеко не первое. Судья заявила, что он общественно опасен, а то, что он сделал, настолько серьезно, что вариант тут только один: на два года, до восемнадцатилетия, отправить его в колонию для несовершеннолетних, а потом перевести в настоящую тюрьму для взрослых. По ее словам, срок заключения отражает серьезность преступления и последствий, которые две его жертвы переживают до сих пор.
Руководствуясь чувством справедливости, она приговаривает Олли к шести годам и девяти месяцам лишения свободы за «нападение и кражу со взломом, совершенные при отягчающих обстоятельствах». Не знаю… Может быть, для другой стороны это и справедливо.
Олли пристально смотрит в пол. Кончики его чересчур больших ушей розовеют, щеки пылают. Он рослый, тщедушный, он еще не сформировался ни физически, ни умственно. Он даже не знает, кто он такой. Он будет сидеть за то, что сделал какой-то его переходный вариант. Он безучастно выслушивает приговор. Поначалу я даже думаю, что он его не слышит, но мало-помалу до него доходит, и цвета его становятся грозовыми. Ни одного доброго среди них нет: это металлические вспышки гнева, сущий ливень с ураганом. Ничего и близко похожего на угрызения совести или сожаление, хотя я очень жду этого, очень надеюсь. Но нет, есть один только гнев, а жалеет он совсем о другом: что на этот раз не получилось выкрутиться.
Только когда на него надевают наручники и уводят, он бросает быстрый взгляд на Хью. Когда я смотрю на его лицо, то вижу маленького мальчика, играющего на полу с солдатиками, которому страшно не хватает внимания и любви. Потом он переводит взгляд на меня, и лицо его становится злобным. Он ожесточается.
Я никогда не могла дать ему утешения. Или, как в этом случае, алиби.
Лили жалуется на ломоту в спине из-за жесткого кресла на работе. Примерно в это время арестовывают Олли, стресс действует на нее, на нас всех, и этим мы объясняем ее состояние. Мы не обращаем никакого внимания на него, какое-то время не обращаем никакого внимания на нее, потому что нам куда важнее другое. Она всегда норовит выдвинуться на первый план, когда у кого-нибудь разыгрывается драма и есть о чем поволноваться, кроме нее. Только уже когда его отправляют в тюрьму, она, не переставая жаловаться, добирается наконец до врача. И только после нескольких посещений к ней начинают прислушиваться и отправляют по специалистам, а у них тоже приходится подолгу ждать своей очереди.
Сначала ей ставят инфекцию спинного мозга, но потом обнаруживают опухоль, да такую огромную, что она обвивается вокруг позвоночного столба, как мишура вокруг ствола дерева. По цвету она похожа на гниющий фрукт, буро-рыжая, как пятна на кожуре банана.
После операции на позвоночнике выясняется, что у нее лимфома Беркитта, разновидность неходжкинской лимфомы.
Я задаю себе вопрос, почему не видела ее яснее. Я была сосредоточена на Олли – да; я была сосредоточена на Хью, да. Я даже старалась не потонуть сама. Но вот Лили… я перестала смотреть, перестала и слушать. Как будто она так громко звучала у меня в голове, что я научилась жить с этим белым шумом. Чем же я стала, что могла распознать боль любого другого, только не ее?
Олли в тюрьме, Хью принял приглашение и уехал работать учителем в Доху, я здесь.
Она прошла десять курсов химиотерапии, в трех местах ей делали люмбальную пункцию, вводили препараты в районе копчика, вдоль спинного мозга, вокруг желудочка головного мозга. Потом еще несколько месяцев физиопроцедур, чтобы научиться медленно ходить и сидеть. Я ей и медсестра, и сиделка. Она плачет, когда я первый раз волоку ее в ванну, чтобы искупать. Это вовсе не такое уж легкое дело; все получается тяжело, неуклюже. Ей больно от моего случайного щипка, оттого, что я хватаю ее не там, где надо, оттого, что ударяю ее о край ванной, о стену, об острый угол держателя для туалетной бумаги.
Трудно нам обеим. По ночам я тоже плачу.
– Не могу я это для тебя сделать, – говорит совершенно умученный Хью; волосы у него встрепаны, как будто он сам себя оттаскал за них.
Завтра они с По женятся; пойдут, распишутся по-быстрому, и все, потому что в Дохе они могут жить вместе, только если женаты. Оба будут преподавать английский в тамошней международной школе. Им предоставят собственный таунхаус с бассейном, рядом с нефтеперегонным заводом, а получать они будут раза в три больше, чем здесь, так что вполне сумеют накопить денег, вернуться, купить дом и зажить по-семейному. Новость о свадьбе они выложили нам в последнюю минуту, хотя сами-то наверняка знали все давным-давно. Из гостей будут только я, Лили, родители и братья По. Мы с Лили отправляемся купить себе что-нибудь симпатичное. От похода с ее инвалидной коляской по магазинам и отделам нам становится жарко и противно. Она выходит из себя, разыскивая что-нибудь подходящее, ведь ее тело сильно изменилось. Мне кажется, со мной на шопинг вышла девчонка-подросток, в которой бушуют гормоны. От этого больно обеим.
– У меня чувство, как будто я снова тебя бросаю.
– Ничего не бросаешь. Тебя работа в Дохе ждет. Олли сидит.
Он дергается, не в силах слушать это. Готова поспорить, об Олли он никому не рассказывает.
– Буду здесь, Хью, сейчас нет других вариантов. Я так решила.
– Но так не должно быть, Элис, так не годится. Тебе сейчас учиться нужно.
– Вот только не надо говорить, что мне сейчас нужно, – обрубаю я.
– Извини, – отвечает он, медленно крутя на столе свою кружку. – Ты посмотрела, что я прислал тебе о дистанционном обучении?
– Нет еще, но посмотрю, – отвечаю я. Сейчас я так выматываюсь к тому времени, когда Лили ложится в постель, что могу только одно – спать. Об учебе нет и мысли.
– Можно нанять сиделку, – продолжает он. – Необязательно тебе круглосуточно с ней возиться.
– Мы уже об этом говорили. Дорого. Она ничего не накопила, а я – и подавно…
– Тебе девятнадцать лет. В девятнадцать ни у кого нет сбережений.
– У тебя же были.
Мы улыбаемся.
– Ну… да. Ни один нормальный человек в девятнадцать лет сбережений не имеет. По так говорит. Никто еще не умеет себя организовать. Я ее с ума свожу.
– Это она по тебе с ума сходит. Но ведь тебе и нужно было поступать так. Нужно было организовать свою жизнь, иначе ты бы никогда отсюда не вырвался.
– План был взять тебя с собой… – И его опять начинают терзать угрызения совести.
Я не могу допустить, чтобы это передалось мне. Мне нужно, чтобы он помог мне воспрянуть духом, чтобы сказал, что я могу это сделать, а не наоборот.
– И что бы я там делала? Нефть искала? – отшучиваюсь я.
Он вынимает из своего рюкзака какие-то бланки и кладет на стол. Руки у него дрожат.
– Ты имеешь право на льготы. Я все узнал. Заполни бланки, приложи какое-нибудь удостоверение личности и отошли. Это пособие на оплату сиделки. Ведь по факту ты и есть сиделка, потому что круглосуточно обслуживаешь ее. От имени мамы я подал заявление на пособие для инвалидных приспособлений. Нельзя все время таскать ее на себе, так и спину сгубить недолго.
– Что за инвалидные приспособления?
– Пандус, душ, поручни, домашний подъемник. Она имеет на это право, у нее есть медицинская карта, все основное предоставляется бесплатно. Можно подать заявление на обмен жилья, встать на очередь на получение квартиры на первом этаже, она имеет на это полное право, только сомневаюсь, что согласится уехать из дома.
Конечно. Этого никогда не будет.
Он выкладывает на стол еще один бланк.
– К этому нужно приложить копию ее паспорта и справку с места жительства, здесь два экземпляра, один – тебе, один – ей. Я стикером отметил страницы, где написано, что тебе делать, а вот на этих желтых липучих местах нужно расписаться.
Никто никогда не скажет, что Хью ничего не делал, никогда не волновался, никогда не брал на себя ответственность и сбрасывал с себя бремя. Он понимает все это и не заслуживает возни с этими бумажками. Он заслуживает того, чтобы жить.
Слова на бланках расплываются у меня перед глазами. Я не сумею. Получение пособий, подача заявлений – не моя сильная сторона. Я беру бланки, прижимаю к груди и точно знаю, что у меня они месяцами будут пылиться на полочке в кухне. Мне было бы очень хорошо, если бы Хью остался здесь. Так было бы лучше всего, просто идеально. Насколько было бы легче, если бы он жил с нами. Теперь она принимает новое лекарство для стабилизации настроения, маниакальных эпизодов стало меньше, но химиотерапия спутала все карты, и нужно начинать все сначала. И потом, физически за ней стало труднее ухаживать.
Мне бы хотелось, чтобы он не уезжал, но, если я останусь, сумеет выжить хотя бы один человек.
Я быстро сужу о людях по их цветам, вижу по ним их истинное, скрытое «я» и моментально решаю, приблизиться или держаться подальше. Я никогда не стремлюсь узнать о людях побольше, познакомиться поближе, попробовать помочь им или даже понять, почему они такие. Даже зная не то чтобы больше всех, а просто больше, я признаю, что лет с восьми меня не тянет общаться с людьми, по-настоящему с ними взаимодействовать, и с тех пор мало что поменялось. У других все происходит с точностью до наоборот; почти все начинают с поверхностного знакомства и, все больше и больше проникаясь доверием, идут в глубину личности другого человека. И это, наверное, правильно. Только уже достаточно освоившись, поняв, что собой представляет другой, можно решить, нравится тебе человек или нет. На это уходит год-два, бывает, лет десять или даже двадцать. Мне же все понятно с первого взгляда.
Есть люди и приятные, до того приятные, что к ним прямо тянет. Из своего нутра они могут излучать счастье и довольство, силу и основательность. Рядом с такими хорошо. Дарья из кофейной лавки, которая пишет что-нибудь позитивное на бумажных стаканчиках кофе, которые берут с собой, сосед, мистер Гангали, который громко распевает песни Тома Джонса, когда возится в своем садике. Их внучка, пышка на коротких ножках, которая хихикает и смеется, все время делая какие-нибудь открытия. А разговоры между ними – это одна сплошная радость.
Вот что хочется видеть вокруг себя, вот среди кого хочется быть. Среди людей, которые делают так, что тебе хочется рядом с ними и делаться лучше самой.
Нельзя просто наблюдать, стоять в стороне, как никому не нужная железяка. Нужно, чтобы и они захотели узнать тебя поближе.
Вот уже месяц, как Хью уехал, месяц, как я без всякой посторонней помощи ухаживаю за Лили и чувствую, что тону. Тону, только не в ее цветах, а в своих собственных. Тону в нудном однообразии, в тягомотине, в одиночестве, в том, что все время отдаю, отдаю, отдаю.
Заботодатель…
Заботоделатель…
Заботожелатель, забототворитель, заботомонстр…
Я, должно быть, похожа на тех родителей, которые, стоя на площадке с непроницаемыми лицами и бессмысленным взглядом, точь-в-точь как у зомби, смотрят, но ничего не видят, а их дети тем временем могут хоть в собачьих какашках ковыряться. Им вообще безразлично, что вокруг происходит; они ведомые, а не ведут за собой, они превратились в полярных мышей – леммингов, живут, как растительный студень в чашке Петри, как будто участвуют в каком-то эксперименте над обществом.
Мне девятнадцать лет, Лили – сорок девять, и теперь она пожизненно прикована к инвалидному креслу. Она проходит физиотерапию, но шансы невелики. Хью в Дохе, Олли в тюрьме, я при ней. Если уже первый месяц такой, то до конца года я точно не дотяну, а уж про десять лет или даже больше нечего и говорить. Взгляд в будущее ввергает меня в панику. Всю жизнь я не в состоянии это делать. Размышления о перспективах меня вовсе не увлекают. Чтобы делать все как следует, мне нужно полностью сосредоточиться на настоящем. Только если мы, например, моемся или переодеваемся и сил мне не хватает, мысли уносятся в будущее, и я тихо надеюсь, что все это скоро кончится. Но знаю: нет, не кончится. И тогда я впадаю в панику.
Начинаются обычные дела. Мы встаем. Я умываю ее, одеваю, мы завтракаем, а потом, в любую погоду, выходим на улицу. Каждый день мы отправляемся в местные парки – Джонстаун, Меллоуз, Гриффит, Толка-Велли, Национальный ботанический сад, – но идет время, и их перестает хватать. Я выучила наизусть каждую дорожку, каждый поворот, каждый маршрут, а в нашем распоряжении целый день, каждый день, так почему же не отважиться и не забраться подальше? Садимся в автобус, едем в Ормсби-Истейт, Прайвет-Гарденз и, хотя платим за проезд, ничуть не жалеем об этом. Мы открываем новые, еще неизвестные нам места.
Мою энергию восстанавливают полные жизни цвета природы, плавающие вокруг, экзотические деревья, которые в стародавние времена привозили издалека высокородные лорды и леди; но не только они, а еще и люди, которых я не знаю, люди не из моего района. Мне кажется, что Лили чувствует то же самое, потому что она не жалуется, даже когда ветрено, холодно или вот-вот пойдет дождь. Мы обе хотим выйти из дома, отдалиться от него, отвлечься, чем-то заняться.
Первый раз мы оказываемся здесь в середине июня. День теплый, но в тени и под кронами деревьев веет приятной прохладой. Мы не говорим. Мы вообще редко говорим.
Я ощущаю, насколько легче мне становится дышать, и только теперь понимаю, как тяжело дышалось раньше. Тело разворачивается, начинает расслабляться, плечи опускаются, руки перестают стискивать ручку кресла. Я могу дышать. Поднимаю лицо к небу и дышу. Я закрываю глаза, улыбаюсь, а когда открываю их, мы уже оказываемся у какого-то мостика. Перед ним ступенька, всего одна, но это значит, что я не могу перевезти через него Лили – вернее, могла бы, если бы развернула кресло и втащила его на ступеньку; я иногда так делаю, как будто везу ее в детской коляске, но с таким тяжелым креслом и в этот раз я просто не могу. Она не может попасть за мостик, и то, что за ним, становится от этого только привлекательнее. Я не отвожу глаз от того, что вижу. А вижу я розовый сад в полном великолепии, утопающий в восхитительных цветах.
Все цветет, и в моем сердце тоже. Я медленно хожу по лабиринту дорожек и аллеям между клумбами кустовых роз, под арками, сделанными из роз плетистых. Я ничего не знаю о цветах, зато знаю, что они красивы. Я знаю, что они живы, что они здоровы, что они прекрасны, что они чисты, что они горды своей красотой – эти царицы природы, поднимающие головы к солнцу, тянущие их ввысь.
И дело не только в цвете лепестков; у роз возвышенная аура. Я брожу в окружении их красоты, тянусь к бархатистым лепесткам, трогаю их пальцами, хочу напитаться их энергией.
Лили бросает на меня взгляд из-за мостика, давая мне понять, что считает мои изъявления радости нелепыми.
– Хочешь сюда?
– Нет. Давай отдыхай.
По дороге домой, на заправке, я покупаю букет цветов. Я понимаю, что этой энергии как раз и недостает нашему дому.
Я не могу видеть энергию людей, которых показывают по телевизору. Лили посмеивается над моими реакциями: если я хохочу, то громко, взахлеб, если плачу, то до боли в груди и рези в глазах. Пусть даже игра по своей сути обман, вокруг них нет никаких отвлекающих цветов, ничто не намекает, что они обманывают меня. Я могу им верить. Это одновременно и выход, и ловушка.
Сегодня воскресенье, Лили сидит перед телевизором и смотрит футбольный матч. Я вожусь в кухне, стараясь оживить растение, которое твердо вознамерилось умереть, хотя стоит на окне и я усердно поливаю его каждый день. Это третье растение, которое я убила.
– Смотри-ка, твой друг, – зовет она.
Я ее не слушаю.
– Элис!
– Чего тебе? – огрызаюсь я. Не я убиваю эти растения, а, должно быть, она и ее плохие вибрации.
– Твоего друга по телику показывают.
– Кого это? – спрашиваю я, внося в комнату растение в горшке. Грязные капли падают из дырки на пол. Я ругаюсь.
– Да вы вместе в школе учились.
Я думаю, что она говорит про кого-то из болельщиков. Внимательно разглядываю лица на трибунах, но никого не узнаю. Наконец обращаю внимание на слова комментатора: «Госпел Мкунди, уроженец Дублина. Он всего в третий раз задействован в основном составе, но недавний дебют дает все основания думать, что перед нами восходящая звезда команды «Кристал Пэлас».
– Совершенно верно, – подтверждает второй комментатор. – Госпел показал себя очень одаренным игроком, с подлинным талантом к молниеносному бегу и дриблингу. Он из тех, кто подает огромные надежды, и я предсказываю ему великолепное будущее.
Госпел, в сине-красной форме, бежит через все поле к своему месту центрфорварда и на ходу поддергивает шорты. Он осматривается, настраивается, устраивается, бросает быстрый взгляд на стадион, на двадцать пять тысяч зрителей, наблюдающих за ним. Он быстро моргает раз, другой, но совсем не так, как раньше, когда у него прямо дергались голова и плечи. Никто, кроме меня, этого даже не замечал.
– Девочки, будете жить в этой комнате. Хорошая, прямо над кухней, так что каждое утро у вас будет пахнуть свежим хлебом, – говорит Глория в первое же мое утро в новой школе. – Когда познакомитесь с нашим поваром Аланом, то поверите, что он просто маг и волшебник. Печет кексы, булочки, пирожки – все, что хотите.
Мы дружно выглядываем из окна, как будто ожидая увидеть эту вкусноту, но перед нами только некрасивая плоская крыша кухни да трубы.
– Я вас оставляю, располагайтесь, знакомьтесь. Через час в столовой директор будет встречаться с новенькими, а пока отдыхайте.
Мы рассматриваем друг друга.
– Как вас зовут? – спрашивает наполовину ирландка, наполовину индианка. – Меня Салони. Вообще ни фига имена не запоминаю.
– Я тоже, – смеясь, отвечаю я и представляюсь: – Элис.
– Грейс, – произносит миниатюрная, похожая на птичку девочка с россыпью веснушек на щеках и носу. Вид у нее такой, будто ее занесло сюда случайно.
На одной койке нижнее место занимает Салони, верхнее – Грейс, так что на другой мне можно выбирать. Я выбираю верх. Ни споров, ни драм, ни психозов – во всяком случае, пока.
Ночью с треском и грохотом Грейс приземляется между двумя койками. Салони просыпается и вопит при виде стонущей соседки, распростертой на полу в неестественной позе.
– О боже, – произносит Салони. – Включи-ка свет.
Я стараюсь спуститься как можно скорее, но кажется, что я двигаюсь, как в замедленном кино – так медленно и осторожно я спускаюсь по лестнице. Нашариваю на стене выключатель, скоро глаза привыкают к свету, и я вижу Салони на коленях рядом со свалившейся Грейс.
– Беги за помощью! – командует Салони, и я лечу по тихому коридору к комнате, где спит ночная дежурная.
До утра я больше не сплю ни секунды. Но я не спала и когда упала Грейс. Я лежала, смотрела в потолок, привыкая к новым для меня звукам, когда услышала, как заскрипела койка напротив, а потом увидела, как соседка сначала села, потом встала и кинулась сверху.
Я смотрю, как в столовой все суетятся вокруг Грейс. Кто-то предлагает ей понести поднос, девчонки зовут к своему столу, все тут же узнают, как ее зовут. Она прямо купается в свете.
– Готов поспорить, она нарочно сломала ногу, чтобы на нее обратили внимание, – слышится позади меня.
Я оборачиваюсь посмотреть, кто это, и оказываюсь лицом к лицу с писаным красавцем, обладателем огромных карих глаз, бесконечных ресниц, высоким и широкоплечим. И вот он моргает раз, другой, потом дергается, потом забрасывает голову назад и всхрапывает, как конь. Движение такое резкое, что кажется, будто ему должно быть больно. Однако все вроде бы нормально. Он не объясняет, что сейчас случилось, но его цвета не показывают ни гнева, ни злобы. Не извиняясь, не пробуя как-то справиться с этим состоянием, он продолжает глазеть на Грейс.
– И что она будет делать, когда поправится? – вопрошает он.
– Другую ногу сломает, – говорю я.
Он смеется, дергается, плечи мелко трясутся, снова моргает раз, другой. Снова забрасывает голову назад, снова всхрапывает и говорит:
– Хочешь, садись со мной, вместе пообедаем.
Госпел предлагает мне встретиться у гончарной мастерской. Считается, что это занятие успокаивает учеников; они кладут комок глины на вращающийся круг и смотрят на него, чуть ли не впадая в транс, в надежде, что в сознании что-то изменится. Не всем это помогает. Например, Джош Дабровски так разъярился, что швырнул в окно свою вазу, больше похожую на пепельницу.
Здесь никогда никого не бывает. Ходят в другие места, бывает, что в самые неожиданные, но это место – одно из наших. Окнами оно выходит на соседнее поле, где пасутся коровы, не принадлежащие школе. Госпел, смотря по настроению, иногда стреляет в них петардами, а я не мешаю ему, потому что, когда он такой, разговаривать с ним без толку. Здесь же он покуривает марихуану – и бурый окружает другие его цвета, успокаивает, останавливает тик.
Он идет через спортивные площадки и несет с собой коробку. Энергия у него хорошая, и мы моментально подружились. Госпел, наполовину ирландец, наполовину зимбабвиец, родился в Талле. Из Зимбабве приехал его отец, системный аналитик. Мама работает медсестрой в местной больнице. Свою семью он любит, в «Новый взгляд» родители его отправили, чтобы помочь, он и поступил сюда для этого, а вот со мной все наоборот. Меня отфутболили. Мне даже кажется, что избавились. Я вижу его родителей на выходных, когда они к нему приезжают; как-то мы даже вместе ходили в местный мясной ресторан. Я больше люблю слушать, как Госпел рассказывает о своей семье, чем говорить о своей, но в любом случае он знает, что я, в отличие от него, оказалась здесь не по собственной воле. И что теперь мне не хочется возвращаться отсюда домой.
– Привет, извини, что опоздал, сначала нужно было вытряхнуть эту коробку, а Найджел не разрешил мне ставить ничего на стол из-за своего обсессивно-компульсивного расстройства, поэтому пришлось все расставить по нужным местам и в нужном порядке, в видимом цветовом спектре, чтобы он не слетел с катушек от злости. Я-то думал, зелено-голубой и коралловый – это одно и то же.
Я смеюсь, заглядываю в коробку и восклицаю:
– А, комиксы принес!
– Не трогай; тут есть редкие. Я тебе потом объясню, а сначала…
Он ставит тяжелую коробку на землю, садится на траву, закуривает косяк.
Я сажусь подальше, чтобы от моей одежды не пахло, и смотрю на него. Смотреть, как его беспокойные желтые цвета начинают приобретать более мягкий оттенок, когда каннабис начинает действовать, – все равно, что поддаться гипнозу.
Я никогда не поддавалась соблазну попробовать его, потому что мне нельзя терять бдительности. Не могу представить, что расслаблюсь и сумею пройти прямо через цвета, которые могут прилипнуть ко мне и изменить мое состояние, но очень приятно сидеть и наблюдать за другом.
– Действует, – говорю я с улыбкой, потому что он становится заземленного, глубокого бурого цвета. Я всегда удивлялась, почему люди говорят, что летают, хотя на самом деле, похоже, все совсем наоборот.
Он откидывает голову назад, прислоняется затылком к стене дома, ненадолго прикрывает глаза.
– Так, теперь давай работать. Я фанат комиксов, ты каждый день будешь открывать во мне что-то потрясающее. «Люди Икс», «Человек-паук», «Супермен», «Бэтмен», «Мстители» – эти-то все знают, но много есть и таких, о которых ты понятия не имеешь. Глубоко копать не будем, но вообще-то есть логика супергероя, вроде алгоритма, и они все на ней построены.
– Ясно, – медленно произношу я, не очень понимая, зачем он мне это говорит, но восхищаясь, что он делится со мной чем-то своим, очень тайным.
– Что такое супергерой? – говорит он так, будто начинает лекцию. – Это герой, способности у которого больше, чем у обычного человека. Вот как ты! Тот, кто своей силой помогает миру стать лучше, помогает побороть преступность, защитить людей. Вот… Как… Ты.
