Письма к Милене
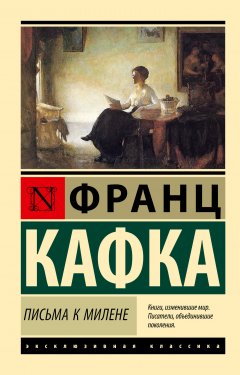
© Перевод. А. Карельский, наследники, 2023
© Перевод. Н. Федорова, 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2023
Меран-Унтермайс, пансион «Оттобург»[1]
Дорогая госпожа Милена,
я послал Вам несколько строчек из Праги, а потом из Мерана. Ответа не последовало. Впрочем, строчки мои, конечно же, не нуждались в сколько-нибудь спешном ответе, и если Ваше молчание есть всего лишь признак относительного благополучия, каковое, мы знаем, часто выражается в нерасположенности к писанию писем, то я вполне доволен. Но ведь возможно также – и потому я пишу снова, – что в тех строчках своих я Вас чем-то обидел (какая у меня тогда против воли грубая рука, коли это так) или, что было бы много хуже, та минутная передышка, о которой Вы писали, вновь миновала и для Вас вновь наступили тяжелые дни. Относительно первого предположения мне нечего сказать, настолько чуждо мне подобное намерение, а все остальное несколько ближе; относительно же второго не решаюсь гадать, – да и как я могу гадать? – хочу только спросить: отчего бы Вам не уехать хоть ненадолго из Вены? Вы же не бесприютны, как иные. Может быть, прогулка в Богемию придала бы Вам сил? А если по каким-либо причинам, мне неведомым, Вы не хотите в Богемию, то куда-нибудь еще – может быть, неплохо даже и в Меран? Вы бывали в Меране?
Итак, я ожидаю одного из двух. Либо дальнейшего молчания, это означает: «Не беспокойтесь, у меня все в порядке»; либо же хоть нескольких строк.
Сердечно Ваш, Кафка
Я вдруг понял, что, собственно говоря, не могу вспомнить в каких-либо подробностях Вашего лица. Вижу только, как Вы тогда проходили между столиками в кафе, направляясь к выходу, Вашу фигуру, Ваше платье – это все еще вижу.
Дорогая госпожа Милена,
средь венского уныния Вы трудитесь над переводом. Для меня это и трогательно, и стыдно. Вы, наверное, успели уже получить письмо от Вольфа[2], по крайней мере он уже некоторое время назад писал мне о таком письме. Новеллы «Убийца», объявленной, как говорят, в каком-то каталоге, я не писал, это недоразумение; но коль скоро она якобы лучшая, возможно, так оно и есть.
Судя по вашему последнему и предпоследнему письмам, тревоги и заботы, кажется, целиком и полностью Вас оставили, и я очень Вам этого желаю – и Вам, и Вашему мужу. Мне вспоминается воскресный вечер несколько лет назад, я брел по набережной Франценскэ, цепляясь за стены домов, и столкнулся с Вашим мужем, он шел мне навстречу и выглядел не многим лучше, чем я, – два больших специалиста по головным болям, впрочем, каждый совершенно в своем роде. Не помню уже, то ли мы продолжили путь вместе, то ли так и разминулись, да, пожалуй, разница не столь уж и велика. Но все это миновало и должно остаться в глубинах минувшего. Хорошо ли у Вас дома?
С сердечным приветом,
Ваш Кафка
Меран-Унтермайс, пансион «Оттобург»
Дорогая госпожа Милена,
только что прекратился дождь, ливший почти двое суток днем и ночью; может быть, это и ненадолго, но все же такое событие надо отпраздновать – вот я и пишу Вам. Впрочем, дождь я перенес легко, это оттого, что вокруг меня чужбина, она, правда, невелика, но сердцу от нее отрадно. Вы ведь тоже, если я верно почувствовал (недолгое единственное полунемое свидание явно невозможно исчерпать в памяти), рады были венской чужбине; потом-то, возможно, обстоятельства все омрачили, но Вы тоже радуетесь чужбине как таковой? (Впрочем, это, наверное, дурной знак, и лучше бы ей не радоваться.)
Я живу здесь вполне сносно, более тщательного попечения бренное тело едва ли бы и выдержало, балкон моей комнаты утопает в зелени, обвит, захлестнут цветущими кустами (странная тут растительность – в такую-то погоду, при которой в Праге уже и лужи замерзли бы, перед моим балконом медленно раскрываются чашечки цветов), и при этом он весь открыт солнцу (или, что вернее, нависшему облачному небу, вот уже почти неделю). Ящерицы и птицы, несуразные знакомцы, навещают меня; о, я бы так хотел подарить Вам Меран. Вы недавно написали, что «задыхаетесь», образ тут вполне соответствует смыслу, а эти края, может быть, хоть немного все облегчили бы.
С сердечным приветом,
Ваш Ф. Кафка
Стало быть, легкие. Целый день я ворочал эту мысль в голове и так и этак, ни о чем другом думать не мог. Не то чтобы болезнь особенно меня пугала; наверное (я на это надеюсь, и Ваши намеки это, кажется, подтверждают), она коснулась Вас лишь мягко, но даже и серьезное заболевание легких (более или менее поврежденные легкие сейчас у половины Западной Европы), знакомое мне самому вот уже три года, принесло мне больше блага, чем зла. Года три назад это началось у меня посреди ночи – пошла горлом кровь. Я встал с постели (и это вместо того, чтобы остаться лежать, как я узнал позже из предписаний), случившееся меня взбудоражило, как все новое, но, конечно, немного и перепугало; я подошел к окну, высунулся наружу, потом прошел к умывальнику, походил по комнате, сел на кровать – кровь не переставала. Но при этом я вовсе не был несчастен – ибо через некоторое время я почему-то ясно вдруг осознал, что после трех, да нет, четырех лет бессонницы я впервые – если, конечно, перестанет идти кровь – смогу заснуть. Вскоре все прекратилось (и с тех пор не возвращалось), так что остаток ночи я спал спокойно. Правда, утром пришла горничная (я снимал тогда квартиру в Пале Шёнборн), добрая, чуть ли не самоотверженная, но в высшей степени деловая девушка, и, увидев кровь, сказала: «Pane doktore, s Vámi to dlouho nepotrvá»[3]. Но я чувствовал себя лучше обычного, пошел на работу и лишь после обеда отправился к врачу. Продолжение этой истории тут уже неинтересно. Что я хотел сказать: меня напугала не Ваша болезнь (тем более что я, без конца перебивая сам себя и перебирая свои воспоминания, распознаю за всей Вашей хрупкостью почти по-крестьянски бодрую, крепкую натуру и прихожу к выводу: нет, Вы не больны, это лишь предостережение, а не заболевание легких), – так вот, не это меня напугало, а мысль о том, что должно было предшествовать такому срыву. Тут я для начала исключаю остальное, о чем Вы пишете: ни гроша в кармане, только чай да яблоки, ежедневно с двух до восьми, – это все вещи, которых я не понимаю, и они явно нуждаются в устных разъяснениях. От этого я, стало быть, сейчас отвлекаюсь (но только в письме – ибо забыть такое невозможно) и думаю лишь об объяснении, которое я тогда выстроил для заболевания в моем случае и которое ко многим случаям подходит. Мой мозг тогда просто не мог больше переносить возложенные на него заботы и мучения. Он сказал: «Я сдаюсь; а если кому-то все-таки важно по возможности сохранить целое, пусть облегчит мне ношу, и тогда мы еще какое-то время продержимся». Тут-то и подали голос легкие – им, видно, нечего было терять. Эти переговоры между мозгом и легкими – без моего ведома – были, наверное, ужасны.
И что же Вы теперь намереваетесь делать? Насколько я понимаю, немножко оберегать Вас – это сущий пустяк, это ничего не стоит. А то, что Вас надо немножко оберегать, должно быть видно всякому, кто Вас любит, тут все остальные соображения должны умолкнуть. Стало быть, избавление найдено? Я ведь уже сказал – но нет, не буду шутить, у меня вовсе не весело на душе и не будет весело, пока Вы не напишете мне, удалось ли Вам наладить новый и более здоровый образ жизни. Почему Вы не уедете на некоторое время из Вены – об этом я уже не спрашиваю после Вашего последнего письма, я все понял, но ведь и поблизости от Вены есть чудесные места, где бы Вас могли окружить заботой. Я не пишу сегодня ни о чем другом, ничего более важного у меня нет за душой. Все остальное – на завтра, в том числе и благодарность за журнал[4], я был растроган и устыжен, опечален и обрадован. Нет, еще только об одном сегодня: если Вы пожертвуете хоть минутой Вашего сна ради перевода, это будет все равно что навек проклясть меня. Ибо когда однажды дело дойдет до суда, не понадобится никакого особого следствия, будет просто установлено: он лишил ее сна. Тем самым я буду осужден – и по праву. Стало быть, я борюсь и за себя, когда прошу Вас больше этого не делать.
Ваш Франц К.
Дорогая госпожа Милена,
сегодня я хочу писать о другом, но – не пишется. Не то чтобы я все принимал уж слишком всерьез; будь это так, я писал бы по-другому, но ведь должна же где-то стоять для Вас качалка в саду, в полузатененном уголке, и чашек десять молока под рукой, чтоб сразу дотянуться. Пускай это даже будет в Вене, ну и что, тем более летом, только б не голодать и не тревожиться. Неужели нет никого, кто бы в этом помог? А что говорит врач?
Когда я вынул журнал из большого конверта, я был почти разочарован. Я хотел услышать что-нибудь о Вас, а не этот уж слишком знакомый голос из старой могилы. Зачем он встрял между нами? А потом я понял, что он же нас и свел. Но, между прочим, для меня непостижимо, как Вы решились взять на себя этот тяжкий труд, и я глубоко тронут тем, с какой верностью Вы его исполнили, словечко за словечком; что такая верность и та великолепная естественная уверенность, с какой Вы ее сохраняете, возможны в чешском языке, я и не предполагал. Неужели немецкий и чешский так близки? Но как бы то ни было, сам рассказ, говоря по чести, отменно плох; мне было бы легче легкого, дорогая госпожа Милена, доказать Вам это строка за строкой, и разве что мое отвращение пересилило бы необходимость доказательства. То, что рассказ Вам понравился, естественно, придает ему ценность, но и немного омрачает для меня картину мира. Довольно об этом. «Сельского врача» Вы получите от Вольфа[5], я ему написал.
Разумеется, я понимаю по-чешски. Мне уже не раз хотелось спросить Вас, почему Вы не напишете мне как-нибудь по-чешски. Это вовсе не оттого, что Вы не владеете немецким языком. Вы, как правило, владеете им изумительно, а если где-то вдруг обнаружится, что Вы им не владеете, он добровольно склоняется перед Вами, и тогда это особенно прекрасно; вот немец этого от своего языка никак не ожидает, так лично он не отваживается писать. Но я бы хотел почитать Вас по-чешски, это ведь Ваш язык, ведь только там, в нем вся Милена (перевод это подтверждает), а здесь разве что Милена венская или собирающаяся в Вену. Итак, по-чешски, пожалуйста. И пришлите свои фельетоны, о которых Вы пишете[6]. Пускай они «ничтожны», что за беда. Вы же пробрались сквозь мою ничтожную повестушку – докуда? Не знаю. Но вдруг и я смогу, а уж если не смогу, что ж – так и останусь пребывать в наилучшем предубеждении из всех возможных.
Вы спрашиваете о моей помолвке. Я был помолвлен дважды (если угодно, даже трижды – потому что дважды с одной и той же девушкой); итак, трижды я был в каких-нибудь нескольких днях от брака[7]. Первая история целиком позади (там уже новое супружество и, как я слыхал, появился малыш), вторая еще жива, но без всяких видов на брак, то есть, собственно, уже и не жива – либо, точнее говоря, живет теперь самостоятельной жизнью за счет людей. Вообще я в этом случае – да и в иных тоже – пришел к выводу, что мужчины, возможно, больше страдают или, если взглянуть на дело иначе, обнаруживают меньшую сопротивляемость, а вот женщины всегда страдают безвинно, и это не потому, что они тут «бессильны что-либо поделать», а в самом изначальном, прямом смысле, хотя он, наверное, в конечном счете оказывается все тем же «бессилием». Впрочем, что толку ломать над этим голову? Ты будто силишься разбить один-единственный котел в аду; во-первых, это не удается, а во-вторых, если и удастся, ты сам хоть и сгоришь в хлынувшей из него огненной лаве, но ад все равно останется во всем своем великолепии. Надо действовать иначе.
Но сначала, во всяком случае, надо улечься в саду и постараться извлечь из болезни, особенно если это не взаправдашняя болезнь, всю сладость, какая только возможна. А в ней много сладости.
Ваш Франц К.
Дорогая госпожа Милена,
скажу сразу – а то Вы, чего доброго, против моей воли вычитаете это из моего письма: вот уже примерно две недели меня все сильнее донимает бессонница, вообще-то я не делаю из этого трагедии, такие периоды приходят и уходят, и для них всегда есть даже больше причин, чем нужно (это смешно, но, по Бедекеру, одна из них – меранский воздух), – хоть эти причины иной раз почти и не видны; как бы то ни было, от всего этого делаешься тупым, как чурбан, и беспокойным, как лесной зверь.
Но хоть одна радость у меня есть. Вы спали спокойно – пусть и «странным образом», пускай еще вчера Вы были «вне себя», – но спали спокойно. Если ночью, стало быть, сон будет бежать от меня, я теперь знаю его дорогу – и не возропщу. Да и глупо было бы роптать: ведь из всех существ сон – самое невинное, а человек, не знающий сна, – самое виновное.
И вот этого человека, лишенного сна, Вы благодарите в своем последнем письме. Если бы кто-то со стороны прочел его, он бы, наверное, подумал: «Что за человек! Похоже, он сумел сдвинуть горы». А между тем человек ничего не сделал, пальцем не пошевельнул (разве что пером), питается молоком и чем бог пошлет (не всегда – хоть и часто – имея под рукой «чай да яблоки»), а в остальном предоставляет вещам идти своим ходом и горам оставаться на своих местах. Вы знаете историю первого успеха Достоевского? Эта история многое в себя вобрала, и я привожу ее лишь удобства ради, из-за прославленного имени, потому что любая история, случившаяся по соседству, а то и еще ближе, имела бы тот же смысл. Кстати, я уже и помню-то ее лишь приблизительно – тем более имена. Достоевский писал в это время свой первый роман «Бедные люди», а жил вместе со своим другом, литератором Григорьевым[8]. Тот хоть и видел в течение многих месяцев груду исписанных листов на столе, но манускрипт получил в руки, лишь когда роман был готов. Он его прочел, пришел в восторг и, ни слова не сказав Достоевскому, отнес его знаменитому тогда критику Некрасову. В три часа ночи к Достоевскому звонят в дверь. Врываются Григорьев с Некрасовым, бросаются к Д. с объятьями и поцелуями, Некрасов, прежде его не знавший, называет его надеждой России, они беседуют час, два, главным образом о романе, и расстаются лишь под утро. Достоевский, назвавший потом эту ночь счастливейшей в своей жизни, подходит к окну, смотрит им вслед, не может прийти в себя и разражается слезами. Охватившее его чувство – он сам его потом описал, не помню где, – было примерно таково: «Что за великолепные люди! Как добры, как благородны! И как низок я сам. Если б они могли заглянуть ко мне в душу… А ведь скажи я им – не поверят». То, что Достоевский потом еще и решил им во всем следовать, – это уже арабеска, это последнее слово, которое оставляет за собой непобедимая юность, к рассказанной истории это уже не имеет отношения, она, стало быть, закончилась. Понимаете ли Вы, дорогая госпожа Милена, тайный смысл этой истории, непроницаемый для рассудка? По-моему, он вот в чем: Григорьев и Некрасов, если говорить вообще, были, конечно же, не благороднее Достоевского, но Вы отрешитесь сейчас от общего взгляда (Достоевскому он ведь тоже не нужен был в ту ночь, да и что толку от него в каждом единичном случае?), Вы слушайте только Достоевского, и Вы проникнетесь тогда убеждением, что Гр. и Н. в самом деле были великолепны, а Д. грязен, бесконечно низок, что он, конечно же, никогда даже и отдаленно не достигнет этих высот и уж тем более речи быть не может о том, чтобы отплатить Гр. и Н. за их неслыханное, незаслуженное благодеяние. Я буквально вижу их из окна – как они удаляются и тем самым подтверждают свою недосягаемость. К сожалению, истинный смысл этой истории размывается великим именем Достоевского.
Куда меня завела моя бессонница? Во всяком случае, я и там остаюсь лишь с самыми добрыми побуждениями и пожеланиями.
Ваш Франц К.
Дорогая госпожа Милена,
всего несколько слов, завтра наверняка напишу Вам снова; сегодня же я пишу только ради себя, только затем, чтобы хоть что-то сделать для себя, только чтобы немного отодвинуть впечатление от Вашего письма, иначе оно будет преследовать меня день и ночь. Вы очень странная, госпожа Милена, живете там, в Вене, страдаете и притом еще находите время удивляться, что другим, мне, например, живется не очень хорошо и что какую-то ночь я сплю хуже, чем предшествующую. У трех здешних моих приятельниц (трех сестричек, старшей пять лет) подход не в пример разумнее, при всяком удобном и неудобном случае, у реки ли, нет ли, они норовили спихнуть меня в воду, и вовсе не потому, что я плохо с ними обошелся, отнюдь. Когда взрослые грозят детям такими вещами, то это, разумеется, шутка и любовь и означает приблизительно вот что: скажем-ка, развлеченья ради, что-нибудь ну совершенно, совершенно невозможное. Но дети все воспринимают всерьез, и невозможное для них не существует, десять неудачных попыток спихнуть тебя в воду не убедят их, что и одиннадцатая закончится неудачей, они даже не помнят, что прежде десять раз вышла осечка. Если наполнить детские слова и намерения знанием взрослых, становится жутковато. Когда этакая четырехлетняя малышка, которая словно бы и создана лишь затем, чтобы ее целовали и тискали, а вдобавок сильная, как медвежонок, и еще по-младенчески пузатенькая, идет на тебя в атаку, а две сестренки помогают ей слева и справа, и за спиной у тебя уже перила, а добродушный папаша этой троицы и мягкая красивая толстушка мать (в колясочке у нее четвертый) с улыбкой издали наблюдают за происходящим и вовсе не спешат тебе на выручку, – ты почти на краю гибели, и толком невозможно описать, каким образом все же удается спастись. Разумные или прозорливые дети норовили сбросить меня в воду без особой причины, может быть, оттого, что считали меня лишним, бесполезным, а ведь они не знали ни Ваших писем, ни моих ответов.
Пусть Вас не пугают «добрые побуждения и пожелания» последнего письма. У меня был – нередкий здесь – период полнейшей бессонницы, я записал эту историю, о которой частенько размышлял в связи с Вами, но, когда закончил, виски и справа и слева так сдавило, что я уже толком не понимал, зачем ее рассказывал, вдобавок мешала и бесформенная глыба всего того, что я хотел сказать Вам на балконе, в качалке, поэтому мне ничего и не оставалось, кроме как сослаться на основополагающее ощущение, да я и теперь еще не могу иначе.
У Вас есть все, что я опубликовал, кроме последней книжки «Сельский врач», сборника небольших рассказов, который Вам пришлет Вольф, во всяком случае, неделю назад я в письме просил его об этом. В печати нет ничего, и я не припомню, чтобы что-то могло выйти. Как бы Вы ни поступили с этими книгами и переводами, все будет правильно, жаль, что они не настолько мне дороги, чтобы передача их в Ваши руки по-настоящему выразила то доверие, какое я к Вам питаю. Зато я очень рад, что посредством нескольких замечаний по поводу «Кочегара», о которых Вы просите, вправду могу принести маленькую жертву; это будет предвестие той адской кары, которая заключается в том, что необходимо еще раз проверить свою жизнь взором познания, причем самое худшее здесь не просмотр явных проступков, а именно тех, какие некогда считал благими.
Несмотря ни на что, писать все-таки хорошо и полезно, мне теперь спокойнее, чем было два часа назад с Вашим письмом на балконе, в качалке. Я лежал там, а в шаге от меня какой-то жук упал на спину, он отчаянно силился встать и не мог, я бы охотно пособил ему, ведь это было легче легкого: сделать шаг и чуток его подтолкнуть – вот тебе и действенная помощь, но я забыл о нем, читая Ваше письмо, я не мог встать, лишь какая-то ящерка вновь привлекла мое внимание к жизни вокруг, путь ящерки лежал как раз через жука, который уже совсем затих, – значит, сказал я себе, это была не мелкая незадача, а схватка со смертью, редкое зрелище естественной смерти живой твари; но, когда ящерица шмыгнула через жука, она ненароком поставила его на ноги, он, правда, еще минуту-другую не шевелился, но потом как ни в чем не бывало побежал вверх по стене. Каким-то образом это, пожалуй, слегка приободрило меня, я встал, выпил молока и написал Вам.
Ваш Франц К.
Завтра пошлю Вам свои замечания, кстати, их очень немного, на большинстве страниц их вообще нет, как бы сама собой разумеющаяся правдивость перевода вновь и вновь – когда я спохватываюсь, что это вовсе не само собой разумеется, – удивляет меня, почти ни единой погрешности, да и то по пустякам, всегда крепкое и решительное понимание. Я вот только не знаю, не поставят ли Вам чехи в упрек эту верность, которая мне в переводе особенно мила (вовсе не ради рассказа, но ради меня самого); мое чешское чувство языка, а оно у меня тоже есть, полностью удовлетворено, но чрезвычайно предвзято. По крайней мере, если кто-то Вас в этом упрекнет, постарайтесь уравновесить обиду моей благодарностью.
Дорогая госпожа Милена,
(да, обращение это уже надоело, но в нашем ненадежном мире оно – один из тех поручней, за которые могут ухватиться больные, и если хвататься за поручень надоело, это все равно еще не признак выздоровления) я никогда не жил среди немецкого народа, немецкий язык мне родной по матери[9] и потому для меня естествен, но чешский мне много милее, потому-то Ваше письмо будто разрывает туманные завесы, я вижу Вас яснее, движения стана, рук, такие быстрые, такие решительные, это почти встреча, – правда, когда я потом хочу поднять глаза, чтобы увидеть Ваше лицо, то письмо мое – что за притча! – вспыхивает пламенем, и я ничего не вижу, только пламя.
Этак можно поддаться соблазну и поверить в выведенный Вами закон Вашего существования. То, что Вы не хотите, чтобы Вас жалели из-за этого якобы тяготеющего над Вами закона, вполне понятно, ибо неведение закона есть не что иное, как дерзновение и гордыня (já jsem ten, který platí)[10]; правда, примеры проявления этого закона, Вами приводимые, обсуждению не подлежат, тут остается только молча поцеловать Вам руку. Что до меня, я, конечно, верю в этот Ваш закон, я не верю только, что он так уж обнаженно жестоко и навек осенил Вашу жизнь; хоть он и откровение, но откровение в пути, а путь бесконечен.
Однако независимо от этого для человеческого земного ограниченного ума ужасно представлять Вас в той раскаленной печи, в какой Вы живете. Я попробую говорить только о себе. Если рассматривать все как некое подобие школьной задачки, то у Вас по отношению ко мне были три возможности. Вы могли бы, например, ничего не рассказывать мне о себе, но тогда Вы лишили бы меня счастья знать Вас и – что еще важнее счастья – проверять на всем этом себя самого. Стало быть, Вам нельзя было замыкаться передо мной. Вы могли бы, далее, о многом умолчать, многое приукрасить – и сейчас еще можете, – но я бы при нынешнем положении дел это почувствовал, хоть и ничего не сказал бы, и мне было бы лишь вдвойне больно. Значит, и этого Вам нельзя делать. Остается только третья возможность: стараться по возможности спасти самое себя. И робкая надежда на такую возможность проскальзывает все-таки в Ваших письмах. Я нередко теперь читаю в них о спокойствии и твердости, нередко, правда, приходится все еще читать и о другом – а то даже и о «reelní hrůza»[11].
Того, что Вы сообщаете о своем здоровье (у меня оно хорошее, только сплю я в этом горном воздухе плохо), мне недостаточно. Диагноз врача я не нахожу очень уж благоприятным – точнее говоря, он ни то ни се, и лишь от Вашего поведения зависит, как его истолковать. Конечно, все врачи болваны; впрочем, они, наверное, и не глупее других людей, но их амбиции смешны; как бы то ни было, надо принимать в расчет, что стоит нам только с ними связаться, как они становятся все глупее; но то, что врач от Вас пока требует, не назовешь ни очень глупым, ни невозможным. Невозможно лишь, чтобы Вы всерьез заболели, и так оно и должно остаться невозможным. В чем изменилась Ваша жизнь после разговора с врачом – вот самый главный вопрос.
А теперь несколько второстепенных вопросов – Вы позволите? Почему и с каких пор Вы сидите без денег? Почему Вы раньше, как Вы пишете, общались в Вене со многими людьми, а теперь ни с кем?
Своих фельетонов Вы не хотите мне прислать; стало быть, не верите, что я смогу правильно и уместно вписать эти фельетоны в тот образ, который я себе о Вас составил. Хорошо, тогда я буду в этом отношении на Вас сердит, что, впрочем, не беда, ведь для сохранения равновесия даже лучше, если в одном уголке моего сердца для Вас будет уготовано немного сердитости.
Ваш Франц К.
Пятница
Прежде всего, Милена: что это за квартира, где Вы писали в воскресенье? Просторная и пустая? Вы одна? День и ночь?
Наверное, все-таки грустно прекрасным воскресным днем сидеть там в одиночестве против «чужого человека», чье лицо всего лишь «исписанный лист бумаги». Насколько же лучше обстоит со мной! Комната у меня, правда, маленькая, но зато здесь настоящая Милена, которая определенно сбежала от Вас на воскресенье, и поверьте, быть подле нее чудесно.
Вы сетуете на никчемность. В другие дни было и будет по-другому. Одна фраза (по какому поводу она была сказана?) ужасает Вас, но ведь она так ясна и в этом смысле произносилась – вслух или про себя – уже несчетно раз. Человек, терзаемый своими демонами, совершенно бессознательно мстит ближнему. В такие минуты Вам бы хотелось дать ему полное избавление, но это не удается, и тогда Вы называете себя никчемной. Кому дозволено желать такого кощунства? Ведь это еще никому не удавалось, в том числе, к примеру, даже Иисусу. Он мог только сказать: «Следуй за мною», а потом это великое (цитируемое мною, увы, совершенно неправильно): поступай по слову Моему, и увидишь, что это не слово человека, но слово Бога. И демонов он изгонял только из тех людей, что следовали за ним. Да и то не всегда, потому что, если они отпадали от него, он тоже утрачивал влияние и «благополезность». Между прочим – это единственное, в чем я с Вами согласен, – он тоже уступал соблазну.
Пятница
Сегодня под вечер я, собственно говоря, впервые в одиночку совершил довольно длительную прогулку, обычно я ходил с другими людьми или большей частью лежал дома. Что это за края! Силы небесные и бедный, неспособный мыслить рассудок, Милена, если б Вы были здесь! Притом ведь я бы солгал, если бы сказал, что мне Вас недостает; это совершеннейшее, мучительнейшее волшебство – Вы здесь, точно так же, как я, и даже сильнее; где я, там и Вы, и даже сильнее. Это не шутка, иногда я воображаю себе, что Вам – той, которая находится здесь, – недостает здесь меня и Вы спрашиваете: «Где же он? Разве он не писал, что находится в Меране?»
Ф.
Вы получили два моих ответных письма?
Дорогая госпожа Милена,
день так короток, проведен он с Вами и с кой-какими незначительными мелочами и уже подошел к концу. Остается разве что немного времени, чтобы написать настоящей Милене, поскольку еще более настоящая целый день пробыла здесь, в комнате, на балконе, в облаках.
Откуда идет свежесть, настроение, беспечность Вашего последнего письма? Что-то переменилось? Или я ошибаюсь и этому способствуют будничные вещи? Или Вы так хорошо владеете собой, а заодно и всем этим? В чем же тут дело?
Начинается Ваше письмо прямо как судебный документ, я всерьез так считаю. И Вы правы, упрекая: «Či ne tak docela pravdu»[12], так же как Вы, в сущности, были правы насчет «dobře míněno»[13]. Это ведь само собой разумеется. Будь я встревожен так сильно и непрерывно, как написал, я бы не выдержал в качалке и никакие препятствия не помешали бы мне уже через день явиться в Вашей комнате. Это единственная проверка на правдивость, все остальное – разговоры, в том числе и вот это. Или апелляции к основополагающему ощущению, но оно безмолвствует и сидит сложа руки.
Как же получается, что все эти смешные люди, те, кого Вы описываете (с любовью и потому чудесно), затем тот, кто задает вопросы, и многие другие Вам еще не надоели? Вы же должны вынести приговор, ведь в конце концов приговор выносит именно женщина. (Легенда о Парисе несколько напускает туману, но и Парис судит лишь о том, приговор которой из богинь самый веский.) Дело-то, в общем, не в смешных причудах, быть может, смешное в них сиюминутно, а ставши частью целого, они затем сделаются серьезны и хороши, – не эта ли надежда удерживает Вас подле этих людей? Кто может сказать, что ему ведомы тайные мысли судии, но мне кажется, что Вы прощаете смешные причуды как таковые, понимаете их, любите и Вашей любовью облагораживаете. А между тем эти смешные причуды суть не что иное, как зигзаги собачьей беготни, тогда как хозяин шагает напрямик, ну не напролом конечно, а как раз по дороге. Однако в Вашей любви, наверное, все равно есть смысл, я в этом совершенно уверен (просто я не могу не спрашивать и не находить это странным), и, только чтобы подтвердить такую возможность, мне вспоминаются слова одного из сослуживцев. Несколько лет назад я часто плавал в лодочке-«душегубке» по Влтаве, поднимался на веслах вверх по течению, а потом, растянувшись во весь рост на дне утлого суденышка, плыл по воле волн, под мостами. Из-за моей худобы сверху, с моста, зрелище явно было очень смешное. Так вот, тот сослуживец, который однажды увидел меня с моста, так подытожил свое впечатление, прежде достаточно подчеркнув комизм ситуации: картина – как перед началом Страшного суда, когда гробы уже отверзлись, но мертвые еще не восстали.
Совершил небольшую прогулку (не ту большую, о которой упоминал и которая так и не состоялась) и почти три дня от (вовсе не неприятной) усталости почти ничего не мог делать, даже писать, только читал, письмо, статьи[14], и не по одному разу, полагая, что такая проза существует, разумеется, не ради себя самой, а служит своеобразным дорожным указателем на пути к человеку, на пути, по которому идешь все более счастливый, пока в миг прозрения не осознаешь, что ничуть не продвигаешься вперед, просто все еще блуждаешь в собственном лабиринте, только в еще большем, нежели обычно, волнении и замешательстве. Но как бы там ни было, написано это не какой-нибудь заурядной авторшей. После этого я питаю к Вашим писаниям почти столько же доверия, как и к Вам самой. На чешском языке (при скудных моих познаниях) мне известен лишь один образец словесной музыки – музыка Божены Немцовой[15], и вот новая музыка, но сродни той первой – решительностью, страстностью, изяществом и прежде всего прозорливостью ума. Это вызвано к жизни последними годами? Раньше Вы тоже писали? Конечно, Вы можете сказать, что я до смешного предубежден, и Вы правы, я безусловно предубежден, но лишь в силу того, что мною не просто впервые найдено в этих (кстати, неровных, местами страдающих от дурного влияния газеты) заметках, но найдено вновь. Неполноценность моего суждения Вы, однако, можете заметить сразу по тому, что я, введенный в соблазн двумя пассажами, полагаю Вашей и изрезанную статью о модах. Я бы с большим удовольствием оставил эти вырезки у себя, чтобы по крайней мере показать их моей сестре, но, поскольку они нужны Вам незамедлительно, прилагаю их к письму, вдобавок на полях я вижу подсчеты. Вашего мужа я все же оценивал иначе. В кругу завсегдатаев кофейни он казался мне наиболее покладистым, восприимчивым, спокойным, едва ли не преувеличенно отечески заботливым, впрочем, и замкнутым, но не до такой степени, чтобы это упразднило перечисленные выше качества. Я всегда относился к нему с уважением, а узнать его ближе не имел ни случая, ни способности, но друзья, в особенности Макс Брод, были о нем высокого мнения, и, думая о нем, я постоянно об этом помнил. Одно время мне особенно нравилось его чудачество: в любой кофейне ему по нескольку раз за вечер звонили по телефону. Похоже, кто-то, вместо того чтобы спать, сидел у аппарата, дремал, положив голову на спинку кресла, и время от времени в панике просыпался, чтобы позвонить. Мне так понятно это состояние, что, наверное, я только потому об этом и пишу.
Ваш Франц К.
Как Вы думаете? Удастся ли мне еще до воскресенья получить письмо? Возможность-то есть. Но эта страсть к письмам просто нелепа. Разве не достаточно одного письма, одной весточки? Конечно, достаточно, и все же откидываешься на спинку качалки, и пьешь эти письма, и знаешь только, что так бы и пил их не переставая. Объясните это, Милена, учительница!
Четверг
Сейчас я не хочу говорить ни о чем другом, кроме как вот об этом (я и письма Ваши еще толком не прочитал, только облетел взглядом, как мошка свечу, и несколько раз опалил себе головенку; кстати, как я успел установить, это два совершенно разных письма – одно, чтобы пить его и пить, другое, чтобы прийти в ужас, но последнее, видимо, написано позднее): когда встречаешь знакомого и с напряженным интересом спрашиваешь, сколько будет дважды два, то это вопрос сумасшедшего, однако в первом классе начальной школы он весьма и весьма уместен. Мой же вопрос к Вам, Милена, таков, что в нем соединяется то и другое – сумасшедший дом и начальная школа, к счастью, толика начальной школы тоже есть. Дело в том, что я всегда приходил в совершенное недоумение, если кто-нибудь ко мне привязывался, и порой разрушал иные человеческие связи (например, с Вайсом[16]) по причине логического склада ума, всегда больше верящего в заблуждение другого, нежели в чудо (касательно меня, и только).
Зачем, думал я, мутить такими вещами и без того уже мутные воды жизни. Я вижу перед собою часть возможного пути и понимаю, на каком же огромном и, наверное, непреодолимом для меня расстоянии от нынешнего моего местопребывания я стану достоин случайного взгляда (моего, что уж там говорить о других!), да, случайного взгляда (это не скромность, а гордыня, если Вы хорошенько вдумаетесь), и вот я получил – Ваши письма, Милена. Как выразить это отличие? Некто лежит в грязи и вони смертного одра – и приходит ангел смерти, благословеннейший из всех ангелов, и смотрит на него. Смеет ли этот человек вообще умирать? Он переворачивается, зарывается еще глубже в постель, умереть ему невозможно. Словом, я не верю в то, что` Вы мне пишете, Милена, и нет способа все это мне доказать – ведь и Достоевскому в ту ночь никто не смог бы ничего доказать, а моя жизнь длится одну ночь, – доказать мог бы только я сам, вполне представляю себе, что был бы на это способен (как Вы однажды представили себе человека в качалке), но и себе я не поверю. Вот почему этот вопрос был смешным паллиативом – Вы, разумеется, поняли это сразу, – так учитель от усталости и тоски иной раз, слыша правильный ответ ученика, нарочно внушает себе, будто этот ученик по-настоящему понимает предмет, тогда как на самом деле тот знает ответ лишь по каким-то несущественным причинам и никоим образом не может понимать сути предмета, потому что такому пониманию его мог бы научить лишь сам учитель. Но не хныканьем, жалобами, ласками, просьбами, мечтами (у Вас есть последние пять-шесть писем? Вам бы стоило взглянуть на них, они составят полноту картины), а не чем иным, как… Оставим вопрос открытым.
Я заметил, что в своем письме Вы упомянули и о той девушке. Чтобы сразу развеять все сомнения, скажу так: если отвлечься от минутной боли, Вы оказали этой девушке величайшее благодеяние. Я просто не могу представить себе, как бы она иначе от меня отделалась. Конечно, у нее было некое болезненное предчувствие, но она совершенно не видела, откуда, собственно говоря, местечко подле меня черпало свое (тревожное, но тревожное не для нее) тепло. Помню, мы сидели рядом на канапе в однокомнатной квартире во Вршовице (кажется, был ноябрь, а квартира эта через неделю должна была стать нашим жильем), она была счастлива, что после стольких трудов добыла по крайней мере эту квартиру, рядом с нею сидел ее будущий муж (повторяю, затея с браком принадлежала мне одному, один я настаивал на свадьбе, она лишь испуганно и нехотя подчинилась, а потом, конечно же, свыклась с этой мыслью). Размышляя об этой сцене со всеми ее подробностями, более многочисленными, чем лихорадочные удары сердца, я верю, что способен понять любое человеческое ослепление (в данном случае оно месяцами владело и мною, впрочем, я был не только ослеплен, но еще и воображал, что из этого получится брак по расчету в самом лучшем смысле этого слова), да, любое ослепление, до конца, и боюсь поднести к губам стакан молока, потому что он, не по случайности, а с умыслом, вполне может разбиться у меня перед носом и вонзить осколки мне в лицо.
Вопрос: в чем заключаются упреки, которые Вам делают? Да, мне тоже случалось делать людей несчастными, но они, разумеется, не упрекают меня все время, они просто умолкают и, по-моему, даже в глубине души не корят меня. Такое у меня исключительное положение среди людей.
Но все это не важно в сравнении с мыслью, которая осенила меня нынче утром, когда я вставал с постели, и так околдовала, что я даже не заметил, как умылся и оделся, и, наверное, точно бы таким же манером и побрился, если б ранний гость не вывел меня из этого состояния.
Коротко говоря, дело вот в чем: Вы на время оставите Вашего мужа, ничего нового в этом нет, ведь однажды такое уже случалось. Причины тому: Ваша болезнь, его нервозность (Вы облегчите и его жизнь) и, наконец, венские обстоятельства. Куда Вы надумаете поехать, я не знаю, лучше всего Вам бы подошло какое-нибудь тихое место в Богемии. Притом лично мне лучше всего не вмешиваться и не появляться. Необходимые для этого деньги Вы пока возьмете у меня (об условиях возврата мы договоримся). (Назову лишь одно побочное преимущество, которое я бы от этого получил: я бы сделался самым что ни на есть прилежным конторщиком – служба у меня, кстати, смехотворная и до невозможности легкая, Вы даже представить себе не можете, я понятия не имею, за что получаю деньги.) Если на месяц иной раз и не вполне хватит, Вы наверняка легко достанете дополнительную сумму, которая явно будет невелика.
Не стану пока больше расхваливать эту идею, но Вам предоставляется оказия высказать о ней свое суждение и таким образом продемонстрировать мне, позволительно ли доверить Вашему суду об иных моих придумках (ибо ценность этой идеи мне известна).
Ваш Кафка
Не очень-то легко теперь, когда я прочитал это ужасное, но ужасное отнюдь не насквозь письмо, благодарить за радость, какую доставило мне его получение. День праздничный, обычная почта уже никак бы не пришла, да и назавтра, в пятницу, вряд ли можно было рассчитывать на весточку от Вас, стало быть, настало что-то вроде глухого затишья, хотя, что касается Вас, отнюдь не печального; ведь в последнем письме Вы были очень сильная, и я смотрел на Вас так же, как смотрел бы из качалки на альпинистов, если б мог разглядеть их отсюда высоко в снегах. И вот прямо перед обедом пришло это письмо, я мог взять его с собой, вытащить из кармана, положить на стол, опять спрятать в карман, ну, словом, как пальцы обыкновенно играют с письмом, смотришь на них и радуешься этим детям. Своих визави, генерала и инженера (превосходные, милые люди), я порой не узнавал, слышал их еще реже, еда – сегодня я опять начал есть (вчера не ел вообще) – мне тоже не очень мешала, из арифметических упражнений, которые были устроены после обеда, короткие задачки были мне куда яснее, чем длинные решения, во время которых мне зато открывался в распахнутое окно вид на сосны, солнце, горы, деревню, а прежде всего – далеко за ними угадывалась Вена.
