Магаюр
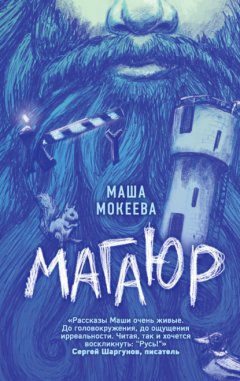
Аукцион
Петербург. Почти все в зале – мужчины. Среднего возраста, в рубашках и пиджаках, в очках. У одного кожаный портфель шириной полметра – видимо, решительно настроен. Кто-то пьёт вино, свет ламп отражается в бокалах.
– Присаживайтесь, пожалуйста, мы начинаем аукцион. Итак, первый лот – Мережковский, имеются заочные биды… Восьмой лот – Бальмонт, «Тишина» (две секунды ведущая, девушка по имени Агата, ждёт) – снят!.. Одиннадцатый лот – Бунин, «Полевые цветы»! Восемнадцать тысяч, девятнадцать, двадцать, двадцать одна – раз! Двадцать две! Двадцать три! Двадцать три – раз! Двадцать четыре! Двадцать пять! – Считает до сорока. – Продано!
– Лот шестнадцать – «Азбука в картинах Александра Бенуа»! Есть заочные биды, озвучиваю самую большую цифру – сто пятьдесят тысяч!
Кто-то сзади во весь голос:
– Забирайте, у всех она есть!
– Продано заочно!.. Лот двадцать девять – Бальмонт, «Жар-птица»! Продано за семь тысяч, спасибо! Лот тридцать… О, опять «Жар-птица»! Только с автографом автора! Пятьдесят! Шестьдесят! Восемьдесят! Сто! Сто двадцать! Сто сорок! Сто шестьдесят! Сто восемьдесят!.. Продано за триста сорок покупателю под номером семь, спасибо!.. Лот пятьдесят – Брюсов, рукописи стихотворений! Двадцать пять! Двадцать шесть! Продано за двадцать восемь, спасибо!
– Халява какая… – бормочет сосед.
– Лот шестьдесят один! Четыре тысячи! Пять!
Поднимавшему руку друг говорит:
– Давай борись, сражайся, я тебе одолжу!
Хохочут.
– Лот шестьдесят четыре – Каменский, «Землянка»! Тридцать! Сорок! Пятьдесят!
– Очень хорошая книжка, – комментируют сзади.
– Шестьдесят! Семьдесят!
– Да хватит уже! – слышится где-то слева.
– Продано за восемьдесят пять! Спасибо!.. Лот шестьдесят семь – Ахматова, «Вечер», с автографом автора! Четыреста! Пятьсот! Шестьсот!
– Семьсот даёте? Восемьсот даёте? – шепчет Агата в трубку.
– Восемьсот! Девятьсот, чтобы выполнить свои обещания! Девятьсот – раз! Девятьсот – два! Миллион! Миллион – раз! Миллион – два… Продано за один миллион, спасибо!
Мой сосед тяжело вздыхает и утирает пот со лба.
– Лот восемьдесят один – Цветаева, «Волшебный фонарь», есть заочные биды, поэтому сто восемьдесят тысяч! Двести! Двести двадцать!.. Триста!
– Кто же это торгуется? – Мужчина, сидящий впереди меня, поворачивается и всматривается в задние ряды.
– Продано за триста сорок, спасибо!.. Лот сто один – Блок, «Стихотворения»! Восемьдесят! Сто! Сто двадцать! Сто сорок!
– Смотри-смотри, кто-то повёлся, – ухмыляется один другому.
– Лот сто пять – Мандельштам, «Камень»! Пятнадцать! Шестнадцать! Семнадцать! Продано!
– А, погодите, мне тоже надо!
– Лот сто сорок один! Ахматова! «У самого моря»! Сорок! Пятьдесят! Семьдесят! Девяносто!
– Господи Иисусе!
– Не поминайте всуе!
– Продано за девяносто пять тысяч, спасибо!.. Лот сто шестьдесят пять – Бальмонт, «Марево»! Шестьдесят! Восемьдесят! Сто! Сто двадцать!.. Двести! Триста! Четыреста!
– Пятьсот даёте? – тихонько говорит девушка в телефон.
– Агата, прекрати! Агата, перестань! – кричат ей из зала.
– Пятьсот, чтобы выполнить свои обещания!
– О каких обещаниях она всё время говорит? – озадаченно спрашивает мужчина с тросточкой.
– Продано за шестьсот тысяч, спасибо!
Сосед оборачивается назад, и ему кто-то говорит:
– Это не я! Ты что!
– Лот двести восемнадцать – Маяковский, «Париж»! Семьдесят! Восемьдесят!
– Книжка же максимум тыщу стоит!
– Раньше стоила.
– Да… Толь, а Рахманинов был хорош…
– Настя, – говорит муж жене, – опусти руку, опусти!
Она держит руку и выигрывает «Париж» за сто тридцать тысяч. Многие одновременно вздыхают, и этот общий вздох гулко разносится по залу.
– Лот двести восемьдесят восемь – Шагинян, «Тайна трёх букв»!
– Какая же там тайна, в трёх буквах-то?
– Так это же она Сталину, Сталину написала! Про три буквы!
– Ох…
– Ахматова, «Стихотворения»! 1946 год! Уничтоженное издание! Есть заочные биды, называю самую большую цену! Восемьсот тысяч! Девятьсот! Миллион! Миллион сто! Миллион двести! Миллион триста! Четыреста! Пятьсот! Миллион пятьсот – раз!
– Миллион шестьсот даёте? – бормочет Агата в трубку, раскрасневшись.
– Эх, – сосед опускает руку и в изнеможении разваливается на стуле.
– Миллион пятьсот – два! Шестьсот! Миллион шестьсот – раз! Миллион семьсот! Миллион семьсот – раз! Миллион семьсот – два! Миллион семьсот – три, продано! Спасибо!
– Ох, не могу, пойду покурю, – сосед слева берёт куртку, оставляет на стуле полуметровый портфель и уходит.
Через пятнадцать минут:
– Аукцион окончен, всем спасибо! – говорит ведущая и кладёт молоток из красного дерева на обтянутую чёрным бархатом подставку.
Когда все разошлись и в зал проникал только свет уличных фонарей, в коридоре меланхолично мыла мраморный пол пожилая уборщица с двумя высшими образованиями. Из-за тяжёлых дубовых дверей аукционного зала послышались вздохи, смешки и звон бокалов.
– Раздавайте, Анна Андреевна!
– Ох, Иван Алексеевич, что ж вы делаете?..
– Вам, дорогая, сегодня грех жаловаться, сорвали куш! Сколько процентов-то берёте?
– Стесняюсь сказать…
– Что вы, здесь все свои! Да, Валерий Яковлевич?
Брюсов согласился.
«Неужели сидят ещё? И так уже всю Россию купили», – подумала уборщица и со всей силы принялась выжимать половую тряпку.
Зазвучали другие голоса, будто за покерный стол сели новые игроки.
Уголья
Дьякон вологодского кафедрального собора Михаил в последнее время чувствовал, что жизнь его петляет на месте, как потерявшийся в лесу грибник. И всё из-за епископа Максимилиана, который любил слушать, как он поёт на богослужениях. Михаил уже давно семинарию окончил, но никак не удавалось ему стать священником. Стоило завести разговор об этом с настоятелем, тот вздыхал и повторял: «Ну, ваше громогласие, пока сверху распоряжений по этому вопросу не поступало».
Михаил знал, крепко знал, что дело в епископе. Было в нём что-то бандитское. Сухонький, крепкий, деспотичный мужичок, который до поступления в духовную академию работал учителем физкультуры. Имелась у него неприятная манера: если он слышал что-то неугодное, то опускал подбородок, поднимал брови и смотрел на собеседника по возможности не мигая. Когда Михаил пел, епископ Максимилиан блаженно улыбался, и губы его шевелились, повторяя слова молитв. Но стоило дьякону заговорить с ним о своих идеях и литературных трудах, тот опускал голову, поднимал брови и смотрел на него как на пропавший салат.
Жизнь у Михаила шла в общем-то всегда неплохо. У него была семья, старик-отец в деревне, куда он любил ездить, встречи «Свитка» – литературного объединения вологодских писателей. Но в тот год всё стало исчезать, как в густом вечернем тумане. Сначала погиб отец – задохнулся во сне из-за не открытой по рассеянности заслонки печи, потом жена уехала жить к сестре в Ростов, а сын завёл подругу и тоже съехал. И остался Михаил один, продал свою двушку, купил совсем маленькую квартиру. Жил просто. В шкафу у него висел стихарь для богослужений, брюки да голубые рубашки, которые Михаил любил носить. Они и правда шли к его бледно-синим глазам, в которых, как говорили его знакомые, всегда сидела грустная смешинка, к его бороде, широким плечам и высокому росту. Ещё в комнате стоял письменный стол у окна, на котором царила старенькая пыльная лампа и лежал недорогой корейский ноутбук; кресло из отцовского дома; узкая кровать. На кухне тоже не было ничего лишнего. Окна выходили на школьную спортивную площадку.
Половину оставшихся от продажи квартиры денег Михаил отдал сыну, а свою часть потратил на ушатанную, но ещё передвигавшуюся чёрную «девятку», чтобы ездить на ней в отцовский дом. Дел там было много: комната, где случился пожар, пришла в негодность – предстояло залатать дыру в полу, поклеить новые обои, покрасить пол и побелить потолок, позвать печника сложить новую печь. Старый дом стал заваливаться набок: положи мячик на пол – и он покатится, набирая скорость. Нужно было вызвать бригаду с домкратами, чтобы они приподняли дом и выровняли фундамент. На всё это требовались деньги.
А Михаил распоряжался более чем скромными финансами. На жалованье дьякона, даже такого, который однажды удостоился чести петь на службе в присутствии патриарха, можно было жить, но не тужить было сложновато. Хорошо ещё перед Новым годом Михаил поддался на уговоры одного доброго знакомого и подработал Дедом Морозом. Дети его обожали, а пьяненькие счастливые родители вкладывали ему в ладонь шальные тыщёнки. За неделю он и заработал на ноутбук, на котором увлечённо настукивал воспоминания, краеведческие записки и стихотворения в прозе, в которых продолжал традиции почитаемых в вологодских краях писателей-деревенщиков.
Но в конце весны, когда пора было приступать к ремонтным работам, денежный вопрос встал, как говорят председатели жилищных кооперативов, ребром. По вечерам Михаилу становилось грустно оттого, что он, пятидесятилетний образованный мужчина с могучей бородой, не может привести в порядок отчий дом. В разгар его страданий в храм приехал епископ Максимилиан. Хитро зыркнув на Михаила, он что-то сказал настоятелю, тот закивал и тоже посмотрел на Михаила. В голове дьякона послышался вкрадчивый и настойчивый голос, призывающий к мстительному неповиновению, и во время богослужения он нарочно фальшивил и даже дал петуха, а затем с тяжёлым удовлетворением наблюдал, как хмурился и морщил нос епископ.
– Что с тобой, Михаил, нализался вчера? – спросил настоятель после отъезда епископа.
– Не отрекаюсь, батюшка…
– Ну, больше так не делай.
На том и помирились. Настоятель был человек понимающий и по обстоятельствам душевный, так как сам проживал не без греха.
После той литургии Михаил шёл домой через рыночную площадь, злился на епископа с настоятелем и вдруг впервые почувствовал лёгкость свободы от обязательств и освежающий дух противоречия. Он огляделся и заметил много новых заведений: «Выручим до получки», «Деньги здесь», «Экспресс-кредит». Он остановился у видавшего виды бетонного Ленина и задумался. А что ему ещё оставалось? Михаил выбрал самую приличную контору и вошёл.
За столом парень в полосатой футболке что-то сосредоточенно листал в своём смартфоне. Перед ним лежали листовки с весьма привлекательными предложениями. Михаил сел на свободный стул и начал их разглядывать. Печник тысяч десять попросит, потом на краску, на доски… А сколько стоит поднимать фундамент? Может, пока и так сойдёт? Программа «До зарплаты. До пенсии» ему подходила: выдавали сразу тридцать тысяч, проценты вроде приемлемые, если быстро вернуть деньги, а Михаил так и собирался поступить.
В анкете он гордо вывел: «дьякон». Консультант обратил на это внимание и обрадовался: «Такие люди к нам ещё не приходили!» Михаил вздохнул. Над графой о поручителе он долго думал и наконец написал: «Антон Витальевич Лысенко», а в скобках – «епископ Максимилиан». И телефон указал, благо был в мобильной записной книжке с тех пор, когда ему поручили в прошлом месяце отвезти епископу конверт и ящик крымского шампанского. Консультант присвистнул и прокомментировал: «С таким поручителем я могу вам и триста тысяч выдать». Михаилу вдруг стало весело. Он представил, как получит триста тысяч и уедет жить в Грецию, а епископа будут осаждать коллекторы.
Но после того, как его отец потерял свои сбережения на «МММ», Михаил старался относиться к денежным вопросам разумно, взвешивая все «за» и «против», продумывая варианты будущих событий. Было решено, что тридцать тысяч брать не страшно – рано или поздно, но он их вернёт, не так уж это и много.
К концу лета печь ещё была не доделана. Печник взял деньги вперёд и запил. Пол восстановили, обои поклеили, забор новый поставили, и деньги кончились. Уже давно бежали проценты. От настойчивых звонков кредиторов он избавился – просто выключил сотовый и сунул в шкаф, а городского телефона у него в новой квартире не было. Когда стучали в дверь, он так талантливо притворялся, что его нет дома, что сам начинал в это верить. В какой-то момент неизвестный миру коллектор выпил стопку для смелости и позвонил епископу. Пригрозил ему, чувствуя вдохновение, что если дьякон Михаил не выплатит шестьдесят тысяч, то будет написано заявление в прокуратуру и там займутся проверкой бухгалтерской отчётности всей епархии. Епископ ответил, что разберётся.
Когда на следующий день Михаил пришёл на службу, настоятель отозвал его в сторону и, с трудом скрывая удивление, произнёс:
– Ну что, отец Михаил, поздравляю тебя, голубчик…
– С чем? – спросил дьякон, и сердце его заколотилось изо всех сил.
– С премией! За усердные труды в чине дьякона в течение столь долгого времени владыка жалует тебе премию в шестьдесят тысяч, а через неделю возведёт тебя в протодьяконы… С тем, чтобы скоро ты стал иереем и возглавил приход храма Власия Севастийского. Правда, его сначала восстановить надо.
Поговорив с настоятелем, Михаил вышел подышать в сквер. Он сел на скамейку и стал наблюдать, как пчела летает над клумбой и садится на цветы, которые он сажал, помогая приходским бабкам, несколько месяцев назад. Невероятно! Вот момент, которого он так ждал. Храм Власия был до революции знаменит своими фресками и состоятельнейшими прихожанами. И в его руках снова станет незаурядным – он соберёт там интеллигенцию, людей, которые, конечно, оценят его чуткое понимание искусства. Он будет поддерживать их во мрачные дни духовного кризиса и творческого разлада… Но с чего это вдруг епископ обрушил на него свою милость? Может, издевается? Где же собака порылась? И премия… Неспроста. И тут вспомнил Михаил слова апостола Павла: соверши доброе дело для того, кто огорчил тебя, и, делая сие, соберёшь ты ему на голову горящие уго́лья.
Михаилу стало нехорошо. Откуда теперь беды ждать? Может, отказаться от повышения? Уголья!
После службы он пошёл к храму Власия. Полуразрушенный, в «лесах», без купола, а за ним под яблоней – памятный камень священнику, служившему здесь сто лет назад и убитому большевиками. «Все мы у Родины в неоплатном долгу», – почему-то пришли на ум Михаилу тяжёлые и плоские слова. Он долго смотрел на этот камень, и голове его было жарко.
Чайный капитан
Дома вокруг стояли вразжопицу. Вовсю цвели вдоль заборов лилии, распространяя приторный дух. Время от времени слышался хриплый стон, которым заканчивался каждый возглас петуха Германа.
Август выдался индифферентным: ничего не происходило и было прохладно, то и дело моросил дождец.
У хозяина, видать, тяжело было на душе. Он ходил насупившись, а я, напротив, пребывал в приподнятом настроении. Мне всё нравилось. Например, прислушиваться и приглядываться: узнавать издалека модель машины по звуку мотора, бабочку – по узору на крыльях, приближение грозы – по далёким раскатам грома. Я стал подолгу смотреть на облака и думать о том о сём. Например, представлял птиц, у которых вместо голов – камеры видеонаблюдения (три года назад камера была установлена вот тут рядом на столбе, потом сломалась, и ее украли хмыри из соседней деревни). Пролетая мимо, такие птицы поворачивают свои камеры в разные стороны и фиксируют всё, что происходит. Здорово быть живым.
В полдень появился белый незнакомый, кажется японский, автомобиль с московским номером. Хозяин нажал на кнопку, и я поднялся. Машина въехала на территорию посёлка, из неё вылез небритый парень в немецкой камуфляжной куртке.
– Добрый день! – бодро сказал он. – Не возражаете, если мы погуляем по лесу вокруг вашего посёлка, а машину тут оставим? – спросил он.
– Здравствуйте, сударь, а это ещё зачем? – с подозрением отреагировал хозяин.
– Спортивным ориентированием занимаемся.
– Да? Что-то не похож ты на спортсмена, а ну-ка компас покажи! – потребовал хозяин.
«Не на того напал приезжий, нас не обманешь – хозяин весь свой век солдат жизни учил, про спортивное ориентирование всё досконально знает…»
– Да я по картам…
– Карту показывай! – настаивал хозяин.
– Сейчас… Маша, где у нас карты?
Открылся багажник, парень вытащил оттуда какие-то распечатки.
– Ну так это не для спортивного ориентирования, – сказал хозяин, искоса глядя на распечатки в руках гостя. – Я-то им, в отличие от вас, занимался, знаю.
– Мы с вами называем одно и то же разными словами, какая разница? – начал объясняться гость. – Мы идём по навигатору до точки пересечения координат. Сейчас вот поставили точку в вашем лесу, там, где пруд.
– А на самом деле зачем приехали?
– Погулять, проветриться.
– Так езжайте туда, – хозяин махнул рукой в сторону выезда, – по тому полю прогуляйтесь, оно шире и не пахано, иван-чая соберите.
– А как иван-чай выглядит? – спросил парень. – Всегда хотел узнать.
– Не знаешь, как иван-чай выглядит?! – поразился хозяин. – Странный ты человек…
«Опять он про свой иван-чай! – подумал я. – Сейчас начнёт… Надоело!»
– Не знать иван-чай! – произнес хозяин воодушевлённо. – Я везде бывал – и в Китае, и в Индии, и в Шри-Ланке. Пил там чай. Нигде такого иван-чая, как у нас, нет. А ведь раньше мы всем его продавали – и в Китай, и в Индию, и даже в Англию.
– Что-то я такого не слышал, – сказал гость. – В Англию?
Хозяин раскраснелся.
– Ничего ты не знаешь. А ты хоть слышал, что под Архангельском у англичан концлагеря были? У них-то Гитлер и фашисты ихние всему и научились! А какой в Архангельской области иван-чай!.. Вон, в Шри-Ланке чай есть, продаётся в серебряных коробках, так там семь процентов – это иван-чай! На вас, молодёжь, интернет плохо влияет, ничему не учит…
– Зато по телевизору нас учат любить президента, – ехидно ответил парень.
Тут я вспомнил прелюбопытную историю. Её рассказал сослуживец хозяина. Однажды ему приказали выделить солдат для охраны поезда с цистернами. Он их проинструктировал как надо, надавал строгих указаний. По пути солдаты стреляли бродячих собак, норовивших прикорнуть в тени эшелона на станциях, и отгоняли зевак. Потом выяснилось, что в цистернах была всего лишь морская вода для президентского бассейна: её везли из Коктебеля к нам, во Владимирскую область, потому что ходили слухи, что глава государства вскоре переночует в своей местной резиденции.
– А ты чем занимаешься? – сузил глаза хозяин.
– Журналист, – ответил гость.
– И о чём пишешь?
– Как о чём? Сегодня об одном, завтра о другом.
– Ну так про иван-чай напиши. Пора снова его экспортировать. Поставь вопрос ребром. И на Шри-Ланку съезди. Нельзя писать о том, чего не знаешь! Хватает таких писунов! И на радио ещё лезут выступать! А в лес не надо идти, нечего вам там делать.
– Ещё как надо! – возразил парень. – Просто попасть туда можно только из вашего посёлка: слева болото, справа карьер.
Я задумался: чего же этим приезжим там нужно-то, в лесу? Туда у нас только домашние свиньи бегают – на свидания с дикими кабанами. Хозяин, наверно, не зря запрещает… Видимо, не хочет, чтобы кто-то бродил рядом с посёлком вне поля его зрения. А парню-то как хочется туда! Всё время на лес смотрит! Что-то там есть! Сейчас птицы с камерами пригодились бы!
– Нет, – отрезал хозяин. – Не получится. Езжайте, иван-чай соберите, пока шлагбаум открыт.
Мне стало приятно, что обо мне говорят. Я действительно был открыт. Парень кивнул.
– Ладно. Всего доброго!
– Успехов, успехов… – сказал хозяин, довольный, что по его территории без разрешения комар не пролетит.
Машина уехала. Я опустился. Хозяин оглядел свой идеально подстриженный – как затылок новобранца – газон перед домом, смахивающим на трёхэтажную казарму, и пробормотал: «Пора экспортировать… поставить вопрос ребром… писуны!» Я подумал, что правильно он их в лес не пустил: никогда не знаешь, чего ждать от незнакомцев. Иногда придут ночью и пытаются меня поднять, хотя нельзя – я на замке. Я терплю. В Тибете на определённых стадиях физической медитации люди, которым не хватает терпения, считаются слабоумными. Не хотел бы я прослыть слабоумным. Хватает того, что я – шлагбаум.
Пошёл дождь. Я прислушался к своим ощущениям: чувствую, как по всему телу текут дождевые капли, как хозяин тряпкой стирает с меня птичий помёт в том месте, где горит лампочка. Чувствую, как высокая трава щекочет мой подъёмный механизм.
Тридцать пятый
Одеяло хорошее, из шерсти. До этого принадлежало монашке. Наверно, перед сном снимала подрясник и облачалась в ночную рубаху. Возможно, в этот момент за ней наблюдали – на окнах нет занавесок. Или тогда были? Скорее всего, узкая комната с низким потолком казалась ей в минуты слабости просторной могилой, но теперь ей ещё хуже. Монахинь выселили, некоторых увезли, остальные разбежались. Приютил кто её? Нашла работу? Или умирает на Соловках с молитвой? Что мне за дело? Любая власть – что на земле, что на небе – подавляет, гнетёт, требует по своему разумению, нас не спросив. Мне повезло, предложили непыльную работёнку, с комнатой, а многие живут в фанерных бараках, спуская ноги с кровати прямо на земляной пол. У меня одна незадача – тараканы. Когда ночью, зажигая керосиновую лампу, вижу их, то даю им имена – Ярослав, Мстислав, Игорь. Они соперничают за хлебную корку. Последние князьки на русской земле.
Встать не так просто. Холодно в кровати, но снаружи ещё холоднее. Скоро занятие, а я нечёсан, неодет. Опять же повезло вести теоретические занятия – в помещениях сухо, в законопаченные окна не дует. Коллега, Егорыч, прямо в поле ведёт учеников – там стоит трактор «Фордзон-Путиловец», как полагается, или комбайн – и показывает, как что работает, какие бывают поломки, как чинить. Предварять и завершать занятие требуется напоминанием, что всё это – благодаря товарищу Сталину, от усердия нашего зависит будущее Родины, великих Советов. По мне, так дребедень, но попробуй пикни.
Я человек учёный, при царе учился в гимназии, а после революции работал в сельскохозяйственной артели. Поэтому назначен читать лекции в школе механизаторов. Моё дело – рассказывать, как сеять, когда собирать урожай, каким образом составлять календарные графики по уходу за посевами. Моя любимая посевная теория заключается в том, что нужно не только правильным образом уронить зерно в верно подготовленную почву, но и позаботиться о том, чтобы ничто не мешало ему прорасти и вызреть – оберегать землю от потопов, ветров, диких животных.
Школа на территории бывшего монастыря. На днях, чтобы техника могла свободно проезжать к новым гаражам, взорвали колокольню. Когда-то в здешнем храме крестили мою мать. Сейчас всё ценное вывезли, говорят, то, что осталось, скинули в колодец и закрыли бетонной плитой. Не знаю, зачем это большевикам? Архитектура же облагораживает, а они её разрушают.
Всё так же растут в соседнем лесу опята, вода в речке чистая и холодная, как раньше. Девушки хорошенькие имеются. Сейчас у них мода – носить береты.
Недавно опубликовали фотографию: Сталин и Жданов. Рожи одинаковые. Многие повадились отращивать такие же усы – от девок отбоя нет.
Перед уроком надо успеть повесить новый транспарант. Я его ещё не видел, но, наверно, опять про мировую революцию. У нас в кабинете таких уже три. Пыль собирают. Из-за этого тряпья высокие парни разогнуться в комнате не могут.
Ученики обсуждают слухи об Украине. Говорят, мыши снова пожрали зерно, будет голод. Половина верит, другая – нет: мол, почему тогда в газетах не написали? Сейчас скажу им помалкивать.
На задних рядах даже не услышали. Никак не научусь повышать голос. Вот Егорыч умеет. Как рявкнет: «Закрыли хлебала, смотрим на радиатор!» – так у всех языки отнимаются. Но в последнее время и так не скажешь – из-за девушек, которые пришли учиться.
Одна осталась как-то после урока и вопросы задавала: «А вот вы, Иван Сергеевич, как считаете, машины заменят когда-нибудь труд человека?», «Какие народные приметы помогают в нашей работе?», «Сколько зерна может дать местный колхоз?». В конце концов я говорю: «Нина, у меня есть книжка, в которой обо всём написано». Она пошла за ней ко мне в комнату, а когда мы зашли внутрь, закрыла дверь, подпёрла её стулом и уселась на кровать. «Одеяло у вас тёплое», – говорит. Стала задавать вопросы: «А вы православный человек?», «А ваша семья пострадала от коммунистов?». Я насторожился. Последнюю монахиню увозили при нас – она вырывалась, её связали и кинули в телегу. Вооружённый солдат залез следом. Верующих если не ссылают, то устраивают им херовую жизнь.
Твёрдо сказал: «Нет, Нина, коммунизм освободил наш народ и укрепил страну, о чём вы вообще говорите?» Она смутилась, а потом ответила: «Я видела, какой вы были мрачный, когда уничтожали колокольню».
Замер.
Неожиданно она начала раздеваться. Под ногтями у неё была земля, вокруг сосков – жёсткие тёмные волоски, но всё равно это было как чудо. Кто-то выбрал меня и одарил своей любовью. За что? За проблеск человечности? Я стал целовать её белое тёплое тело. Снял всё, что на ней оставалось. Ноги у неё были ледяные, я попробовал согреть их своим дыханием и накрыл одеялом. Мы поцеловались и прижались друг к другу.
Ей двадцать лет. Родители пропали в Гражданскую, воевали за белых. Монахини приютили нескольких сирот, в том числе и её. С тех пор Нина живёт в монастырском здании вместе с другими девушками.
Никого не интересовал наш роман. За нравственностью учениц не следили, от меня же требовалось только вовремя приходить на работу и исправно вешать лозунги на стены класса. Нина заглядывала ко мне каждый день, но никогда не оставалась на ночь – видимо, боялась, что её заметят ночью, когда будет выбегать в нашу вонючую, как ад, уборную. Думаю, в глубине души ей хотелось, чтобы о нас узнали, только когда мы поженимся.
Дни были похожи один на другой, и мне не хотелось изменений.
Однажды отправили на железнодорожную станцию встречать инспектора из Москвы. На платформе лежала яркая листовка. Думаю, её выбросили из окна поезда. На ней было написано:
«БОГ. НАЦИЯ. ТРУД».
Под этими словами мельче было напечатано следующее: «Православие издревле служило нравственным ориентиром в нашей великой России. При коммунистической власти всё погрязло во грехе; всем управляют интернационалисты и кавказцы, а русский народ снова окажется в рабском положении. Нельзя дать захватить страну этим головорезам. Вступайте во Всероссийскую фашистскую партию, распространяйте информацию, готовьтесь! Мы выступим против проклятых коммунистов в 1938 году, и нам нужна ваша поддержка».
Я спрятал бумагу в карман. Руки тряслись; было и страшно, и радостно. До этого и не знал точно, как отношусь к новой власти, но теперь, чувствуя, как быстро бьётся моё сердце, понял: многое меня не устраивает в нынешней жизни, столько всего приводит в недоумение.
Несколько дней усиленно размышлял.
Стало сложно вести занятия. Забывал, о чём только что говорил, и застывал, глядя на портрет Сталина. Сукина кавказская морда! Большевики легко пришли к власти, возможно и убрать их будет просто – они здесь не так уж давно. Надо вербовать союзников… Будет рискованно, но что делать. Я глядел на класс и не понимал, почему они не задумываются о происходящем, а вместо этого со скучающим видом разглядывают мои старые ботинки или муху, сидящую на цветном плакате, который я рисовал целую неделю: «Товарищи колхозники! Досрочно выполним государственный план посадки лесных полос! Они защитят наши поля от суховеев и создадут условия для получения высоких устойчивых урожаев!»
Тот инспектор провёл у нас неделю. Все его обхаживали, как барина, а он что-то вынюхивал. Побывал у каждого в доме. Фашистскую листовку я носил с собой во внутреннем кармане брюк, который специально нашила Нина. Она тоже была против большевиков, по понятным причинам. Неожиданно для всех нас инспектор с двумя сотрудниками НКВД арестовал Егорыча. Назвал его «сраным троцкистом». Через три дня его жена повесилась. Нина ревела так, что мне стало жутко. Я тогда отправился бродить вдоль речки, которая течёт под монастырским холмом каким-то особым, смиренным, зигзагом. Сел на валявшийся на берегу деревянный ящик, испытывая ярость. Егорыч был хороший мужик, трудолюбивый.
Хотел узнать о дальнейших планах фашистов. Но пойти было не к кому – высмеют или донесут. Тогда отправился на станцию. Не знаю, на что я надеялся, Нина говорит – интуиция. Пришёл на ту же платформу и под единственной лавкой увидел газету с названием «Крошка». Она оказалась изданием «Союза фашистских крошек». На обложке была фотография маленьких девочек в униформе.
В газете прочитал, что ВФП, Всероссийская фашистская партия, базируется в Маньчжурии. Где-то я слышал, что теперь эти территории принадлежат японцам, но не был уверен. Ясно, что это далеко на Востоке. Ещё там было написано, что партия посылает в Советы тайных агентов. Их символ – двуглавый орёл и крест с загнутыми концами.
Я оставил газету на платформе, хранить её было опасно. Правда, было жаль, что не смог показать её Нине – дома она хохотала над названием союза. Нина говорит, что те, у кого есть самоирония, уже наполовину победители.
Мы поженились и жили вдвоём в моей маленькой комнате. У Нины был славный характер – она со мной не спорила и ни в чём мне не отказывала. Я, в свою очередь, старался за это её благодарить: срывал дикие цветы или доставал для неё сладкую булочку. Однажды мне за работу дали чуть больше денег, чем обычно, и я решил заказать для Нины платье. Простое, но новое.
Портниха жила и работала в избушке недалеко от монастыря. Мне посоветовали её Нинины соученицы. Когда я зашёл к ней, она шила. Это была очень красивая женщина. Она казалась благородной, я имею в виду, как княгиня или графиня. Я думал о том, как прямо и гордо она держит спину, и вдруг заметил на столе фашистский значок.
Швея подняла голову и увидела, на что я смотрю. Боясь, что она испугается, я выпалил: «Слава России!» Это было приветствие русских фашистов. Она ласково улыбнулась и ответила: «Слава России!»
После того как мы обсудили платье, она повела меня пить чай. Это был настоящий китайский чай. «У меня осталось его совсем немного, – сказала она. – Нельзя было брать с собой много вещей». «Вы приехали из Маньчжурии?» – спросил я. «Да, месяц назад. Многие эмигранты возвращаются из Харбина из-за японцев. Там я состояла в партии, и, когда узнали, что я возвращаюсь, мне дали задание». «Готовить наступление?» – Я хотел показать свою осведомлённость и намекнуть, что не против принять участие в свержении коммунизма. Татьяна, так её звали, рассказала мне, что это она оставляла листовки и газеты на станции. Делала это ночью, чтобы не поймали. Нужно, сказала она, найти себе оружие и быть начеку. Приказ выступать будет передан особым агентам, а они передадут его всем остальным.
Когда я пришёл домой, Нина выглядела рассерженной, чего раньше не бывало. Она сдержанно отвечала на мои попытки заговорить, а затем нервно, очень тихо сказала: «Я увидела тебя и пошла следом. Я думала, ты идёшь домой, а ты пошел к этой проститутке». «Проститутке?» – удивился я. «Всем известно, сколько мужиков околачиваются в том сарае, – заявила Нина. – Чтобы духу больше твоего там не было!» Я рассмеялся. Она удивлённо посмотрела на меня, и я объяснил ей, кем на самом деле оказалась швея.
После этого каждое воскресенье мы шли к Татьяне. У неё собирались все наши сторонники: трое из монастыря, включая нас с Ниной, остальные из окрестных деревень – колхозники, рабочие, строящие лакокрасочный завод неподалёку, была даже одна бывшая монашка, – насколько я понял, она вышла замуж и скоро должна была родить. Мы обменивались новостями, вместе ужинали – каждый приносил что мог – и обсуждали план действий. Мы ждали, когда придут русские фашисты и освободят нас, и вера в это помогала справиться с любыми трудностями.
«Тат-Нефть»
Алексей не верил в стабильность и каждый день листал новостную ленту в ожидании девальвации рубля или объявления военного положения. Не верил батюшке, телевизору, современной медицине и гневался при словах вроде «антиконституционность» или «бюрократическая машина». Он был уверен только в надёжности немецких автомобилей и незаменимости фирменной изоленты. Недавно у него появилась и другая отрада, которая указывала путь как маяк и обещала приют всем странникам, – заправка «Тат-Нефть» на Новоугличском шоссе между деревнями Запольское и Селково. Только здесь, в чистоте и уюте, в кафе с национальной кухней и вежливым персоналом, он чувствовал себя человеком. Особенно ему нравилось, что в туалетах были одноразовые салфетки для сидений унитазов, мощная, как ветер перемен, антибактериальная сушилка для рук, отдельная роскошная кабинка для инвалидов. В кафе были кожаные кресла, на парковке бесплатная подкачка шин – всё это казалось ему невероятным проявлением человеколюбия.
Как обычно, Алексей выехал рано утром, чтобы успеть до пробок. Было шесть сорок, но он всё-таки застрял из-за ремонта дороги возле мемориальной ракеты «Восток». В год его рождения на космодроме Плесецк во время запуска такой ракеты прогремел взрыв, погибло почти пятьдесят человек. Стоя в пробке на въезде в Королёв, Алексей вспомнил об этом и представил себя рядовым, помогающим на последней «заправке» перед стартом. Вдруг вспышка, грохот и тишина… Так ли это было? Он попытался вообразить себя спасателем, рвущимся сквозь клубы горящего топлива на выручку товарищам, но не смог. Таким он был: не смелый и не глупый. Поэтому и с его полулегальной автомастерской, набитой полуживыми «мерседесами», дела шли то хорошо, то плохо: клиентов много, а вот с полицией не всегда удавалось договориться.
«Я тут прям душой отдыхаю, – думал Алексей, сидя в кафе своей любимой „Тат-Нефти“ и жуя эчпочмак, разогретый пирожок с бараниной, – может, если бы татары победили, мы бы жили в нормальной стране? Там, где не выбрасывают ветхие диваны с балкона, не вскрывают гаражи ради детского велосипеда, не воруют средства через госзакупки. Это, конечно, были скорее монголы, но ведь китайские хронисты всех кочевников Великой степи называли татарами…» Он огляделся и снова удовлетворённо заключил, что на заправке полный порядок: натёртые до блеска кофейные автоматы, аккуратно завязанный фартук у татарочки за кассой, на плазме мелькают блюда и крупно написаны цены буреков, вакбалишей и бекенов. Есть отдельный стенд с полезными вещами для походов: аэрозоль от комаров, складные ножи и даже фляги для воды. Ему эти приспособления, правда, не нужны, он ведь едет по работе, по сути просто возиться с бумагами, но кому-то из проезжающих этой дорогой туристов такой набор может очень пригодиться. Как хорошо придумано!
В Калязин из Китая по железной дороге везли запчасти для устаревших моделей «мерседесов». В Москву их транспортировали уже небольшими партиями на неприметных грузовиках, чтобы уклониться от налогов. Так делал и Алексей. Каждую субботу он проверял детали и подтверждал заказ у калязинских посредников, а в понедельник получал запчасти в столице. По пути каждый раз останавливался на «Тат-Нефти».
У него были любимые блюда: куриный суп, наваристый и сытный, эклер с шоколадным кремом, двойной эспрессо с одной ложкой сахара. Но в то же время перед ним стояла задача попробовать всё, что предлагает татарский храм благоденствия тому, кто засиделся в машине. Он многое успел: и грибной крем-суп, и азу, и баурсаки, распробовал тыкмач, бурчак-шурпу и «татарский хворост», оценил блинчики на катыке и кулламу. Горячий бараний бульон с кружочками моркови и кубиками сельдерея. Десерты.
Управляющий с татарской фамилией приметил постоянного посетителя и временами интересовался, как он поживает. Для Алексея это было очередным подтверждением идеальной организации всего, что происходило на заправке. Он всё чаще думал о «Тат-Нефти» как о храме, где верят в целебную силу тишины, вежливости и чистоты. Не нужно слушать речь проповедника, чтобы проникнуться этой верой: всё, что требуется, – это сходить в сияющий туалет и заказать суп и кофе с булочкой. Однажды какая-то клиентка, карикатурная дама, вся в розовом и блондинка, устроила истерику: стала кричать и требовать, чтобы её скорее обслужили, потому что она торопится. «Вы как будто назло!» – сказала она Алексею, который стоял перед ней и неторопливо выбирал начинку для пончика. Все недоумённо покосились на неё с упреком: какое возмутительное поведение и где – на «Тат-Нефти»! Если бы у заправки был официальный статус храма, то можно было бы подать на неё в суд за оскорбление чувств.
Шёл третий месяц, как Алексей причащался там. Иногда исповедовался соседям по столику. Последний раз разговорился с дальнобойщиком, который мечтал открыть свою пекарню: чиновники нас обманывают, приходится и нам обманывать их, а что делать, как выживать? Он говорил ему, что хотел бы по-честному, что малый бизнес похож на хромую ослицу: она есть, её можно погладить, а работать не погонишь, только сено ей таскай, чтобы не подохла. И вспомнил, что читал где-то – жизнь непассионарных кочевников была такой же бесперспективной: двухлетний сын хана имел больше власти и возможностей, чем когда-либо мог иметь самый мудрый человек.
– Будешь им за каждую проданную булку отчитываться… – пророчил Алексей.
– Не может быть такого, – возражал дальнобойщик.
Алексей решил, что бессмысленно наставлять на путь истинный человека, который не понимает, что ты говоришь, и в ответ только неопределённо вздохнул.
Когда дальнобойщик ушёл, Алексей остался сидеть и глядеть в окно. По обочине шоссе в сторону Москвы медленно ехала запряжённая лошадкой телега – мужик вёз куда-то сено. «Ничего тут не изменилось за тысячу лет, – подумал Алексей. – Впрочем, появились правила дорожного движения, а в них – раздел, относящийся к гужевому транспорту». Алексею вдруг расхотелось вставать и ехать дальше, в Калязин, чтобы осматривать там свой заказ: шаровые опоры, рулевые рейки, тормозные барабаны и даже архаичные карбюраторы времён холодной войны, каждый раз от этого ему становилось стыдно, мучила совесть, потому что всё это было нелегально, он словно опять гнал хромую ослицу по бездорожью.
К заправке подъехал автобус с детьми. Все они показались Алексею какими-то смуглыми, не совсем русскими. Дети тут же оккупировали туалет и обступили прилавки со сладостями и лимонадом. У кофейных автоматов рядом со столиком Алексея бродил мальчик, Алексей спросил у него:
– А вы что, татары?
– Нет, – ответил школьник и спокойно, выжидающе посмотрел на него.
– Куда едете?
– В Калязин на концерт. Выступать, – сказал мальчик и ушёл.
Алексей, повинуясь смутному инстинкту, встал и пошёл вместе с детьми в автобус. Никто этому не удивился. Автобус тронулся, и дети запели песню на непонятном языке, но мотив был знакомый. Он пытался подпевать. Дети хлопали в такт песне. Алексей тоже захлопал. Не заметил, как доехали до Калязина. Автобус, трясясь по разбитой дороге вдоль незамысловатых построек, подрулил к берегу водохранилища.
Все вышли из автобуса, посмотреть на колокольню вдалеке, отрезанную водой от всего мира. Какой-то мальчик выстрелил из рогатки в воду, и на поверхность всплыла рыбёшка. «Как это он так? – задумался Алексей. – Ведь вода преломляет свет и не даёт попасть в цель».
Когда-то тут был монастырь и рыночная площадь, но большевики взорвали старый город и затопили. Из-под воды послышался глухой гул затонувшего в подвале колокольни старого колокола. Птицы взлетели с воды. Дети образовали хоровод и стали плясать вокруг Алексея, на нём откуда-то взялись разноцветные ленты и лапти…
Проснувшись на заправке за столом, Алексей подумал, к чему бы ему всё это привиделось? За окном было темно, и он с облегчением подумал, что ехать в Калязин уже бессмысленно и можно возвращаться домой. Алексей вдруг понял, что сам обрёк себя на выполнение суетных обязанностей хозяина полулегальной автомастерской. Взял кофе с молоком и вышел на пустую стоянку. За ней было заросшее высокой травой поле, по которому проходила граница между светом от фонарей заправки и тьмой. Он глубоко вдохнул прохладный воздух и почуял какой-то тягостный запах. Этот запах становился всё крепче. Зловещая вонь надвигалась с поля, будто приближался товарный состав с мусором, но это было маловероятно. Алексей задумался над объяснением происходящего. Послышался гул, будто где-то на соседнем поле начался ночной футбольный матч и кто-то успел забить.
Алексей удивлённо вглядывался в темноту. Что-то взвизгнуло у него над головой, а затем ещё раз, и ещё, пока не попало в колонку дизельного топлива. Одолеваемый нехорошим предчувствием, Алексей подбежал к колонке. Рядом на асфальте лежала сломанная стрела с белым оперением. Он поднял железный наконечник и стал разглядывать его, и в этот момент почувствовал острую боль в левой ягодице. Алексей ощупал свой массивный зад и с ужасом обнаружил, что там застряла такая же стрела. «Вроде неглубоко засела, – пронеслось у него в сознании, – только бы кость не была задета». Боль резко усилилась. Он обернулся и увидел, что на темном поле появились силуэты сотен всадников, которые стремительно приближались. Он упал на асфальт и пополз к автомату подкачки шин, чтобы спрятаться. Успел. Мимо с гиканьем проскакали всадники. Алексей побоялся взглянуть на них. Всадники понеслись дальше, к белой церковке, к селу на другой стороне шоссе. Алексей сжался в комок, насколько это было возможно при его ста двадцати килограммах, стараясь не двигаться, чтобы не привлечь внимания. Он подумал, что татары, кажется, убивали только тех, кто им не подчинялся, а значит, если его захватят в плен, то надо быть покорным, и, возможно, потом получится убежать.
Рассудок заволокла новая волна боли. Через некоторое время он выглянул из-за автомата подкачки шин и увидел, что село пылает, и совсем не так, как пылает романтический закат, скорее это был средневековый огонь смерти. Алексей заметил хозяйственную дверь с тыльной стороны здания заправки и пополз туда. Дверь, на счастье, была не заперта. Он протиснулся туда, в кладовку с мётлами и лопатами, тут же закрылся на задвижку и забаррикадировал дверь какими-то вещами. Пульсирующая боль разрывала зад. Он сделал несколько глубоких вдохов, изо всех сил зажмурился, будто это могло помочь, и выдернул стрелу, завыв от боли. Кровь потекла сильнее. Алексей услышал, что кочевники возвращаются. Лежа в углу, он нащупал какую-то тряпку и прижал её к ране. Сквозь стену доносился гомон, плеск воды и шум электрической антибактериальной сушилки. Через некоторое время всё стихло. Алексей решил, что татары ушли, вынул из кармана рубашки свой китайский мобильник, вызвал МЧС и потерял сознание.
Внутри куклы
14 ноября здравствуй Прасковя Ивановна и Анна и Люся и вся её семя с приветом я и Виктор и желаем всего хорошего письмо мы твоё получили за которое большое спасибо.
Прасковя Ивановна отдавления надо пить лимоны и ещё пить рыбий жир при таком зреньи пить обезательно. Приежала тёти Нюшина Нюра с мужем он даже нидал поговорить значит вотки нет и разговаривать нечива. Когда мы были молодые нитак пили вотку например я скажу до войны асейчас вотку пют как воду даже молодёш уних нистыда и нисовести никакой. Сама тётя Нюша жива или нет напиши мне.
Расскажи про Дусю.
На новом месте всё хорошо ток бурилом влесу и кроты. Прасковя Ивановна ты мне пишеш что пришлёш деньги ну мне ето ненравится ты нетак меня понела ну не ты последний кусочик отсибя будеш отнимать ето неправильно.
20 декабря тётя Паша привет письмо твоё получили сердечно благодарим и желаем вам всего хорошего в жизни асамое главное здоровя.
Прасковя Ивановна ты пишеш что боисся когда Дуся на тебя ночю смотрит. Я думаю зря ну что она может сделать у ниё даже волос нет. Если ты замажиш ей глаза как хочиш то она будит привлекать внимание а ето ненужно. Спряч кудайнить допары довремени.
Я приглашала напоминки нашей деточки Колю и Ивана, Маруся мне присьлала ответ письмицо ответила почиловечиски пишет Елена извени приехать неможем я приехала избольнице мы получили квартиру написала адрес но дом номир ненаписала наверно забыла пишет Коля неработает сем месецов ходит накостылях сейчас его папросил деректор покораулить гараж ночю пишет Маруся извени.
13 января Прасковя Ивановна дорогая здравствуй. Сообщаю что мы все живы печкой спасаимся холод собачий.
Ето ты с Дусей хорошо придумала. Посылычкой пришлю для ниё платьицо надеюсь падойдёт. Ночю апять приходил Володя пяный взю-зю колотил кулаком вдверь мы сидели тихо ниаткрывали ион ушёл. Ох тётя Паша тежело. Волки воют сабаки лают тимно еды мало я как будто в тёти Нюшиной страшной скаске ну ты знаиш о чём ето я. Жалко мама умирла а тобы придумала что. Соседи хотят искупатся в крищение итак ума нет. Помиреть бы да рано и муж без миня пропадёт. Работку нашла вышываю для городских вот пиши жду пока досвидание.
26 февраля тётя Паша здравствуй как живёш? Уминя хорошие вести когда будит типло мы с Виктором приедим ктибе! Думаю ето вапреле.
Задарма получили муки три кило пеку пирок потвоиму рецепту.
Будим ехать через город что Прасковя Ивановна тибе привести? Привет и целавание от всех.
21 марта Прасковя Ивановна письмо твоё получили скромна ты ничего нипросиш тогда мы сами жди нас в конце апреля.
Наша Ната родила четвёртого тежело повитух всех выгнали говорят ехайте в больницу а на чём мы повезём её бедненькую так мы сами все смазью из заичей желчи крови было много я уж думала плоха Ната всё а сийчас румяная сребетём сидит вот дал бог здоровя. От ниё тебе сирдешный привет.
10 мая Прасковя Ивановна мне страшно вам типерь писать после того что мы с Виктором сделали. Клянусь я не знала а только впоизде увидела как он обнимаит Дусю и поглаживаит. Я хотела уж его бранить да страшно стало сделала вид что сплю. А он с ниё платьице снял, осматрел сголовы доног и потряс. Нинашёл он дырочку и прямо ножом распорол иё и все ваши монеты из куклы достал. Я виновата перед тобой тётя Паша тоже нинадо было иму говорить про Дусю. Я то хотела что сказать какая ты умная что придумали как деньги прятать. Я знаю ето всё что у тибя есть попроси помощи усоседий а я пойду работать пришлю денег прости нас грешных нужны одеяла и обувка Натиным детям и у Виктора долги прости досвидание Прасковя Ивановна бог всё видит тибе поможет нас простит.
Красные паломники
Говорят, под белым небом места знать надо.
Старший в отряде, мой брат Григорий, трижды побывал там и всегда возвращался умиротворённый и полный сил. Каждый раз весь путь он проделывал пешком. Остальные смотрели на него с благоговением, переживая и зависть, и гордость, что идут рядом с ним.
Григорий сказал, что раннее утро – самое безопасное время для начала похода. Поэтому мы встали затемно, позавтракали и отправились. Шли друг за другом, дорога то расширялась, то становилась очень узкой.
Через несколько часов свернули с тропы и остановились отдохнуть на прохладных камнях. Зоя и Фёдор опустились на колени у замшелого пня и стали вполголоса молиться об удачном исходе нашего путешествия. Фёдор имел привычку обращаться к Всевышнему в стихах. Наверное, надеялся, что так больше шансов. Бормотал: «Пусть минует нас смерть, пусть минует нас боль, дойдём до конца и вернёмся домой». Зоя твёрже верила в то, что Господь её слышит, и просила по существу: «Нам надо было взять с собой больше еды, но мы не знали, где её достать, помоги нам, Боже, чем скорее, тем лучше; а ещё Фёдор мучается желудком, с этим тоже нужно разобраться».
Я достала из рюкзака шоколадку и протянула её Зое. Она восприняла угощение как доказательство Его величия. Размышляя над этим, я смотрела на белое небо, где солнце всегда стояло в зените, а появлялось и гасло внезапно.
Спустя некоторое время мы вышли на открытое место. Подул ветер. Порыв был такой силы, что нам пришлось распластаться в пыли и переждать. Вскоре мы поднялись. Фёдор стал ворчать, что этот путь не для его ног. Зоя так на него посмотрела, что он умолк и даже прибавил шагу. Слева показалась высокая стена. Григорий обернулся к нам и прокричал, показывая на неё: «Туда!»
Вдруг на обочине мы заметили тело. Видно было, что погибший – из наших, но брат велел не сходить с тропы, и мы прошли мимо. Стало страшно. Парня убили недавно, там, где находились мы. Видимо, все об этом подумали и перешли на бег. В таком темпе добрались до стены быстрее, чем рассчитывали, и Григорий предложил снова устроить привал.
Солнце позолотило пространство, которое мы пересекли. Труп отсюда уже не был виден, мы забыли о нём и успокоились. Хотелось погреться под солнцем, но выходить из тени, которую отбрасывала стена, было небезопасно. Мы сидели, жевали бутерброды, напряжённо смотрели перед собой. Ноги гудели, но надо было идти дальше.
Теперь предстояло двигаться вдоль стены. Григорий, как обычно, шёл первым. За ним Фёдор, потом Зоя, замыкала вереницу я.
Зоя запела, и все подхватили. Песня была о том, как храбрый юноша вернулся домой после сражения и увидел, что его родная деревня разорена. Погоревав, он пошёл в соседнее село и встретил там девушку, самую прекрасную на свете. Он взял её в жёны, и они вернулись туда, откуда он родом, построили дом, навели порядок и наладили хозяйство. Тогда туда приехали и другие, деревня снова разрослась и стала ещё краше, чем прежде. Дети в ней рождались здоровее своих родителей, росли в любви и не знали горя, пока любопытство не заставило их покинуть деревню.
Мы знали, что эта песня про нас – это мы не усидели на месте и двинулись в опасный путь, чтобы повидать мир.
Нам навстречу шли два мужика. Вид у них был недовольный. Когда Григорий поравнялся с ними, нам задали вопрос:
– Куда прёмся, молодняк?
– На вершину.
– Серьёзно? Не доберётесь. А этот ваш толстячок, – мужик покрупнее кивнул на Фёдора, – и до Белой горы не доберётся.
– Доберусь! – крикнул Фёдор и потряс кулаком.
Мужики заржали.
– Ну и хрен с вами, идите, ищите приключений на свои жопы.
Мы пошли дальше, а через несколько минут услышали позади грохот, как будто обрушилась часть стены и – мы были в этом уверены – раздавила наших новых знакомых.
Никто не расстроился. Было не до этого – мы приближались к Белой горе.
Белая гора издавала низкий гул. Старики рассказывали, что внутри неё вечный холод. Были варианты: пойти прямо и надеяться, что на нас не сойдёт каменная лавина, или сделать крюк и обойти гору с другой стороны, но нам хотелось скорее попасть туда, куда нас вёл Григорий, и мы пошли напрямик.
Двигались осторожно, перебегая от одного укрытия к другому. Неожиданно, почти преодолев гору и зайдя в углубление в скале, мы увидели старуху. Сгорбившись, она сидела в углу и перебирала чётки. Когда Григорий приблизился к ней, она дотронулась до него и изрекла: «Перст указующий накажет за жадность!»
Мы оставили старухе хлеба и быстро ушли.
До захода солнца мы поднялись на большую высоту. Была видна вся плодородная долина. Григорий сказал, что мы почти добрались. У колодца разбили лагерь. Сидя у костра, разговаривали о будущем. «Возможно, этот поход – последнее наше свободное решение», – мрачно произнёс мой брат. «Ты думаешь, власть будет закручивать гайки?» – спросил Фёдор. Вид у него было скептический. «Только дурак этого не понимает», – буркнула Зоя, но чтобы смягчить свои слова, погладила Фёдора по спине. В тревожном настроении мы легли спать.
Рано утром проснулись от крика Зои. Над ней навис чёрный парень, приставив к лицу копьё, а его дружки, такие же чёрные, здоровые, как циклопы, окружили остальных.
– Куда направляетесь, красные ублюдки? – спросил главный.
– В храм Покрова на Пирогах, – сказал им правду Григорий, поняв, очевидно, что за ложь нас без раздумий проткнут копьями.
– Паломники, что ли? – удивился громила.
Мы закивали.
– Отпустить, – скомандовал главный. – Теперь весь этот район принадлежит нам, так что возвращайтесь другой дорогой.
– Договорились, – ответил Григорий. Он казался таким спокойным, уверенным в себе. Меня же трясло от страха. Зоя смотрела на чёрных с вызовом, а Фёдор, закрыв глаза, чуть слышно декламировал поэму-молитву, приготовленную на случай смертельной опасности.
Нам дали одеться и провели до границы. Мы шли не останавливаясь несколько часов и наконец увидели его – храм, похожий на огромный шатёр, от которого исходил божественный аромат. Фёдор почесал голову. Зоя сказала: «Ну и дела, товарищи!» Я нервно засмеялась, а Григорий улыбался, как бы имея в виду: «А я что вам говорил!»
Теперь нужно было попасть внутрь, и мы двинулись к храму.
– Ой, сколько муравьёв! – вскрикнула женщина на кухне.
– Одолели, сволочи, – ответил ей мужчина. – Этих красных случайно привёз с дачи в сумке с овощами, и они расплодились. А чёрные, наверно, пришли от соседей… Ну ничего, сейчас разберусь с ними.
Мужчина стал давить пальцем бегущих по столу муравьёв.
– Ногтём, ногтём лучше! – посоветовала женщина.
Они сели пить чай. В центре стола на блюде лежали пироги, покрытые белым кухонным полотенцем.
Магаюр
Снег ещё не выпал, был поздний ноябрь. По платформе бродила собака, которую кассирши звали Собакой и не давали ей в последнее время спать у батареи.
Ира замёрзла. Темнело, фонари пока не горели. Со склада стройматериалов неподалёку доносились скорбные звуки бензопилы. Слева темнело здание вокзала, за ним возвышалась водонапорная башня. Прогрохотал товарный поезд, подняв ветер. Ира сосредоточилась на летящих мимо надписях на цистернах и не заметила, как из-под платформы вылез человек в валенках и длинном тулупе, с бородой до пуза, известный местным как Магаюр.
– Дочка, нужна твоя помощь.
– Что случилось? – насторожилась Ира.
– Пошли, пошли.
Ира послушно двинулась за Магаюром, отгоняя нехорошие мысли. Они спустились с платформы на тропу, ведущую куда-то на задворки вокзала. Ира растерянно смотрела на мусор в пожухлой траве под ногами: обёртка от шоколада, бутылки, пакет из-под чипсов. К ветке куста была привязана чёрная тряпка – будто кто-то оставил предостерегающий знак.
Они подошли к водонапорной башне, Магаюр достал ключ и отпер деревянную дверь. Войдя внутрь, Ира осмотрелась: под огромным резервуаром для воды, к которому вела металлическая лестница, было устроено жильё: стол, буфет, кровать и табуретка. Наверху блестели узкие окна. Магаюр усадил Иру на табуретку, включил свет и обогреватель. Снял шапку, сел напротив. В башне пахло щами, чаем и хлебом, сверху тянуло сыростью.
– Вот, живу здесь, – сказал Магаюр и уставился на Иру.
Лампочка над столом мигнула.
– А это разрешено?
Магаюр не ответил.
– Я как-то от дождя здесь прятался и услышал её, – задумчиво сказал он.
– Кого?
– Музыку водонапорной башни. Воды уж нет, а музыка осталась. Вот я сюда и перебрался. И шум поездов люблю, пение рельсов, гудки электричек. Понимаешь, у меня есть слух, но нет музыкального образования, не учился я. А башня эта старая, я её на довоенных фотографиях видел…
– Вы говорили, помочь надо.
– Да-да… Видишь ли, музыка пропала. Больше не слышу. Нужно возобновить. Ты же на гитаре играешь?
– Откуда вы знаете?
– Видел, как ты её с собой таскала. Значит, должна мне помочь.
– Как?
Сначала Магаюр учил её настраиваться: «забудь что знаешь», «противься времени», «прерывай инерцию», «говори с Богом». Потом они сидели и прислушивались. Но ничего не происходило. Ира слышала объявления о прибытии поездов, голоса прохожих, тиканье своих наручных часов, но в этом не было ничего, связанного с водой. Магаюр вдруг встал, наклонился к ней, будто принюхиваясь, а потом резко выпрямился.
– Ясно! – сказал он и стал ходить вокруг Иры, бормоча: «Исчезни, демон нечистый и скверный, льстивый, безобразный, слышать музыку не дающий, или сам Вельзевул, или змеевидный, или звероличный, или в смехе скачущий, или злосмрадный, или звездоволхвующий…»
Ира закрыла глаза и услышала, как где-то над ней текут ручьи, ухают совы и шелестит лес. Пробежал заяц, перепрыгивая через лужи. Скрипнуло дерево. Утка взлетела с поверхности круглого озера посреди болота. Журчание тысяч ручьёв стало громче, они слились в бурный поток, а потом всё стихло, и это внезапное безмолвие испугало Иру.
– Что случилось? – спросила она.
– Видать, бобровая плотина… – ответил Магаюр. Он весь обратился в слух, глаза его были закрыты, а голова запрокинута, и борода торчала горизонтально, как антенна для приёма всех мелодий земли.
Снова зажурчал ручей, закапал дождь и защёлкали белки. Упал в воду камень, заворчала лягушка. По камышам прошла волна от сильного ветра. Вдалеке завыла сирена, предупреждая о затоплении. Крупные рыбы били хвостами по воде омута. Вой сирены усилился и заглушил остальные звуки… Дверь открылась, и чей-то командный сухой голос спросил:
– Девушка, всё в порядке? Дед, ты зачем её сюда привёл?
Ира и Магаюр открыли глаза и недоумённо повернулись к полицейскому, который осматривал помещение, силясь оценить обстановку.
– Всё нормально, – сказала Ира, – мы музыку слушаем.
– Что-то я не слышу никакой музыки…
– А ты иди сюда, сынок, иди, – поманил его Магаюр. – Исчезни, демон нечистый…
Послышался всплеск воды и шелест листьев.
За МКАДом вам не рады
Туманным утром, когда ещё не проснулись козы у Царёвых, а солнце осветило только верхушки сосен в лесу, который подходил к деревне Переславичи с северо-запада, молодая дачница Юля, тем летом окончившая школу, шла к своему дому. Она крутила в руках сорванную ромашку, мычала мотивчик, который рождался сам собой, и вспоминала, как прошло всё этой ночью у Яковлева. Он, хоть и деревенский, ей нравился: имел мотоцикл «Восход», пил не до бесчувствия, в отличие от остальных, рыбачил, мастерил по дереву, помогал матери в огороде. Пришлось долго слушать про то, как поймать жирную осеннюю щуку, но зато потом была истинная романтика: луна, сеновал, поцелуи под музыку из айпода. Вспоминая, как Яковлев неуклюже нащупывал её грудь сквозь синтепоновый лифчик, Юля решила в следующий раз его не надевать и, думая о том, как без шума пробраться в свою комнату, чтобы не разбудить бабушку, стала переходить дорогу.
Когда-то эта дорога была почтовым трактом: по ней катили конные экипажи, почтовые кареты и телеги. Но теперь это было асфальтированное шоссе, по которому с каждым годом проносилось всё больше машин, стремящихся попасть к Волге, Угличу и Рыбинскому водохранилищу и обратно. Старинные города и «усталая нежность» с «безмолвной болью затаённой печали» русской природы снова волновали туристов. Кое-кто даже добирался до Архангельска, на улицах которого, говорят, асфальта до сих пор нет. И вот один из них, любитель уличных гонок из Подмосковья, летел на своей «девятке» на волжские пивные посиделки с копчёной рыбой. Жена его не пускала, поэтому он слинял, когда она легла спать. Подъезжая к деревне, он представлял, как жена ищет его и злится, пытается ему позвонить, но абонент не отвечает. «Так ей и надо, – думал он, – а то совсем раскомандовалась». Занятый этими мыслями, он не успел затормозить, увидев девушку, мечтательно бредущую по выцветшему пешеходному переходу. Он даже не успел перенести ногу с педали газа на педаль тормоза. Её отбросило на бетонный фонарный столб. Испуганный гонщик уехал не останавливаясь, с разбитым лобовым стеклом и помятым капотом. Блестящая заколка в волосах мёртвой Юли отражала восходящее солнце.
Много слёз было пролито, даже статья на сайте районной газеты была опубликована об этом несчастье – гибель юных всегда впечатляет. В конце концов в деревне на месте аварии была установлена камера контроля скорости. Это положительно сказалось не только на безопасности пешеходного перехода, но и на местной торговле: путешественники стали чаще останавливаться возле бабушек и дедулей, сидевших с вёдрами свежесобранных огурцов, помидоров и лисичек на продажу, – останавливались, потому что успевали их разглядеть.
Яковлев стал местной знаменитостью после случившегося и развернул деятельность. Сначала он вытесал из дерева Юлю в образе ангела и прикрепил к столбу, под который местные жители клали свежие цветы. Затем стал помогать её бабушке, у которой не оставалось сил ни на что после того, как она чуток выпьет и хорошенько поплачет. После рюмочки она любила поговорить о политике, поэтому Яковлев стал читать новости в интернете, чтобы первым ей их рассказывать. Так он узнал об экспериментальном проекте, который запустил молодой депутат, любящий поговорить в интервью о помощи регионам. Суть проекта была в том, чтобы делить поступающие от дорожных штрафов средства между жителями придорожных деревень, в которых есть камеры контроля скорости. Яковлев написал письмо депутату с просьбой включить их Переславичи в программу, описав несчастный случай и горе, охватившее переславичей. «Мало того что у маленьких нет школы, у взрослых – работы, а у пожилых – достойной пенсии, – писал Яковлев, – так теперь у нас нет ни чувства безопасности, ни надежды на справедливость».
Депутат, благо ещё не чёрствый, откликнулся на письмо, опубликовал его, и деревню включили в программу. На сбербанковские карточки, которые было предписано завести всем местным жителям, потекли деньги автомобилистов.
Яковлева за такие заслуги выбрали председателем деревни, хотя ему было всего девятнадцать лет. Он пересел с мотоцикла «Восход» на «жигули»-«шестёрку», стал носить костюм и портфель из кожзама, которые приобрёл в торговых рядах Сергиева Посада, и постоянно с деловым видом говорил по мобильному телефону. Он решал общедеревенские организационные вопросы, в том числе о покупке и продаже недвижимости – домов, которые раньше никого не интересовали, а теперь, когда жители деревни стали получать деньги от штрафов, желающих связать свою жизнь с Переславичами стало пруд пруди. Люди мечтали зарегистрироваться в перекошенных переславичских избушках, где давно никто не жил, лишь стояли пустые серванты в комнатах, оклеенных, вместо обоев, страницами цветных советских журналов, валялись вороха поздравительных открыток пятидесятилетней давности и школьные тетрадки, исписанные девочками, полными сочувствия к Наташе Ростовой и Татьяне Лариной.
Деревня стала расти, на окраине, там, где был ромашковый луг и паслись три комолые коровы тёти Ани Агафоновой, строились новые дома. Тут же возник посёлок строителей-таджиков, которые жили в вагончиках.
Яковлев пересел с «шестёрки» на «ниву-шевроле». В деревне заработал магазин, куда два раза в неделю привозили свежий хлеб, и столовая с поваром, где в любой момент можно было подкрепиться котлетой с макаронами и борщом. У местных помимо «скоростных», как они говорили, денег появилась работа, деревенские повеселели и за всё благодарили Яковлева: что ни день, то банка парного молока на крыльце, или бутылочка алкоголя, или маринованные грибы, свежие парниковые помидорчики.
Однажды осенью к нему, заранее позвонив, приехал интеллигентик из Москвы. Бледный, в очках, в свежей одёжке, которую ещё не отстирывали от огородной земли или куриной крови.
– Позвольте узнать, – начал он, когда они расположились на поваленном бобрами дереве у речки, откупорив бутылку московской водки, – как много тут… умирает крестьян?
Яковлев задумался.
– Это как посмотреть. Половина-то уже дачники…
– А коренные? Они, пожалуй, люди скорее пожилые?
– Всякие, – покосился на интеллигента Яковлев, – я вот тоже местный, а помирать не готов. Вы с какой целью интересуетесь?
– С меркантильной, – хмыкнул гость. – А что, если я вам предложу такую сделку: буду покупать каждый освободившийся дом, сарай или гараж, а вам – пятнадцать процентов?
– Двадцать, – автоматически среагировал Яковлев, даже не успев подумать.
Интеллигент вскочил, заулыбался.
– Ну вы даёте! Вот это по-нашему! Давайте скорее пожмём руки!
– Извините, – сказал Яковлев, – всё-таки надо подумать.
– Вы имеете сомнения?
– Да… Не скажется ли это на будущем Переславичей? Вдруг нас уберут из программы?
– Дорогой друг, – интеллигент сел обратно и положил руку на плечо Яковлеву, – я немею перед законом… Только правила дают людям благую возможность жить мирно в этой удивительной стране, склонной к хаосу. И я преклоняюсь перед простым крестьянским трудом. Никогда бы не стал усложнять жизнь и без того настрадавшимся простым людям…
Яковлеву понравился такой ответ: сразу видно, человек с пониманием. И он принял решение.
С зимы люди в Переславичах стали помирать чаще обычного. Сначала Анатолий Михайлович Стояновский потерялся в лесу, вернулась только его собачонка. Труп нашли через месяц.
В начале года у бабушки Юли случился инсульт.
Ранней весной утонул Пётр Иваныч на рыбалке, в погоне за щукой.
Яковлев сводил наследников с интеллигентом, тот покупал дома и, как догадывался молодой председатель, прописывал туда множество своих знакомых, после чего они делились с ним «штрафными» деньгами.
Из-за того, что количество жителей увеличилось, денег на каждого в отдельности стало меньше. Но вскоре кто-то завёл в деревне кавказскую овчарку, которая – на въезде в деревню со стороны Москвы – с огромной скоростью бросалась на машины. Водители невольно прибавляли газу, чтобы оторваться от неё, и попадали под камеру. Денег стало больше.
Мужики сидели целыми днями в бане у плотника Ильи, который перестал плотничать, пили пиво, смотрели футбол и делали ставки на результаты матчей.
Яковлев собирался устроить с Ильёй серьёзный разговор, и вдруг несчастный случай – плотник отравился жасминовой настойкой.
Где-то через месяц Яковлев шёл вечером по деревне. У своего дома на лавочке сидела древняя «раннесоветская» бабуля Нина Петровна.
– А вы чего тут ночью сидите, народ пугаете? – спросил Яковлев.
– Жду, пока меня похоронят… – ответила она.
Яковлев знал, что у Петровны давно путаница в голове, и прошёл мимо, домой. На следующий день почтальон обнаружил её мёртвой. Медэксперт из райцентра засвидетельствовал, что смерть наступила несколько суток назад. После похорон Яковлев позвонил интеллигенту, тот обрадовался, а вот председателю было невесело. Он стал меньше выходить из дома, говорил по телефону и проверял электронную почту только по крайней необходимости, телевизор не включал. Много курил. Когда ходил в баню, представлял, что вода стекает сквозь половые доски в потусторонний мир и превращается там в куски льда, сыплющиеся на тамошних обитателей, давно к этому привыкших. Тётка Ася заходила к нему, приносила еду, убиралась, причитала: «Темнее тучи… Что за напасть… Тебе бы к целительнице в Михайловку…»
Как только доходило до целительницы, Яковлев гнал её.
Дом Яковлева стоял на холме перед лесом, вид был на всю деревню и дальше – на неубранные кукурузные поля. Как-то он сидел у окна в дождливый ветреный вечер, когда уже наступали сумерки, и увидел, что по главной дороге – улице Ленина – шла Смерть. Прямо как на картинках: в плаще и с косой, смотрела по сторонам. Яковлев быстро и криво перекрестился, подумал: а что, если за мной? Готов ли? И понял, что не готов. Смерть вдруг присела и стала завязывать шнурок на показавшемся из-под плаща кроссовке. Яковлев схватил охотничий бинокль, который лежал на подоконнике, навёл его на Смерть и узнал Гошу Вершка – в чёрном длинном дождевике. В одной руке и правда была коса, а в другой – пакет с накошенным клевером для кроликов.
Вскоре исполнился год с тех пор, как установили камеру. Яковлеву надо было писать отчёт о результатах эксперимента. Он долго откладывал, не спал ночами, маялся. То напишет, что дополнительное финансирование спасает местных жителей, то что они потеряли всякое желание трудиться.
Размышляя о том, сколько бед принёс интеллигент из Москвы, Яковлев решил изучить вопрос и залез в энциклопедию. Там он прочитал, что интеллигенция по-латински означает мыслительную деятельность. «Не надо мыслить, – подумал Яковлев. – Мысль у крестьян всегда упирается в деньги. Их доброта – это просто невозможность довести мысль до конца… Зачем Юля погибла – чтобы мы испытали себя? Но как смириться с тем, что испытание не пройдено?.. В Москве не будут долго думать, как нам помочь… Мысли сводят с ума. Лучше не мыслить. Мыслят без конца интеллигенты, но с интеллигентом в Переславичи пришла смерть. Нет. Нельзя перекладывать вину. Всё началось с меня. Я написал депутату… От меня уходила Юля… Смерть – это я».
В это время по улице Ленина, на радость всем местным, неслись прямо на камеру «жигули» новейшей модели. В них сидел мужик. Он крепко вцепился в руль и азартно подпрыгивал на кочках. Думал он в это время вот что: «Какой же русский не любит быстрой езды? Чёрт побери всё!» И всё летело мимо него: летели километры, летели навстречу бабушки в платочках и их вёдра с яблоками, летели сельские автомойки, где можно в любой момент подкачать колесо, летел с обеих сторон лес с тёмными рядами елей и сосен, с визгом бензопил и вороньим криком, летела вся дорога невесть куда в пропадающую даль, и что-то страшное заключено было в этом быстром мелькании, где не успевает стать понятным пропадающий предмет, – только небо над головой и слабое солнце кажутся неподвижными.
Винтажный полёт
Валерий Александрович давно не был в лесу, а теперь выдался случай. Он шёл, раздвигая руками ветки деревьев, ногами приминал вылезшие на тропинку стебли папоротника. Иногда его пугал шорох в кустах – Валерий Александрович тайком ушёл из дома и ждал, во всяком случае подсознательно, что его начнут искать, – но это были лишь птицы. Он вдыхал свежий воздух и как в первый раз смотрел на листья, пропускающие солнечный свет, на паутину, и даже лежащие тут и там пустые бутылки и банки не омрачали его настроения. «Люди, отягощённые неискренним чувством вины перед природой, видят в них только мусор, – думал Валерий Александрович, – но как это поверхностно! Опустошённые бутылки свидетельствуют о редких минутах блаженного спокойствия, которые предоставляются человеку так редко, о радости, об удовольствии, о самой жизни, которую те, что принесли эти бутылки сюда ещё полными и оставили пустыми, но небессодержательными, ощущали так остро». В этот момент он завидовал им, этим беззаботным незнакомцам, которые попивали тут водочку, пели песни, грелись у костра, окунались в естественное, бездвижное и весёлое, состояние мира.
Задумавшись, Валерий Александрович всё больше поглядывал на верхушки деревьев и вдруг ступил ногой в воду. Прищурившись, увидел, что тропа свернула к болотцу. Валерий Александрович почувствовал, как влага проникла в ботинок, как намок носок. Сентиментальность слетела с него. Он насторожился, стал прикидывать, как быть. Времени осталось не так уж много, но другой путь мог увести в сторону, так что он решил идти вперёд и ощупывать дорогу палкой.
Успокоившись, Валерий Александрович подумал, что лес, видимо, как война или болезнь близких, срывает с человека воздвигнутый образ, обнаруживает в нём эгоизм, мелочность, нерешительность и в то же время смелость, находчивость, терпение. Валерий Александрович с равнодушием стороннего наблюдателя отметил, как расстроился из-за дорогой обуви, как замер от мысли, что его планы могут не осуществиться. Мысленно над собой посмеявшись, он тут же забыл о ботинках, сконцентрировался и, не отвлекаясь больше на птиц, грибы и незнакомые растения, устремился вперёд.
Вскоре лес стал редеть. Впереди виднелся высокий проволочный забор. Валерий Александрович вышел было на опушку, но тут же поспешил назад: недалеко стояли двое полицейских и что-то объясняли молодой паре. Валерий Александрович догадался, в чём дело: видимо, те, глядя на самолёты, слишком близко подошли к ограждению аэропорта, и сработала сигнализация.
Валерий Александрович знал то, о чём не подозревали эти молодые люди и даже полиция. Он огляделся, увидел ориентир – крупный плоский камень, подошёл к нему, нагнулся и с трудом сдвинул с места. Под сухими листьями находилась квадратная деревянная дверца. Валерий Александрович открыл её и прыгнул вниз. Он уже делал это не раз. Яма была неглубокой. Здесь была ещё одна дверь, на замке. Валерий Александрович воспользовался ключом, который был у него, и вошёл в тоннель. Внутри тут же загорелся свет.
Хотя на этот тайный ход конструкторов аэропорта вдохновили подземные коммуникации вьетнамцев, по которым те бегали всю войну и потом гордо демонстрировали их советским делегациям, тоннель был не просто первобытным лазом в земле. Всё было забетонировано; в начале тоннеля имелся телефон, по которому Валерий Александрович сообщил, что спустился, для того, чтобы в лес отправился сотрудник и замаскировал вход. Идти было прилично, Валерий Александрович перевёл дух и пошёл дальше, мимо красной двери, ведущей в бомбоубежище, мимо синей двери, за которой хранились вода, еда и кислородные маски, мимо схемы тоннеля, мимо поблекших репродукций передвижников. Наконец он дошёл до нужной ему двери – выходу номер восемнадцать.
Поднявшись на лётное поле, Валерий Александрович увидел потрёпанный «Ту-104». Эта модель, закрепившая, как сказал бы военкор, первенство страны в области реактивных авиалайнеров ещё в годы холодной войны, была давно официально выведена из эксплуатации, но несколько экземпляров продолжали летать. Самолёт, в который Валерий Александрович, один из акционеров аэропорта, поднимался по трапу, использовался в советское время для тренировки космонавтов.
Войдя в салон, Валерий Александрович поздоровался с пилотами, штурманом, бортинженером и инструктором по безопасности. Его посадили на широкое плюшевое сиденье. К стене был прикреплён экспонат: фрагмент вологодского кружева в рамке, лежавшего когда-то на спинках кресел «Ту-104» во время дипломатических рейсов.
Как только Валерий Александрович пристегнулся, самолёт двинулся с места и вырулил на взлётную полосу. Сначала он набрал обычную высоту, после чего инструктор принёс Валерию Александровичу мягкий шлем. Через пять минут самолёт стал подниматься ещё выше. У Валерия Александровича заложило уши и закружилась голова. Инструктор протянул ему воду и лекарство.
Наконец лайнер снова выровнялся, Валерий Александрович отстегнул ремень и поднялся в воздух – в салоне была невесомость. Он оттолкнулся от сиденья, полетел в хвостовую часть, где не было кресел, и с победным кличем перевернулся несколько раз в воздухе. Инструктор включил музыку. «Друг наш и верный товарищ к дальним планетам летит, – пел баритон советской эстрады, – звёзды мерцают едва лишь где-то на Млечном Пути». Валерий Александрович смеялся от радости.
Через некоторое время, устав, он подплыл к инструктору, и тот выдал ему обед в тюбиках: борщ, паштет, сливовый компот на десерт. Валерий Александрович знал, что современные космонавты больше не едят из тюбиков, пища на орбиту доставляется в вакуумных упаковках, и на этом самолёте, к восторгу пассажиров, относились к деталям серьёзно. Всё было сделано для того, чтобы доставить им удовольствие, реконструировав эпизоды советских испытаний. Валерий Александрович поел, доплыл до кресла и пристегнулся. Инструктор передал информацию пилоту, и самолёт начал снижение.
Валерий Александрович задремал. Во сне он видел Магеллановы Облака. Словно растворившись в темноте, он летел навстречу звёздному свету. Он был кометой, астероидом, разумным космическим кораблём. Проснувшись от тряски, первое, что он увидел, – свои руки. Они лежали на коленях отчуждённо, как перчатки на стуле. Пошевелил ими. И почувствовал разочарование, что он всего лишь человек. Это ощущение, что его ввергли в мир, в эту страну, в этот, в конце концов, самолёт за ненадобностью. «Жалок… – подумал о себе Валерий Александрович. – Захвачен бессмысленными делами, чтобы скорее прожить жизнь. Один среди миллиардов мечущихся, оставленных без присмотра уродливых детей эволюции».
Самолёт приземлился. Валерий Александрович вышел последним, пребывая в меланхолично-рассеянном настроении, поэтому не сразу обратил внимание, что экипаж самолёта стоит у трапа с поднятыми руками. Напротив стояли военные, держа их под прицелом. Один из них направил дуло автомата на Валерия Александровича. На фуражках военных были красные звёзды.
Их отвели в комнату оперативного дежурного. Валерий Александрович узнал в ней кабинет замдиректора, почему-то заставленный винтажной мебелью. Он силился понять, кому понадобился этот розыгрыш и что в этом смешного. Их стали спрашивать, почему они совершили посадку без разрешения. Обвинили в терроризме. Командир экипажа утверждал, что получил разрешение на посадку, предлагал им послушать записи. Его и других членов экипажа, клявшихся, что всё так и было, увели.
Теперь вопросы задавали инструктору по безопасности и Валерию Александровичу. Откуда у них самолёт? Что происходило на борту? Почему нет кресел? С какой целью приземлились в Москве? Кто такие? Почему без документов?
Через два часа экипаж привели обратно. Вид у них был потрясённый. «В диспетчерской допотопное оборудование, как в музее, – сказал первый пилот. – Неудивительно, что они нас не заметили». «А что записи?» – нетерпеливо спросил Валерий Александрович. «Чёрта с два, ничего нет».
Наутро Валерия Александровича, двух пилотов, штурмана, бортинженера и инструктора вывели на лётное поле. Было очень тепло. Светило солнце. Их поставили на расстоянии шага друг от друга и открыли огонь.
Швейцар
Вологодская усадьба известного кинорежиссёра хорошо охранялась, потому что всякое зримое благополучие притягивало нехороших бедных людей в этом краю лесоповалов, исправительно-трудовых лагерей, ржавых болот и полумёртвых деревень, куда добирались разве что любители экстремального туризма и скупщики угольных самоваров.
Жил режиссёр барином: дом с прислугой, включая псаря и садовника, семейная часовня с колоколами и конюшня, имелся даже бальный зал с потолком, расписанным церковным художником и украшенным лепниной. Из окон с южной стороны была видна угрюмая северная река Сухона. Местами она обмелела, часто меняя русло, а по весне иногда и вовсе текла в обратную сторону, чем напоминала идейные устремления режиссёра, который приезжал сюда рыбачить, охотиться и парить в бане синеоких вологодских девчат.
Он был человеком искусства, близким к верхам, поэтому никто не удивился, когда семьдесят миллионов из бюджета области ушло на то, чтобы провести к его имению асфальтированную дорогу.
К деревне Исады на другой стороне реки уже лет десять нельзя было проехать на обычной машине, только на вездеходе. Жили там люди, которые смотрели телевизор. Они не жаловались на дорогу, потому что знали: в пяти километрах от них есть другая деревня, Задний Двор, куда можно добраться только по реке; там осталось две семьи, пустые избы почернели, покосились и летом на треть утопали в крапиве.
Режиссёр знал, что места эти с историей. Недалеко древнее поселение Вёкса, где люди жили семь тысяч лет назад, – самый старый протогород на материке. Вёксы, они же древние меряне, почитали синие камни, связанные с культом предков и богом грозы, хотя спроси молодёжь из Вологды, скажут, что вёксы – это люди с планеты Вестал из аниме-сериала.
Режиссёру тоже не был чужд культ предков, он мечтал снять когда-нибудь фильм про языческую Русь и отношения славян с вёксами, фильм с эротикой и грандиозными общими планами вековых дебрей, сделанными с квадрокоптера, но в последнее время вынужденно мастерил боевики о подвигах советских солдат, мечтая вернуться хотя бы к запутанным любовным историям жителей предреволюционных дворянских усадеб.
«Хоть лыком шит, да барин» – так говорят.
Многие мечтали увидеть его воочию, а ещё лучше – поговорить. Все знали, что он – за духовность и за Россию. С таким человеком хочешь не хочешь, а найдёшь общий язык. Но режиссёр ездил на машине с тонированными стёклами, а в деревне ни разу не появился. В местный магазин из его усадьбы иногда ходила повариха, она была столичная и смотрела на деревенских с уловимой брезгливостью и не без страха. Это многим не нравилось, и разговоры ходили всякие. Ещё у режиссёра работала деревенская женщина Лена Тарасова, но, как назло, она была немая, а языка жестов никто, кроме её неболтливого мужа Арсения, не знал.
Однажды в начале лета к Арсению пришёл племянник Гриша – парень восемнадцати лет, непьющий и сообразительный, с отличием окончивший сельскую школу. Виделись они нечасто, потому что Гриша жил в той самой дальней деревне Задний Двор со своей матушкой и отчимом, который работал на ближайшей лесопилке. Чтобы навестить родственников, он прошёл пять километров до Исад, и дед Коля, известный тем, что у него было три собаки и две хорошие лодки, перевёз его на другой берег. Поговаривали, что в дом к режиссёру нужен швейцар, который будет приветствовать гостей во время приёма в честь закрытия Московского кинофестиваля. Все знали, что к режиссёру по этому случаю съедутся знаменитости.
На следующий день Лена отвела Гришу к режиссёру. Вошли в кабинет. Хозяин сидел за широким деревянным столом в кожаном вращающемся кресле и говорил с кем-то по телефону. Григорий уже затосковал от смущения, как режиссёр положил трубку, поднял на них взгляд и улыбнулся.
– Кто это с вами, Лена?
Она улыбнулась и подтолкнула мальчика вперёд. Говорить нужно было самому.
– Здравствуйте. Меня зовут Григорий. Я хочу быть вашим швейцаром.
– Вот как!
– Я хочу стать актёром и подумал, что это будет хороший опыт…
– Недурная мысль, – дружелюбно отозвался режиссёр, – хочешь, даже сценарий тебе напишу?
– Конечно!
Григорию выдали тёмно-синюю тяжёлую ливрею до пят, фуражку с золотым галуном, широчайшую жёлтую перевязь через плечо, новые блестящие офицерские сапоги, сделанные по дореволюционным лекалам, и карманные часы на цепи. В сценарии, от руки написанном режиссёром, он прочёл: «Молодой швейцар, одетый в ливрею с иголочки, стоит у парадных дверей в ожидании появления господ – известных актёров и актрис, режиссёров, политиков, иностранцев. Он всем улыбается. Помогает дамам, предлагает господам сигары. Объясняет, где и что находится в доме. Отгоняет автомобили в гараж. Он прост, спокоен и уверен в себе, потому что наконец чувствует себя на своём месте. „Добро пожаловать“, „Прошу вас, заходите“, „Извольте надеть тапочки“ – он говорит с такой искренностью, будто все эти люди приехали к нему, именно к нему в гости! Однако в глаза он гостям смотреть не смеет, чтобы не смущать себя и не слишком уж сильно искушать господ своим угодливым видом». Дальше в сценарии говорилось, что одна из дам забудет в ванной комнате бриллиант, и следовала подробная инструкция для Григория – что делать с этим бриллиантом.
Настал первый день празднования закрытия кинофестиваля. Нарумяненный и надушенный, Григорий стоял у монументальной двери и встречал разодетых гостей: повторял приветствия, как можно искреннее кланялся, открывал дверь, старался не смотреть в глаза. Мелькали лица, которые он видел по телевизору. Подъехала Агнесса Большакова, звезда не только отечественного кино, но и эстрады. Она была в чёрном бархатном платье, на груди поблёскивал крупный бриллиант. Поборов очередной приступ страха перед знаменитостью, Григорий шагнул к ней, поклонился и пригласил в дом. Прежде чем войти, Агнесса потрепала Григория за щёку, от чего его уши стали горячими. Свет тут и там преломлялся в хрустале, сиял начищенный Леной мраморный пол, из большого зала доносились музыка, смех и звон посуды. Агнесса направилась к другим гостям, а Григорий, проводив её взглядом, вернулся на своё место. Потрёпанный, весёлый кинокритик с восторгом пожал ему руку; усталый лысый продюсер попросил у него прикурить; для полной восточного вида дамы с неестественными губами он принёс стакан французской минеральной воды из кухни; ведущий популярную телепередачу модельер вручил ему свою шумную мелкую собачку в серебряном костюмчике со стразами, а журналист из глянца сделал селфи со швейцаром на парадной лестнице. Григорий был так поглощён окружающей его суетой, что чуть не пропустил ключевую сцену для своего героя.
Он зашёл на кухню к Лене. Она протянула ему то самое украшение, которое было час назад на шее Агнессы. Григорий помнил, что по сценарию Агнесса оставит украшение у раковины в ванной комнате, потому что имеет привычку снимать его, когда идёт умываться и поправлять макияж. И вот так теряла она свой бриллиант, будучи в гостях у режиссёра, уже не раз.
Григорий положил бриллиант в карман ливреи и, как и было сказано в сценарии, прошёл в сад за южной стеной дома, взял приготовленный заранее совок из нержавеющей стали, выкопал ямку под дубом, положил туда драгоценность, закопал, притоптал.
Теперь ему следовало вернуться в дом, дождаться, пока Агнесса не хватится своего украшения. Когда это произойдёт, он подойдёт к ней, наклонится к её уху, вдохнёт запах дорогих французских духов и скажет: «Я знаю, где бриллиант».
Всё так и произошло. Агнесса подняла бровь и, сохраняя непринуждённый и весёлый вид, спросила:
– И где же?
– Простите, но я не могу вам сказать так сразу.
– Это ещё почему?
– Вы сначала должны согласиться на роль Дианы в новом фильме режиссёра.
– Но она же пустоголовая провинциалка, которая стремится только к московской прописке…
– Я уверен, что отрицательная роль поможет раскрыть ваш талант в полной мере… – повторял Григорий тщательно заученные гладкие фразы.
– Не заговаривай мне зубы, мальчик, – ответила Агнесса, на мгновение непроизвольно прищурилась, обдумывая какую-то мысль, и вдруг резко сменила тон на более дружелюбный: – Чёрт с ним, я согласна! Теперь ты отдашь мой бриллиант? Мне его подарил один дубайский шейх, вряд ли я могу позвонить ему и попросить другой.
– Хорошо, тогда надо подписать договор! Пройдёмте в северную гостиную, он там. В комоде девятнадцатого века…
– Договор? – Агнесса явно не ожидала, что за свои слова придётся отвечать столь стремительно, да ещё и перед швейцаром. Проследовали в гостиную. Она покрутила в своих холёных пальцах тяжёлую и холодную паркеровскую ручку с платиновым пером, вздохнула, подписала контракт и сказала: – Вот ведь блин.
Григорий мысленно с ней согласился.
Бриллиант откопали и вернули хозяйке. Насупившись, она удалилась в свою комнату, не дождавшись фруктового фондю с миндальным мороженым. Подвыпивший режиссёр был очень доволен, пожал Григорию руку и пообещал выдать двойной гонорар.
– Сынок, ты актёр! Откуда такое самообладание, откуда такой такт у тебя, деревенщины? Слушай сюда внимательно: поступай в театральный, я всё устрою. Считай, приёмная комиссия пьёт за твоё здоровье. На сегодня свободен. Реквизит не сдавай, ходи так, привыкай, будешь пока при мне постоянно, гостей встречать, и сниматься потихоньку начнём, жди звонка. Деньги возьми у управляющего. Ступай!
Переночевав у тёти с дядей, ранним туманным утром Григорий переправился через реку и поплёлся сквозь лес по разбитой лесовозами дороге. На нём так и остались ливрея и невероятные щегольские сапоги. В них он ощущал себя то полководцем, то рок-звездой. В разгар воображаемого выхода на бис к ревущей толпе поклонников Григорий услышал звуки дудки вдалеке. Кто-то в лесу явно наигрывал то ли канувший в Лету военный марш, то ли весёлую пастушескую мелодию. Григорий остановился, чтобы прислушаться и оглядеться, и в этот момент последняя нота растворилась в лесном воздухе. Григорий обернулся и увидел, что кто-то догоняет его быстрым шагом. Стало тревожно – по этой дороге редко кто-то ходил, а тем более с музыкой. Мало ли кто? Мало ли что? Место глухое. Вскоре к нему приблизился какой-то невысокий бородатый мужик в странной поношенной одежде, напоминающей балахон из мешковины. На голове у него красовался высокий войлочный колпак с бубенцами, которые побрякивали при каждом шаге. Выражение лица мужика можно было назвать озарённо-глумливым. В руке он держал дудку. На шее висело ожерелье из синих камешков. Подпоясан он был ярким ремешком из разноцветных верёвок, на котором висел кожаный кошель, нож в берестяных ножнах и ржавое металлическое приспособление, похожее то ли на штопор, то ли на ключ для замка сумасшедшей конструкции. А на ногах у него были самые настоящие лапти. Незнакомец тоже уставился на ноги Григория.
– Уж не князёк ли тут ходит в таких сапожищах?
– Нет. Я просто Гриша.
– Григорий, значит! И я Григорий. Ты только не скажи кому, что Григория-то видал, в бегах я.
– Зэк, что ли? – недоверчиво спросил Григорий.
– Скоморох! Песни пою, пляски пляшу. Да только не могу больше перед нашим боярином прыгать, ирод он, каких поискать… Сочинил я ему былину-небылину о Руси Великой, о стародавних временах, о неисповедимых путях, чтобы нынешние дураки на ошибках прежних дураков училися, а он махнул рукой и говорит: «Ты давай, Гришка, ещё раз про козлёнка пой». И смеётся, как дурак. И медовуха у него по усам течёт прямо в кашу.
– Я думал, скоморохов нет давно.
– Да уж скоро и не станет. Слово не скажи – в темницу кидают, в поганую яму, к попу тащут, на судилище, что за дела срамные? Хиханьки да хаханьки только подавай, все стали как дети малые, только злые. Вот ты, князь, подумай: стоит ли новый терем строить, коли народ голодный еле ходит? Но боярин благородной крови, видите ли, хочет только развлечения да холопского послушания, а думу думать не хочет…
– Бывает, – многозначительно протянул Григорий, подумав о режиссёре.
– Ты, Гриша, с такими не связывайся. Серебро их, яства – ловушка чудовищна! Лучше скитаться по деревням, простых людей веселить да поучать, чем этих мироедов скотских. Слово ты моё уж помяни…
– Ладно.
– Хренадно! И с девками поосторожнее… Навидался я всяких… Не отвяжисси.
– Ага.
– Видел в одной пару бесов, так они всё время спорили друг с другом. Ну, пошёл я, боженька зовёт, глазом подмигивает!
– До свиданья, – пробормотал юноша и посторонился.
Скоморох Григорий удивительно резвым шагом прошёл вперёд, достал дудку и заиграл. Григорий готов был поклясться, что это был мотив песни популярной фолк-группы, чьи клипы иногда крутят по МузТВ. Как же она называется? «Лесные тролли»? «Травушка-муравушка»? «Медвежий угол»? Пока он думал, скоморох свернул с дороги в лес и скрылся среди ёлок. А Гриша ещё долго брёл к себе в деревню, напряжённо глядя под ноги, чтобы не слишком изгваздать сапоги, которые можно будет продать цыганам.
Нож
У Нины Яковлевны, инженера-метролога местного нефтеперерабатывающего завода, была странная привычка. В супермаркетах она выбирала человека, шла за ним и клала в свою корзину то же самое. Чаще выбор падал на женщин: кто-то был похож на её любимую актрису, у кого-то пальто как в журнале, но обычно – по практическим причинам: они брали достаточно продуктов, высматривали те, что посвежее, и Нине Яковлевне не приходилось ломать голову, что купить. Иногда ей попадались бережливые дамы, время от времени – любительницы выпить; были такие, кто покупал наборы для суши, и тогда Нина Яковлевна озадаченно лепила суши, с трудом прожёвывала и вечером засыпала голодной. Будучи в приподнятом настроении, она даже заводила беседы со своими преследуемыми: «Это очень хорошая треска, да», «Как подорожал сыр, безобразие!», «Одна химия в колбасе, посмотрите на состав». Таким образом она выведывала новые рецепты и влияла на выбор жертвы, от которой зависел её ужин.
Бывало, ей надоедали домохозяйки, и она ходила за мужчинами. Так она распробовала замороженную пиццу, супы в пакетиках и отечественное пиво, скопила коллекцию шампуней против облысения и научилась безучастно отламывать голову и хвост креветкам. В «мужские» вечера она не работала с документами, принесёнными с работы домой, а смотрела допоздна кино и ужинала, лёжа на диване.
Ходить за молодёжью было дёшево: как правило, они не превышали лимит карманных ста рублей, брали сухарики, газировку, шоколад и помогали Нине Яковлевне осуществлять не осознаваемую в полной мере мечту вернуться в детство. Она попробовала сладости, которых не было раньше, – мармелад в виде червей, гигантские леденцы, шипучки.
В тот день, о котором пойдёт речь, Нина Яковлевна приметила у входа в магазин двух пареньков. Тихо переговариваясь, они пошли в хозяйственный отдел, чем удивили Нину Яковлевну. Зачем им в хозяйственный? Она двинулась за ними. В отделе посуды они крутили в руках разные ножи и спорили, какой из них острее. Нина Яковлевна сделала вид, что выбирает кастрюлю. Вместе с ножом они взяли мыло и упаковку тряпок.
У Нины Яковлевны как раз на днях был «мужской» вечер, и она смотрела американский детектив, в котором маньяк закалывал жён своих врагов, потом прятал тела в подвалах, а пролитую кровь аккуратно вытирал тряпками.
Вспотев от волнения, она встала за ними в кассу, захватив по дороге бутылку воды.
Расплатившись, парни быстро пошли к выходу. Нина Яковлевна, дрожащими руками пряча сдачу, – за ними.
Затем в винном отделе они купили бутылку водки.
«Видимо, совершеннолетние», – подумала Нина Яковлевна. Она не могла решить, позвонить ей в полицию сразу или сначала проследить за ними.
Парни вышли из магазина.
Она следовала в отдалении, чтобы не привлекать внимания. Парни ушли далеко. Ещё чуть-чуть, и Нина Яковлевна потеряла бы их из виду, но тут они свернули к реке.
Нина Яковлевна подошла и увидела, что они сидят на бревне у самой воды и курят. За кустами их почти не было видно. Чуть выше стояла скамейка, Нина Яковлевна села на неё и прислушалась.
– Стихи стали такими сложными, – хриплым голосом жаловался парень в кепке и джинсовой куртке. – Похожи на поле в трёхмерном тетрисе, где все детали разные по форме и цвету и надо их подогнать…
– Точно, – ответил его сообщник со светлыми длинными волосами, одетый в зелёную рубашку на три размера больше.
– Слова стоят там, где сроду не стояли! И как-то надо догадаться, какой смысл рождается от их внезапного соседства. Да ещё в каждой строчке цитата…
– Вот это меня особенно бесит! Откуда всё это знать?..
– Для этого нужно запомнить хотя бы несколько сотен хрестоматийных стихотворений. Но есть тут и выгодная сторона.
– В смысле?
– Какую фигню ни скажешь, типа «эти стихи – гирлянда желудей, из которых может вырасти дубовая роща», или, как Веник задвинул прошлый раз, – парень стал пародировать Веника, изображая занудный голос: – «Автор имеет в виду, что времени как такового не существует или как минимум оно нелинейно», ты будешь прав, потому что у таких стихов бесконечное количество смыслов, рождающихся в голове того, кто их читает; короче, нет правильного ответа.
– Ну, это и так понятно. Нагнал туману – и ты на коне.
– Знаешь, о чём я ещё думал?
– О чём?
– Вот придёт такой поэт в бар, подсядет к красивой девчонке и начнёт читать ей свои стихи, перегруженные вторичными смыслами, так она испугается, правда ведь?
– Смотря какая попадётся… Но красивая точно испугается.
– Знаешь, мне стали нравиться эти семинары. Сначала читаешь – ничего вообще непонятно, муть какая-то, полтора часа обсуждаешь каждую строку, люди трактовки предлагают, и вот, в конце, читаешь те же самые слова и думаешь: сильно написано.
– Да. Ну что, идём?
Нина Яковлевна не знала что и думать. Было ясно, что она, скорее всего, ошиблась в предположениях. Ей даже стало досадно, что она не раскроет преступление и не разоблачит банду. Она посмотрела вслед парням, собираясь уже домой, как снова её разобрало любопытство: они шли в сторону заброшенных гаражей, где постоянно случается что-то нехорошее. Нина Яковлевна решительно двинулась за ними.
Следовало соблюдать осторожность: в таком пустынном месте её легко было заметить. Она вновь отстала, и ребята пропали из виду. Стараясь двигаться как можно тише, она подошла к стене крайнего гаража и выглянула из-за него.
Возле бетонного забора горел костерок. Рядом сидел местный бомж Петя и разделывал новым ножом курицу. Вокруг валялись перья. Он испуганно взглянул на Нину Яковлевну.
– Ребята забыли отдать вам это, – сказала Нина Яковлевна и протянула Пете бутылку воды.
«У кого же он в посёлке курицу украл? – думала она по дороге домой. – Надо выяснить. Или не надо уже больше ничего выяснять…»
Хозяин погоста
Обнажённые деревья стояли на большом расстоянии друг от друга, раскинув ветви. К осине прицепился белый пакет, к берёзе – синий. Виктор смотрел на них из окна многоэтажки, пока заваривался чай. Он не видел в этой картине ни урбанистического сплина, ни красоты синхронности, ему было, как он мог выразиться, глубоко параллельно.
Не ощущая эмоций от созерцания пейзажа, он тем не менее не отходил от окна. Разбавив чай холодной кипячёной водой и добавив две ложки сахара, он остался стоять, наблюдая, как восходит солнце в просвете между жилым домом и юношеской библиотекой им. Можейко.
В дверь позвонили. Виктор прошёл по коридору, от стен которого отходили обои, и впустил Колю. Коля сказал: «Ну чё, поехали?» Хозяин квартиры надел резиновые сапоги, куртку, взял в руки шапку, чтобы натянуть её в лифте. Они вышли.
В машине Виктор задремал. Когда «нива» поехала по проселочной дороге и машину стало трясти, он проснулся. Во рту пересохло, в голове тяжесть, но ясность. Он с досадой подумал о том, что возможность выпить чаю будет только через несколько часов. Они оставили машину у леса, чтобы сойти за дачников, и пошли пешком через поле к деревне Овершкино. На двадцать домов только три обитаемых, остальные покинуты не так давно, вполне может ещё что-то лежать. Виктор и Коля надеялись найти иконы и самовары, но никогда не знаешь, что подвернётся – медали, пряжки, деньги, часы, фотоаппараты или хотя бы книги и открытки. «Любое дерьмо можно продать», – говорили они.
Сквозь туман сыпался моросящий дождь. Виктор и Коля, оба в капюшонах, зашли наконец в деревню. Выбрали дом покрепче, залезли. Бардак – на полу мусор, столы лежат ножками кверху, но плохонькие репродукции Шишкина висят ровно. Коля остался внизу, Виктор поднялся по лестнице в узкую комнату. Стены оклеены страницами журнала «Огонёк». На полу лежат матрас и одежда. Виктора заинтересовал сундук, стоящий у окна. Внутри ничего не было, но сам по себе он мог иметь какую-то ценность. Виктор выглянул в окно. Из дальней части деревни по единственной дороге в их сторону кто-то шёл. Он взял сундук, спустил его вниз. В горнице Коля рассматривал блёклый от патины самовар. Первое, о чём подумал Виктор, – это то, что на самоваре не хватало конфорки и заглушки, ручку надо менять, зато ветка крана была выдающаяся. Он поставил сундук, Коля посмотрел на него поверх самовара и подмигнул. «Слышь, – сказал Виктор, – там кто-то идёт. Я пойду, отвлеку внимание, а ты пошукай как следует». Коля кивнул.
Виктор обошёл дом и вышел на дорогу. Ему навстречу двигалась женщина. С ней были две собаки, они бегали вокруг и бросались друг на друга. Мелкая собачонка кусала кобеля за шею, и они замирали так на секунду, а потом всё начиналось заново. «Сучья порнография», – подумал Виктор и вежливо поздоровался. Женщине было за шестьдесят, но выглядела она очень крепкой благодаря широким плечам и высоким скулам.
– Я дома смотрю, хочу купить. Не посоветуете?
– Ну вот Смирнова дом продаёт, Архиповы. Но это не здесь, там, – Светлана Михайловна показала туда, откуда пришла.
– Покажете?
Собаки носились туда-сюда, кобель всё пытался положить передние лапы Виктору на живот, а мелкая покусывала его за руку. Светлана Михайловна развернулась, и они пошли в сторону населённой части деревни.
– Городской ты?
– Да, но, знаете, хочется смотреть в окно и видеть лес, реку, поле на худой конец…
– Ну смотри, вот этот дом крепкий ещё, но как связаться с хозяевами, я не знаю.
– Давно уехали?
– Да года два как.
Виктор запомнил дом с зелёными наличниками.
– Этот вот дом мне отдали. Я оттуда пятьсот кирпичей домой перетащила…
Виктор покосился на старушку.
– Чего думаешь, не смогу? – с вызовом глянула Светлана Михайловна. – Да я по два ведра с дальнего колодца каждый день ношу сорок лет подряд. А вот мой огород, кстати.
Виктор посмотрел на огород. Выглядел он заброшенным и стоял сам по себе, ни к какому дому не относясь.
– Хероват, знаю. Знаешь почему? – спросила бабка.
– Почему?
– Огород был лучший в деревне. Всё у меня было: лук, морковка, картошка, кабачки, огурцы, помидоры… И чего ты думаешь?
– Чего?
– А то! Соседи-то завидовали, принесли кости с кладбища, оно там у нас, – она махнула в сторону церкви, – закопали у меня тут под чёрной смородиной, и всё, не родятся больше помидоры, сдохла смородина. А я ведь, дура, не сразу поняла, мучилась, думаю, что за такое.
Виктор поёжился.
– Ну, пойдём, – сказала Светлана Михайловна и повела его к церкви. В тумане её пустые, без стёкол, но с решётками окна, стены из красного кирпича, кое-где ещё покрытые белой краской, выросшее на своде тонкое дерево выглядели как в кино.
– Пытались отреставрировать, да не дали.
– Как так?
– Ну, мужики сначала своими силами, Гошка, муж мой, тоже с ними работал, думали, дадут денег, да где там. А вот мой дом.
Изба Светланы Михайловны стояла прямиком у церковного кладбища.
– Какое-то место у вас зловещее. И так смерть повсюду, – выразил свою мысль Виктор. Происходящее стало интересовать его всё больше и больше, он оживился и с наслаждением вдыхал свежий воздух, который был совсем не тот, что в городе – весь пропитан разными запахами.
Светлана Михайловна тоже стала спокойнее. Поначалу ей не нравился этот тип – чего тут забыл? – но сейчас ей хотелось, чтобы он остался подольше, а то поговорить в последнее время совсем не с кем, Гошка болен и всё время спит, а соседи уехали в город и сидят там в тепле.
– Больно ты понимаешь! Здесь-то и безопаснее всего, у неё под боком.
– Это да, – подивился Виктор бабке.
– Жил тут в церкви филин. Жутко орал, а через два дня привозили покойника! И так каждый раз. Орёт – и везут. Орёт – копают.
– И сейчас орёт?
– Нет, улетел куда-то. Но как начинал орать – свеженького везут. Вот так и задумываешься… Мы все считаем, что он связан с хозяином кладбища.
– С хозяином? – не понял Виктор.
– Ну да. Ехал как-то ко мне мой племянник, темно уже было, и видит у церкви этого чёрта, огромного. Тот, значит, держит берёзу за комелёк, крутит ею, значит, и говорит: «Успеешь проехать – твоя взяла, не успеешь – со мной пойдёшь…» Ну, племянник мой газу дал и…
– И что? – с волнением спросил Виктор.
– И проскочил! Никто ему не поверил, кроме меня, я-то тоже его видела.
– Чего, правда?
– Да, – гордо сказала Светлана Михайловна и стала рассказывать с такой уверенностью в голосе, какой нет даже у батюшек, когда те говорят о божьем милосердии. – Возвращаюсь я из города на автобусе, темень – хоть ножом режь, ну, думаю, Гошка-то меня встретит. Выхожу, вижу – у церкви фигура мужская. Бегом к нему! А он вдруг расти начал, и в нём уже три Гошки, а не один, развернулся и пошёл в сторону кладбища… Чёрт, значит, смотрел, кто приехал.
Виктор почесал затылок.
– Не скучно тут у вас.
– Не, – согласилась Светлана Михайловна. – Ну чё, будешь у нас жить?
– Я подумаю, – сказал Виктор.
Мелкая собачонка куснула его за рукав и убежала с кобелём вперёд. Виктор пошёл назад, а Светлана Михайловна помахала ему вслед.
У машины копошился Коля, укладывал в багажник разное добро.
– О, Витёк, ну ты это, извини, что тебе пришлось ливер давить.
– Да ладно, прогулялся, – кивнул Виктор.
Они поехали домой. Коля взахлёб рассказывал, чего он нашёл, а Виктор впервые за многие месяцы похвалил его. Дома Виктор с удовольствием выпил чаю, а деревья за окном казались ему похожими на надгробные кресты, от которых веет не ужасом, а покоем.
Ночью он долго не мог уснуть. Поначалу ему представлялись всякие приятные вещи: как он чистит самовар, а тот блестит; как он лезет на деревья перед домом и снимает с них пакеты, а потом всю неделю соседи его благодарят; как он покупает дом в Овершкино и сидит перед ним, жуя только что сорванное яблоко. Возможные события приходили ему в голову, но не все они были приятные. Ближе к трём часам ночи Виктор стал представлять, как болеют, а потом тяжело уходят из жизни его пожилые родители, как он продаёт два самых ценных самовара, чтобы оплатить их похороны. Обессилевший, подавленный этим горем, Виктор забылся до рассвета.
Проснувшись в полдень, Виктор встал не сразу. Отвернувшись к стенке от по-зимнему яркого солнца, проникающего в комнату через неплотные шторы, он долго лежал с закрытыми глазами, чувствуя одновременно усталость от долгого лежания и невозможность встать. В первом часу он всё-таки поднялся, умылся и выглянул в окно. Что-то было не так, особенно подозрительными казались ему деревья, но разглядеть, что же было не так, Виктор не смог – слишком высоко.
Сварив кашу и съев её без особого аппетита, Виктор налил себе чаю и подошёл к окну. Между жилым домом и юношеской библиотекой им. Можейко стояла машина «Скорой помощи». Возле неё курил водитель.
Виктор накинул куртку, надел ботинки, взял в руки шапку, чтобы натянуть её в лифте, и вышел из квартиры.
Оказавшись на улице, он подошёл к осине и берёзе и, присмотревшись, понял, что видит их корни под землёй. Корни были мощные, многочисленные и расходились в разные стороны, как ветви. Он обернулся, посмотрел на дом и увидел, что в подвале на велосипеде мальчика с третьего этажа сидит мышь. Он увидел кучу пробок в земле под скамейкой и пару монет.
Виктор пошёл к остановке, жадно глядя по сторонам. Было плохо видно, что под асфальтом, но, как только попадалась голая земля, он замечал в ней мусор: от конфетных бумажек и потерянных детских формочек до презервативов и стеклянных бутылок.
Он сел в маршрутку и поехал в Овершкино. Всю дорогу Виктор смотрел в окно, и один раз ему даже показалось, что на окраине очередной полуживой деревни под землёй лежит редкая самоварная коронка, но всё случилось так быстро, что он не успел отреагировать.
Выйдя в Овершкино, Виктор пошёл искать Светлану Михайловну. Он постучался в дверь её дома, но никто не открыл, только вчерашние собаки лаяли на него из садовой пристройки, своей громадной конуры. Тогда он направился к кладбищу.
К шелесту листьев прибавился приглушённый звук голосов.
Мало того что мёртвые разговаривали между собой, они ещё ворочались под землёй, поворачиваясь лицом к тому, с кем шла беседа. На Виктора не обратили внимания. Тёмная фигура отделилась от дерева и приблизилась к нему.
– Вот ты и пришёл, Виктор Алексеевич, – констатировал чёрт. – Сейчас тебя пугает подземный мир, но уверяю тебя, дело самое обыкновенное, просто раньше ты ничего об этом не знал. Ты всегда мечтал о великом, порой размышлял о вечности, а в последнее время позволил себе думать, что если жизнь твоя – мелочь, то мир в целом – пустая болтовня. Но это не так. Теперь ты будешь хозяином этого погоста – заступишь на моё место, меня, друг, повысили, станешь оберегать эти души, – чёрт кивнул на воркующую публику, – от новых разочарований. Ты будешь исповедовать их и наставлять на путь истинный.
– А если я не знаю, в чём истина? – обеспокоенно спросил Виктор.
– Что-нибудь придумаешь, – пожал плечами чёрт. – Главное для них – во что-то верить. Отслужишь вечернюю службу, и посмотрим, как пойдёт.
Виктор посмотрел на себя и увидел, что тоже потемнел и стал похож на тень. Мёртвые заметили его и стали показывать на Виктора пальцами. Растерявшись, Виктор не знал что сказать.
– Пока ничего и не говори. Соберись с мыслями, – сказал ему чёрт и пошёл патрулировать восточную аллею.
Виктор отвернулся от мёртвых и принялся разглядывать небо. «Меня призвали, – думал он, – помогать людям. Теперь моя жизнь перестанет быть несущественной, как раньше».
Он направился в разрушенную церковь. Через пустые окна сквозил ветер, было слишком темно, чтобы увидеть, остались ли на стенах фрески. Виктор подумал, что он теперь щенок Цербер, которого впервые провели вдоль порученных ему границ, и это сравнение ему понравилось. Теперь он скорее мифическое существо, нежели человек.
Когда стемнело, чёрт зашёл в церковь, чтобы проинструктировать Виктора.
– К сожалению, мёртвые не могут покидать своих могил. Если ты будешь обращаться ко всем сразу, даже из центра кладбища, тебя почти никто не услышит. Тем, что на галёрке, конечно, перескажут твою проповедь, но, скорее всего, переврут ключевые идеи. Это беда большого кладбища – а наше больше, чем кажется людям. Не знаю, обратил ли ты внимание, но люди лежат и там, где сейчас дорога, и под ближайшими домами. Людей здесь хоронят уже триста лет… Так вот, за ночь ты должен поговорить со всеми. Выбери тему для разговора, например ложь: как побороть в себе желание сказать неправду, когда можно лгать и так далее – они любят понятные им темы, хотя иногда приходится беседовать о вещах типа «непротивления злу насилием», это что-то вроде обязательной программы, и тогда они заметно скучают – само выражение требует некоторого осмысления, не считая того, что это для них не особо актуально. Зато в такие дни ты быстрее освободишься и сможешь погулять лишний часок по лесам или вдоль реки – тут славные есть тропинки… – чёрт вздохнул, – я буду по ним скучать.
– А куда вас переводят?
– В столицу. Там нужны опытные хозяева. Много прохожих, да и мёртвые самые разные: бывает, положат инженера рядом с композитором, а им и поговорить не о чем. За всем нужен глаз да глаз. А тут, в деревне, живёшь расслабленно, мёртвые хоть и простодушные, но добрые – милое общество. Ну, пойдём.
И чёрт с Виктором вышли к народу.
Говорил Виктор в ту ночь с мёртвыми о смысле жизни. Поучал не он их, а они его. Разговоры эти утомили его ещё до полуночи. Он слушал людей и с тоской думал про самовар, который остался дома. «Кто же его отполирует? Сможет ли Колька открыть дверь и забрать его? А вдруг он прихватит и деньги?» – думал он. Под утро, когда всё закончилось, он пошёл к реке. На берегу, у самой воды, на бревне сидел чёрт. Виктор сел рядом.
– Что-то мне подсказывает, что ты уже не хочешь служить людям, – первым нарушил тишину чёрт. – Придётся снова с отделом кадров общаться. На этот раз попрошу, чтобы для кладбища поискали хозяйку…
Проснувшись в десять утра, Виктор вскочил с кровати и подошёл к окну. Деревья выглядели как обычно, только пакеты куда-то исчезли. Зазвонил телефон.
– Ты где вчера был? – спросил Коля.
– В городе, – ответил Виктор.
– А я звонил-звонил! Какие планы?
– Сегодня займусь самоваром, а ты давай чисть сундук.
– Да, шеф. До связи.
Виктор пошёл на кухню, налил крепкого чаю и пил его по чуть-чуть, наблюдая за тем, как дворник посыпает песком скользкую дорожку между жилым домом и юношеской библиотекой им. Можейко.
Обряд
Для обряда Вероника несла шесть свечей, канарейку в клетке, нож и спички. Кладбище находилось на опушке соснового леса. Было жарко, и слышался треск раскрывающихся шишек.
Протискиваясь между стоящими впритык коваными оградками, она думала о том, что бывает после смерти. Ещё в детстве Вероника иногда представляла, что умерла, и с жадностью смотрела со стороны, как её оплакивают. Ей было уже тридцать пять, но она всё ещё воображала это время от времени.
Если Бог и существует, думала она, то это такой же дух, оставшийся от мертвеца, только наделённый властью вмешиваться в судьбы живых, а раз он был когда-то обычным человеком, то порой истолковывает ситуацию неправильно и помогает не тем людям. Возможно, у него есть даже свои политические пристрастия.
Вероника не была уверена, что сама до этого додумалась. В любом случае нельзя пренебрегать вниманием духов, поэтому сегодня она попросит одного из них о заступничестве.
Она нашла то, что искала: могила без памятника, с ржавым, поломанным ограждением. В изученной ею книге по оккультизму сказано, что жертвоприношения на безымянных захоронениях более действенны. Вероника опустила сумку на землю. Канарейка заволновалась и стала биться в клетке, жалобно попискивая.
Расставляя свечи, она заметила приближающегося человека. Веронике стало не по себе, она подумала, не лучше ли было совершить обряд ночью. Но в книге написано, что свечи должны гореть, когда горит солнце. Следовало придумать оправдание. Зачем она ставит свечи?
Мужик уверенно шёл к ней. Вероника сделала вид, что не замечает. Когда он приблизился, его тень упала на Веронику. Она подняла голову.
– Мелочи не найдётся? – спросил человек с блаженным лицом алкоголика, и Вероника ему даже обрадовалась. Достала горстку монет. Мужик взял деньги, покачнулся и медленно побрёл дальше. Видимо, остался доволен – Вероника услышала, как он затянул песню.
Вероника торопливо зажгла свечи, приложила ладони к земле, произнесла нужные слова, затем достала канарейку и нож. Прицелилась, зажмурилась и взмахнула ножом. Нож был тупой, и вместо того, чтобы отсечь канарейке голову, она нанесла ей несмертельный удар. Птица стала вырываться, и тогда Вероника принялась тыкать её ножом, пока та не затихла. Птичьей кровью она затушила свечи. Перевела дух.
Солнце ушло за тучу, и подул ветер. Вероника встала, отряхнула колени от кладбищенской земли с хвоей и огляделась. Никого не было. Она пошла к восточным воротам. Начался дождь. Когда она подходила к машине, то заметила в грязи тонкие инсулиновые шприцы. Она подумала, что не одна ищет здесь спасения; не одна, кто знает, что в жизни есть что-то помимо нас самих. Вероника села в машину (мотор завёлся со второго раза) и поехала домой.
На следующий день она проснулась в хорошем настроении. Сделав домашние дела, надела вечернее платье и поехала в центр. Переулками прошла к зданию консерватории и, войдя внутрь, спросила у вахтёрш: «Девочки, уже началась репетиция?» Они посмотрели на неё с недоумением и ответили: «Да». Вероника вошла в зал и, направляясь к сцене, внезапно остановилась – в оркестре не было ни одного знакомого лица. На её месте, за роялем, сидел холёный, похожий на иностранца человек. К ней подошёл пожилой дирижёр.
– Концерт через два часа, приходите позже. Пока идёт репетиция.
– Да, я знаю, – ответила она. – Но я должна сегодня играть.
– А кто вы?
– Руманова Раиса Васильевна, – твёрдо сказала она и выпрямила спину.
Дирижёр ухмыльнулся.
– Вы шутите. Руманова Раиса Васильевна работала здесь, но она умерла больше сорока лет назад.
Повисла пауза. Вероника заплакала, и дирижёр взял её под руку, ведя к выходу: «Ну-ну, милочка, будет вам».
Когда вахтёрши поили Веронику чаем, приехала женщина, смутно знакомая Веронике. Она утверждала, что является её сестрой, но этого никак не могло быть.
– Нет у меня никого, все умерли в блокаду, – твердила Вероника. – Я Руманова Раиса Васильевна, проверьте, вы что-то перепутали…
Веронике была оказана помощь, о которой она просила накануне. Может быть, её просьба была истолкована не совсем верно, но в этом не было ничьей вины.
Только что приобретённая сестра повела её прогуляться. Повсюду были открытые магазины и кафе, и в них кипела жизнь. Гуляя по городу, они дошли до Исаакиевского собора. И Вероника спросила у сестры, помнит ли она, что здесь был засаженный капустой огород, который сторожил боец с автоматом.
Неизвестная земля
Вечернее солнце било в окна электрички; Алексей I Велеречивый прохаживался по вагону в поиске безвольной клиентуры. Заметив свободное место возле девушки в блестящей рубашке, он приземлился, как старый, потрёпанный истребитель (чем и был в пространстве вселенной), и начал разговор: «Здравствуйте».
Девушка дёрнулась, как во сне (врачи называют эти внезапные судороги гипногогическим миоклонусом), и посмотрела на Алексея как испуганная кошка. «Да, здравствуйте, прекрасная дама, – продолжил Алексей. – У вас такая красивая рубашка, словно всё серебро Перу, Испании и Чили переплавили, чтобы придать ей такой изумительный оттенок». Видя, что не удивил, Алексей решил говорить понятнее: «Куда едете?» Девушка ехала в Москву. Алексей обрадовался: теперь было за что зацепиться. «В Москве все наряжаются – столица! А у меня вот специально для вас, для самой чудесной девушки в вагоне, нет, во всём поезде, а может, и во всей Москве, есть прекрасные украшения». Алексей достал полиэтиленовый пакет и вынул оттуда браслеты. «Вы ведь знаете, что такое Шамбала?» Девушка покрутила головой. «О, ну как же не знаете! Ничего, я вам расскажу, ежели изволите. Шамбала – царство, полное спокойствия, любви и радости. Но дело в том… Как вас зовут?» – «Катя». – «Дело в том, Катенька, что в него сложно попасть, хотя находится оно совсем рядом. Знаете где?» – «Где?» «В сердце, Катенька, – доверительно шептал Алексей. – Но чтобы попасть туда, нужно познать себя. Браслет поможет в этом, главное – правильно подобрать. Подумайте хорошенько: какой цвет вам нравится?» Он выложил браслеты так, чтобы Катя их лучше разглядела. «Сиреневый», – пискнула девушка и схватила браслетик. «Он подарит вам гармонию, моя милая. Посмотрите, он совершенен: эти жемчужинки, верёвочки, перевязанные между собой тибетскими монахами, кристаллики… Лапочка, – продолжил Алексей, накрывая ладонью ручку Катеньки, – с вас сто пятьдесят рублей, и да снизойдут на вас, сударыня, чудеса и дары благодатные».
Девушка расплатилась. Алексей заметил, что электричка проезжает последнюю станцию, и решил расслабиться: вытянул ноги, продолжил беседу. «Как думаете, Катенька, сколько мне лет?» Катя подумала и сказала: «Тридцать». Алексей рассмеялся. «Я такой моложавый! Мне уже тридцать девять. Катенька, выходите за меня замуж!» – сказал он и проводил глазами проплывающий за окном гигантский моток оцинкованной проволоки. «Не хочу, – сказала Катя, – у меня парень есть». «Да я лучше любого парня! Я ведь, Катенька, и массажист, и поэт, и философ, – ответил Алексей и вздохнул. – Не хотите – не надо. Главное – душевная гармония». Алексей гордо встал и пошёл в другой вагон.
Когда поезд с Катенькой и Алексеем подъезжал к Ярославскому вокзалу, Авдотья Владимировна с Розой Сергеевной возвращались домой после посещения известной московской больницы. Там они настоялись в очереди, наболтались о лекарствах с такими же тётками, как они, и теперь, уставшие, стояли на эскалаторе рядышком, как колоски на фонтане «Дружба народов», и двигались наверх со станции метро «Комсомольская» к пригородным электричкам.
Неожиданно мужчина, стоявший сзади, что-то сказал Авдотье Владимировне и Розе Сергеевне. Они повернулись и увидели плешивого мужика в кожаных брюках, смотревшего на них со злостью, если не сказать с яростью. Авдотье даже стало интересно, что ему было нужно, и она спросила: «Что, простите?» Мужик рявкнул: «Шлюхи!» Потом он добавил: «Шалавы!» Подумав, мужик сказал громко и глубокомысленно: «Баб нет. Одни шлюхи и шалавы», – и строго посмотрел на испуганных Авдотью Владимировну и Розу Сергеевну, которых так уже лет сорок никто не называл. Они с бьющимися сердцами ждали, когда эскалатор наконец закончится. А мужчина только раззадорился и начал объяснять окружающим его дамам: «Зачем вам рот? Чтобы сосать, шалавы…»
Модест III Безумный сошёл с эскалатора и продолжал бормотать, грозно поглядывая вокруг себя. Он представлял, как все эти бабы горят заживо, прямо здесь, на гранитной (или мраморной – Модест на секунду отвлёкся) верхней площадке, даже не успев выйти на улицу, задыхаются угарным газом, орут. Юбки, приторные запахи духов, губы разных цветов, неестественно блестящие, будто их смазали маслом, – от всего этого Модеста бросало в дрожь. Но нельзя было никуда от них деться, куда бы Модест ни пошёл, повсюду были бабы. Только в своей квартире он мог укрыться от этих скользких, лживых тварей, но теперь и квартиры у него нет. «Надо решить этот вопрос», – думал Модест, выходя к Ярославскому вокзалу.
На том же поезде, что и Алексей I Велеречивый, ехала Ульяна Николаевна. Кокетливо подсаживаться к людям она уже не могла – недавно ей исполнилось восемьдесят. Она делала то, чему её научили ещё в детстве: распевала молитвы, чтобы собрать денег на пропитание. От таких прогулок по вагонам Ульяне Николаевне становилось лучше: она чувствовала себя бодрее от движения и счастливее, когда кто-то говорил комплименты её проникновенному голосу. Как правило, пела свою любимую: «Красуйся, Богородица, покрой нас от всякого зла честным твоим омофором, радуйся…» В тот вечер она собрала больше, чем обычно, и решила зайти в привокзальное кафе.
В то же кафе направились Алексей I Велеречивый и Модест III Безумный после трудов своих, разумеется не сговариваясь. Некоторое время они сидели за разными столиками, и даже пластиковые стулья у них были разного цвета. Но в какой-то момент Алексей доел свою сосиску с гречкой и заметил Модеста, мрачно сидевшего с кока-колой, и Ульяну Николаевну, ковырявшую безобразный сырник. В силу своего характера он не смог усидеть на месте и пошёл знакомиться. Взял Модесту и Ульяне по гречке с сосиской и усадил за свой столик. Немного налил в стаканы. Стал интересоваться: «Куда едете, мои великодушные друзья?» Друзья никуда не ехали и друзьями называться не хотели; но благодаря содержимому стаканов языки у них стали понемногу развязываться. «Бабы – шлюхи», – сказал Модест. «Бросили меня все, старуху древнюю», – пролепетала Ульяна Николаевна. «Главное – душевная гармония, господа, – ответил на это Алексей. – Вот вы, Модест, когда вы успокоитесь душой, то перестанете раздражаться при виде женщин…» «Твари», – вставил Модест. «Да-да, – продолжал Алексей, – они будут для вас как деревья, растущие у дороги, или собаки, бегущие по своим делам. Может, вы даже сможете посмотреть на них как бы с неба, как бы с высоты птичьего полёта и увидеть красоту в этом хаотическом движении… Ульяна Николаевна, а вот вам чего жаловаться? Сидите с двумя роскошными мужчинами, улыбнитесь». Алексей подумал, не подарить ли бабульке браслетик, но вместо этого неожиданно добавил: «А поехали ко мне на дачу! Погуляем, шашлыков поедим. Модест, старина, никаких баб, кроме нашей лапочки Ульяны Николаевны, там не будет».
И поехали они на электричке до платформы Челюскинская, отворили ржавую оградку и сели за низкий столик. Слышно было, как неподалёку кричат вороны.
Алексей развёл огонь, принёс из погреба бутылку. Нарезал брауншвейгскую колбасу. Ульяна почёсывалась и смотрела на огонь. Модест тоже как-то обмяк и помалкивал. Чокнулись. Подул ветер. Листва шумела то сбоку, то где-то наверху.
Скоро всех одолела усталость. Ульяну Николаевну положили в углу, а Алексей с Модестом вытянулись на широком грязноватом диване и вполголоса разговаривали о том, как обрести покой.
Утром сторож помогал некой посетительнице найти дорогу к Архиповой Ульяне Николаевне – тридцать девятый ряд, крайнее место справа. Они долго бродили и наконец нашли – плющ оплёл всё так, что имён почти не было видно. Рядом были ещё два памятника: на одном – Викторов Алексей Михайлович – вызывающе висела гирлянда из ярких пластиковых цветов, а перед самым старым – Коновалов Модест Константинович – была насыпана щебёнка, чтобы не росли сорняки.
«Эрика»
Разве могут кого-то насторожить люди, которые увлечённо мнут в пальцах беруши разного цвета, чтобы выяснить, в чём их отличие; покупают коробку киндерсюрпризов, чтобы наконец понять, какие игрушки кладут в бледно-жёлтые яйца, а какие в яйца сигнально-оранжевого оттенка; ну, или в эпоху ультратонких ноутбуков со снимающейся клавиатурой и вращающимся экраном – тащат подруге скрипучую печатную машинку?
Машинка называлась «Эрика». Немецкая. Она стояла на столе, как танк на поле боя, – цвета кофе со сливками, поцарапанная, потёртая, не обещающая, что будет легко. Александра (ей нравилось, когда её называли именно так) вручила мне её со словами:
– Нашли в гараже, отец починил, вот… Владей!
Похихикав над этим дремучим аппаратом, мы убрали машинку обратно в специальный чехол и стали пить чай со сметанными пончиками. Затем Александра ушла в библиотечный кружок слушать выступление лектора о гравитационных волнах и релятивистской механике, а я торжественно водрузила тяжеловесную «Эрику» обратно на стол, чтобы напечатать на ней статью для журнала «Полуночное вышивание». У меня там авторская колонка. Как раз было о чём рассказать читателям: в самом разгаре вышивальный марафон, на прошлой неделе прошёл фестиваль рукоделия, а ещё появились новые наборы с картинами скандинавских художников.
Кнопки тугие, трудные. Следовало приспособиться. Я принялась настукивать абзац о правилах вышивального марафона и неожиданно вспомнила всех тех, кто эти правила не соблюдал: пропускал задания, шил через одну нить, использовал крашеный лён. Неожиданно я разозлилась – такие нерадивые вышивальщицы подрывают моральный дух всего вышивального сообщества. Я откинулась на спинку стула, чтобы подумать, как добиться их отстранения от марафона, а ещё лучше – заставить вовсе перестать вышивать. Сама мысль о том, что они будут где-то сидеть, уткнувшись в свои кривые стежки, и называть это вышиванием, была мне противна. Не должно остаться людей, способных замарать наше искусство. Может, их даже лучше изолировать. Да, так и надо поступить: построить специальные лагеря, где они будут днём и ночью шить одежду для заключённых, – это всё, на что они способны. Необходимо решение на государственном уровне – напишу статью-призыв с аргументами. Чтобы сработало, статья должна попасть в нужные руки. Кого бы попросить передать её в Государственную Думу?..
Я чувствовала необычайное волнение. Стала ходить туда-сюда по комнате. Лучше всего мне думается на прогулке, поэтому я оделась и пошла в дальний магазин через парк.
Осень зрела. В зависимости от силы и направления ветра поодиночке и группами падали последние листья с деревьев согласно неведомому графику. На асфальте кто-то нарисовал мелками сотню лягушек. Малыши на детской площадке клали кленовые листья в игрушечный почтовый ящик. Школьницы фотографировались, подбрасывая в воздух палую листву.
Злость выветрилась из головы так быстро, будто я внезапно узнала, что ей там не место. Подивилась своей нетерпимости. Как я могла о таком подумать? Все вышивают по-разному, это же естественно. Вышивка отражает вкусы, черты характера и жизненные обстоятельства автора. Вышивание для многих отдушина, возможность посидеть в тишине и поразмышлять о том о сём. Создание полотна, которое рассказывает историю, из деталей, найденных повсюду, – настоящее волшебство: взятая из старого журнала схема, купленное в недавно открывшемся магазине бельгийское мулине, кусок ткани из запасов соседки, пропитавшийся запахом лаванды, которую она кладёт в свои шкафчики…
Каждая вышивка уникальна.
Купив глазированных сырков на завтрак, я задумчиво посидела в «Макдоналдсе», потягивая из стаканчика латте после двойного чизбургера, вернулась домой и села за машинку с чётким планом статьи в голове, с ясным пониманием ненужности эмоций и отсебятины. Только точное изложение последних событий, детали, разговоры, комментарии. Никаких преувеличений, предположений, общих слов. Никаких государственных программ, лагерей для плохих вышивальщиц, ведьмовских костров.
Когда я перешла к рассказу о выставке и мастерицах, которые показывали свои работы и делились опытом, мне вдруг снова стало жарко и холодно одновременно. Все эти надушенные женщины, непременно с бусами, на каблуках и с укладкой, казались мне лицемерными показушницами. Воображение рисовало комнату с тихими казахскими швеями, каждая из которых имела своё кресло, торшер, плед и очередное задание, которое она выполняла, пока мастерица, которую мы видим на выставке, красит нарощенные ногти и представляет, как даёт интервью и позирует для обложки «Полуночного вышивания». Я уж было собралась самым карикатурным образом изобразить одну такую, как спохватилась: опять это лихорадочное чувство ненависти, жгучее желание переходить на личности, демонизировать окружающих нахлынуло на меня.
Тогда я убрала печатную машинку в чехол и спрятала её в самый дальний угол гардеробной. Но мысли продолжали крутиться вокруг выставки и её посетительниц. Как это характерно для русских женщин: вот идёт, например, стильно одетая девушка, в строгом пальто, выглаженных брючках, волосы забраны в высокий пучок. А на боку перекинутая через плечо китайская сумка с огромной кошачьей мордой! Отвратительно!.. Но скоро отпустило. Ближе к ночи я благополучно закончила статью на компьютере.
На следующий день отнесла машинку в мастерскую.
– Вроде работает, – сказал ремонтник.
– Да, она печатает, но у меня от неё дурные мысли в голову лезут, – честно сказала я.
Он посмотрел на меня как на дурочку, а потом, видимо, смекнул, что можно заработать, и подытожил:
– Злых духов тоже изгоняем, оставьте предоплату двести рублей и приходите завтра.
За машинкой я пришла через пару дней. Помещение оказалось опечатанным, на двери полицейская наклейка: «Место преступления – не входить!» Меня накрыло чувство вины – тут наверняка произошло убийство, и всё из-за того, что я притащила в починку эту дурацкую машинку! Выйдя на улицу, я спросила у прохожего, где ближайший полицейский участок, и направилась туда.
В холодной комнате с информационными стендами на стенах сидел дежурный сержант. Я изложила ему суть дела. В отличие от ремонтника он не особенно удивился, наверно и не такое слышал от всяких заполошных граждан. Он кивнул и отвёл меня к следователю. Я повторила свою историю. Пока говорила, он не сводил с меня тяжёлого внимательного взгляда. Мне предложили написать заявление, оставить номер телефона и идти домой.
Прошло несколько месяцев с тех пор, как позвонил следователь (к тому времени я окончательно оправилась от случившегося, особенно после того, как сменила работу – перешла из «Полуночного вышивания» в «Гербарий века»).
– Я хочу сообщить вам новости о странной печатной машинке, – сказал он.
– Надеюсь, не много человек пострадало во время расследования, – шутливо ответила я, но тут же пожалела об этом.
– Смотря сколько для вас «немного человек», – ответил он.
– Простите, я не хотела… Что вам удалось узнать?
– Шрифт машинки совпал со шрифтом машинки, на которой печатались доносы. Их присылал из Восточной Германии в пятидесятых годах один мелкий тайный информатор. В пятьдесят девятом его отозвали в Союз. В шестидесятых он писал доносы на своих соседей, на родителей одноклассников своего сына, на продавщиц из соседнего гастронома… В семьдесят первом году отправлен на принудительное лечение в одну из подмосковных больниц. Там умер от заражения крови. С самой машинкой всё в порядке.
– И как зовут этого агента?
– Не могу вам сказать.
– А что случилось с ремонтником?
– Он заколол таджика, который пришёл подклеить подошву ботинка. Получил десять лет. Суд учёл обстоятельства…
– Понятно! Спасибо, что позвонили!
– Ага, – ответил следователь. И в трубке раздались гудки.
Я и так знала, как зовут агента. Лев Богданович, дед Александры. Она говорила, что заражение крови он получил в походе и умер в кругу семьи. Знала ли Александра про действие машинки? Специально ли мне подарила? Видимо, я стала частью одного из её экспериментов. Я знала, что она записывала все свои глупые вычисления и наблюдения в тетрадку.
Жила Александра на родительской даче. От меня до неё было недалеко – несколько остановок на электричке. Александра как раз находилась в командировке в Киеве, поэтому я просто вышла из дома и села на поезд, а потом вышла на нужной станции, прошла мимо церкви с куполами-луковками тёмно-зелёного цвета, через весь грустный пустой посёлок по мартовской слякоти до крайнего дома. На калитке висел замок с цифровой комбинацией. Набрала год её рождения, и замок открылся. Ключ от дома лежал в сарае в картонном пакете из-под сока «Моя семья». Чтобы войти в сарай, пришлось открыть ещё один цифровой замок, на котором стоял год смерти Дэвида Боуи. Через минуту я была в доме. По дороге размышляла о том, где искать дневник Александры, но копаться в ящиках не пришлось – дневник лежал на столе. Я пролистала записи про украденные у женщин с работы помады (чтобы изучить покупательскую способность коллег, а заодно накрасить губы всем женским скульптурам в городе и посмотреть, какая из помад дольше будет держаться на каменных губах), шведский стол для местных котов (что они будут есть, когда есть выбор), изготовление невидимых чернил (из лимонного сока) и другие её полусумасшедшие идеи. Последним проектом была проверка «машинки зла»: было написано, что во время ремонта печатная машинка «Эрика» странно влияла на её отца. К счастью, он довольно быстро с ней разобрался – надо было всего лишь заменить пару пружин и поменять красящую ленту. Первый пункт проверки – дать её кому-то, кто обладает высокой способностью концентрироваться, а значит, сможет противостоять действию машинки. Второй пункт – проследить. Оказалось, Александра наблюдала за мной из окна подъезда дома напротив. Свет у меня горел, и было хорошо видно, как я сижу за машинкой и хожу туда-сюда по комнате. Записано, что однажды я вышла на улицу, по возвращении сразу убрала аппарат и дальше работала за компьютером. На следующий день она проследила, куда я понесла злостный агрегат. Затем два дня сидела в кафе напротив, следя за событиями в ремонтной мастерской. Убийство произошло на вторые сутки и изрядно её напугало. Она вернулась на работу и постаралась забыть об этом. Третьим пунктом стоял вопрос: выяснить, почему машинка так себя ведёт? Ответа не было. Я взяла ручку и записала то, что мне рассказал следователь. Закончив, я посидела немного на диване, пытаясь собраться с мыслями, и поехала домой.
Подсолнухи
Лена и Дима вернулись с панк-концерта, который состоялся в гараже у Славика по кличке Херкин, и поняли, что перепробовали все развлечения. В общем, они были готовы к серьёзным переменам. «Давай о ком-нибудь заботиться», – предложила Лена, и Дима согласился. Так в их семье появились два маленьких существа. Поначалу муж и жена не отходили от них ни на шаг, но постепенно Диме они наскучили, и он стал всё чаще задерживаться на работе, хотя там совершенно было нечем заняться. Лена же полностью посвятила себя уходу за этими двумя подсолнухами.
Подумать только, когда-то они были всего лишь семечками, судьба которых заключалась в том, чтобы быть съеденными, а теперь изо всех сил тянулись к солнцу. Лена привязала к горшку ленточку, по которой каждый день отмечала, на сколько они подросли. А росли они быстро – по три сантиметра в день, будто торопились скорей закончить подсолнуховую школу и окунуться в свободу безнадзорности.
В какой-то момент у подсолнухов пожухли нижние листья. Лена не знала что делать. Звонила знакомым, но те разбирались только в детских и своих болезнях. Звонила мужу, он был вне зоны доступа. Она даже поставила свечку в новой железобетонной церковке, которую по просьбе активистов строительная фирма соорудила из материалов, оставшихся от возведения многоярусной парковки, но и это не помогло, хотя её бабушка, врач-терапевт, говорила, что правильно поставленная свечка поднимет на ноги любого.
Потом у подсолнухов выросли новые, зелёные, листья, и Лена успокоилась. Кажется, они не собирались умирать, а просто пережили короткую депрессию из-за нескольких пасмурных дней. Тем временем домой после недельной командировки вернулся Дима и со свежими силами стал помогать Лене ухаживать за цветами: удобрил, пересадил их в ведро, наладил автоматический полив. Было лето и солнце, подсолнухи росли. Они царили на подоконнике, как юные римские братья-императоры Каракалла и Гета.
Вскоре они начали пугать Лену. У них выработался нехарактерный для подсолнухов интерес к телевизору, особенно к новостным передачам. Как только звучал тревожный джингл, а на экране появлялся отглаженный ведущий, подсолнухи медленно поворачивали свои верхушки в комнату и озабоченно глядели на экран. Был и другой повод для беспокойства: через месяц подсолнухи переросли ленточку и упёрлись в потолок. Лена и Дима решили пересадить подсолнухи во двор, на клумбу у входа в подъезд, чтобы можно было их навещать и не особенно страдать от чувства вины. Раз в день Лена спускалась вниз и поливала их фильтрованной водой.
На холодном ночном ветру и без телевизора подсолнухи поначалу поникли, но вскоре адаптировались. Тем более что у подъезда тоже происходило много интересного: и мелодрамы у такси, и жаркие алкогольные дискуссии на скамейке. В какой-то момент Лена перестала поливать подсолнухи, потому что прочитала в интернете совет психолога, суть которого сводилась к «с глаз долой – из сердца вон». Теперь она деловито проходила мимо, иногда даже не глядя на них. Подсолнухи, впрочем, тоже от неё отворачивались. Их теперь поливала бабушка-садовница из соседнего подъезда.
Несмотря на акклиматизацию, подсолнухи вовремя зацвели, и уже в августе у них стали созревать семечки. Лена и Дима снова ими заинтересовались и ждали урожая. Тем временем подсолнухи начали осаждать птицы. Однажды бабушка-садовница покормила их социальным хлебом, который выдавался ей как ветерану войны, и птицы передохли в тот же день. Но прилетали другие. Тогда бабушка надела на головы подсолнухов чулки, чтобы птицы не клевали их в лица, утыканные молодыми семечками. Прошла ещё неделя, и подсолнухи захотели лучшей жизни, потому что не могли больше торчать у подъезда в душных китайских чулках на головах.
Передвигались они по ночам, чтобы их никто не видел, а днём прятались от птиц в укромных зелёных местах у водоёмов. Они увидели много нового: железную дорогу, яблоню в яблоках, граффити на заборе психоневрологического диспансера, кота на поводке, уток в церковном пруду и девушку на жёлтом велосипеде.
Они мирно путешествовали, пока не случилось несчастье. Ночной прохожий заметил их и решил подарить подружке, к которой направлялся с тортиком. Всё ещё считалось неуместным дарить на свидании два цветка: тут уж либо один, либо три. Он снял с голов обоих подсолнухов чулки, оценивающе оглядел их и взял старшего.
Так младший подсолнух остался один.
Ему хотелось спрятать куда-то свою большую красивую голову, чтобы никто её не заметил и не забрал его с собой, но это было невозможно, и он отправился дальше, обдумывая большой рыжей головой концепцию свободы. Он может идти куда хочет – это похоже на свободу. Но свободен ли он в своих решениях? Ведь он может передвигаться только ночью, а днём находиться только где-то у воды, иначе умрёт. Если бы его спросили, как он хочет путешествовать, то он бы ответил: с братом. Но брата отняло общество, стереотипы которого заставили человека думать, что на свидания нужно приходить с нечётным количеством цветов. Получается, он свободен, но с каждым актом посягательства со стороны недоброжелателя часть его свободы растворяется в пугающей черноте. Другой вопрос – нужна ли ему свобода? Для чего она? Разве не свобода размышлять делает существо, будь то человек или подсолнух, несчастным? Может, он был бы более счастлив в теплице? Что хорошего могла бы принести ему неограниченная свобода? Да и возможно ли такое – мир, в котором не может произойти ничего, что помешает твоим солнечным планам?
Но потом младший подсолнух подумал, что свобода всё-таки лучше несвободы, это все знают. Он вспомнил, как в «Фейсбуке» писали: «Если хотите быть свободными – заберите свою свободу у тех, кто отнимает её у вас. Выходите на улицы, не молчите, и будете услышаны». Ночью он прочитал во фрондёрской газете, которая выпала из мусорного бака, расписание митингов и выбрал тот, что был ему по душе: шествие против уничтожения пенсионеров. Подсолнух помнил старушку-садовницу, которая заботилась о нём с братом. Правда, иногда от неё шел мучительный запах жареного подсолнечного масла, но что тут поделаешь? Если бы у неё было получше с финансами, то покупала бы оливковое.
До Москвы было уже листком подать.
Митинг был запланирован на следующее утро, подсолнух волновался и поэтому не заметил, как его лепестки превратились в рыжие лохмы, сердцевина – в загорелое лицо, а стебель – в зелёный пиджак. Он всё думал: может быть, брат увидит его по телевизору и найдёт? Нужно обязательно попасть на экран! Он надел на голову припасённый чулок, как бабуля учила, и стал мысленно готовиться ко всему плохому, что могло произойти.
Когда время настало, он решительно влился в толпу. Вдруг стало очень тесно, со всех сторон на него давили люди, с непривычки было трудно дышать, и он упал бы в обморок, но тут к нему протиснулась журналистка с оператором и сунула под нос микрофон: «Вам плохо? Почему вы пришли сюда сегодня? Зачем на голове чулок?» Рыжий уверенно ответил: «Власть должна прислушаться к подсолнухам! Мы не хотим вести растительную жизнь! Я обращаюсь к вам: перестаньте травить старух социальным хлебом, на них здесь всё держится! Заметьте, я говорю это как подсолнух, которого клюют в лицо и который заинтересован в том, что птицы должны есть социальный хлеб и дохнуть от него, но от него не должны дохнуть пенсионеры».
Все правительственные каналы использовали его заявление, чтобы дискредитировать митинг. Ведущий новостей, обычно профессионально нейтральный, в своём комментарии иронично заметил, что на стороне оппозиции, конечно, тоже встречаются здравомыслящие ораторы, но не в этот раз. Но Рыжий этого не видел. Он дремал у фонтана на той площади, где проходило шествие. Его растолкали хмурые мужики в чёрной гвардейской форме и запихнули в автозак.
Спустя месяц он сидел в тюремном вагоне поезда вместе с другими – теми, кто возражал против новой войны с братским народом, выступал за внедрение системы децентрализованного государственного управления или держал деньги в иностранной валюте. Урожайный выдался сезон митингов. Но посадили их не за высказывания, ведь в конституции ещё значилось за человеком право на свободу слова, а за безработность: всех официально неустроенных, попадавших в поле зрения спецорганов, отправляли в трудовые лагеря отдавать долг Родине. Всех, кто на заре принятия этого закона вспоминал репрессии тридцать седьмого года, тоже отправили трудиться – ведь сразу после таких разговоров они теряли работу и подпадали под высылку.
Ехали на север. В камерах пили чифирь, готовясь к зоновским порядкам, о которых читали в самиздате, и рассказывали байки про свою антигосударственную деятельность. Некоторые истории напоминали американские шпионские фильмы, а у кого-то рассказ скатывался в политическую демагогию, от которой укачивает. Мимо проносилась тайга, бесконечные болота, чахлые ели.
Спустя неделю приехали на место. Лагерь походил на город-резервацию. Казармы, мастерские, завод, столовая, спортзал. Дни медленно тянулись друг за другом, в точности как тяжёлые громыхающие вагоны с углём по железной дороге. Однажды на лесопилке младший подсолнух увидел похожего на него лохматого рыжего парня с помятым лицом и давно небритой чёрной щетиной. Братья узнали друг друга и с тех пор не разлучались. Вместе веселее.
Первый по-настоящему холодный день застал братьев в рабочей зоне. Тучи висели низко, воздух был влажным и холодным. Вдалеке по железной дороге на гребне горы ползла чёрная ниточка товарного состава. Они вышли на улицу, сели на бревно покурить и наконец с облегчением почувствовали, что бороться больше не надо: их тела обмякли, головы склонились, разум затуманился, и они снова превратились в растения, не обременённые мучительным осознанием себя. Мимо проходил какой-то зэк, увидел лежавшие возле бревна подсолнечные головы, набитые крупными серыми семечками, поднял их и пошёл к бараку своего отряда. По пути с подсолнухов сыпались семена. Они упали в почву тундры, в вечную мерзлоту и взойдут только тогда, когда настанет следующая вселенская оттепель.
Братство
– Недавно в нашем городе состоялось открытие Дома Братства в здании бывшей хлебопекарни, которое, как все здесь присутствующие помнят, пустовало с 1994 года, но было отремонтировано силами общины, или, как они себя называют, Братством Всемогущей Мыши. Как нам известно, там они проводят свои встречи – устраивают политические дискуссии, обмениваются книгами, смотрят новые фильмы, ставят пьесы, играют в «Монополию». Они выбрали своим символом компьютерную мышь, потому что родились в компьютерную эпоху. Их заводила заявляет, что именно мышь помогла им узнать окружающий мир. В течение последних месяцев члены братства неоднократно помогали воспитателям в детских садах, играя с детьми, и сиделкам в приюте для престарелых, развлекая стариков. Не пьют и не курят. Собираются остаться здесь жить и не хотят уезжать ни в Вологду, ни в Москву. Для этой цели они даже заключают браки только со своими – с сокольскими парнями и девчонками или ребятами из соседних деревень. Ладно бы тихо сидели и играли в свои игрушки, но нет – они стали строить посадочную площадку для большого вертолёта на случай войны на том поле, которое наш Совет собирался продать под супермаркет «Пятёрочка», а ведь в нём так отчаянно нуждается северная часть города Сокола. В общем, я считаю, что нужно этот цирк прекращать. Совсем уже работать молодёжь не хочет, гугл-хиппи выискались. Так и завод наш скоро закроют, а мы помирать начнём. Они, видите ли, в интернетах зарабатывают. Брехня!
– Вырубить в городе интернет!
– Спалить контору!
Мужики зашумели, застучали по партам пивными бутылками. Их жёны раскраснелись, и каждая хотела что-то добавить. Компания сидела в кабинете биологии в сокольской школе, и со стены на них презрительно смотрел неандерталец с учебного пособия.
– Я тоже не могу этого терпеть, – вскочила дама в синтетической блузке с жабо, – наши дети должны ходить на нормальную работу! А не спать до полудня и тратить время на веселье и помощь другим! Мы, что ли, должны им на пенсию откладывать?!
– Салаги! – брякнул её супруг и икнул.
– Мы всю жизнь ради них горбатились, а они что делают? Цветочки нюхают? Помойки восстанавливают ради собственного удовольствия?
– Подытожим, уважаемые, – сказал докладчик. – Нужно помочь нашим детям вернуться к истинным ценностям. Почему они берут пример не с нас, а из интернетов? Действовать нужно решительно! Матвеич!
– Я! – отозвался с галёрки Матвеич.
– Перерезаешь интернетовские провода!
– Есть!
– Федоркин!
– Да!
– Ты беги домой за солярой! Дамы, а вы домой!
Женщины попереглядывались между собой и, преодолев привычное чувство протеста, накинули на плечи сумочки и поцокали к выходу.
Спустя пятнадцать минут мужики уже подходили к Дому Братства. Матвеич разбил окно, Федоркин облил занавески и стоящий под окном диван горючим, а докладчик кинул спичку.
Сколько прошло времени до того, как огонь разгорелся, мужики не поняли. Они допивали, что было, и трещали за жизнь. Наконец из окон полезло пламя.
– Матерь Божья, – сказал Матвеич.
– Бляха-муха, – сказал Федоркин.
Докладчик молчал. В его очках отражался пожар, а руки перестали трястись. Отпустило.
Наутро члены Братства Всемогущей Мыши ходили вокруг почерневшей пекарни, которая в последние месяцы была для них убежищем. Афанасий, мозг всех операций, сказал:
– Не будем унывать. Это же кирпич! Мы всё покрасим, и у нас снова будет свой штаб. Просто заведём собаку, и она будет по ночам его охранять!
– Они собаку убьют, а дом подожгут снова, – не согласился Ефим. – Не готовы наши предки идти в ногу со временем.
– Время относительно. Скорее всего, всё происходит одновременно, – протянула Варвара. Её глаза опухли от слёз.
– От этого не легче, – сказала Маша.
Афанасий залез на бетонную плиту, поднял к пасмурному небу кулак и прокричал:
– Действовать будем решительно!
Его паства уныло замычала в ответ.
– Ефим, ты знаешь что делать.
Ефим кивнул, засунул руки в карманы кожаной куртки и пошёл в сторону завода.
– Маша, ты выбери фотки.
– Да, Фан.
– Варвара, а ты напишешь. И поедем в Вологду.
Через неделю в главной вологодской газете «Вперёд» вышла статья с фотографиями о вопиющих нарушениях в деятельности сокольского завода, которые стали причиной экологической катастрофы районного масштаба. Завод тут же закрыли, начальство оштрафовали, рабочих уволили. Больше восточный ветер не приносил в город запаха жжёной резины.
Бывшие члены распавшегося братства обосновались в Вологде, потому что только там нашлась работа. Афанасий стал заниматься оптовыми продажами конфет по области, шло хорошо, не меньше семидесяти тонн в месяц. Ефим чинил компьютеры, зарабатывал скромно, потому что не хотел обманывать клиентов, наколдовывая сбой системы при диагностике. Маша открыла свой магазин обоев, а Варвара устроилась в областное турагентство «Мох&Клюква». Остальные тоже повзрослели, хотя всем до сих пор хотелось хоть немного изменить мир. Вскоре они встретились на субботнике, где по распоряжению городской администрации подновляли огромного облупившегося идола серебряной краской.
Быть шпионом
– Весь полдень, моя дорогая, я провела в зелени нашего чудесного сада, перечитывая письма товарища Ворчковского. По-моему, он прекрасный человек, и слухи о том, что он ведёт антисоветскую пропаганду, кажутся мне смешными. И ведь он совсем не молод – зачем ему заниматься столь утомительным делом на склоне лет?..
Несколько десятков человек напряжённо слушали, что происходит в соседней комнате. Некоторые смотрели на маленький экран, где можно было видеть, как за столом с кружевной скатертью пьют чай две дамы. Это был второй дубль, и, кажется, его тоже завалили: одна из актрис выдержала слишком долгую паузу, прежде чем уверить свою собеседницу, что даже самый приличный с виду человек может в неподходящую минуту оказаться настоящим диссидентом и поставить всех окружающих в крайне неудобное положение.
Лёня был среди гримёров, звукорежиссёров и костюмеров. Ему было скучно: сцену до этого момента два часа репетировали, а теперь пытались снять. Сидел он на табуретке, облокотившись на книжный шкаф с узкими полками. Он достал наугад одну книжку, прочитал страницу и поморщился. На обложке было написано: «Золя». Он передразнил: «Сопля!» Сосед прижал палец к губам: мол, мальчик, сиди тихо.
Когда дубль сняли, Лёня подошёл к отцу и спросил: «Можно я в других комнатах похожу?» Отец кивнул.
По широкой лестнице Лёня спустился на первый этаж в гостиную. Когда-то в ней встречали гостей одетые в шелка аристократы. Они усаживались на полосатые диваны и принимались ругать социалистов. А сейчас на светлых стенах этой комнаты висели плакаты советских кинокартин: «Месяц май», «Трудный выбор», «Летучая звезда». Их притащили реквизиторы: заброшенное дворянское имение по воле киностудии превратили на время в дом для престарелых киноработников. Из окна был виден сад, заброшенный, с разбитым фонтаном. Его собирались облагородить для съёмок. Зритель должен сам убедиться, что сад – чудесный, а сидеть там в полдень – большое удовольствие.
Вторая комната была меньше. Кроме того, она была совершенно пустая. Лёня знал, что завтра в ней будет шумно: поставят кресла вокруг отреставрированного отцом камина и снимут очередную сцену. Все эти тихие разговоры в фильме – лишь прелюдия к событиям, сочинённым сценаристом в дедлайновской горячке. О надвигающейся трагедии говорила другая комната – санузел с развороченными трубами и разбитой плиткой. Там два дня назад снимали убийство.
Кроме этих помещений, довольно просторных и потому пригодных для съёмок, было много и других – тесных комнатушек, в которых жили когда-то кухарка, гувернёр и, может быть, лакей. Сейчас там было полно мусора. Лёня присел, чтобы полистать разбросанные журналы, и увидел двух пауков. Он затих, чтобы не спугнуть их, и номером журнала «Иностранная литература» размазал пауков по бумаге. Отбросив журнал, Лёня увидел ещё нескольких, подобрал конфетную коробку и стал собирать пауков в неё, размышляя, как поступить: стоит ли даровать им жизнь или следует великодушно освободить их от оков земного существования. Вдруг кто-то заслонил собой свет, проходя снаружи мимо окна. Лёня вздрогнул и откинул коробку. Когда он обернулся, у окна никого не было, но послышались звуки, не оставляющие сомнения: кто-то влезал в соседнюю комнату через окно.
Туда вела дверь. Лёня подёргал её, но она оказалась заперта. Зато замочная скважина была достаточно широкой, чтобы через неё разглядеть, как незнакомец в джинсах и линялой толстовке отряхнулся, взял с пола ноутбук, раскрыл его и начал стучать по клавишам.
Лёня пнул кирпичный осколок. Шпион замер. Минуту просидев без движения, он снова застучал по клавиатуре.
– Эй, – громко позвал Лёня.
Шпион открыл дверь и пустил его в комнату. Она была узкой, как тюремная камера в американском фильме. Парень в толстовке сел на стул и кивнул Лёне на другой. Вдоль стен стояли кухонные шкафы. Из паутины за сидящими наблюдал крупный паук; на самого паука голодным пристальным взглядом смотрела паучиха. Лёня заметил в золотистой шевелюре шпиона несколько седых волос. Шпион закончил печатать, посмотрел на мальчика и спросил:
– Кто такой?
– Да вот, с папой приехал…
– Это тот, который в серой рубашке?
Лёня кивнул.
– Ну, всё понятно, – устало произнёс гость. – А твоя мать не устала от его неврозов? Впрочем, с её-то мигренями… Неудивительно, что твоим родителям нездоровится, Лёня, ведь дела-то у них так себе: невыплаченный кредит, долг соседям в сто тысяч. Старый вонючий холодильник, выбитое стекло в машине, эти твои двойки по географии и математике, в конце концов. К тому же, апеллируя к статистике твоих невыученных уроков, которая имеется у меня с собой, в следующей четверти эксперты прогнозируют двойку и по русскому. Но скажи мне вот что: съёмочная группа наверху насчитывает больше тридцати человек?
– Ну да. Хотя… – Лёня принялся считать, но сбился.
– А бюджет какой?
– Папа говорил, что курам на смех.
– А точнее он не выражался?
– Не-а, – подозрительно протянул Лёня. – А вы шпион из какой страны?
– Из Америки, – ответил шпион и вытащил сигареты.
– Я так и знал! – довольно ответил мальчик. – А что вы напишете своему начальнику?
Шпион прикурил.
– Я напишу ему: мистер Уилстер, это мышиная дыра, из которой нет выхода. Сыр, даже превосходного качества, заманит в мышеловку только последних дегенератов, остальные же в курсе: нельзя подставляться. Каждый знает своё место как в жизни, так и на кладбище; стремление изменить свою судьбу сходит на нет при дальнейшем обдумывании в девяноста трёх процентах случаев; надеяться свергнуть монархию не представляется возможным, ведь даже при ничтожных госдотациях в культуру народ любит своего мышиного короля, как дядюшку, обещавшего наделить всех своих мышат нескромным наследством.
– Ого! Это у вас такой шифр?
– Да.
– А если я тоже захочу быть шпионом? Что мне делать? – спросил Лёня американца.
Тот подался вперёд и с расстановкой произнёс:
– Смотри внимательно вокруг. Замечай ускользающие детали. Гляди на мир, будто паришь над ним, и подсчитывай головы, даже самые маленькие. Каждая цифра, обстоятельство, слово – фрагмент грандиозного полотна, которое нужно постичь, мышонок.
Шпион захлопнул ноутбук, встал со стула и направился к окну. «Гуд лак!» – сказал он напоследок.
Лёня вышел из комнаты, взглянул на коробку с пауками и заметил, что их там четыре, а коробка не конфетная, а из-под зефира «Шармэль». Заметил, что стены комнаты обтянуты ветхими зелёными обоями, а дверная ручка совсем новая. «Откуда она взялась?» – думал Лёня, пока поднимался обратно к отцу, и ситуация менялась от одного предположения к другому.
Случай на почте
– Девочки, вы знаете, кто это был?
– Кто?
– Победитель «Битвы экстрасенсов», Нар… Нар… Как его там…
– Ой, точно…
– А я ещё подумала, что похож на него…
– Нарзабаев! На конверте же написано! И адрес.
– У-у, и чё? Где он живёт?
– Да вообще Нинкин сосед! Слышь, Нин, сосед твой, прикинь!
Давно работницы почты не были в таком хорошем расположении духа в разгар рабочего дня. Но что же делать с этой информацией? Когда все отсмеялись, наступила тишина, прерываемая постукиванием клавиатуры и разговором двух тётушек в очереди – вполголоса – о рассаде.
Нина, молоденькая, заворачивала посылку и думала о том, что бы подкинуть Нарзабаеву в почтовый ящик. Такой колоритный мужчина. Может, открытку с трогательными пожеланиями без подписи? Или высушенные лепестки азалий? Или бумажку с номером её телефона? Она стала представлять, как он входит к ним на почту и громко так спрашивает:
– Кто положил в мой почтовый ящик засушенные азалии? Я хочу пригласить эту чудесную женщину на тарелку домашних хинкалей!
Она бы подняла руку и, залившись краской, пропищала: «Это мои азалии!» Потом, уже у него дома, она бы рассказала, как заказывала эти цветы из Японии, как волновалась, дойдут ли они и будут ли такими же красивыми, как на картинке.
Алла Фёдоровна, внося данные отправителя в новую почтовую программу, доводящую всех до белого каления, вспоминала, как на неё посмотрел Нарзабаев. Прямо, с интересом. Может, он что-то увидел в её прошлом? Как она чуть не погибла в молодости, провалившись весной под лёд? Как почти выиграла конкурс красоты? Когда же это было?.. Да лет тридцать прошло. Как бы узнать? Какая уникальная возможность пообщаться с таким человеком! Может, позвонить ему и сказать, что он забыл расписаться в квитанции? А потом пригласить на чай в их каморку, провести для него экскурсию по отделению? А что, запросто сработает. С той певицей же получилось. Потом за пятьсот рублей её автограф толкнула подруге – бизнес, не кот в тапок написал, как говорит её муж.
Вера Анатольевна, начальница отделения, сидела за второй кассой. Январь, эпидемия гриппа, и ей пришлось трудиться за оператора, который слёг. Но вот как прелюбопытно получилось – Нарзабаев пришёл. Какой-то он щуплый, а по телевизору мощным таким мужиком казался. Бороду сбрил… Интересно, это всё постановка или он правда слышит голоса с того света? Вот бы с Анькой поговорить, рассказать ей, как живётся, а то застрелили её случайно молодой совсем, муж-то бандитом работал в конце девяностых. Она общительная была, ей бы понравились социальные сети и телефончики без кнопок. Как они на выпускном веселились! Платья сами шили! У Ленки, дочки, тоже скоро выпускной будет. Иностранный язык учит, не пропадёт. Платье ей купим…
Нарзабаев шёл по улице и думал: «Собачий холод, ну ё-моё, машина ещё не заведётся. Сорок минут проторчал, сука, на почте, не видят, что ли, человек известный, нет, бред про рассаду слушал, зря, что ли, по телевизору показывали? Та молодая вроде ничего, может вернуться, сказать, что расписаться забыл, позвать куда?.. Нет, там эта очередь, ну их к чёрту».
Дедовы «жигули»
Неторопливо идёт эрдельтерьер, похожий на усталую советскую игрушку, мимо дворовой лавки, где сижу я и жду Антона, заставляющего всегда себя ждать, знает, что мне больше не к кому обратиться, только сейчас, наверно, сползает с дивана, который весь в пятнах, потому что Антон раз в день проливает на него крепкий чай, выходит, щурясь, на солнце Бибирева и вздыхает, потому что ему лень ехать куда-то, да и вообще жить, но он тепло ко мне относится и ему нужны деньги, так что сейчас он уже должен сидеть в трамвае, подумывая, куда заскочить после встречи со мной.
Откуда вообще взялось это солнце, только что были тучи и леденящий ветер, а уже жарко, я снимаю плащ, через минуту расстёгиваю шерстяной жилет, ощупываю рукой потную спину и озираюсь с интересом, наблюдает ли кто за мной, но никому дела нет, ну разделась, ну засунула руку под футболку, я вспоминаю цитату из американской литературы «он жил, он потел», и происходящее словно наполняется смыслом.
Зачем древние славяне покинули свои дома у зелёных Карпат, из какой жадности они погнали лошадей в эту равнину, продуваемую насквозь, где не знаешь, от чего в первую очередь спасаться – от непогоды или от бога, где уже в начале июня вся зелень в пыли и стоит такой до осени, где леса глухи и губительны до такой степени, что недалеко от трассы можно обнаружить замшелый ботинок заблудившегося профессора, почему?
Жили бы пусть тут северные народы, им всё это привычно, так сказать, из глубины веков для них характерно, а мы до сих пор как закинутые ни за что в тусклую преисподнюю, где вместо жары всё остальное, хотя и жара бывает, сразу пылают торфяные болота – только подумайте, что под ногами зрелище для Данте.
Снова задул ветер и стало пасмурно, застёгиваю пуговицы жилета, молнию плаща, оглядываюсь, снова никто не смотрит, и Антона нет, помятый забулдыга лезет в урну, достаёт окурки и – в карман, он, наверно, далёкий правнук свирепого Желолюта из Богемии или Мислава, грешного священника из Моравии, а скорее всего, его предки обычные крестьяне, как и у меня, все мы крестьянские потомки, разбрелись, предаёмся самосозерцанию и отдаляемся от природы, то ли саморазрушаясь, то ли приближаясь к аристократическим родам, или всё одновременно.
С другой стороны, так ли плохо мне здесь, на самом деле нет, если есть квартира, а у меня есть, живи как хочешь, продукты дешёвые, железная дорога подорожала, но всё равно нормально, топят, если платишь, люди иногда приличные попадаются – вот Антон, мог бы не ехать ко мне, сидеть у себя в Бибиреве, но отзывчивый, надо признаться, потаскун он ещё тот, но добрый, может, мы сейчас вместе, как в старые времена, то есть пару лет назад, расслабимся и попытаемся разобраться, для чего мы здесь и кто мы друг другу, раньше мы состояли в тех иллюзорных отношениях, когда один думает, что любит, но за любовь принимает привязанность, а другой хочет полюбить, но у него не выходит.
А, вот он идёт, заметил меня и лыбится, рада его видеть, обнимает меня, улавливаю знакомый сладковатый запах, садится рядом, я ему про миграцию древних славян, он смеётся, полностью со мной согласен, тогда говорю, что и тут тоже неплохо, он кивает, рассказывает про новую подружку, она зарабатывает рекламой и по ночам они придумывают слоганы, ну мне пора, говорит, и протягивает пакетик с травой, я ему отдаю деньги, и он уходит, вот и пообщались.
Возвращаюсь в машину, жёлтые дедовы «жигули», рассматриваю пакетик, не пожалел, больше, чем договаривались, вдруг стук в окно, я дёргаюсь, ожидаю увидеть мента, а это таджик в кепке, стучит настойчиво, будто работу выполняет, кручу ручку, окно со скрипом открывается, просит огонька, акцент смешной, достаю последнюю зажигалку из бардачка, на, говорю, отец, это тебе от всего приползшего сюда столетия назад неразумного славянского народа; он кривится в улыбке, трясёт головой, я закрываю окно, таджик машет мне рукой, в зеркало заднего вида вижу, как он закуривает, прикрывая сигарету ладонью от ветра, и снова показалось солнце, я включаю первую передачу, повышаю обороты двигателя до трёх тысяч и плавно отпускаю сцепление.
Ныряльщики
Набережная Тамани, мучительные звуки эстрады. Говорят ведь: не пой, соловей, возле кельи; так нет же. Константин рассуждает о раках: «Рак раку рознь; нет, дорогая, двух одинаковых раков, да и кошек тоже нет: посмотри на эту, какой у неё перламутровый глаз». А я больше смотрю на старые дома и вещи, которые стоят внутри квартир на подоконниках: чебурашка, красный телефон с циферблатом, швейная машинка.
Много известных людей бывали в Тамани; один из них, литератор и по совместительству директор завода «Красный резинщик» Михаил Георгиевич Дестунис, даже написал о ней повесть, которую прочитали все сотрудники завода «Красный резинщик», восторгаясь лёгкостью письма Михаила Георгиевича Дестуниса.
Мы свернули на тихую улицу и зашли в кафе. Все столики заняли местные пенсионеры. Они пили пиво и ели сосиски, играя в карты, шашки или шахматы, вели список побед и поражений в толстых замусоленных тетрадях и порой покрикивали друг на друга, когда заходил разговор о политике.
Мы сели за деревянную стойку и попросили два кофе. Хозяин в спортивной футболке достал кофеварку.
Тикали часы. Константин увидел на полке резиновую маску для подводного плавания и спросил хозяина, зачем она там.
– Это не просто маска, – ответил хозяин, подавая кофе. – С ней связана одна история. В шестьдесят девятом году в Тамани проводились соревнования среди пловцов… Интересно?
Мы закивали.
– В километре от берега, на глубине, спрятали стальной ящик. В нём, молодые люди, лежал ключ от двухкомнатной квартиры, которую должен был получить победитель. И вот сорок лучших наших ребят со всей округи выстроились на берегу в ожидании свистка. Флаги развевались на штоках, играла музыка, и целая гурьба нарядных пионеров наблюдала за спортсменами, а их учительница шептала им: «Смотрите, ребята, какими нужно быть: смелыми, выносливыми и сильными». Мужчины, стоявшие в ожидании свистка, были самые разные: загорелые и бледные, как выцветший парус, высокие и низкорослые, подтянутые, сутулые, рыжие, худые, с торчащими из-под кожи рёбрами, и полные, с мягкими, как подушки, животами. Некоторые из них оборачивались и улыбались своим близким, подмигивали девушкам и махали всем остальным зрителям, а кто-то стоял, сжав кулаки, и смотрел вперёд, на блестящую воду, под которой был скрыт клад. Самым решительным и в то же время испуганным выглядел Сергей Заурский. Все знали, что его родители погибли в автокатастрофе, и теперь он жил у дяди вместе с двумя своими осиротевшими сёстрами. Все знали также, что соседство это всем было в тягость, в первую очередь самому Сергею. Поэтому, как только объявили о предстоящем соревновании, Сергей Заурский одним из первых записался участвовать. Сёстры нашли ему хорошую маску. Он много тренировался: плавал в любую погоду, нырял на глубину, выполнял дыхательные упражнения. В тот день его сёстры были на пляже. И вот дали свисток, пловцы побежали в воду. Зрители хлопали, кричали и вглядывались в плавательные шапочки. Когда участники доплыли до места, где лежал ящик, прошла сильная волна. Никто не обратил на неё особого внимания. Мужчины ныряли один за другим. Спустя час они начали возвращаться, разводя руками. Последний, самый упрямый, вылез через два часа. Не было видно только одного участника – Сергея Заурского. Куда делся этот парень? Кто-то видел, как он доплыл до буйка и нырял вместе со всеми, но в какой момент он пропал, никто не помнил. Поднялась паника, спасатели кинулись искать Сергея, а когда доплыли до буйка, то не обнаружили под ним ящика! И Сергея Заурского не нашли. А когда открыли квартиру, за которую он боролся, увидели, что весь пол в ней залит солёной водой.
Хозяин отнёс заказ старой даме, обыгрывавшей всех в покер, и продолжил:
– Квартиру отдали его сёстрам… Говорят, если заплыть подальше и нырнуть глубоко, можно увидеть призрак Заурского…
– Так это его маска? – спросил Константин.
– Нет, – улыбнулся хозяин. – Это маска моего отца. С ней он участвовал в тех соревнованиях. Маска пропускала воду, поэтому отец не мог долго искать ящик. Он вышел на берег самым первым, нырнув всего два или три раза… Он был очень расстроен. Он вышел на берег, снял маску и закинул её куда подальше. Ну и попал в мою маму. Так они и познакомились.
Он положил маску перед нами.
На ней был указан завод-изготовитель – «Красный резинщик».
Люся
Брюхатые тучи закрыли небо, оставив узкую полосу, из которой к земле устремились лучи вечернего солнца. На земле сидел мужик в грязной одежде, прислонившись к монументальному каменному забору пристанционной церквушки. Покашливая в рукав, он перелистывал страницы потрёпанной книжицы. Люся знала, где он её взял – тут же, в двух шагах, старухи продавали по двадцать рублей книги из личных библиотек: непритязательные беллетристы и классические филологи лежали рядом с историей Хади Такташ – казанской преступной группировки.
Люся прошла мимо аптеки и хозяйственного магазина «Щётка» и внезапно остановилась перед железной дверью без вывески. Дверь будто загипнотизировала её. Люсе захотелось сделать что-то отчаянное. Она потянула за холодную ручку и спустилась вниз – лестница вела в подвал многоэтажки.
Там обнаружился зал социальной парикмахерской. Стены выкрашены в зелёный, свет шёл из-под малиновых абажуров, а за столом у входа сидела дама с высокой причёской, в костюме с накладными плечиками. Она принимала звонки и сортировала клиентов: мужчин стриг высокий лысый парень, быстро орудующий машинкой, женщин – выпускницы местного ПТУ. Справа у стены стояли рабочие-узбеки в синих комбинезонах и ждали своей очереди. Стригли всех одинаково. Парикмахер приводил в порядок каждого узбека с таким видом, будто перед ним на вертящемся стуле под чёрной накидкой сидел видный политик. Но клиент в комбинезоне безучастно смотрел в зеркало, и не похоже было, что он обдумывает важные государственные проблемы Узбекистана. Рядом играли в шахматы двое мужчин. Оба в кепках и оттого похожи на таксистов. Они очень быстро делали ходы, почти одновременно, и партия заканчивалась за две минуты. «Шах и мат», – восклицал один из них; они переворачивали доску и начинали расставлять фигуры на места, что занимало больше времени, чем сама игра. Женщина за столиком не обращала на них внимания. Люся вернулась на улицу.
Ей захотелось побывать ещё где-нибудь. В соседнем доме находилась почта, и Люся направилась туда, придумывая повод.
Возле мусорного контейнера между домами какая-то женщина доставала из сумки банки: с вареньем, лечо и огурцами. Она поставила их на видное место и торопливо ушла, заметив разглядывающую её Люсю.
Зазвенел колокольчик – Люся зашла на почту. В углу стоял стул, и Люся села на него. В очереди шумели: «Бабуля, ну всё нормально, ну!», «Что за люди?», «Это не наша обязанность». Старушка в сером платке побрела к выходу, крестясь и шепча молитву. Люся некоторое время смотрела на людей с извещениями и счетами в руках, на почтовый ящик и на муху, которая упорно нарезала круги вокруг люстры, и решила идти дальше.
На улице она увидела ту пенсионерку с почты, растерянно стоящую посреди осенней лужи. Она разговаривала сама с собой: что-то про внучку, посылку и телефон.
«Спросить, что ли, не нужна ли помощь?» – подумала Люся. Бабуля была в зелёном, линялом, но опрятном плаще и резиновых сапогах. Волосы заколоты наверх, сумочка в тон. Всё это позволило Люсе решить, что старушка сама справится со своими в общем-то скромными проблемами. Кроме того, надо было успеть в продуктовый.
В сумерках выйдя из магазина, Люся увидела луну на бледно-голубом небе, которая появилась раньше всех звёзд. Взяв пакеты поудобнее, устав от странствий, девушка пошла домой. Ветер отнёс тучи куда-то на восток, к другим отделениям почтовой связи, к другим социальным парикмахерским.
А чё?
Он пригласил меня на свидание и сказал:
– Этот мост вроде есть на какой-то картине Репина. В годы войны по нему шли эшелоны с солдатами, а сейчас ходят электрички со всякими упырями, ну и наши в Москву на работу мотаются, а чё нет-то, не так уж далеко. Только все потом такие варёные ходят, жалуются: я, мол, пять часов в день на одну дорогу трачу. А кто тебя, блин, просил? Там и так народу миллионы. А вот, смотри, видишь – монастырь? Ну, он, короче, очень старый, я даже не знаю, век четырнадцатый, что ли. Все через него со станции идут, вообще не парятся. А рядом красное кирпичное здание, да? Это общага, чё-то я забыл для кого, но очень интересное место. Короче, когда я был маленький, ну, лет десять мне было, меня отдали в школу как бы в летний лагерь, пока родители на работе, ну мы там шарились по углам, даже в учительской лазили, прикинь, в футбол играли, я тогда руку сломал – два месяца не срасталась! И однажды мы приходим как обычно, короче, часам к восьми. А нас в школу не пускают. Оказалось, ночью охранник прямо во сне умер. А он с нами в прятки играл, мы над ним смеялись, а он умер. Так всем грустно было. А он, короче, тут и жил, в этой общаге, это все знали. Школа, конечно, та ещё была. Зимой лёд на стенах! Её давно снести должны были, но не сносили. Даже школу другую начали строить, не достроили. Внутри наркоманы наши там все ширялись, короче. Гоша, друган, зависал постоянно. Ну я ему: ты чё, ну это ж последнее дело. А его чмырили чё-то дома, вот он и убегал, вроде как-то и лучше. Ну, я так тогда думал. Но теперь он ничего, соскочил, нормальный чувак, менеджером работает в торгухе, прикинь. Ну а потом кто-то на телевидение позвонил, оттуда приехали, прямо с Первого канала, сняли всё это и по телику показали. Школу новую сразу же построили. А та, старая, ещё долго пустая стояла. Я-то в ней и заканчивал как бы. Чего только не было! Один пацан, короче, встречался с одной девкой из параллельного класса. Они тогда были в десятом, а я ещё мелкий, в шестом, что ли. И пошли они гулять, чего-то не поделили, он её и придушил, прямо на стадионе, ты прикинь? Колготками. И сбежал. Его не нашли. Жесть, да? Но это ещё не всё. Вот железная дорога, да, вроде идём мы около неё, и все ходят, только не всё так просто. В школе у нас учительница была одна, а у неё сын, ну, отсталый такой, знаешь. Она ему не разрешала одному гулять. Из школы он всегда с ней домой шёл, иногда до вечера ждал, пока она там журнал заполнит, то да сё. И чё ты думаешь? Сбежал он, пошёл гулять, и вот там, где мы только что были, попал под электричку. Еле ошмётки собрали. Вот так. А пошли на реку, есть одно место, я тебе покажу. Летом мы там купаемся. О, а два года назад знаешь что было? Лежим мы, значит, с парнями, ну и пара девок с нами были. В карты играем, купаемся. Захотелось нам с Лёхой отлить, значит. Отошли туда, где деревья, камыши, короче. А там лежит что-то, наполовину в воде. Вода такая бьётся о берег, тепло. Но смотрим, чё-то мух много. Подошли ближе, а это жмурик, блин, ваще синюшный такой лежит себе. Мы звоним ментам, а нам говорят: «Да знаем мы, что он там лежит, молодцы, что проявили бдительность, скоро приедем наводить общественный порядок». Мы там торчали до вечера, наверно, но никто так и не приехал. А все, короче, купались и не заморачивались вообще, и мы тоже. А сейчас вспоминаю – противно, блин. А пошли на крышу, а? Там такой видос на город будет офигенный. Мы как-то там тусовались, и я куртку порвал об антенну. О, такая штука однажды с нами тут случилась. Поднимаемся, короче, мы на эту крышу, а тут висит кот дохлый, привязанный к проводам за хвост. С него кровь капает, и на стене этой кошачьей кровью написано: «RIP». А дальше маркером: «В этом коте жил бес». Никто так и не понял, кто это сделал. А отсюда весь город видно, красиво, да? Смотри, вон гаражи. Так сказать, культурная точка. Чуваки сцену сделали, ещё давным-давно, и там концерты проходят. Наши ребята такую чёткую музычку бацают, про анархию, круче Цоя. Ну, может, не круче… Ну ты поняла, супер, короче. Я тоже хотел, батину гитару взял, и чё-то ничего не получилось. А вроде так просто, а ты умеешь? Да, блин. А вон развалины в лесу, видишь? Говорят, там прятался тот парень, ну, который девчонку свою её же колготками удушил. Кто-то жратву ему в укрытие таскал, а потом он совсем как сквозь землю провалился. А вон там у нас психушка. Говорят, лучшая в области, крутяк, а? Я там был много раз, не как псих, конечно, я туда к стоматологу хожу. Там так тихо, люди гуляют, на лавочках сидят. Вообще не парятся. Можно прогуляться дотуда, и я тебя на электричку посажу. Ну как тебе вообще? Ты знаешь, я всегда уехать отсюда хотел, скучно типа, а сейчас рассказывал всё это тебе и думал: блин, хорошо тут у нас. А чё куда-то ехать? Смысла в этом, короче, вообще реально нет.
Полушка
Шла по старой дороге. Справа лес, слева вырубка. Находок было мало – этот дореволюционный тракт разворотили лесовозы, и ценные потеряшки ушли в землю так глубоко, что металлоискатель их не видел. Рука устала: уже пять часов я махала прибором вправо-влево, прислушиваясь к сигналам. Если звук низкий – значит, шмурдяк, чёрный металл; если высокий, не срывающийся – скорее всего, монета. В этот день мы накопали уже достаточно советского шмурдяка, чтобы засомневаться в своих вычислениях – может, дорога шла где-то в другом месте? Камрады ушли далеко вперёд, я из последних сил выкапывала печальный сигнал, обещающий обернуться очередным куском проволоки или водочной брежневской пробкой – царицей полей и лесных дорог. Хотелось найти хотя бы николашку, монету времён Николая Второго, или раннесоветскую – среди них попадаются ценные, в том числе серебряные. Наконец пинпоинтер, он же морковка, – оранжевый прибор, который помогает отыскать мелкий предмет в комках земли, – запищал. Сердце радостно застучало, когда я увидела, что железка круглая. Поплевала на неё, потёрла, увидела древнего вида «курицу», то есть герб с двуглавым орлом, перевернула – полушка тысяча семьсот тридцать восьмого года! Незатёртая! Номинал был обвит цветочным узором, достаточно примитивным, конечно, но для чекана восемнадцатого века весьма изящным. Хороша монетка! Я тут же достала рацию, зажала тангенту и стала передавать радостную новость: «Приём! Приём! Нашла полушку!» Всё ещё сидя на корточках, я ждала ответа, не переставая улыбаться. Подумала, что не услышали, повторила: «Приём! Нашла полушку! Вы где?» Рация потрескивала, но ответа не было. Достала мобильник – сигнал связи отсутствовал.
Я встала, отряхнула руки. Огляделась. И справа, и слева от меня лежали убранные пшеничные поля; на них стояли стога сена и заготовленные стожары. Ворковали птицы. Горел закат. Меня окружали порядок и умиротворение, дул тёплый августовский ветер. Но как же меня это напугало! Ведь не должно было быть здесь полей. Тут справа лес, а слева вырубка и лощина, поросшая мелким ивняком. Какие поля? В сумерках с моими уставшими от компьютера глазами было трудно разглядеть, что на горизонте. Кажется, тёмная полоса леса. Или какие-то здания? Неизменной осталась только дорога, на которой я нашла полушку. Я убрала монету в карман куртки и застегнула его на молнию. Разобрала прибор и спрятала его в рюкзак, чтобы легче было идти.
По всей видимости, парни не включили свои рации, подумав, что они уже не пригодятся – не потеряемся. Наверно, дошли до деревни и прочёсывают какой-нибудь вспаханный огород в поисках клада, когда-то спрятанного зажиточным крестьянином. Я решила их догнать, а по пути подумать о неожиданно возникших полях.
Тут явно есть какое-то разумное объяснение. Вероятно, от усталости у меня в голове перепутались картинки мест, где мы сегодня были. Но – так ведь можно и заблудиться. Я вспомнила, как заплутала на одном урочище: ходила кругами и всё время возвращалась к заметному поваленному дереву – замшелой сосне, через которую приходилось каждый раз перелезать. Но там повсюду были овраги, из-за них я и потеряла ориентацию. Здесь же, слава богу, была дорога. Впереди – деревня, там камрады, позади – машина, на которой мы прорвались сюда по бездорожью. Нужно только успокоиться, паникой делу не поможешь.
Послышались голоса. Я обрадовалась, прислушалась. Но голоса были незнакомыми. На всякий случай я спряталась – легла в траву. Камуфляж уберёг меня от внимания двух крестьян, которые ехали на телеге, запряжённой толстоногой коричневой лошадкой с густой гривой, и обсуждали последние политические события:
– Пущай жгут, кому нужны треклятые богохульники?..
– Сейчас вредословцев жгут, потом воров станут всех без разбору в костёр бросать! Тебя, Михало!..
– Я человек честный и незлой!
– А корова твоя откуды?
– Бог дал, бог знает, откуды корова…
– Лживый ты пёс, Михало! – добродушно подытожил крестьянин.
– Не бреши! У самого рыло в пуху.
«Неужели и сюда добрались реконструкторы?» – подумала я. Новая волна увлечения пошла: офисный народ повально шьёт себе костюмы, собирается на каком-нибудь поле и воссоздаёт знаменитое сражение, лишённое, впрочем, кровавого ужаса. Но реконструкторам больше нравится становиться древними витязями и бойцами времён ВОВ, а играть в бедных крестьян в пыльных домотканых рубахах, как у тех, что сейчас проехали мимо, – что за веселье? Они говорили про то, что жгут каких-то вредословцев… Тут я вспомнила, что этим законом отличилась императрица Анна Иоанновна во второй половине своего правления. Это примерно тридцатые годы восемнадцатого века.
Я решила дойти до деревни по лесу, а на дорогу не выходить, потому что, если все вокруг безоглядно вовлечены в реконструкцию, жди беды… Впрочем, во второй половине правления Анны Иоанновны время разинщины уже прошло, а пугачёвщина ещё не нахлынула, и в деревне должно быть спокойно. Если, конечно, бородатые переодетые клерки не заигрались и не преследуют богохульников из будущего.
Дойдя до края леса, я увидела, что передо мной находилась большая живая деревня. Стремительно темнело. Над соломенными крышами некоторых избушек вился белёсый дымок на фоне сизого неба, мычала где-то корова, бегали, играя друг с дружкой, две крупные собаки. Но людей не было видно. Я решила, что крестьяне уже ложатся спать, ведь темнело, а при лучине бодрствовать хлопотно, да и незачем: чтобы не помереть с голоду, вставать крестьянам надо на заре.
Недалеко от того места, где я топталась в раздумьях, виднелся хуторок – отдельно стоящая избушка и при ней сад. Дыма над ней не было, огонька в закопчённых окнах тоже. Я обрадовалась – судя по всему, хозяева ушли куда-то.
Дверь на скрипучих кованых петлях оказалась не заперта. Я включила фонарик на телефоне и вошла в избушку. Почти всё пространство низкой горницы занимала широкая печь с лежанкой, заваленной тряпьём, от которого шёл тяжёлый смрадный дух. Два квадратных окошка с восточной стороны были затянуты бычьим пузырём. На лавке у стены стояла глиняная посуда, лежали незамысловатые вещи. На жерди висела пустая зыбка. В углу на земляном полу топтался на шатких ногах совсем маленький ещё телёнок, в глазах которого отразился ярко-белый свет моего фонаря. Где-то за печкой сонно закудахтали куры.
Я сильно устала, потому что копала с раннего утра весь день. В углу слева лежал ворох относительно чистой соломы. Я села на него. В моём рюкзаке были печенье, шоколад и литровая бутылка воды. Я съела шоколадку и допила воду. Улеглась на солому, поджав ноги.
В городе я давно сплю с берушами в ушах и повязкой на глазах, и мне долго мешал заснуть лунный свет в окошках, куриные шорохи.
Рано утром проснулась от холода. Поднялась с вороха соломы, подошла к двери и осторожно выглянула на улицу. По дороге в сторону полей шли крестьяне и крестьянки с вилами на плечах – по двое-трое, разговаривали, слышался смех. Жаль, что у меня не оказалось с собой очков – хотелось рассмотреть эти рубахи, сарафаны и лапти. Я вернулась на солому, получше зарылась в неё, чтобы согреться, и поспала ещё пару часов. Потом спрятала рюкзак за печку и, оглядываясь, вышла из дома. С пригорка было видно, что в центре деревни играли дети, а справа было пастбище.
Я добежала до леса и под покровом деревьев пробралась вниз, к речке, которая оказалась почему-то втрое шире, чем накануне. Зайдя на низкий бревенчатый мосток, я умылась и попила (речная вода была очень чистой) и услышала, что кто-то приближается. Я легла на траву за кустом и замерла. Вдоль речки шли двое мужчин. У одного в руке была мотыга. Одеты они были для дальней дороги, и все были в грязи и пыли. Они остановились напротив, тихо разговаривая. Наконец они о чём-то договорились, отошли от берега к дубу, листья которого уже стали желтеть, и один из них, который был коренастее, принялся копать мотыгой яму под деревом. Выкопав достаточно, они бросили туда что-то, закопали, присыпали палой листвой, вернулись к реке и пошли обратно вдоль неё.
Мне стало интересно, что там. Я сходила в избушку, достала из рюкзака лопату и вернулась к реке.
Под дубом, как я и надеялась, оказался кошель, полный разных монет: полушки, денги, пятикопеечные и несколько особенно ценных, от которых дух захватило, – два серебряных рубля и один золотой червонец с профилем Анны Иоанновны. Большие деньги по тем… по этим временам. Поразмыслив, я взяла из кошеля одну денгу себе, отошла метров на двадцать, и закопала кошель в другом месте.
Я не могла решить – стоит ли приблизиться к кому-то из крестьян, попросить еды и ночлега на ближайшую ночь или лучше оставаться невидимым, но голодным наблюдателем? Я чувствовала себя туристом в стране, где люди говорят на другом языке, по-другому думают и живут совсем иначе; мои знания об этом времени были отрывочны и напоминали коротенький список фактов, почерпнутых из путеводителя.
Тут я вспомнила про телефон, достала его из кармана и проверила зарядку – оставалась половина. Нужен ли он мне здесь? И меня поразила мысль – ведь в телефоне есть камера! Я могу сделать фотографии из жизни крестьян в восемнадцатом веке, запечатлеть то, что никогда не было сфотографировано!
Я подумала, что, если выберусь отсюда, могу стать знаменитой. Может, даже на весь мир.
Уныние ушло. Теперь меня вела вперёд новая задача. Через лес я подобралась к полю, на котором трудились крестьяне. Они пели – я записала на видео. Они обедали в поле хлебом и луком, а запивали, по-видимому, квасом. Записала. Сено клали в телегу, чтобы отвезти в деревню. Зафиксировала. Из-за того, что боялась подойти ближе, крестьяне на фотографиях получались маленькими, толком не разглядишь смуглые и сонные лица баб в платочках, не увидишь длинные нечёсаные бороды мужиков. Азарт сменился разочарованием и новой волной уныния. Их надо сфотографировать близко – но как? Они не привыкли к маленькой коробочке, в которую надо улыбаться, а меня могли принять за чертовку и воздеть на вилы.
Я то подползала к крестьянам ближе, то отдалялась в страхе. Иногда засыпала в траве, чувствуя сквозь сон, как по моей шее бегут куда-то любопытные муравьи, исследуя новую для них реальность.
Прошёл день. Я ещё больше проголодалась. Когда на закате крестьяне ушли в деревню, я вышла на поле, подошла к тому месту, где они перекусывали, и нашла там несколько корочек хлеба. Съела их по пути к избушке, где провела предыдущую ночь. На моё счастье, хозяева ещё не вернулись. Я нарвала мелких кисловатых яблок в саду, поужинала ими и легла спать.
Утром меня разбудили петухи и странные шорохи. Открыла глаза. Вокруг столпились крестьяне и крестьянки с лицами бомжей, которые когда-то были приличными дачниками. Впереди стоял бородатый красношеий дед, нацелив на меня вилы.
– Кто ты есть? – набычившись, спросил он меня.
Я села. Люди зашептались:
– Это ж девка в шароварах…
Дед переменился в лице, опустил вилы.
– И как тебя звать, беглянка?
– Елизавета, – зачем-то соврала я.
– Лизка, значит. Откуда явилась?
– Из Владимира, – говорю, – сирота. Скоро дальше пойду.
Дед вздохнул, кивнул, выгнал из сеней соседей, поговорил с ними во дворе. Потом вернулся.
– Можешь спать тут, а за это будешь мне стряпать.
Я представила огонь в печи, глиняные горшки, ухват, угли, едкий дым…
– Не хочу стряпать, – ответила я. – Не умею в таких условиях. Я вам ненароком избушку спалю. Давайте я вам лучше полкопейки уплачу…
Дед поднял брови:
– А где ты их украла?
– Не ваше дело.
– Ладно, – усмехнулся он, – но пойдёшь сегодня с нами в церковь, батюшке расскажешь свои грешки. Бог тебя простит, беглянку. Видать, от своих грехов и сбежала.
Я молчала. Дед счёл это согласием, покряхтел, помычал и вышел. Я рухнула на солому. Сердце стучало от волнения как швейная машинка. Дверь в сени открылась. Вошла девочка лет четырнадцати – босая, в сером льняном сарафане.
– Пойдём со мной, – сказала она нараспев, – у матушки щи остались, мы вас угостим. Меня тоже Лиза зовут.
И мы с ней пошли в деревню. По улицам курсировали куры, козы и дети. Я осмелела, достала телефон. Сказала:
– Лиза, постой! Посмотри на меня и улыбнись.
Она засияла и даже поправила волосы, как делают в наше время. Я её сфотографировала.
– А что это у вас?
– Это чародейная коробочка, – сказала я, – чтобы запоминать то, что со мной происходит.
– Тебе её какая-то ведьма продала? – округлила глаза Лиза.
– Нет… – ответила я, стараясь подобрать авторитетного для того времени человека, – её мне дала жена владимирского священника, матушка Елена. Сказала, Бог бережёт того, кто помнит всех тех, кто ему помогает. Вот я тебя помнить буду.
– Как хорошо! – ответила она. – Тогда ты и матушку мою запомни! И кошку мою!
Мы вошли в избу семьи Лизы, и я сфотографировала её мать – нестарую женщину с морщинами у выразительных голубых глаз. Сфотографировала полосатую кошку.
Мне налили щей в глиняную чашку, дали соли и хлеба. Горячая похлёбка показалась божественной после двух суток, проведённых на остатках печенья и яблоках. Конечно, щи были без мяса, без перца, одна только капуста, лучок и немного свёклы, да ещё какие-то корешки, но и этого было достаточно, чтобы воспрять духом, возвыситься над неясностью моего положения.
Затем Лиза повела меня пройтись по деревне. Показала мне колодец, спуск к реке, водяную мельницу, три дороги, бани, пастбище, берёзовую рощу, родник – все местные достопримечательности. Крестьяне поглядывали на меня, усмехались, но уже без особого удивления. Странники, сироты – они все чудны́е.
Зайдя в лес, на ближайшей опушке мы с Лизой пособирали разные лечебные травы. Она показала мне, как выглядит валериана, дудник, пахучка, душица. Рассказала об их целебных свойствах. Кто бы мог подумать, что одуванчик помогает от болей в животе?
Прежде чем идти вечером в церковь, в ближайшее село, Лиза отвела меня к себе в избу, дала рубаху, платок на голову и сарафан из своих запасов. С нами шла почти вся деревня. Было воскресенье. Народу шло так много не только из-за крестьянской набожности – за отсутствие на исповеди взимался штраф пять копеек. Я хорошо это помнила из курса истории, потому что поразилась, насколько глубоки бюрократические корни: священник записывал всех, кто приходил на исповедь, отмечал тех, кто не явился. Если крестьянин неоднократно пропускал покаяние, его вносили в специальную ведомость и пороли.
До соседнего села было километра три. Шли. Я с интересом разглядывала своих спутников. На них были разные медные вещички, которые мы потом находим в земле, – крестики, колечки, дешёвые серьги. Несколько старух ехали рядом с нами на телеге, запряжённой коренастой тёмной лошадкой, одной из тех тысяч лошадок, элементы упряжи которых мы откапываем с металлоискателем на старых дорогах и называем «кониной»: пряжки, бубенчики, бляхи и заклёпки.
Я до сих пор чувствовала себя туристом в незнакомой стране. Страх, что я не смогу вернуться, поутих. Я фотографировала этих людей, тем самым сохраняя связь со своим временем и надежду на возвращение. Интересно, думала я, может ли моё сознание вместить их сознание? Ведь я старше на несколько веков и знаю многое, о чём они не догадываются. Но чувства превосходства не ощущала. Наоборот, ко мне вернулись многие детские ощущения – потребность быть ведомой, признание авторитета других, боязнь рассердить старших. Да, я их боялась – глупо было не бояться. Праправнуки этих людей свергнут монархию и лишат дворян власти и состояний. Несмотря на крестьянское происхождение, которое я выяснила, занявшись пару лет назад генеалогией, по сравнению с ними я чувствовала себя аристократкой, белоручкой из-за своего образа жизни – сидеть дома, писать статьи в журналы, не слезая с дивана. Что бы об этом сказала Лиза? Или вон та труженица, несущая в корзине хлеб для всех на обратную дорогу?
Наконец мы дошли до церкви. Чинно зашли внутрь. Вскоре внутри стало очень душно. Хор запел «Херувимскую песнь», затем молитвы. Мне стало плохо, закружилась голова. Я пробралась к выходу и села отдышаться недалеко от паперти на поваленное бревно. Вокруг бревна россыпью росли ромашки, слышны были успокаивающие птичьи чириканья, да ещё пришла кофейного цвета дворняжка и села у моих ног. Тяжкий гул, доносящийся из церкви, отошёл на второй план.
– Будешь тутова сидеть, епитимью получишь. Сто поклонов, воистину. Батюшка у нас строгий.
Я повернулась. Сзади меня стоял сухонький старик с ехидным взглядом. Голова его немного тряслась. Рукой он опирался на посох.
– А вы кто? – спросила я из любопытства.
– Сторож ихницкий, – указал он клюкой на белёную церковь.
Я вздохнула, встала, пошла в сторону церкви. Слышу:
– Ну дурында, куда понесло тебя!
Я озадаченно посмотрела на старика.
– Вы же сказали…
– Положи, что взяла, на место, да дома окажешься.
Видимо, чтобы пресечь дальнейшие расспросы, он повернулся ко мне спиной и пошёл куда-то. Дворняжка тут же вскочила и потрусила за ним.
Терять мне было нечего – исповедоваться перед старорежимным священником желанием я не горела, поэтому вернулась на дорогу и быстрым шагом, иногда переходя на бег, направилась обратно к деревне. Путь занял немало времени, и я устала, но отдыхать было некогда. Скинула сарафан, натянула обратно свой камуфляжный костюм, достала из-за печки рюкзак с металлоискателем, проверила, лежит ли в кармане полушка.
Уже смеркалось, когда я наконец нашла место, где выкопала полушку: к счастью, там был заметный каменный валун, в наше время почти целиком ушедший под землю. Ковырнула сапогом землю, кинула в неё монету, присела, закопала и закрыла глаза. Посчитала до десяти. Открыла глаза.
Справа был орешник, слева – вырубка.
Я достала телефон – он не работал, аккумулятор окончательно разрядился. Поплелась назад в село. Теперь там повсюду были провода и металлические заборы. На месте церкви, из которой я выбежала несколько часов назад, местные мужики с помощью наёмных таджиков строили новую. Без купола. И она больше походила на крематорий. Я огляделась, увидела во дворе одного из домов женщину, которая в потёмках что-то доделывала на своём огороде, и попросилась переночевать. Пустили. Накормили до отвала и положили спать. Засыпая, я думала: интересно, если бы всё ещё была в расшитом сарафане по древнерусской моде, отнеслись ли они ко мне так спокойно?
Наутро дозвонилась до камрада. К обеду камрад приехал, обрадованный тем, что я нашлась. Народ косился на московские номера его «нивы».
– Куда ты делась? Мы тебя весь следующий день искали… Уже хотели спасателей подключать.
Я рассказала. Показала фотографии. С них ему улыбались русские крестьянки из восемнадцатого века.
– Ну и шутки у тебя, – напряжённо засмеялся друг, – ясное дело, это реставраторы. Ты, наверно, очень далеко забрела и на них наткнулась.
Как сложно удивить человека в наше время! Мне вспомнилась Лиза, с восхищением крутившая в руках «чародейную коробочку». Тогда я предложила съездить до деревни, проверить, лежит ли за рекой зарытый мной кошель. Камрад закатил глаза, но завёл мотор. На его подготовленной «ниве» по сухой грунтовке мы доехали до самой деревни. Там стояло три покосившихся домика. Я невольно посмотрела туда, где была избушка красношеего деда. Сейчас там колыхались гигантские борщевики, завезённые в эти края в сталинское время из Северной Америки. Мы спустились к ручью. Я увидела огромный пень от стоявшего здесь когда-то многовекового дуба. Видимо, он дожил до советского времени, и его спилили, когда он стал умирать. Все остальные деревья были, разумеется, другими, и найти место, куда я зарыла кошель, было непросто. Мы стали «пробивать» небольшой участок леса, и наконец, минут через тридцать, прибор подал слабый, но чистый сигнал цветного металла. Кошель оказался на глубине почти полуметра – удивительно, что металлоискатель вообще его обнаружил. Кожа давно истлела, в земле остались только монеты. Чтобы произвести впечатление, я предложила другу самому вытащить их все, пока я стою с закрытыми глазами. Когда он их достал, я, не открывая глаз, перечислила: десять полушек, семь денг, семь монет по пять копеек, два серебряных рубля и один золотой червонец. Всё оказалось верно. Камрад долго ещё молчал и разглядывал монеты. Это была удача. Мы понимали, что благодаря одному этому червонцу сможем оба не работать целый год, а может, и два. Я подумала о встающих спозаранку крестьянах, идущих убирать урожай, и вспомнила пословицу: «Барину вершки, а мужику корешки».
Международные новости
Июль, но по-сиротски холодно. Планово отключили горячую воду на две недели. Мыться приходится из ковша заранее подогретой водой.
Накопилось много журналов. Решила их разобрать, вырезать интересное, остальное выбросить.
Беру первую пачку. Выдвигаю лезвие канцелярского ножа. Вырезаю интервью с писателем, который известен тем, что не общается с журналистами. Он ёрничает и между делом сообщает о своей любви к украинским девушкам. Потом статья о быте ненцев, использующих мох вместо подгузников для детей. Из каждого номера вырезаю рубрику с короткими новостями со всего света: в Мексике обезглавили парня за статьи о криминалитете, стокгольмские голуби научились пользоваться метро, британец подмешивал жене в еду стероиды, в Германии раскрыта банда неонацистов, пенсионерка из Петрозаводска хранила в холодильнике труп найденного ею инопланетянина.
Ну и ну.
Болит спина. Надо делать специальные упражнения. Но не хочется. Снова берусь за журналы.
Оставляю статью про шизофрению, после которой хочется болеть ею всю жизнь; анекдоты Северной Кореи; фотографии со свадьбы английского принца.
Холодно. Иду на кухню. Пью чай с шоколадкой.
Вырезаю статью о знаменитом учёном-физике. «Почему люди не озабочены проблемой обратной сингулярности Большого Взрыва?» – удивляется он. На фотографии он в аудитории Кембриджского университета. Перечитываю. Мало что понимаю, но оставляю.
Листаю следующий журнал. Текст о фирме, которая за деньги сообщает, что возлюбленный хочет с вами расстаться. Интересный сюжет, думаю я. Слезаю с дивана, ищу блокнот. Записываю туда идею.
Пусть героиня, работающая в фирме расставаний, пойдёт на задание и влюбится в парня, которому ей нужно сообщить неприятную новость.
Власти Перу выпустили колоду игральных карт с портретами опасных преступников для полицейских, которые любят играть в карты; в Риме прошла конференция, посвящённая воспитанию следующего поколения священников-экзорцистов; ООН взяла на себя ответственность за отсутствие в Кении необходимого количества презервативов.
В спешке пролистываю: митинги, аресты, результаты выборов. Они уже забылись, как прошлогодние болезни, их сменили закрытия банков, нелогичные законы, дипломатический кризис, а также другие митинги, новые аресты, кандидаты на следующие выборы.
Мёрзну. Кроме того, хочу есть. Припоминаю, что в шкафу лежит гречка, но её жевать не охота. Надо идти в магазин.
Людям с нижних этажей ничего не стоит выйти на улицу – пройтись, заглянуть в супермаркет, выбросить мусор. Отделяющая их от внешнего мира граница настолько условна, что на улице они чувствуют себя почти как дома. Другое дело жители верхних этажей: спуститься вниз – целое путешествие. Даже если в доме есть лифт. Сверху всегда кажется, что на улице слишком холодно, очень жарко или чересчур сыро.
Я живу на одиннадцатом этаже.
Переодеваюсь, беру сумку, проверяю, лежит ли в ней кошелёк. Выхожу на улицу. Уже смеркается. Мимо идёт какой-то мрачный тип с бутылкой. Надо торопиться.
Беру в магазине молоко, картошку, помидоры, петрушку и сосиски. На сосисках написано: «Сделано в Московской области. Без ГМО. Без консервантов».
Меня почему-то радует, что они сделаны здесь, в родной Московской области.
Наверно, это областной патриотизм.
На улице сильный ветер. Пыль попадает в глаза. Моргаю. Иду домой. Укрываюсь в подъезде.
Дома делаю салат, кладу на сковородку сосиски.
Эквадорские преступники украли конфискованные наркотики. Адвокат из Австралии признался, что двадцать лет назад украл несколько монет из церковного фонтана и предстал перед судом. Выяснилось, что многие студенты медицинских университетов в Великобритании занимаются проституцией, чтобы оплатить образование и жильё.
Кошмар.
Спина опять болит. Делаю упражнения. С чувством выполненного долга бросаюсь на диван.
Беру вторую стопку журналов.
В Техасе обнаружены малолетние брат и сестра, живущие в брошенном школьном автобусе. Полиция Чили арестовала человека, укравшего пять тонн льда с древнего ледника Хорхе-Монт.
Стемнело. Выхожу подышать на балкон. Вечным огнём светятся окна многоэтажек.
Не забудь наклеить марку
Рефлекс цели состоит в том, что человек стремится к постоянно достигаемой, но никогда недостижимой цели. Как коллекционер. Скажем, собиратель почтовых открыток. Миллиарды открыток рассказывают о флоре и фауне, истории и науке, людях и вещах. Пополняют знания о прошлом изображениями исчезнувших картин и зданий, создают романтический образ эпохи, пропагандируют идеи, сообщают вчерашние новости. Но всё равно для большинства это всего лишь бумажки – «милые открытки» и «какая прелесть».
Можно собрать все существующие открытки в одном месте – теоретически. Практически – невозможно. Обычно коллекционер собирает открытки лишь на одну тему, чтобы сохранилась иллюзия достижимости цели – обладать всеми на свете открытками с морскими чудовищами, портретами политиков или кошками молочно-белого цвета.
Развитый рефлекс цели приводит к долгожительству. Кто станет умирать, когда не собраны все открытки с пятнистыми тюленями?
Некоторые любители открыток не собирают их, а только изучают. Этим и решила заняться Полина, размышляя над своей магистерской работой. Оставалось выбрать предмет изучения. У неё было несколько вариантов, но тянуло больше к исчезнувшей коллекции Ивана Леопольдовича Ямановского. Проблема, понятно, была в том, что коллекция исчезла. Зато о ней никто ничего не знал, а найти утраченное собрание и описать его историю – это было бы сенсацией. Проведя небольшое расследование, Полина раздобыла письма Ямановского к одному ленинградскому филокартисту.
В советское время центрами коллекционирования открыток были две столицы – Москва и Ленинград. Там были клубы филокартистов, на встречах которых читались доклады, проводились обмены и выставки. Ямановский жил в городке под Вологдой. Иногда он садился в автобус и ехал в Вологду на эти встречи. С некоторыми коллекционерами вёл бумажную переписку.
Из писем Полина узнала адрес Ямановского и предположительное содержание его коллекции. Он собирал открытки, посвящённые вологодским памятникам природы и архитектуры, а особый интерес питал к карточкам с уничтоженными храмами, о чём приходилось помалкивать и искать дореволюционные открытки с осторожностью. Он был учителем истории, что помогало ему оправдывать свои визиты в идеологически чуждые власти места вроде поповских домов.
Ямановский любил свою работу и часто писал о том, как он с учениками устраивает любительские археологические раскопки, реставрирует дореволюционные предметы, а в начале семидесятых он сообщал, что открыл с учениками краеведческий музей.
Было скучное лето. Полина взвесила все «за» и «против» и через неделю уже сидела в поезде. В наушниках неведомый американец с брутальной нежностью пел про кантри-роудс и хат-битинг, что было к месту, так как Полина чувствовала примерно то же самое. Ей предстояло добраться до города под названием Кадников. Таким захолустным, как в двадцать первом веке, он был не всегда. Раньше стоял на единственной дороге на север – Архангельском тракте. Шла бойкая торговля. А ещё раньше, в смутные времена, Кадников даже подвергался набегам разбойников.
Сидя в купе и проезжая Мытищи, Полина вспомнила одну книгу, историю дач ярославского направления. Она была иллюстрирована репродукциями открыток и выдержками из дореволюционных газет. В репортаже о посещении этих мест автор описывал уединённые дома с пышными садами; обед в ресторане театра, где подавали пети-буше, цыплят а-ля англез и земляничное парфе. Полина, закрыв глаза, слышала шелест шёлковых платьев, запах дорогих духов и трепетание веера.
Полина изучила карту в интернете: вокруг Кадникова распластались болота – Семизерская Чисть, Большие Мхи, Белая Вельга; дремали урочища; затерялся заброшенный монастырь в диком северном лесу. Лесопилки. Крупный завод по изготовлению чипсов и быстрорастворимых супов дымил на северо-западной окраине города.
Сосед по купе спросил:
– Вам не душно? Может, приоткрыть? – и указал на окно.
Полина согласно кивнула.
Задрёмывая, она представляла, как могла бы выглядеть её героиня в компьютерном квесте. Её зовут агент Polina, она идёт с железнодорожной станции по тропинке вдоль живописной реки под инди-рок, по-советски скромно одетая, в очках, с сумкой на длинном ремне, направляется в город, чтобы познакомиться со знаменитым собирателем открыток. Её, конечно, прислал из будущего специальный Филокартический Корпус. Если нажать Escape, можно посмотреть или достать вещи из багажа – удостоверение, распечатки статей, блокнот, смартфон, деньги, шоколад, запасную одежду, перцовый баллончик. Двойной щелчок мыши по дороге – и агент Polina побежит; на человека – заведёт беседу; сочетание клавиш Ctrl и Alt – возьмёт предмет. Чем ближе к городу, тем становится темнее от надвигающихся туч. Значит, скоро нужно будет искать укрытие от дождя…
Разбудил Полину какой-то парень. Наклонился к ней и сказал:
– Позвольте поделиться с вами одной мыслью из Священного Писания…
– Пожалуйста, не надо… – попросила она.
Он ушёл.
В Ярославле – пересадка. Таксист взял с Полины пятьсот рублей, хотя местные ездят за сто пятьдесят. Чтобы скоротать время до автобуса, она пошла гулять в Ярославский кремль. По мощёным дорожкам бегала такса с мешочком на шее – для денег. Мёртвые бабочки в энтомологическом зале вывели Полину из состояния душевного спокойствия, пришлось отпиваться кофе и заедать стресс тремя шоколадными эклерами.
Наконец автобус до Вологды подъехал и открыл свои полуавтоматические двери страждущим. Спустя пятнадцать минут он тронулся и неспешно двинулся по шоссе. Лес за окном постепенно редел и темнел. Деревья выглядели измождёнными и почему-то напоминали Полине об узниках сталинских, постсталинских и современных лагерей, которых в этих краях немало. До Полины доносился непривычный, гнилой запах болот.
В сонной, светлой Вологде Полина пересела в автобус до Кадникова. Маленький мальчик с переднего сиденья громко спросил:
– Баб, а зачем воду покупать? Её же можно дома пить!
У пассажиров сделались задумчивые лица. Рядом сел крупный дед с длинной бородой и в зелёном пиджаке.
– Добрый вечер, – сказал он.
– Добрый, – ответила Полина.
Автобус тронулся.
Обивка сидений была местами порвана и запачкана. Колени упирались в спинку переднего места. Под окном было написано маркером: «1948 лет после конца света – рождение новой эпохи».
В Кадникове Полина собиралась жить в доме, который нашла через интернет среди местных объявлений. Поговорив по телефону с владельцем, узнала, что он писатель из Вологды, родился в кадниковском доме, стал сдавать его после смерти отца, который там жил.
Дед спросил:
– Вам не душно? – и указал на форточку.
– Душно. А вы не из Кадникова? – спросила его Полина.
– Оттудова, да.
– Как вам там живётся?
– Мне-то хорошо, а вот многим не очень.
– Почему?
– Здесь синяя дыра.
– Синяя? Как это?
– Ну, алкогольная. Народ без работы буха́ет.
– А вы где работаете?
– В краеведческом музее здешнем.
– Который Ямановский основал?
– Да-да. Он был моим учителем когда-то.
Полина даже вспотела от волнения.
– А вы помните… его коллекцию открыток?
– Коллекцию? – замешкался дед. – Ну да, ну да…
– Он вам её показывал?
– Показывал, да.
– Вологодские места?
– Да-да…
– Она случайно не в музее?
– Нет, к сожалению.
– Ну а в музее есть другие вещи Ямановского?
– Есть. Мебель в основном – он из купеческой семьи, у них было много красивой резной мебели. И книг.
– А завтра музей работает?
– Все дни, кроме понедельника.
– Я приду, – сообщила Полина.
– Приходите, приходите, – ответил дед.
Полина услышала разговор впереди сидящих:
– Грибов набрали белых мало, а вот лисичек много попадается…
– Да, лисичек хоть косой коси…
В Кадникове Полина дошла до нужного дома на Октябрьской улице по навигатору в телефоне. Следуя инструкциям, она нашла в поленнице ключ и вошла в дом.
Сырость, оборванные обои в прихожей, оголённая электропроводка. Когда созванивались, хозяин сказал Полине, что жить лучше в маленькой комнате. Посмотрела – комната оказалась уютной и относительно неразрушенной. Два оконца, разложен диван, рядом старый резной книжный шкафчик с томами советских классиков, стол и два шатких стула. На стене картина с медвежатами в лесу. На столе – приёмник «Океан-209», настроенный на международное китайское радио, видимо ещё с эпохи коммунистического братства. В общем, комната была настолько вне времени, что Полине даже не пришлось к ней привыкать. В соседней комнате – раковина, но чтобы к ней подобраться и умыться или набрать воды в чайник, нужно было перешагнуть дыру в полу и обойти недосложенную печку. Вода из крана шла только ледяная. «Как же мыться?» – подумала Полина.
Полина вспомнила занимательный факт: в начале двадцатого века многие европейские гостиницы предлагали комнаты, оклеенные вместо обоев иллюстрированными открытками. Тема – по желанию жильца.
Забравшись под одеяло, она сразу уснула, но успела услышать, как шуршат в стенах мыши.
Утром её разбудил стук. Полина вышла на крылечко. Над калиткой виднелась мужская голова. Полина крикнула:
– Кто там?
Мужик немного отошёл от калитки, чтобы его было лучше видно, и спросил с каким-то странным акцентом:
– Эй, хозяйка, лосиные рога есть?
– А что?
– Куплю!
– Нету.
– Ну посмотри, есть же…
– Нету, нету…
Полина зашла, волнуясь, обратно в дом и закрыла дверь. Посмотрела в окно – мужик ушёл.
Собрала сумку, закрыла дом и пошла в город на разведку.
Кадников оказался совсем маленьким: главная улица с каменными купеческими домами, от неё – прямые перпендикулярные улочки с избами, сохранившими остатки затейливости вроде мезонина или массивных резных наличников с нестандартным узором. В центре города – парк имени Пушкина. На маленькой площади белый коротконогий Ленин держит в руках стопку книг.
Скоро она вышла на улицу Розы Люксембург и нашла дом Ямановского. В старые времена он наверняка производил впечатление. Снаружи было видно, что в доме очень высокие потолки. Полина подошла к двери и потянула за ручку. Дверь поддалась. Вошла. Окна на первом этаже были заколочены. Свет сверху падал лишь на широкую деревянную лестницу, ведущую на второй этаж. Повеяло гнилью. Полина достала из рюкзака фонарь и юркнула в темноту.
Все комнаты были заперты, кроме одной. Полина вошла. Там было светло – на окнах не осталось занавесок. Диван, стол. Вещи вроде мягких игрушек и одеял валялись на истёртом паркете. Много мусора. Полина догадалась, что тут живут бомжи. Она вернулась обратно в тёмный коридор и поднялась на второй этаж. Там было светло. Некогда просторные комнаты были разгорожены на тесные закутки. Повсюду разбросаны бумаги и книги. Полина подняла с пола тетрадь и раскрыла её – оказалось, конспекты студентки педагогического колледжа. На стенах висели плакаты с Гарри Поттером, вырванные из журнала «Все звёзды», на полу валялись музыкальные CD-диски. Плинтуса кто-то отодрал.
Ничего, связанного с Ямановским, не было.
Полина вышла из дома и огляделась. На неё никто не обращал внимания.
В конце улицы было старинное кладбище. Кирпичную ограду наполовину растащили на хозяйственные нужды. Каменная запустелая церковь.
Полина вошла в неё и вдруг почувствовала, что находится внутри живого существа: сквозь кирпичи пробивалась травка, в алтаре колыхался бурьян, и казалось, что там кто-то прячется. На центральном своде виднелись едва различимые фрески – лики апостолов.
Сколько видели и слышали фресочные люди за три века? Крестины, венчания и отпевания, службы утренние и вечерние, трепетное целование икон. Босоногие юродивые, генерал-губернаторы, мошенники и купцы. Сюда залетали птицы, здесь прятались от дождя влюблённые, прятался какой-нибудь уголовник в девяностых. Они видели революционеров, плюющих на образа, видели пьяниц и картёжников, видели концерты с гармоникой, когда храм использовался как клуб. Они даже присутствовали на инструктаже по управлению тяжёлой сельскохозяйственной техникой, а позже видели туристов с фотоаппаратами. Видели реставраторов, разводящих руками.
Тем не менее разрушенный храм продолжает жить, став частью природы, как холм или валун. Теперь он неотделим от пейзажа, когда утром могилы и соседние дома растворяются в тумане.
Полина стояла там и прислушивалась к шорохам в бурьяне, а потом до неё донеслись голоса. На всякий случай она прижалась спиной к стене, чтобы её не увидели снаружи. Один голос был знакомый.
– «Рукой раздвинув тёмные кусты, я не нашёл и запаха малины, но я нашёл могильные кресты, когда ушёл в малинник за овины», – вещал кто-то, и Полина узнала скрипучий голос деда-краеведа, с которым познакомилась в автобусе.
– Какая хорошая у вас память! – залебезил женский голосок.
Пройдя мимо церкви, эти двое направились по тропинке вглубь заросшего погоста.
– «Я брожу… Я слышу пенье… И в прокуренной груди снова слышу я волненье: что же, что же впереди?..» – доносилось оттуда.
Полина тихо, стараясь не споткнуться на мусорных завалах на полу церкви, прошла к выходу и вскоре снова оказалась на одной из прямых и пустых улочек города – бездомных собак было куда больше, чем прохожих.
Не зная, куда ещё можно пойти, Полина решила найти музей. Он обнаружился в одном из купеческих домов на главной улице.
За тяжёлой входной дверью, которую Полина еле смогла открыть, была прихожая со столом для продажи билетов и единственного местного сувенира – магнита с белой колокольней. Появилась тётушка с шалью на плечах, хотя было лето, и повела Полину смотреть деревянные кадки, кокошники и выцветшие фотографии Кадникова. На одну из них она радостно указала, когда Полина спросила её о Ямановском. На фотографии был щупленький, низкий учитель в больших очках, а вокруг него ученики. Все улыбались.
Полина вглядывалась в старую фотографию, мысленно спрашивая учителя: «Где же ваша коллекция, Иван Леопольдович?» Но снимок был старый, нечёткий, нельзя было даже разглядеть глаза коллекционера, чтобы продолжить фантазировать. Был бы грустный взгляд, можно было бы предположить, что коллекция конфискована или уничтожена, лукавый – что он её спрятал, спокойный – она ещё у него.
Потом тётушка пригласила Полину спуститься по скрипучей лестнице в полуподвал, в запасники музея. Зажёгся жёлтый электрический свет – три лампочки, которые свешивались с потолка на проводах. Женщина подвела Полину к шкафу и сказала:
– Из дома Ямановских мебель. Посмотрите, может, что-нибудь найдёте. Зацепку!
Уходя, она приоткрыла форточку:
– Чтобы было не душно, пусть поддувает…
– Душно-бездушно… – грустно сказала Полина, когда тётушка оказалась за пределами слышимости. «Сколько затёртых до прозрачности, незаметности слов! – подумала она. – Мне бы хотелось говорить так, чтобы каждое слово было замечено, будто моя речь – это письмо, на которое не забыли приклеить марку».
Оставшись наедине со шкафом, Полина изучающе его оглядела. Затем выгребла из него: разваливающийся словарь Брокгауза-Ефрона, подборку «Отечественных записок», хрестоматийную книжку «Изогиза» о том, как собирать открытки, «Дон Кихота», Библию, стопку советских газет.
Всё в пыли. Ничего интересного. Только в одну детскую книжку было вложено несколько советских открыток с праздничными иллюстрациями Зарубина, подписанных мальчику Коле: ему желали прилежно учиться, чтобы, когда наступит светлая пора коммунизма, работать на благо Родины. Открытки Зарубина всегда пользовались большой популярностью. Выпускалось их очень много, так что они сейчас дёшевы, но всё равно стоило смотреть в каталоге – вдруг попался редкий экземпляр.
Полина часто думала о том, что у современных коллекционеров слишком меркантильное отношение к почтовым карточкам. Открытка вызывает у них радость не из-за своеобразного очарования картинки, а по той причине, что она вышла малым тиражом, на ней есть автограф знаменитого человека или она уцелела в кораблекрушении, – то есть всё то, что поднимает её стоимость. Полина осуждала такую позицию, но понимала её как учёный. Вот и сейчас она на всякий случай сфотографировала открытки, чтобы проверить, представляют ли они особую ценность.
Полина поймала себя ещё на одной остроумной мысли и решила додумать её до конца. Для этого она оперлась на шкаф и стала наблюдать за пылинками, которые парили вокруг неё. Мысль была такая: коллекционирование сближает человека с другими такими же чудаками, но при этом отдаляет от остальных, тех, кто не понимает важности и красоты его коллекции. Напрашивался вопрос: делает ли это коллекционера одиноким? Удивительно, но нет – все коллекционеры, которых она встречала, были увлечёнными и жизнерадостными. Может, не имея возможности говорить о своём увлечении со всеми, они учатся слушать других? Тоже нет. Скорее интерес к открыткам, спичечным коробкам и бирдекелям учит радоваться мелочам…
Полина поднялась наверх и зашла в зал музея. Висели портреты местных художников, стояли искусственные цветы в пластиковой вазе и кресло, в которое так и хотелось погрузиться. У входа – пустые книжные шкафы. На полу горы книг, над ними нависла тётушка в шали. За шкафами располагалось рабочее место научных работников музея – два заваленных бумагами стола, на каждом – по старенькому компьютеру.
– Вам помочь? – спросила Полина.
Тётушка в шали выпрямилась, посмотрела на Полину и, подумав пару секунд, ответила:
– Помочь! – и дала ей список и задание расставить книги на полках в алфавитном порядке, а сама тут же куда-то убежала.
Здесь были сплошь вологодские авторы – писатели-деревенщики, классики, жившие неподалёку, краеведы; имелась внушительная подборка современного литературного вологодского журнала «ЛАД». На книжных обложках непременно белела колокольня на берегу извилистой реки или же лежал снег, на который падали розовые лучи заката.
Когда Полина перешла к писателям на «Я», в зал вошёл дед-краевед. У него был бы страшно деловой вид, если бы он не сжимал в руке прозрачный пакетик с пряниками. Заметив Полину, он остановился, дружелюбно улыбнулся и сказал:
– Барышня, вы тут как тут!
– Здравствуйте! Я вот помогаю. Почти закончила.
– Знаете, я вспомнил кое-что. Про Ямановского.
– Как хорошо! Что же?
– Да вот… Расскажу, если пыль протрёте на втором этаже…
– Это можно! – пожала плечами Полина.
Экспозиция в зале на втором этаже была посвящена исчезнувшим церквям. В центре стоял макет окрестностей. Тут и там крестики, символизирующие храмы. «Ямановскому бы понравилось», – подумала Полина.
В окно время от времени стучали ветви рябины.
– Что вы вспомнили? – подошла Полина к деду-краеведу.
– Была у Леопольдовича сестра… У неё сын… Да?
– Да, – кивнула Полина. – Так?
– Вот он, может, чего знает? Живёт на Октябрьской улице, дом пятнадцать.
– Ой, спасибо вам!
– Вы, девушка, приходите завтра… Глядишь, ещё чего припомню.
Полина нашла дом пятнадцать на Октябрьской улице, который оказался просторной избой, выкрашенной в зелёный и жёлтый цвета, с подсолнухами под окнами. Полина потопталась у калитки, отворила её, вошла. На крыльце, не обращая внимания на Полину, сидел полосатый кот. Открыла девушка немногим старше Полины. На руках она держала малыша, который норовил схватить её за нос.
– Привет! – сказала она. – Ты кто?
– Добрый вечер, я ищу… – Полина напрягла память, – сына сестры Ивана Леопольдовича Ямановского. Мне сказали, он тут живёт…
Девица перестала вежливо улыбаться.
– А чего тебе от него нужно?
– Спросить про коллекцию открыток, которую собирал его дядя.
– Так он тебе уже ничего не расскажет. Альцгеймер.
– Что?
– Он ничего не помнит. Никого не узнаёт. С трудом ест. Понимаешь?
– Понимаю. Простите. Совсем ничего не помнит?
– Совсем. Ему кажется, что сейчас всё ещё война и голод.
– Мне так жаль… А я ему конфеты принесла. Возьмите, пожалуйста, – протянула Полина коробку конфет, купленную накануне.
– О, шоколадные! За это спасибо! – обрадовалась и смягчилась девица. – А что там за коллекция-то? Шибко ценная? Я никогда о ней не слыхала…
– Не то что ценная, но интересная. Просто коллекционеры в основном в столицах жили, а Иван Леопольдович собрал уникальную коллекцию, живя здесь, в Кадникове.
– Раз уникальная, значит, ценная, а?
– Не могу сказать наверняка, она исчезла после его смерти.
– А откуда ты знаешь, что она уникальная?
– Остались письменные свидетельства… Письма…
– Ну, ничего я не знаю… А ты у бабы Марфы спрашивала?
– Нет! А кто это?
– Старушка древняя, но ещё в своём уме. Живёт в доме напротив музея на первом этаже. У неё всё время окошко открыто, она у него сидит, на улицу смотрит. Может, помнит чего.
– Может быть! Спасибо!
– Да не за что, – сказала девица и обратилась к сыну: – Помаши тёте, пусик, она нам конфетки принесла… Скажи тёте «пока-пока!»…
Полина помахала карапузу и пошла к калитке.
– Девушка! Подожди! – позвала её девица.
– Да?
– Приходи сегодня в клуб! В девять часов будет дискотека!
Полина от неожиданности рассмеялась. Ей и в голову не приходило, что в Кадникове можно по вечерам развлекаться.
– Ладно! А где он?
– В центре. Такое древнее здание. Там церковь когда-то была.
– Спасибо! Обязательно!
Полина, погрузившись в размышления о том, что надеть на деревенскую вечеринку, не заметила, как дошла до дома. В большой нежилой комнате почему-то горел свет. «Может, хозяин приехал?» – подумала она. Зайдя в дом, она на всякий случай погромче хлопнула дверью. Из комнаты послышался женский голос:
– Полина! Полина! Это вы?
Полина заглянула в комнату и увидела невысокую кудрявую даму, у которой были весёлые зелёные глаза и выдающиеся пухлые щёки. На ней были резиновые перчатки, в руке она держала валик.
– Я тут обои клею, – радостно сообщила она. – Володя давно собирался, вот, позвонил сегодня, говорит, начинай!
– А вы…
– Со строительными работами подсобляю… Лену-маляршу все знают! Вот это я и есть!
Полина поболтала с Леной и даже договорилась на следующий день зайти к ней помыться. Вскоре Лена собралась и ушла домой. Полина перекусила, надела сарафан в бело-красную полоску и, поразившись собственной смелости, отправилась на дискотеку.
Клуб действительно располагался в бывшей церкви – точнее, в городском соборе. Никаких фресок, разумеется, не сохранилось, всё было густо покрыто белой краской, которая светилась под лучом ультрафиолетового прожектора. В лучших традициях пионерских дискотек под потолком крутился дискотечный шар, покрывая всё вокруг разноцветными бликами. Гремела давно устаревшая танцевальная музыка. В зал набились в основном молодые люди лет до тридцати. Вид у них был крайне жизнерадостный. Танцевали самозабвенно. На стулья, стоявшие вдоль стен, садились только на минуту, отдышаться.
Полина тоже села на стул, внимательно наблюдая за происходящим. Люди продолжали радостно танцевать. Она заметила невысокого парня, похожего на цыгана: он что-то положил в ладонь девушке, которой на вид было не больше пятнадцати. Затем к цыгану подошёл какой-то юноша, протянул деньги и тоже что-то получил взамен.
Полина вышла из здания клуба, спросила у прохожего, где отделение полиции, и направилась туда.
В комнате, которая зелёной краской на стенах и плохим освещением напоминала подъезд многоквартирного дома, сидели двое дежурных. Они играли в карты.
Полина рассказала им, что только что приехала в город, её пригласили на дискотеку, а там она увидела, как цыгане продают наркотики. Они побросали карты, стали кому-то звонить, а ей велели идти домой.
Выйдя на улицу, она почувствовала, как кружится голова, и присела на лавку возле отделения. Прошло минут пять. Полицейские всё не выходили. Полина заглянула в окно – они снова играли в карты.
Рядом был маленький продуктовый магазин. Полина зашла туда, купила бутылку лимонада «Таёжный доктор», а выходя, увидела, что цыган-наркодилер зашёл в полицейский участок.
Полина сделала несколько глотков лимонада и пошла дальше. По пути она констатировала у себя едкое пассивное чувство, которое рождается от созерцания банального зла. «Вероятно, его часто испытывают сотрудники жэка, закрашивая очередной незамысловатый хер на заборе, – думала она. – Покладистость, смирение, готовность стать жертвой, овцой, зависимой, как наркоманка, – не это ли часть русской идеи?..» Полине представился розовый поросёнок, неуверенно смотрящий на потрошёные свиные туши.
На следующий день она встала на рассвете и пошла к малярше Лене, которая накануне объяснила, где живёт, и пригласила в гости.
Квартира новой знакомой находилась в пятиэтажном доме: светлая, опрятная и не имела ничего лишнего. Все вещи лежали в шкафах и по ящикам в комодах. Стол в большой комнате стоял напротив телевизора.
Лена пригласила Полину за стол, на котором уже стояли горячая творожная запеканка, протёртая черника и чай.
– Угощайся! – сказала Лена, с трудом отрываясь от телевизора: героиня сериала заливалась слезами, а герой тряс кулаком.
– Спасибо, – сказала Полина.
– Кушай, деточка. Скажи, а у тебя водительские права есть?
– Есть.
– У меня тут стоит машина покойного брата, её бы в Вологду отогнать на продажу… Может, на обратном пути сможешь? Отдашь её там родне моей, вместе с документами.
– Да, конечно! Думаю, скоро уже поеду. Не нашла ничего, не повезло…
– Значит, в любви повезёт, – заверила Лена и окончательно погрузилась в телепередачу.
Ключи от чёрных «жигулей» и разрешение кататься на них были тут же получены. Настроение Полины улучшилось. Надо было бы наведаться к бабе Марфе, но ей захотелось поехать куда глаза глядят. Поехала по дороге к заводу, на северо-запад от города.
Вблизи завод выглядел устрашающе. Тёмная громада, внутри которой что-то однообразно рокотало. Полина поехала дальше. Проскочив перелесок, оказалась в низине, а впереди на холме красовался действующий храмовый комплекс за белыми каменными стенами.
Через пару километров была небольшая деревня, а за ней – другая. Чем дальше Полина ехала, тем хуже становилась дорога и совсем покинутыми выглядели деревушки. Наконец в удобном месте она развернулась и – обратно в город, вдруг дед-краевед что-нибудь ещё вспомнит?
– Да-да, есть у меня одна мыслишка! – заявил он. – Но сначала помоги мне набрать на компьютере отчёт, пожалуйста.
Полина, как и все молодые люди, умела очень быстро печатать текст, даже не глядя на клавиатуру. Через десять минут было всё сделано.
Затем Полина по просьбе деда перевозила коробки с вещами из дореволюционного дома, который приготовились сносить, устанавливала бесплатный антивирус на музейные компьютеры и носила – из подсобки – книги по истории Вологодского края. Когда закончила, уже вечерело. Краевед, важно поправив на себе зелёный пиджак, сказал:
– В доме напротив живёт баба Марфа, ей уже больше девяноста лет, так она с Леопольдовичем дружила. Она у окошка сидит. Вы её сразу увидите. Идите-идите, спросите.
У окошка и впрямь сидела старушка в халате и ситцевом платочке.
– Здравствуйте, баба Марфа.
– Здравствуй, голубушка, чем помочь-то?
– Скажите, пожалуйста, а вы знали Ивана Леопольдовича Ямановского?
– А как же! Я ему в музей вещички таскала. У стариков выпрашивала… А теперь сама старуха!
– Да нет, что вы такое говорите…
– А чего? Помру скоро, ясно дело.
– А Иван Леопольдович про коллекцию вам свою рассказывал?
– И показывал её даже! – радостно сообщила старушка и подмигнула: – Когда соблазнить хотел! Я ведь была моложе его, красивая!
– А вы не знаете, где она сейчас? Коллекция?
– Ну, девонька, это все знают…
– Все?
– У него была сараюха деревянная, он там открытки-то и держал, работал над ними… Ну а подожгли его эти…
– Кто?
– Менты советские, елданные… Ну Ваня и помер поэтому-то, с горя.
– Неужели?
– Сердечный приступ. Дня через два. Такой хороший человек был…
– А краевед из музея знает об этом?
– Ну, Лёвонька точно знает, он как раз тогда у него и учился!
– Спасибо вам большое!
– Да уж на здоровьице.
Чуть не заплакав от разочарования, Полина побрела к Лене прощаться. Больше в Кадникове ей было делать нечего. Вместе поужинали жареной картошкой с сосисками и квасом.
– А ты вот осталась бы, помогла… Завтра весь город будет мальчика искать.
– Какого мальчика?
– Из нашего детского интерната для слабоумных. Их повели на кефир, и он дёру дал в лес.
– Тут я не смогу помочь, только сама в лесу потеряюсь.
– Это верно, – кивнула Лена.
Ранним утром Полина выехала из города на чёрном «жигулёнке», который должна была передать в Вологде родственникам Лены. Поля, дорога и столбы с проводами тонули в тумане. Полина знала, что туман плотнее над утоптанной, обжитой землёй: так можно определить, где раньше жили люди, – просто приехав утром на место предполагаемого урочища. Она ехала медленно, вдыхая свежий влажный воздух через приоткрытое окно. По обочине в попутном направлении шёл какой-то мальчик. Услышав машину, он обернулся и поднял руку. Полина остановилась.
– Подвезёте до Вологды? – спросил он, заикаясь, и как-то странно, неестественно улыбнулся.
– Садись.
Слышался спокойный, мерный шум дороги. Проплывали деревни. «Кадников-городок, ни реки большой, ни дорог», как писал местный поэт, оставался всё дальше и дальше позади.
Полина почувствовала боль в левом плече и поняла, что лежит на каком-то страшно неудобном матрасе, а рядом кто-то громко и неприятно дышит. Она открыла глаза.
Рядом стояли Лена и дед-краевед. Малярша была чрезвычайно встревожена.
– Очнулась, родимая! – сказала малярша.
– Что случилось? – спросила Полина, с испугом вглядываясь в их лица.
– Что-что… Разбили вы машину, – ответил дед, а Лена всхлипнула. – Вы с мальчонкой были пристёгнуты, так что живы остались. И легко отделались, судя по всему.
– Где мы?
– В кадниковской больнице.
– А где мальчик?
– Снова в интернате, где ему ещё быть?.. Значит, вот что: вы теперь должны оплатить ремонт чужой машины, – сказал дед и посмотрел на Полину деловито и оценивающе, как на свою собственность. – Денег, надо полагать, у вас нет?
– Нет.
– Будете работать у меня в музее. Но имейте в виду, это госучреждение, зарплаты маленькие. Зато скучать не придётся…
Что ещё говорил дед, Полина не слышала. Она проваливалась в сон, где туман на рассвете скрадывал очертания городка, съедал их, как плесень съедает антикварные вещи, пепел растворялся в воде, пахло горелым маслом и где-то совсем близко, за забором, гудел завод по производству картофельных чипсов и быстрорастворимых супов.
Подземный покер
Правила такие. Используется колода из пятидесяти четырёх карт. Раздаётся по пять, участники кладут на кон по пятьдесят копеек. Смотришь свои карты и, если у тебя собирается приличная комбинация, изображаешь печаль или равнодушие, чтобы обмануть соперника, бросающего на тебя изучающий взгляд.
Иерархия комбинаций такая:
пять карт одного достоинства
подряд одной масти (стрит-флеш)
четыре (каре)
три плюс два (фул-хаус)
масть (флеш)
подряд (стрит)
тройка
две двойки
двойка
Происходит обмен ненужных карт на те, что остались в колоде. Пятьдесят копеек за карту. По часовой стрелке от раздающего. Теперь у всех на руках итоговая комбинация. Несколько секунд тишины занимают оценка ситуации и продумывание дальнейшей стратегии. Раздающий делает первую ставку.
– Даю рубль!
– Пять!
– Джокера, что ли, хапнул?
– Поддерживаю!
– Скидываю.
– И что теперь?
– Ты должна повысить и продолжить, за четыре рубля открыться или скинуть.
– Даю десять…
– Тридцать.
Дядя Вася лезет за кошельком, всем своим видом показывая, что готов бросать на кон крупные купюры. Все вглядываются в его веснушчатое лицо, стараясь понять, блефует или нет.
Бабушка со смехом сбрасывает карты. Дядя Вася кладёт на кон сто рублей. Все сбрасывают, кроме дяди Андрея, его брата.
Он кладёт двести.
Дядя Вася кладёт пятьсот.
Дядя Андрей – тысячу. Получает в ответ две тысячи. За тысячу вскрывается. У него подряд, а у дяди Васи всего лишь тройка на тузах. Я вздыхаю, ведь была масть – можно было выиграть, если бы не такие большие ставки.
Только в связи с недавними обстоятельствами я услышала историю о том, как в нашей семье стали играть в покер. Началось это, когда мой прадед жил с семьёй в ивановском доме-подкове, построенном для энкавэдэшников, а его сёстры – в старом семейном доме на Черкасской. Дом-подкова напоминал крепость. Не ту, где проводятся весёлые пиры и рыцарские собрания, а скорее замок ведьмы Гингемы: это был серый овальный дом с окнами-бойницами, неприступными металлическими воротами и часовыми. Ходили слухи, что из подвала шёл подземный тоннель прямо в ОГПУ. Бабушка говорит, что подземного хода не было, но, знаете, там, где мы сейчас находимся, в подземный ход поверить легко. Так вот, вскоре после Второй мировой войны, когда быт наладился, в доме на Черкасской собиралась вся семья, играли в карты и домино на деньги. Время от времени кто-нибудь вскакивал со своего места и произносил запальчивую речь о бессердечии родственников или шальной красотке Удаче, бессознательно устремляя палец в потолок. Все присутствующие инстинктивно поднимали взгляд вверх, и речь тут же заходила о ремонте крыши, а недовольство таяло и исчезало.
В доме напротив жил художник Пророков, который рисовал во время войны карикатуры на немцев. За это его наградили орденом Красной Звезды, а потом Ленинской премией. После его смерти Черкасскую, которая до этого уже была Прислонихой, Московским переулком и 1-й Поперечной Московской улицей, переименовали в улицу Пророкова. К тому времени семья поредела, играть было особо не с кем. Тогда моя прабабушка организовала вместе с подругами-пенсионерками карточный клуб. Они собирались по шесть человек, по очереди принимали у себя в гостях картёжную команду. Кружок собирался каждую среду, после чего делался небольшой перерыв и подсчитывалось количество побед. Именно на собраниях этого кружка сформировались те правила игры, по которым мы до сих пор играем. Иногда старшие внуки пытаются склонить остальных сыграть в «правильный» покер. Но очень быстро становится ничего не понятно, и мы снова играем в свой, наследственный.
Раньше мы играли, когда собирались у бабушки по праздникам. Сначала обед, за которым делились последними новостями. Часто именно в этот день играл «Спартак», поэтому дяди и братья слушали разговоры вполуха и всё время косились на телевизор с непривычно задумчивыми и сосредоточенными лицами. Когда «Спартак» забивал, разносился дружный победный клич прямо посреди истории о том, как кот залез на шкаф.
Обед длился около трёх часов. Поедались закуски, пробовались вина и колбасы, привезённые из заграничных поездок, потом подавался суп, затем из духовки бабушка доставала жаркое. К этому времени мужчины переходили на крепкие напитки, а женщины допивали вино. Часто после жаркого была возможность отведать блинов с начинкой. После того как последний человек заканчивал есть, еда и посуда убирались со стола, внуки несли из серванта на стол чашки и блюдца, из кухни – чайник с заваркой и чайник с кипятком. Стол стремительно заполнялся сладостями и вскоре так же стремительно от них освобождался. Шоколад был тоже из-за границы.
После чая наступало время покера.
Впрочем, и сейчас всё происходит так же. Только трапезы стали не такие изобильные: нужно разумно распределять запасы тушёного мяса, копчёной рыбы, печёной картошки, чёрной икры, голландского сыра и бельгийских шоколадных плиток.
Все достают припасённую мелочь. Кто-то любит строить из монет башенки, кто-то просто распределяет по номиналу в разные кучки. Дядя Вася потирает руки, дядя Андрей подкладывает под спину подушку, внуки переглядываются, а бабушка сидит во главе стола и радуется тому, что семья в сборе. Тёти тем временем моют на кухне посуду.
– Меняю все пять!
– На что ты, Дусик, надеешься?
Дядя Вася поправляет очки и загадочно улыбается.
– Кто меняет?
– Все поменяли!
– Даю рубль!
– Поддерживаю.
– И я.
– Тоже.
Бабушка кладёт пять рублей.
– У-у-у!
– У кого-то двоечка?
– Ну раз бабушка пять даёт, надо сбрасывать!
– Даю десять!
– Двадцать!
– Пятьдесят!
Бабушка кладёт сотню.
– О-о-о!
Все сбрасывают. У бабушки двойка на вальтах.
– А помните, как мы тут играли и у Васи было подряд одной масти?..
– Стрит-флеш!
– Ну да, а одновременно Андрей у себя дома играл с племянниками. И у него тоже получился…
– Стрит-флеш!
– Бывает же такое!
– А помните, Вася пятнадцать тысяч выиграл?..
– Всё в семью!
– За это надо выпить…
Благодаря игре мы забывали, что уже несколько месяцев живём под землёй: началась Третья мировая война. Многие отказывались верить, что правительства станут использовать атомное оружие, но только не дядя Андрей. Он заранее построил под своим дачным участком двухуровневый бункер. Как только коалиция сбросила первую бомбу на Ханты-Мансийский округ, где добывалось особенно много нефти, мы переехали в бункер, хотя и находимся далеко от Сибири, в Московской области. Пронёсся слух, что следующий удар будет нанесён по столице. Сотни тысяч людей, пытаясь выехать из Москвы, стояли в многосуточных пробках, лишь бы уехать в более безопасные регионы. Но как они там живут? Как беженцы. А ведь скоро зима. В общем, надеемся на лучшее. Нас бомбят, но обычными бомбами, слава богу. Радиации нет. На верхнем этаже бункера мы живём, а вниз спускаемся, когда чувствуем, что земля трясётся от далёких взрывов – коалиция бомбит какие-то подмосковные склады. Но это не чаще пары раз в сутки. Пока мы тут сидим, я узнала много семейных историй, которые, если бы не новая война, могли бы исчезнуть. Хотите, я расскажу вам, как мой прапрадедушка бежал из немецкого плена и пять месяцев жил в лесу?
