Переделкино: поверх заборов
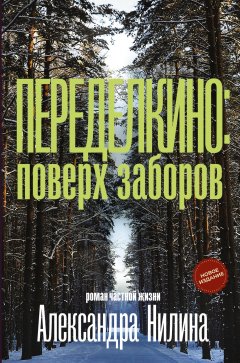
© Нилин А.П.
© Бондаренко А.Л., художественное оформление
© ООО “Издательство АСТ”
Они ушли, а я остался их соседом
по Переделкину, по времени и по себе,
вместившему память об ушедших…
Александр Нилин
Судя по всему, я и зачат был здесь длинной дачной ночью осенью тридцать девятого – и мне ли не чувствовать дачный поселок Переделкино своей родиной?
Все, кого узнал я в раннем детстве (или чуть-чуть позже), давно ушли, и вот что самое забавное: очень скоро не будет и меня – ребенка, впервые увидевшего литературных людей сквозь штакетник соседских заборов.
Для красного словца, без которого про писателей не расскажешь, я сразу же отчасти и приврал: за войну все заборы между дачами сожгли, и вновь они появились позднее, когда я чуть подрос.
Мое первоначальное представление о Переделкине – территория, не разграниченная ни послевоенным штакетником, ни сплошными заборами впоследствии.
И какой сюжет мог увлечь меня больше, чем тот, что заложен был в особенностях писательского соседства – менявшегося в оттенках, но все равно продолжавшегося?
Все, кого знал я с детства, исчезли.
Они уходили один за другим. Одни жили в Переделкине (и вообще) очень долго, другие относительно долго; были и такие, что ушли, как принято говорить, безвременно, хотя кому дано знать, с какой интенсивностью расходуется время, отведенное на жизнь каждого из нас.
Они ушли, а я остался их соседом – по Переделкину, по времени и по себе, вместившему память об ушедших.
“Но кто мы и откуда…”
Доподлинно ли знаю, что строчка эта сочинена на дачной переделкинской земле?
А какая – в данном случае – разница?
Книги на тщательно проверенном справочном материале напишут другие, а ты, Саша (я то есть), полагайся на эксклюзив собственной памяти.
И все же лестно надеяться, что вопросом “кто мы” и так далее наш сосед задался именно в Переделкине.
К тому же сам Борис Леонидович предпочитал тасовать карточную колоду безусловных реалий по своему усмотрению: не согласился же он с замечанием Ахматовой, что в белые ночи питерских фонарей не зажигали, – в его трансформации ночей утро должно было тронуть “первой дрожью” фонари непременно зажженные, а то как бы он назвал их “бабочками газовыми”?
За годы, проведенные в писательском поселке, я так и не сделался арендатором и прожил в Переделкине больше семидесяти лет на птичьих (родственных) правах.
Официальным владельцем здешних угодий считается потерявший свое прежнее значение Литературный фонд.
Но принадлежит Переделкино в своей писательской части и будет все равно принадлежать, когда исчезнет физически (что не за горами, а точнее, за гибнущим лесом), истории, и не только истории литературы.
И я, ничуть не смущенный неопределенностью своего статуса, позволяю себе развести действующих в повествовании лиц в определенную (мною же определенную) мизансцену для моментальных снимков.
I
Поверх заборов
Глава первая
Меня преследует, мучая, фраза: “Последнее мирное лето”.
Произнесенная как бы вслух, она помогает вызвать в памяти необходимое мне для повествования лето. Лето сорокового года – я родился тридцать первого июля. По совпадению: за окном столь малый фрагмент переделкинского пейзажа, что вряд ли он сколько-нибудь существенно изменился за прошедшие больше чем полвека. Некошеная трава с незажженными фонариками одуванчиков, накренившийся ствол березы, извилистая сосна и сохранившие стройность ради конвоирования темной аллеи тополя.
В последнее, действительно мирное лето крестный положил на мое имя в сберкассу сто рублей с условием, что вкладом я смогу воспользоваться по наступлении совершеннолетия – в тысяча девятьсот пятьдесят шестом то есть году.
Год, предшествовавший моему рождению, и первый год моей жизни в биографии родителей смотрится временем как бы не наибольшего для них благоприятствования.
Конечно, в историческом контексте их молодой оптимизм выглядит едва ли не кощунственным.
И вчитайся я в отцовские записи того периода не сегодня, а, скажем, позавчера, мое осуждение родительских настроений не знало бы удержу.
Сегодня же записи в старой тетради помогают мне не впасть в отчаяние – в толщу непрозрачных лет я не окунаюсь, а ныряю…
Мне всего полтора месяца, когда впервые еду я на автомобиле из Переделкина в Москву, о чем свидетельствует запись отца в тетрадь, названную им бортжурналом. Тетрадь эту он заводит в августе сорокового года по случаю покупки машины “М-1” (в просторечии “эмки”). В бортжурнал он вкладывает плотный конверт с грифом Управления делами СНК Союза ССР (Москва, Кремль).
Для покупки новой машины тогда требовалось распоряжение Совнаркома – оно и было получено шестого августа за Ки 898–451, а двадцать девятого “эмку” уже перегнали из Смоленска в Переделкино. И отец записывает, что со всеми накладными расходами и оплатой за перегон она обошлась ему в десять тысяч восемьсот сорок рублей шестьдесят пять копеек.
Это почти половина стоимости нашей старой машины, купленной у народной артистки Барсовой и ее мужа Бориса Львовича Камень-Камского. Но новую машину никак нельзя сравнить с дрянненькой барсовской колымагой.
Новую нашу машину можно сравнивать только с транспортом будущего. Она нам кажется сейчас самой красивой, самой лучшей.
Она черного цвета с красной полоской…
Что это? Хроника преуспевания молодого, едва переступившего в четвертое десятилетие литератора или, скорее даже, кинематографиста? Хлопоты его кажутся сплошь приятными и подтверждающими причастность к миру людей известных, влиятельных и тоже, разумеется, преуспевающих и, похоже, беспечальных, уверенных в своем завтрашнем дне. Все вокруг выглядят довольными судьбой.
Единственное исключение: “Обратно в Переделкино с нами ехала девушка Мариша, которую в этот день за опоздание на работу в Библиотеке иностранной литературы приговорили к пяти месяцам принудительных работ с удержанием двадцати пяти процентов зарплаты.
Мы угощали ее яблоками, везли в новой машине, но она все равно была очень грустная. Ее не развеселил даже пирожок с мясом, который я купил ей по дороге…”
Впрочем, и такая запись тоже есть: “Мы ходили с Евгением Петровым по парку его дачи и говорили обо всем и о войне. Он говорил, что это ужасно, что немцы сбросили миллион бомб на Лондон. К Петрову пришел его брат Валентин Катаев. И тоже сказал, что это ужасно.
А я пошел домой, чтобы писать сценарий и повесть про Мишку Селезнёва. В доме у нас тихо, тихо…”
Не гонит ли отец от себя ненужные для душевного спокойствия мысли? И нет ли доли самовнушения, нет ли психотерапии в подробном перечислении успокаивающих подробностей его тогдашней внешней жизни?
Он учится управлять машиной. “Возил Афиногенова на Баковку. Был выпивши. Вел плохо”.
Машины есть еще не у всех даже весьма известных собратьев.
“Дорогой Павел Филиппович, – пишет ему записочку Лев Кассиль, – если вы вернулись вчера, – встаньте, пробудитесь и с подательницей сего сообщите, в какой, как говорят моряки, часовой готовности Вы и Ваш «кар» находитесь”. Кассиль шутливо подписывается “Ответственный по футболу”.
Они едут вместе на международный матч московских динамовцев с болгарами – страстный спортивный болельщик Кассиль и отец, ни до, ни после той довоенной поездки на футболе не бывавший…
Театр – родителей приглашают на свои премьеры дачные соседи-драматурги: Александр Афиногенов и Борис Ромашов.
Знаменитое кафе “Националь” – завтраки, бритье в парикмахерской. “В «Национале» виделся с Луковым”.
“В сценарном отделе встретил Афиногенова. Поехали вместе в «Националь» …”
“Заехал в ВУАП. Встретил старика Тренёва. Познакомившись со мной, он сейчас же сказал: «Меня жена тормошит, говорит, что вы знаете, где продают “Бюик”. Хочу купить». Я сказал, что не знаю. Он огорчился. Подумал, наверное, что не стоило знакомиться”.
“У нас бал”, – записывает отец восьмого ноября. Запись короткая, поскольку: “…пьянствовали до пяти утра”.
В гостях были: режиссер Луков, кинооператор, снявший “Броненосца Потёмкина”, Эдуард Тиссе, Евгений Петров, Кассиль, Первенцев, Афиногенов и Вирта с женами, генерал-майор Спирин с женой и наказанная за опоздание на службу Мариша, навсегда оставшаяся другом моих родителей…
При слове «бал» я немедленно воображаю, как с детства привык, лакированный, разграфленный в крупную клетку потолок нашей дачной столовой, глубоко вобравший в себя электрический свет.
Атмосфера стойкой, я бы сказал, праздничности возникает в этой просторной комнате немедленно после щелчка выключателя.
И всю свою жизнь, явно недостаточно зарабатывая денег, я ни минуты не считал себя бедным – не из-за того ли, что ранние мои мечты слагались при долгом взгляде на клетки потолка, отчасти напоминающие шахматы и уж точно созданные для самых смелых ходов воображения?
И уж не припомню, в какой связи сказано было, что потолок, аналога которому ни на одной из построенных по стандарту дач городка писателей не было, сделан был по особому заказу первого арендатора.
И для меня этот дачник – Борис Пильняк – как бы исчез в омуте зеркального отражения вместе со всем, что окружало его здесь. Хотя на самом деле все произошло прозаичнее и оттого страшнее…
С Борисом Адроникашвили я познакомился в гостях у Гены Шпаликова в начале шестидесятых.
Я и раньше слышал о нем от Катерины Николаевны Виноградской, преподававшей во ВГИКе. Она рассказывала о талантливо описанной им вишне после дождя.
Борис был не только литературно талантливым, но и неотразимо красивым, женатым в первом браке на Людмиле Гурченко.
Помню его тамадой на свадьбе другой кинозвезды. Он производил впечатление бонвивана, и, хотя в веселье его чувствовалось вовсе не шутовство, а скорее артистическая, человеческая значимость, знака драмы в судьбе Бориса я тогда не прочел – в нашем поколении мы и при явной симпатии редко относились друг к другу с должным вниманием, занятые самими собой.
Впрочем, и в себе мы, похоже, не разглядели главного.
Я не сразу узнал, что Боря – сын Бориса Пильняка (носит материнскую фамилию).
И когда узнал, никак почему-то не связывал это обстоятельство с собою и Переделкиным – “общей” дачей.
Но Борис, задумавшийся, очевидно, о том же, что занимало всецело меня, написал о воскресном дне тридцать седьмого года, когда гости съезжались на дачу к писателю, за которым вечером придут… нет не на “черном вороне”, а на обыкновенной “эмке” и увезут из дома навсегда.
Оборудован ли был для веселья этот дачный дом?
Года не пройдет после “бала у Нилиных” – и начнется война.
Сразу после войны здесь соберутся отметить триумфальную, как большинству казалось, премьеру второй серии “Большой жизни”, на открытой веранде будут пить и веселиться любимые всей страной артисты – Пётр Алейников, Борис Андреев.
А через год автор сценария станет героем идеологического постановления партии о грубейших ошибках фильма.
И долго будет в опале, “под боем”, без денег, без ясности дальнейших замыслов, без того, главное, куража, который обрел он с началом сороковых, судя по бортжурналу…
В записках преуспевающего молодого кинодраматурга и обещающего прозаика нет и намека на отсутствие вчера еще своего жилья.
Отца выгнали из редакции «Известий» году в тридцать пятом и по суду потребовали освободить комнату в ведомственной квартире, помещавшейся по странной случайности в доме на Большой Ордынке, где жили мои друзья Ардовы, чей дом я всю молодость считал своим вторым, а то и первым.
На основе очерков, сочиняемых прежде для газеты, отец начинает писать роман.
Собственно, на эпическом жанре он не особенно настаивает – не случаен же подзаголовок “Очерки обыкновенной жизни”.
Написанное в необычайно краткие сроки он несет тем не менее в самый и тогда уважаемый литературный журнал “Новый мир”. Надо заметить, что “Новый мир” редактирует в этот момент Иван Михайлович Гронский, уволивший отца из газеты. Однако в тридцать шестом году роман публикуется.
И книжка журнала с отцовским романом попадается на глаза режиссеру Леониду Лукову. Он предлагает делать по книге фильм. И в год моего рождения по всем экранам идет картина “Большая жизнь”. А Гронского, как и многих знаменитых людей, репрессируют. В пятьдесят шестом году, когда семья наша будет жить на Беговой, я услышу в телефонной трубке: “Передайте папе, что звонил Иван Михайлович Гронский”. Гронский работал в Институте мировой литературы.
После ареста Пильняка на даче поселились два замнаркома авиационной промышленности. Литфонд, которому принадлежали все дома в городке писателей, от этой дачи как бы отмежевался – боялся связываться с НКВД.
Зимой тридцать девятого года на прогулке отец с журналистом Сергеем Диковским размечтались, что хорошо бы им тоже поселиться, как “взрослым”, на даче в Переделкине. Дачу, где замнаркомы по каким-то соображениям не зимовали, молодые люди облюбовали сначала как бы в шутку.
К изумлению всех окружающих, повергнув в растерянность контору писательского городка, они самовольно вселились в дачу – и сторожа наняли, чтобы он топил и охранял ее.
Замнаркомы подали в суд, забыв в горячке, что никаких прав на литфондовское имущество не имеют, – и проиграли дело.
А НКВД, естественно, на случившееся никак не отреагировал: замнаркомов, между прочим, сажали, пожалуй, чаще, чем писателей…
Для объективности повествования я могу, конечно, бросить отцу с Диковским упрек в суетности или поиронизировать о преждевременности переселения их на “литературную территорию”. Но я же знаю, что было дальше.
Я знаю, что шаг был сделан навстречу судьбе.
Я не только тень Пильняка имею сейчас в виду. Присутствие живых знаменитых писателей, соседство с ними, при всей кажущейся лестности такого соседства, никакого допуска к пирогу еще не обещало.
Но случайно ли в отцовских записях четверть века спустя припоминается эпизод, как весной сорок первого года в Переделкино приехала мама его тогдашнего приятеля Вадима Кожевникова и по ошибке толкнулась в калитку напротив, где жил Николай Погодин. Она спросила: “Где дача Нилина?” – “А кто он такой?” – спросил пьяный Погодин. – “Писатель…” – “Такого писателя нет, мадам…”
Дела же отца к той весне шли по всем приметам лучше и лучше.
Весь сороковой год с экранов не сходили сразу две его картины. Кроме “Большой жизни” шла еще поставленная Иваном Пырьевым “Любимая девушка” с Мариной Ладыниной в главной роли.
Со всех сторон предлагаются договоры на сценарии.
Замнаркома угольной промышленности торопит с новым фильмом о шахтерах.
На радио делается монтаж по “Большой жизни”.
Театр предлагает переделать сценарий в пьесу.
Запись в бортжурнале, сделанная в воскресенье шестнадцатого марта сорок первого года: “Утром включили в семь часов радио и до девяти ждали передачи о Сталинских премиях. Дали”.
Это было самое первое присвоение премий.
Лауреатами стали в тот раз самые знаменитые писатели: Шолохов, Алексей Толстой, Твардовский.
Первоначальное лауреатство возводило, казалось бы, в ранг, освобождающий от сомнений в счастливой будущности.
И все же нельзя сказать, чтобы награда напрочь опровергала замечание соседа Погодина.
Проза отца, обратившая на себя внимание кинематографистов (“Любимая девушка” тоже ведь экранизация рассказа), широкого читателя в ту пору не обрела.
Он, в сущности, только начинал. Должно было пройти время для признания в профессиональной среде.
А он уже в Переделкине, на машине, лауреат… Правда, сейчас видишь, что как минимум два из опубликованных им рассказов (например, “Знаменитый Павлюк” и “Модистка из Красноярска”) какое-то место в литературе, наверное, обеспечивали.
Истинному успеху прозаика нужно эхо времени.
В затянувшейся паузе вдруг и позабудут.
Но страшнее всего – разочаровать, заторопившись с публикацией нового.
Странно, но по тяготеющему к светской хронике легкомысленному бортжурналу каким-то образом догадываешься, что владельцу новенькой “эмки” работа легка и в радость. Эйфории он, по складу своего характера, не испытывал. Но, склонный к острым приступам тревоги во все периоды жизни, он в начале сороковых годов, несомненно, гонит от себя неприятные мысли.
Едет в командировку от “Правды” в Донбасс – и публикует написанные там очерки сразу же по возвращении в Москву, точнее, в Переделкино.
“Вечером приходил Вирта. Хвалил повесть «О любви»” – это в “Новом мире” напечатанная вещь, переделанная отцом в середине пятидесятых годов в “Жестокость”, принесшую ему наконец известность.
Оценок и рассуждений в записях мало. Однако лучше бы их не было совсем.
Ну вот, пожалуйста: “Разбирали пьесы Леонова «Метель» и Катаева «Домик». Доклад делал Фадеев. Осуждал. Затем выступил непременный оратор Вишневский. Крыл. Потом выступали разные, в том числе Николай Асеев. Осуждал мягко. Наконец, говорили Леонов и Катаев. Каялись. Я запечатлел для себя только самое главное, это очень страшно, когда писатель отстает от общества…”
Этот, допускаю, искренний, но слишком уж поспешный отклик еще дорого обойдется отцу.
В природе спасительных заблуждений автора сказывается прежде всего природа.
Я много раз спрашивал потом мать: но неужели вы никогда, ну хотя бы лицемерно-осуждающе, ничего не говорили о тех, кто не по своей воле покинул дачи Переделкина, – о Бабеле, о том же Пильняке?
Она уверяла: нет, никто никого не осуждал, однако и не вспоминал; вообще не вспоминали почти о случившемся, словно в иной и бесконечно далекой жизни все это случилось, а не два года назад…
И только Афиногеновы обмолвились как-то невзначай о том, что не зажигали по вечерам света, сидели в темноте на балконе, ожидая: у каких ворот остановится машина – у Пастернака, Всеволода Иванова, Федина?
Улица, ведшая к Афиногеновым, начиналась дачей Павленко: теперь известно, что, пользуясь дружбой со следователем, Павленко, прячась за портьерой, присутствовал на допросах Мандельштама.
Но ведь и Бабель, и Пильняк близко знали видных должностных лиц, водили тесное знакомство с начальством из карательных органов – как это повлияло на их судьбу?
Меч был занесен над каждым.
И каждый, выходит, был готов при малейшем послаблении забыть гнетущие его страхи? Забыть или спрятать поглубже в себя (от чего вряд ли становилось легче)?
Узнавший страх (у него и портфель со сменой белья и пижамой был наготове) Александр Афиногенов к началу войны воспрял духом после нашумевших премьер в лучших театрах.
Дом его продолжал быть открытым. Родители мои частенько гостили у Афиногеновых, где и познакомились с Иваном Тимофеевичем Спириным.
В квартире Спирина на стене висела фотография: Сталин целует Ивана Тимофеевича… Иван Тимофеевич Спирин – флаг-штурман первой воздушной экспедиции на Северный полюс – оказался в числе и первых Героев Советского Союза. Он любил артистов, тянулся к писателям. В Переделкине он построил дачу уже после войны, но гостем зачастил сюда гораздо раньше.
В свою очередь переделкинские обитатели регулярно пользовались генеральским гостеприимством. Когда для родителей перестала быть тайной моя любовь к напиткам, отец в сердцах предположил: а не зачат ли Саша был после винокушества у Спирина?
Работники искусства обожают начальство.
К тому же в начале сороковых годов авторитет военных, тем более летчиков, был необычайно велик.
В общении генерала Спирина с художественной интеллигенцией я бы все же обратил внимание на нюанс, подмеченный женой Афиногенова – американской журналисткой Дженни.
Высказываемое в застолье писателями или актерами она обычно уже где-то читала или слышала.
И только в репликах Ивана Тимофеевича находит для себя безусловно новое и вполне оригинальное.
Отец мой не умел дружить – и на одиночество, остро ощутимое им в конце жизни, был в общем-то обречен.
Любопытно, что быстрее всего отцу наскучивали люди известные, те, к кому по обыкновению тянулись окружающие. Мне иногда теперь кажется, что относительно малая известность самого отца в какой-то мере связана с тем, что именно во взаимоотношениях со знаменитостями он бывал нетерпелив и недостаточно к ним внимателен.
А на продолжительную известность скорее может рассчитывать тот, кто сумел попасть в определенный круг, задержаться в “стае” тех, кто “всегда” на виду…
Писательское Переделкино изначально жило по неписаным правилам стаи.
Судя по записям в бортжурнале, где рассказывается о новоселье Кассиля, отец к зиме сорок первого года уже охладел к Афиногенову. Но отношения со Спириным оставались наилучшими. И не только потому, что генерал был крестным его сына.
Сегодня, разумеется, не меня одного шокирует “назначение” крестным в ходе застолья вместо положенного таинства.
Как вообще могло прийти в голову отцу и Спирину – людям православным – обратить в шутку обряд, непременный в их детстве?
Четверть века спустя отец записывает: “Очень религиозный в раннем детстве, я вскоре, зараженный «духом времени», легко отверг все религиозное и, как все, привык, не размышляя, с насмешкой относиться к самому понятию – Бог. И сейчас я должен что-то преодолевать в себе, заставить себя прочесть хоть абзац из рассуждений В.С. Соловьева о Богочеловечестве…”
Накануне своего пятидесятилетия, в девяностом году, то есть еще до гиперинфляции, я вспомнил вдруг про вклад, сделанный генералом Спириным на мое имя, и захотелось узнать: во что превратились те сто рублей за полвека? Выяснилось, что в двадцать девять рублей с копейками…
Вовсе не помню Ташкента времен эвакуации.
Смотрю на снимок восьмидесятилетней давности – возле черной щели среднеазиатского арыка: мать, тридцатичетырехлетняя, в черном пальто, Корней Иванович Чуковский, наш из Переделкина, тоже в пальто и с папкой под мышкой, седоголовый, но пружинисто-стройный в свои каких-то шестьдесят (ему предстоит еще долгая и непростая жизнь), и я в распахнутом коротком пальтишке, в картузике набекрень.
Вижу себя, но ничего сейчас своими тогдашними глазами увидеть не могу.
А ведь не сомневаюсь, что уловленное мною тогда живет во мне сегодняшнем…
На излете марта сорок второго года вернувшийся в Москву отец протоптал тропинку в завалившем двор на Неглинном снегу, – снег забился даже в подъезд, – вошел в огромный замороженный и необитаемый дом.
“Мертвенно-жесткий нетронутый снег, – вспоминает отец, – лежал у самых дверей квартиры. В коридоре холоднее, чем на улице…”
…Позапрошлый Новый год встречали у Афиногеновых. Дамы, кроме моей матери, что крайне огорчило ее, были в вечерних платьях.
С необыкновенной красавицей пришел знаменитый авиаконструктор Микулин, послуживший прототипом Бережкова в романе Александра Бека…
Каждый из гостей написал на отдельной бумажке свой прогноз: будет ли война в наступающем году? Бумажки сложили в конверты, конверты заклеили – они остались на хранение у Афиногенова.
Уже после гибели Афиногенова вскрыли конверт с прогнозом Спирина: генерал был уверен, что войны в ближайшее время не будет…
Отец порылся в старых бумагах – и случайно нашел бортжурнал. Перелистал его озябшими пальцами: “Было грустно и стыдно читать эти записи, пусть иронические, пусть нарочито глуповатые. И захотелось сделать заключительную запись, хоть теперь уже и нет машины и где-то далеко осталось сытое, ленивое и слегка тщеславное Переделкино…”
Рукою матери двадцать первого июня записано, что из города привезли в Переделкино режиссера, намеревавшегося работать с отцом.
“Я хорошо помню этот последний мирный вечер, – пишет в брошенной квартире продрогший отец, – режиссер Анненский Исидор Маркович, хорошо упитанный чистенький молодой человек с озабоченно нюхающим воздух носом, стоял у ворот нашей дачи и благодарил меня за то, что я согласился писать сценарий на белорусском песенном фольклоре, где должна быть отражена наша зажиточная жизнь в деревнях, наше раздолье и пафос мирного труда. Я говорил: «Да, конечно, это надо, своевременно, интересно. Будем писать»”.
Переделкино первого дня войны мне не слишком трудно вообразить.
Внешне, как свидетельствует запись, ничего не изменилось: “…буйно росла зеленая трава. Было знойное лето. Весь день по радио пели песни. Но в песнях этих уже была тревога. Пришла теща Вирты. Тревожилась, что вся семья уехала в Ригу. Обедали. Пили вино, думали. Из «Правды» приехал Миша Штих. Повез меня к редактору. Вызвался ехать военным корреспондентом. Вернулся на дачу. Всю ночь не спал. Всю ночь в мозгу стучали немецкие мотоциклы. Почему-то они первыми приходили на память, когда возникло представление о немецкой армии. Может быть, они были наиболее доступными выразителями ее стремительного марша в войне на Западе?”.
В Киеве отец остановился в “Континентале”: “Я тут жил неделями раньше, писал сценарии, пил водку…”
Он не был военнообязанным.
После перенесенного в детстве полиомиелита он всегда потом заметно припадал на левую ногу, которую энергично и косолапо выбрасывал вперед, стараясь скрыть хромоту особенностью походки. Тем не менее хромой военный в уже охватываемом паникой Киеве вызывал подозрение – и его несколько раз забирали в комендатуру, принимая за диверсанта…
“Рано утром мы на машине уезжали на фронт. Я выносил из «Континенталя» свой рюкзак и шинель. В вестибюле уже было много народу, встревоженного бомбежкой. Парни, девушки. Девушки говорили нам: «Счастливо». Было стыдно. Они не знали, что мы только корреспонденты…”
И еще из записей, сделанных в марте сорок второго в Неглинном переулке.
“Мы оставляли всё новые и новые города. Во Львове стреляли в нашу армию. Большой наш танк шел по плацу Бернардинскому. В него стреляли из окон. И кто-то бросил гранату. Танк развернулся и врезался в дом. Я вспомнил, как жил в отеле «Жорж»…”
“На станции Жмук произошел конфликт между начальником станции и старшиной, которому было поручено доставить состав со снарядами. Начальник станции почему-то не давал паровоза. Старшина три раза просил его. Потом застрелил. Минут через пять он застрелил еще машиниста и его помощника. Пришел в путейскую бригаду и сказал: товарищи, у меня никакого выхода нету. Я только что застрелил начальника станции, машиниста и помощника и сейчас вас всех перестреляю, если вы мне не составите состав. Состав, наконец, прицепили. Старшина снял гимнастерку, окатил себя водой из-под рукава, которым заправляют паровозы, и поехал дальше…”
Встретив по прибытии на обратном пути в Киев Бориса Лапина и Захара Хацревина, которых ко времени записи на этих оставшихся чистыми с июня сорок первого года страницах бывшего бортжурнала уже не было в живых, отец вспомнил юношеские стихи “Бобика” Лапина: “Солдат, учись свой труп носить, / учись дышать в петле, / учись свой кофе кипятить / на узком фитиле”.
Отец, похоже, начинал догадываться о сложности этой науки.
Вдрызг разругался со спутниками – корреспондентами Яковом Цейтлиным, Григорием Певзнером и награжденным медалью за Хасан фотографом Виктором Тёминым. Они сердили его разговорами о возможной гибели.
Цейтлину и Певзнеру его гневные упреки могли показаться и опасной демагогией, уставным патриотизмом.
Они, возможно, действовали в интересах самообороны.
И, как сам отец признает, “не без ловкости отомстили”.
“Не их, а меня вызвали в Москву.
Я ехал в товарном вагоне с летчиками, потерявшими до боя материальную часть. Они ехали за новыми самолетами. И нас долго преследовали два «Дорнье». Они кидали бомбы в наш эшелон, но попасть не могли. На этот раз бомбежка уже не волновала меня.
Я сильно струсил только один раз. В Житомире. Впервые за пять суток я снял сапоги, разделся голый и сел бриться в отеле. Все курятники на Украине называются отелями. И это был типичный курятник, деревянный, шаткий, скрипучий.
Бомбы без предупреждения стали ложиться около меня, и меня посетила ужасная трясучка. Я хотел заскочить обратно в штаны, но не мог: тряслись коленки. Отказался от этого намерения. Понял, что выйти на улицу в таком трясучем виде нельзя, скажут, что же у вас уж и Красная армия трусит (я был в военном). Заставил себя успокоиться.
После этого в Тернополе, когда бомбили куда страшнее, никакой трясучки не было. Было просто унизительно страшно. А потом и страх прошел. Осталось только чувство, которое, наверное, никогда не пройдет и повторялось уже и будет повторяться при каждой бомбежке, человеку тяжело думать, что он беззащитен.
В эшелоне это чувство, по-моему, особенно остро испытывали летчики. Их пугали бомбежкой, а они ничего не могли: у них не на чем было воевать. Они хмуро молчали. А один самый молодой младший лейтенант, посмотрев в открытую дверь на небо, крикнул: «Я хочу увидеть тебя, <…> твою мать, когда полечу обратно на МиГе», – и заплакал. Плачущего этого летчика я не забуду никогда”.
В пропотевшем, запыленном обмундировании отец вернулся жарким днем в Переделкино, показавшееся ему “потрясенным слухами”.
Он был здесь, в сущности, первым, кто видел войну. И после завтрака с вином на даче стал собираться народ.
Отец рассказывал, успокаивал.
Когда все, кроме Погодина, разошлись, Николай Фёдорович сказал: “Ну, Паша, все ушли. Расскажи теперь правду. Бьет нас немец? Бежим?” – “Бежим”, – подтвердил отец. Но ничего особенно “правдивого” рассказать не мог.
“Я говорил только то, во что верил тогда. Я говорил, что резервы наши в бой еще не вошли… Я верил в это и рассказывал, что армия наша все-таки и сейчас сильно бьет немца, хотя ей трудно… Все это я потом рассказывал Чуковскому Корнею, Борису Пастернаку и другим. В воскресенье мы лежали с Афиногеновым на задах его дачи, около ручейка, в зеленой траве, и ему я тоже рассказал…” (Через много лет опубликованы были дневники Афиногенова. И есть в них запись: “Приехал Нилин. Рассказывал о героизме наших солдат”.)
Лирические вечера в Переделкине прекратились. Последний был, кажется, накануне бомбежки.
Луков со своей съемочной группой собирался в Ташкент – кинематографистам дали вагон.
“Я решил, – вспоминает отец, – ехать, чтобы написать там сценарий. И, главное, увезти семью. Впервые инстинкт отцовства заговорил во мне. Было страшно думать, что Сашу каждую ночь придется таскать в сырую щель на даче Петрова.
Среди ночи во время бомбежки он вдруг проснулся и хохотал беззаботно. Веселила его свечка, горевшая в щели.
А папе было страшно за него, хотя сама по себе бомбежка уже не казалась страшной”.
Велик соблазн соврать, что я хоть какие-то детали этого путешествия запомнил. Однажды я так и поступил, когда на рубеже шестидесятых годов встретился в ресторане Дома актера с Петром Алейниковым – Ваней Курским из “Большой жизни”.
Мы расцеловались. Начались прилюдные воспоминания о “военной дороге”.
И мне уже казалось, что я всё и всех из того времени помню.
При слове “эвакуация” я теперь, отвыкающий врать, немедленно представляю себе великого и угасающего Алейникова за ресторанным столиком…
Конечно, кое-что вообразить себе могу, поскольку некоторых из пассажиров я узнал позднее и в жизнь мою они вошли…
Кинематографистам разрешалось взять с собою близких родственников.
И мы везли с собою обеих бабушек. Отец поэтому спал в тамбуре на бурках из кинофильма “Александр Пархоменко”.
Ночью он заходил в вагон – посмотреть, как я сплю:
“После барской пищи на даче, после всяких соков и каш Сашу теперь кормят чем придется, а он такой же крепкий, сильный, мой сын. Мать не закрывала на ночь окно, потому что в вагоне было смертельно душно. На ночь окно прикрывалось только простыней, и холодный ветер раздувал ее. А Саша спокойно спал, по-стариковски кряхтя во сне, будущий солдат наш. Днем я выносил его при остановках на перрон. Он самостоятельно еще не ходит. Но когда я держал его за руку, он рвался вперед, бежал, и на первых его сандалиях собиралась пыль многих перронов Средней Азии…
…Утром к нашему вагону подошел какой-то старик с мешком, хотел сесть. Сытый молодой человек сказал: «Нельзя. Это спецвагон». – «Эх вы, спецы, такую вашу мать, от войны хоронитесь, от Германии бежите».
Может быть, этот старик уже воевал с немцами в четырнадцатом году. Русские били немцев, брали их города. И старик презирал немца, от которого бежали мы. Было стыдно”.
…Со сценарием второй серии что-то не клеилось. Вечером отец сидел на прохладном крыльце гостиницы, когда пришел Луков и сказал, что получена телеграмма: “Нилин исключен из Союза писателей”.
“Я почему-то нисколько не взволновался. Моя личная судьба как-то потеряла даже для меня значение в общем всенародном несчастье”.
Глава вторая
Среди игрушек моих в последний год войны выделил бы, кроме большой, не заряженной, естественно, ракетами, ракетницы, фотоаппарат – тоже немецкий, трофейный и тоже не заряженный, что менее естественно, пленкой. Не было пленки, ничего не поделаешь, да и не требовалось ее для осуществления моих детских замыслов.
Ни тогда, ни потом я не хотел ничему учиться – и фотографировать не учился (да и у кого я в тот год мог учиться, если бы даже вдруг захотел). Зато легко воображал себя приезжавшим иногда на дачу к моему отцу Виктором Тёминым, известным во время войны фотокорреспондентом, – я и всю дальнейшую жизнь себя постоянно кем-то воображал и до сих пор воображаю; интересно, в чьем образе умру (неужели в своем собственном наконец?).
Весной сорок пятого года маршал Жуков хотел Тёмина расстрелять за то, что фотограф самовольно улетел на его самолете в Москву. Но тут же выяснилось, что маршальским самолетом фотограф доставил в газету “Правда” снимок знамени над Рейхстагом (позже я услышал, чего стоила организация этой затеянной политуправлением фотосъемки), – и Жукову из-за исторического значения снимка пришлось свое решение о расстреле корреспондента отменить.
О намерении Жукова я не мог тогда знать, но видел, сколько на пиджаке всегда пьяного фотографа боевых наград.
Я бродил по поселку – и всех встречных (а на аллеях Переделкина народу встречалось тогда мало) фотографировал, и, в частности, Александра Александровича Фадеева.
Заслуги и звания Александра Александровича в ту пору не были мне известны – он, кстати, в сорок пятом году и не стал еще писательским министром (правда, членом Центрального комитета партии оставался, что вряд ли мог принять я во внимание, не осведомленный о партийной иерархии, и уже не помню сейчас, знал ли о роли коммунистической партии вообще). Но, вероятно, в тоне взрослых, произносящих имя Фадеева, что-то я улавливал – и когда при следующей встрече Александр Александрович серьезным голосом спросил меня: “А когда принесешь карточки, Саша?” – необычайно взволновался: в мечтания, которые смело полагал я реальностью, вторглась реальная реальность, с ней я как-то себя не соотносил (и соотношу ли сейчас, не излечившись от мечтаний?).
Я прибежал домой и спешно стал рисовать – не карандашом, заметьте, а обмакнутым в чернильницу пером – и ждал с испугом, но и не оставлявшей меня надеждой, что фокус мой пройдет.
На мою удачу – удачей, однако, считаю, не тогда, конечно, а сегодня осмысливая всю свою жизнь целиком, не то вовсе, что мой обман не раскрылся, а то, о чем сейчас скажу, – на тогдашнюю, подчеркну, мою удачу, Фадеев так никогда больше про снимки не спросил.
Удачей же – одной из очень немногих за всю, повторяю, жизнь – стало открытие для себя жанра “изображения и рассказа”: я фантазирую, что фотографирую натуру, а на самом деле пытаюсь нарисовать ее, сменив со временем перо на пишущую машинку в прошлом веке и на компьютер в наступившем.
Поэтому и не стоит удивляться, что Александр Александрович Фадеев занимает в моих воспоминаниях большую площадь.
Хотя есть на то и другие причины.
Фотографировал я Фадеева летом, но в сознание мое он вошел как человек из зимы.
Так и вижу до сих пор снег на краю дачного участка с нашими глубокими в нем следами – и Фадеева в узком черном пальто (я любил военную форму и людей в ней, сам носил шинель, перешитую из гимнастерки жившим на адмиральской даче портным по фамилии Свиньин), остановившегося на дороге, которая называется теперь улицей Горького.
Мы с отцом пилим дерево.
Генетический – по отцовской линии – крестьянин, я терпеть не мог с детства физический труд (позже догадался, что не люблю вообще никакой труд – ни физический, ни тем более умственный, не знал, что буду к нему приписан). Но в раннем детстве моем выбирать не приходилось: младший брат, любящий всякий труд, еще не родился, в семье, кроме отца, мужчин больше не было – и я пилил дрова, колол, помогал корчевать “вагой” (никогда потом не слышал больше названия этого инструмента) пни; мы даже разобрали на дрова бревенчатый блиндаж, оставшийся на участке нашем с войны (до боевых действий в Переделкине не дошло, но блиндажи вырыли). А летом и картошку копал и окучивал, на слуху были слова “рассада”, “усы” (клубника тоже была своя); помидоры не успевали приобрести красный цвет за лето, дозревали, зеленые, на закрытой террасе.
Но пока стоит снежная зима, и Фадеев от дороги идет к нам в своем узком черном пальто.
Фадеев берет у меня пилу, и они с отцом вместе пилят, о чем-то, мне неинтересном (я не вслушиваюсь), разговаривают.
И вдруг вижу, что лицо Александра Александровича меняется, словно вспомнил он о чем-то важном, – и чуть краснеет. “Павлик, – спрашивает он отца, – а у тебя есть разрешение лесхоза – пилить?”
Лесхоз вообще-то в двух шагах от нашей дачи. Но разрешения пилить сухое дерево нет – отец не удосужился спросить и отвечает, что нет, нет разрешения. Фадеев огорчен – пилят тем не менее дальше.
Смысл вопроса доходит до меня много позднее.
Фадеев ощущает себя государственным человеком – и всякое нарушение общих для всех правил ему неприятно.
Возникла – уж не припомню, в какие годы, но кажется мне сейчас, что до весны пятьдесят шестого, – бредовая идея: дать улицам в нашем городке литературные имена (контора, ведавшая литфондовскими дачами, отделяла свои владения от остальной части поселка псевдонимом “городок писателей”).
Я потому считаю ее бредовой, что, выбери Литфонд (или кто там утверждал названия) имена безусловных классиков – Пушкина, Гоголя, Льва Толстого, кто бы с начальством спорил. Но когда вместе с Гоголем и Лермонтовым (Пушкину и Льву Толстому не повезло) увековечить захотели советских классиков: Вишневского, Павленко, Тренёва, – получился эстетический винегрет с комическим привкусом. Писателей, в иерархии стоящих примерно рядом, оказалось больше, чем улиц. И Николай Погодин, например, жил на улице Тренёва, которого вряд ли считал лучшим, чем сам, драматургом. А когда Николай Фёдорович в шестидесятом году умер, его именем назвали безымянную до того улицу (в то время почти без домов), ведшую к вокзалу. По-моему, драматургии в сочетании названий улиц с именами тех, кто продолжал жить на них, побольше, чем в пьесах, временно прославивших наших соседей.
Есть столичная улица имени Фадеева, но жил он последние годы, когда в городе, на улице Горького, а дачный его адрес – улица Вишневского, дача № 4.
Когда въезжаешь в Переделкино со стороны Москвы, набирая ход от Самаринского пруда при подъеме на горку к перекрестку (где, кстати, на ржавых железках перечислены все наши улицы), недолго и проскочить мимо улицы Вишневского – она у самого подножия резко, но укромно ныряет в тень от елок.
Вместе с тем эта улица – не пролог даже к истории писательского поселения, а ее краткий курс: мне кажется, разобравшись в странностях улицы Вишневского (от изначальных соседств до названия), дойдешь когда-нибудь и до романной сути всей местности.
На наших сегодняшних улицах непременны стрелки-указатели, направляющие в музеи Пастернака, Чуковского, Окуджавы.
А вот улицу Вишневского я бы и саму уподобил стрелке, надломленной почти посредине шлагбаумом, за которым теперь новые каменные дома, сразу ставшие для меня подобием миража.
Замечал неоднократно, что обрывающий мои шаги в прошлое шлагбаум сильнее воздействует на мое воображение, чем когда бродил я по той же улице, утратившей былых жильцов-арендаторов, но сохранявшейся в том же пейзаже, в каком застал я ее впервые почти семьдесят лет назад.
К музеям местным в знакомых мне с детства и отрочества дачах я отношусь равнодушнее, чем к улице Вишневского.
Улица некогда упиралась во всегда запертые ворота, окрыленные высотой сплошного забора. За воротами и забором различалась лишь крыша самой дачи, где жил писательский министр Александр Фадеев.
Но я успел захватить время, когда забора еще не было, ворота не запирались и хозяин – арендатор дома – министром не был.
И теперь, когда нет ни дома, где и жил он и ушел из жизни добровольно совсем нестарым (в пятьдесят пять лет), ни возникших при нем забора и ворот, а стоят на месте фадеевской дачи чужие каменные строения за другим забором и другими воротами – и шлагбаум нынешний пересек бы, пожалуй, сегодня дорогу тогдашнему длинному (в пол-улицы Вишневского) черному ЗИСу, вызванному мною за Александром Александровичем из воспоминаний ребенка в свое нынешнее воспоминание, – все равно моему рассказу никакое предметное отсутствие былого не мешает.
Для меня реальной остается та несуществующая дача, а сегодняшняя постройка – что-то вроде помех на экране старого телевизора.
С этой улицы начиналось поселение – и обозначалась судьба – не одного только поселка, но самого понятия “Переделкино”, перебродившего затем в писательском сознании.
Первый коттедж на будущей улице Вишневского сделан был улучшенной, как стали говорить позднее, планировки – комнат на восемь. Он предназначался видному партийному деятелю Льву Каменеву, потерявшему в полемике со Сталиным все шансы оставаться во власти.
Понизив его в должностях и унизив насколько хотел, Сталин по просьбе Горького совсем было согласился пощадить соперника, дав ему должность директора издательства Academia, но после смерти Горького передумал – и не удержался, казнил Каменева. В дачу тот не въехал.
Из дачи решили сделать Дом творчества – вроде общей мастерской для писателей, не имевших дач.
К тому, чтобы жить мне сразу после рождения в Переделкине, коттедж Каменева имеет непосредственное отношение. Живший в Доме творчества мой тридцатилетний отец решился на авантюру – поселиться в дачном поселке. Риск даже не в том был, что самочинно вселялся он в дачу репрессированного Пильняка – и мог навлечь на себя гнев карательных органов. Не менее существенным для литературного будущего становился риск быть отторгнутым писательской средой как самозванец, захотевший сделаться соседом едва ли не всех тогдашних литературных знаменитостей.
Впрочем, к тридцать восьмому году въехать в дом, в котором не поселился призрак репрессированного хозяина, едва ли представлялось возможным. Скажем, Бабелю построили новый дом в полусотне шагов от неслучившейся дачи Каменева, но репрессированным суждено было стать и ему.
В это второе на будущей улице Вишневского дачное строение Вишневский и вселился.
Я видел Всеволода Вишневского один-единственный раз, летом сорок седьмого года. Но с того раза поверил, что Вишневский – прирожденный драматург, – и поверил в рассказы о нем. Как собирает он знакомых на читку новой пьесы, предварительно кладет на письменный стол толстые тома энциклопедии и заряженный револьвер; чтение начинается с авторской ремарки: “Слышна отдаленная канонада” (спихивает со стола на пол тяжелые фолианты) – продолжает: “…револьверные выстрелы” (стреляет из револьвера).
Биография его казалась выдуманной от начала до конца (даже то, что и на самом деле с ним было). Жизнь свою он непрерывно додумывал – и соответственно декорировал. Московский обратный адрес он так надписывал на конвертах: “Москва. Кремль. Лаврушинский переулок” (из его окна, на пятом, кажется, этаже, действительно были видны кремлевские башни).
Так вот, единственный раз, когда я мог наблюдать Вишневского воочию, он сидел (полосатая пижама) в плетеном кресле, вынесенном из огня, – горела дача Федина. Все сбежавшиеся хотя бы делали вид, что тушат пожар, – таскали ведрами воду и так далее (правда, по голодному времени были факты мародерства со стороны соседей – не писателей, но в отдельных случаях со стороны их сторожей, фадеевского сторожа Чернобая например), – а Вишневский сидел будто в партере театра и с радостью дорвавшегося до зрелища ребенка завороженно смотрел на огонь.
Про исчезнувшего Бабеля никто тогда не помнил – вернее, я вообще о нем не знал, а взрослые, вероятно, не хотели говорить. Но помнить, наверное, помнили – не хотели, как мне теперь кажется, лишний раз вспоминать, чтобы не огорчаться.
Бабель был из Одессы, Катаев тоже. И неужели, бывая у Фадеева, Катаев совсем никогда не думал о том, что дача Вишневского предназначалась для его земляка?
Отец мой вряд ли был знаком с Бабелем лично. Позднее уже, когда я не только знал про Бабеля, но и почти все прочел из написанного им, отец рассказал, что, когда писатели навещали перед войной Ясную Поляну, от станции все они шли пешком, а Бабель взял извозчика…
Самое смешное, что и Фадеев въехал в дачный дом, освободившийся после ареста Зазубрина. Странно, что фамилии Бабель я до середины пятидесятых годов не слышал, а про то, что до Фадеева в последней на улице Вишневского даче жил некто Зазубрин, – знал, может быть, потому, что Зазубрин был родом из Сибири, а отец мой тоже сибиряк, но сомневаюсь, что были они знакомы.
Позднее я прочел в чьих-то воспоминаниях, что на вечере в доме Горького, куда позвали известных писателей на встречу со Сталиным, Зазубрин повел себя не лучшим образом – и в состоянии алкогольного опьянения чуть ли не надерзил товарищу Сталину, во всяком случае вызвал его неудовольствие.
Я даже знал название наиболее заметной вещи, сочиненной Зазубриным, “Щепка”, но так и не удосужился ее прочесть – посмертно возвращенным в литературу репрессированным писателям на читателя не везло (Бабель – исключение), переизданные через столько лет книги почти не возвращались в читательский оборот. Вместе с тем я слышал, что “Щепка” была по тем временам вещью острой и товарища Сталина не поведение Зазубрина у Горького возмутило (на кремлевских приемах известным деятелям случалось напиваться без каких-либо для себя последствий), а сильно не понравилась сама “Щепка”. Действительно, лес рубят…
И все же факт, что дачу сначала дали не Фадееву, говорит о том, какое положение в литературном сообществе занимал погибший Зазубрин.
Я не подсчитывал, но где-то же есть точные данные, сколько из первых поселенцев писательского городка замели в конце тридцатых. На каждой из улиц были свои репрессированные. И тем не менее по количеству потерь ни одна из улиц не дотягивала до той, что стала имени Вишневского, – там выбыл весь первый состав дачников.
Между прочим, переданный бездачным писателям Дом творчества вскоре после войны сгорел. Я знал к тому времени, что пожары случаются, видел пепелище, оставшееся от дачи Всеволода Иванова рядом с дачей Пастернака, но свежий запах залитых водой углей вдохнул в себя впервые утром, когда прибежал к месту сгоревшего за ночь Дома.
За недосмотр, приведший к пожару, уволили директора городка писателей Розу Яковлевну Головину, никогда потом не появлявшуюся в Переделкине. Она служила в московском Доме литераторов на скромных административных должностях – и каждое свое выступление на собраниях начинала фразой: “Может быть, я и не писатель…”
В последний предвоенный год никого в писательском поселке больше не сажали – и по записям отца вижу, что оставшиеся (и заменившие репрессированных) дачники жили вызывающе открытой жизнью: дружили, как не дружили никогда потом, общались тесно семьями – и делали, в общем, вид, что самое страшное позади и никогда больше не повторится. Но без такой эгоистической эйфории как бы жить и работать?
Допускаю, что с подобными – неподтвердившимися – надеждами вступали писатели-переделкинцы и в послевоенную пору. Самое, как казалось (ну и на самом деле было), страшное – война – было позади.
Глава третья
Фадеев приходил к нам (к моим родителям) читать “Молодую гвардию”. На моей памяти писателям необходимы были слушатели только что сочиненных страниц. Думаю, что Александр Александрович читал свою новую книгу и в других домах, но зимой тогда на дачах жили немногие; кроме семьи Катаевых и одинокого (семья зимовала на московской квартире) Фадеева, никого и не припомню. Разве что в двухэтажном бараке, всеми называемом стандартным домом (я и сейчас, когда слышу выражения “стандарт”, “стандартный”, мгновенно представляю этот дом, который до сих пор существует и в нем живут), у автора “Молодой гвардии” жила возлюбленная Клавдия Стрельченко, вдова погибшего на войне молодого поэта. Я дружил с ее сыном Валей и бывал у них в стандартном доме.
Когда книга Фадеева вышла в издательстве “Молодая гвардия” (меня удивило тогда, что и книга, и само издательство называются одинаково) – нетолстая, но большая по формату, в светло-защитного цвета обложке, – автор подарил экземпляр моим родителям с надписью (крупным твердым почерком, буквы, четко выведенные черными чернилами, не сливались): “Дорогим друзьям Тиле и Павлику”. И точно такую же книжку, надписанную точно таким же, разумеется, почерком, я увидел в доме Стрельченко. Не помню, к сожалению, точного текста автографа, но я, мне пять уже исполнилось, почувствовал, что к маме моего приятеля Фадеев все же относится по-другому, чем к моим родителям, особеннее, как показалось мне, хотя ничего про отношения Александра Александровича с Клавой я не мог себе тогда представить.
Последний раз я видел Фадеева за год до его кончины – летом. Он прошел уже перекресток, и я увидел Александра Александровича со спины – спину в сером пиджаке он держал очень прямо. Мне было уже не пять лет, а пятнадцать, и у меня не оставалось сомнений, что идет он от Клавы (вспомнил тут же рассказ Жени Чуковского про звонок, специально проведенный Валей Стрельченко в их комнату, чтобы гость не беспокоил соседей, стучась в общую дверь).
Саму книгу “Молодая гвардия” я прочел намного позже, чем слышал в авторском чтении.
Кстати, Александру Александровичу Фадееву я обязан тем, что довольно рано, задолго до школы, научился читать (буквы мне и раньше показывали – и я даже имя свое, осилив четыре буквы, написал, но букв, составляющих фамилию, не знал и наивно верил, что если правильно напишу “Саша”, то и фамилия сама собой к имени приложится).
Мне не то чтобы совсем уж неинтересно было слушать чтение “Молодой гвардии” – запомнил же я сцену, где Серёжка Тюленин ныряет, высунув из воды для эпатажа тех, кто на берегу, голую попку, – но утром (чтение происходило после обеда) я заходил в еще не сгоревший Дом творчества, и кто-то из писателей подарил мне книжку-раскладушку с цветными картинками сатирического толка, они сопровождались подписями, где зло высмеивали фашистов, изображенных разными противными зверями. И мне не терпелось поскорее прочесть эти подписи. Но не Фадеева же мне было просить их прочесть. Я кружил вокруг обеденного стола, за которым происходило чтение, со своей книжкой, желая обратить на нее внимание взрослых, – и безуспешно: родители слушали “Молодую гвардию”, а Фадеев, соответственно, читал.
(Пройдут годы, и текст Фадеева станет непременным для декламации в самодеятельности или при поступлении в театральные училища. Выбирали обычно кусок про материнские руки, что-то вроде того: мама, я помню руки твои…)
Лицо самого Фадеева краснело от смеха; как я теперь понимаю, этим смехом он скрывал авторское волнение, спрашивая отца: “Будешь еще слушать?” Водку пили в паузах между чтением, закусывали рыжими консервами из железных банок – война, пока читал вслух свое произведение писатель, продолжалась.
С какого-то момента следующего, по-моему, года Фадеев в доме моих родителей больше не появлялся; не приносили от него теперь записок с просьбой прислать бумаги – пусть даже чьей-то ненужной рукописи, он готов писать и на обороте – с подписью: Александр Фадеев, эсквайр.
Что-то изменилось, о чем и сейчас мне с полной определенностью судить трудно – разные приходят на ум варианты.
Ссоры или разрыва отношений по какой-либо причине не было, как не было и дружбы, какую можно бы предположить, пробежав страничку моих воспоминаний. Была, может быть, необходимость в соседском общении, когда соседей было раз-два и обчелся, было соединявшее вновь благодушие, рожденное скорым окончанием войны и всегдашней надеждой, что начальство сменит когда-нибудь гнев на милость, во что, надо сказать, близкий к этой власти, да и сам ставший ее частью Фадеев совсем не верил. Не верил – и от тех, с кем в послевоенный год приятельствовал, не скрывал, очень советуя не обольщаться послаблениями со стороны товарища Сталина; он имел по своему положению право на такие откровения в узком кругу: не он кого-то из слушателей боялся, а они его – при всем восхищении им большинства мужчин, не говоря уж про женщин.
Заборов между дачами, как я уже докладывал, тогда не было.
Начало другой, отличной от военной и послевоенной, жизни Фадеева я себе визуально представляю со строительства сплошного забора и крепких ворот. Притом что совсем уж образа своей жизни (и своего в ней образа для любивших его во всех обстоятельствах знакомых писателей, особенно из Переделкина) Фадеев не изменил и в годы, когда остался за сплошным забором.
Из крепости он иногда выходил и на чьих-то дачах иногда бывал – у Корнея Чуковского, например, – не оставлял привязанностью своею Клаву, но я, много времени проводивший на улице и на чужих участках, с ним больше не сталкивался.
К нам он, повторяю, на дачу не заходил, но году, может быть, в пятьдесят втором как-то вдруг пришла искать Александра Александровича его секретарша Валерия Осиповна – она, значит, допускала, что зайти сюда он в определенном состоянии все-таки мог бы…
Валерия Осиповна была родной сестрой фадеевской жены, знаменитой актрисы Художественного театра Ангелины Осиповны Степановой.
Валерия Осиповна и после смерти Александра Александровича оставалась близкой к семье сестры. Я знаю, что дети Фадеева с теткой дружили, сына ее, Колю Зарахани, я часто видел в Переделкине, а с невесткой Линой мы как свои люди встретились уже в середине девяностых при печальных обстоятельствах – хоронили старшего (приемного) сына Фадеева Шуню.
Но мне кажется, что Ангелина Осиповна недолюбливала сестру, подозревая ее в излишней преданности Александру Александровичу, и ставшую, значит, его конфиденткой, знавшей о тайной жизни Фадеева больше, чем знала (вернее, не хотела знать) народная артистка.
По-настоящему я с Валерией Осиповной познакомился не в Переделкине, а в Москве, когда стал частым гостем в квартире на улице Горького – не в той, где на доме мемориальная доска, а в той, что над кафе “Молодежное”, куда семья переехала после смерти Фадеева.
Я узнал, что замужем Валерия Осиповна была не только за неизвестным мне Зарахани, но и за одним из первых русских футболистов Павлом Халкиоповым – с ним я даже имел честь выпивать, когда Шуня Фадеев приводил родственника в ресторан Дома актера.
Валерия Осиповна предлагала мне вместе с ней собрать книжку писем Фадеева – и меня бы эта идея увлекла, поскольку уже вышедшая книга его переписки одно время стала у меня настольной; велик был соблазн прочесть и остальные письма. Но те письма, что хранились у Валерии Осиповны, очень уж большого интереса для меня не представляли. Он писал ей, например (по памяти цитирую): “Валя, помни, что ты мой литературный секретарь, – и ни на что, с литературой не связанное, не отвлекайся”. Тем не менее в следующей строчке просил погладить ему брюки – и сообщал, что отправился в шалман, поскольку дома смог найти всего две рюмки водки.
Про шалман этот над прудом легенд и апокрифов сложено вряд ли меньше, чем о всем прочем литературном поселении.
Да ради бога – мне и самому когда-то хотелось сделать какую-нибудь сценку в шалмане вроде эпиграфа к повествованию о нашем поселке. Он и расположен удобно – на дальнем (ближний, напоминаю, – у подъема напротив улицы Вишневского) берегу, не доезжая плотины, удерживающей пруд на въезде в Переделкино.
Но мне не кажется удачным комикование вроде названия “Никишкин-холл” (наподобие московского “Коктейль-холла”), придуманного бедными студентами Литинститута, когда организовали им в конце сороковых общежитие рядом с писательскими дачами.
Во-первых, название “шалман” точнее передает время и характер самого заведения. Во-вторых, Никишкой шалманщика никто из писателей, становившихся его клиентами, никогда не звал. Тот же Фадеев говорил не иначе как “Никифор Степанович”, и связывали их уважительные (без намека на барство или панибратство) отношения. Когда министру писательскому до зарезу надо было выпить часа в четыре ночи – Никифор Степанович готов был для такого замечательного человека открыть ночью шалман, правда, в этом просто не было необходимости: дом Никифора Степановича располагался на задах шалмана, выпивка у него всегда была – и почему бы не принять Александра Александровича у себя, когда у них еще будет возможность побеседовать с ним тет-а-тет?
На мой взгляд, шалман Никифора Степановича по самой своей идее выгодно отличался от позднейших ведомственных кабаков отсутствием многолюдства или, иначе говоря, лишних при тайной выпивке людей.
Некоторые исследователи склонны отмечать демократический характер запоев Фадеева – читал (со смехом, сознаюсь) в мемуаре критика Корнелия Зелинского, что Александр Александрович “запил с шофером Нилина”.
Почему со смехом? Ну как-то уж очень благополучно выглядит в этих описаниях жизнь нашей семьи.
Запой датирован сорок восьмым годом, а в сорок седьмом отец машину продал – на что-то надо было жить. Дела его резко накренились (Чуковский записывает в дневнике, что приходил к нему Нилин и рассказал, какую крупную сумму должен был получить за вторую серию “Большой жизни”, но в связи с запретом фильма не получил ни копейки).
Михаил Григорьевич Кононов вполне мог составить компанию Александру Александровичу Фадееву и пить с ним неделю-другую без просыпу, но “шофер Нилина” – звание не пожизненное, и не правильнее ли было бы критику назвать собутыльника Фадеева просто по имени-отчеству, упомянув профессию без указания фамилии бывшего работодателя.
Сам я хорошо понимаю Александра Александровича.
Запой – великолепный способ сменить обстановку, отодвинуть от себя привычные (читай: осто… осточертевшие) жизненные обстоятельства – и от общества коллег желательно отдохнуть.
Правда, Фадееву случалось выпивать и с коллегами.
И еще поворотным моментом в отношениях с дачной публикой, ставшей для него вроде бы своей (а он, как ей казалось, стал своим для нее, многие звали Фадеева запросто Сашей, не говоря уж о том, что за глаза и не называли иначе все соседи по нашему поселку), оказалась установка на фадеевской даче телефона.
Дело было так.
Товарищ Сталин выразил желание поговорить с Фадеевым как с писательским руководителем. Фадеев вернулся на учрежденную для него должность генерального секретаря Союза писателей СССР. Если кто забыл, напомню, что и должность самого товарища Сталина называлась Генеральный секретарь – Генеральный секретарь Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии; после войны еще сохранялось уточнение, что большевиков, аббревиатура – ЦК ВКП(б). Один (самый большой) Генеральный секретарь выбрал время вызвать на связь другого генерального секретаря (поменьше).
Товарищ Сталин удивился (а вдруг и разгневался слегка), что желание его выполняется с промедлением.
Ему объяснили – лучше, конечно, сказать – доложили (как это – объяснять товарищу Сталину, который сам все знает?), что у Фадеева на даче нет телефона – и взять немедленно трубку он физически не может.
Товарищ Сталин, сдерживая гнев, сказал, что все-таки хочет поговорить с товарищем Фадеевым по телефону.
И кто-то из талантливых придворных нашел выход.
В километре от дачи Фадеева – на самом дальнем въезде в Переделкино – располагалась воинская часть (во время войны – зенитная батарея), и от нее провели так называемую воздушку, после чего разговор генеральных секретарей состоялся.
В поселке писательском до того был один-единственный телефон, и звонить ходили в контору городка. Жили спокойно и без телефонов на дачах. А Фадееву телефон за городом тем более не был нужен – он чувствовал себя куда свободнее, когда не могли его сразу же отловить. В Переделкине ему нравилось чувствовать себя писателем, которого никакая сила не оторвет от письменного стола, если хорошо пишется.
Телефон для прочих писателей все равно оставался одним-единственным в конторе (позже установили еще и в Доме творчества).
Но как-то я застал старика Чуковского при параде – светлый пиджак, авторучка во внешнем кармане золотистой заколкой наружу – и от внука Корнея Ивановича Жени узнал, что дед идет к Фадееву позвонить в Москву. Я догадался, что Корней Иванович так оделся оттого, что хочет понравиться Ангелине Осиповне. И все равно удивился, что не пошел он звонить в контору, до которой идти всего ничего, а прется к Фадеевым, куда ходу минут пятнадцать в его возрасте.
Позже я сообразил, что Фадееву после сеанса связи с вождем поставили не обычный аппарат, а телефон правительственной связи – воздушку сменили на вертушку (фамильярное наименование недоступного простым смертным средства коммуникации).
Фадеев за своим сплошным забором стал теперь для высшего начальства (для Верховного главнокомандующего), что называется, под рукой.
Выходит, что я имел возможность непосредственно наблюдать Фадеева всего лишь какой-то год (чуть, может быть, больше или чуть меньше).
Но был ли у послевоенного Фадеева год важнее, чем сорок пятый, почти целиком проведенный им за городом, где жил он жизнью настоящего писателя, с увлечением сочинял вещь, которой рассчитывал вернуться в литературу как читаемый автор, а не только быть в ней главным писателем по должности?
Историю “Молодой гвардии” (романа и молодежной организации, о судьбе которой рассказал Фадеев) я знал чуть подробнее массового читателя. Почти одновременно с предложением Центрального комитета комсомола Александру Александровичу взяться за эту тему, уже затронутую газетными корреспонденциями, тот же агитпроп комсомола предлагал отцу моему сочинить сценарий о молодогвардейцах. Репутации прозаика у отца не было, а репутация сценариста – после Сталинской премии за первую серию “Большой жизни” – некоторым образом сложилась.
Репутацию сценариста скорее следует считать все же недоразумением. Сценаристом в строго ремесленном значении слова отец все же не был. Просто сочиненное им в прозе удачно превращалось в кинематографический сюжет. И вторая серия “Большой жизни” – тема формулировалась киношным начальством как “Шахтеры на войне” – стала первым для моего отца опытом сочинения сценария без опоры на свою прозу.
Зная теперь, чем закончилась история со второй серией “Большой жизни”, то есть специальным строгим постановлением ЦК, небезынтересно представить, как сложилась бы судьба отца, возьмись он за комсомольский заказ.
Формы отказа его от такого задания не знаю. Причину же отказа отец довольно сбивчиво объяснял тем, что ситуация в Краснодоне, если вникнуть в нее глубоко, предстанет до такой степени противоречивой, что не в кино ее распутывать – в прозе он к ней, возможно, и обратился бы, но выбрал бы не тех, о ком уже рассказано в газете, а какого-нибудь выдуманного персонажа, через которого было бы всего интереснее – и трагичнее, главное, – ощутить жизнь молодого человека, оставшегося в оккупированном городе.
Мое предположение покажется странным, когда в такую моду вошел – к моей, между прочим, радости – нон-фикшн и уже проводятся специальные ярмарки произведений, написанных в этом жанре.
Я, конечно, сужу, как и в большинстве случаев моего повествования, по детским впечатлениям – и литературоведам не составит труда поправить меня (или вовсе опровергнуть). Но у меня осталось ощущение, что сочинители поколения Фадеева и поколения моего отца сугубо документальную, условно беллетристическую прозу относили скорее к паралитературе. Притом что без хороших очерков не обходились ни газеты, ни толстые даже журналы, что газетную школу прошли очень многие (Фадеев, однако, столкнулся с газетами уже как редактор литературного издания).
Мой отец служил в “Известиях” очеркистом, печатался в “Наших достижениях” у Горького, в прозу и кино пришел из очерков, поэтому особенно странно такое отношение к беллетризованному документу с его стороны. Правда, и очень отцом ценимый писатель Александр Бек, всегда дававший понять, что пишет с натуры, обращался с этой натурой более чем свободно – и Момыш-улы в его знаменитом “Волоколамском шоссе” к реальному Момыш-улы относится как вино к воде.
Думаю, что и очерки газетно-журнальные моего отца – особенно очерки, сложенные им в первый свой роман, откуда и взяты были типы характеров, сыгранные некогда со всенародным успехом замечательными артистами Петром Алейниковым и Борисом Андреевым, – в чистом виде сочинены им, далеко оттолкнувшимся, подобно Беку, от живой натуры.
У меня ген сочинительства отсутствует – сочинение фраз привлекает меня больше, чем придумывание ситуаций и героев. Мне интереснее превратить в действующих лиц людей хорошо знакомых, друзей и родню (что не исключает и персонажей исторических, когда есть о них незаемное суждение) – попытка проникнуть в суть реальной ситуации мне дороже любого вымысла (на который я к тому же неспособен).
В последние годы жизни отца, когда никак не мог он остановиться окончательно на каком-нибудь из несметного числа его замыслов (а время поджимало, сил и здоровья с каждым днем становилось меньше), я нескромно лез к нему со своими советами: последовать рекомендации Ивана Бунина – и не придумывать больше ничего. И вообще посмотреть вокруг, как сверстники-сочинители все более склоняются к нон-фикшн, нравится им этот термин или не нравится (мне он, между прочим, самому не нравится, кажется слишком неточным, но не обо мне речь).
Отец же всегда отвечал в том смысле, что “над вымыслом слезами обольюсь”.
Он и в жизни ни одной истории не мог рассказать вполне реалистически, обязательно чего-то добавлял, по-своему интерпретируя чужую речь, непременно преувеличивая.
Отправляясь в последнюю свою больницу, он сидел – мы вынесли ему табуретку – на лестничной площадке в ожидании лифта. И спохватился, что не взял узенький блокнотик, в какой привык делать записи, когда не было под рукой дневниковых тетрадей.
Я принес ему блокнотик – и он, засунув его в карман, предположил, что вряд ли раньше, чем через месяц, отпустят из больницы. “Хотя, – не удержался он от свойственного ему тона, – боюсь, что на этот раз сыграют «Вы жертвою пали в борьбе роковой»”.
В больнице ему лучше не становилось, но записи он делал регулярно. На страничке с датой 1 октября рассказывает, как плохо было ему предыдущей ночью – так плохо, что пришлось позвать дежурного врача, который зажег в палате свет, чем вызвал негодование уже заснувшего соседа с койки напротив. А врач сказал соседу, что нельзя быть настолько уж эгоистом: “Вам ведь тоже, надеюсь, бывает плохо”.
В ночь на второе отец умер – и я второго же, поздним вечером, перечитывая эту страничку из блокнотика, сказал матери, что отец оставался верен себе – приписал врачу это “надеюсь”, которое тот вряд ли вставил бы в свою реплику не способному якобы на сострадание соседу. И тут же вспомнил, что, когда накануне был у отца, вообще никакого соседа не видел – вероятно, за несколько дней до конца отец остался в палате один.
Кто бы предположил, кто бы смог поверить в сорок пятом году, что история работы Александра Александровича над романом “Молодая гвардия” (и сам сюжет обращения к теме) окажется нам сегодня интереснее, чем книга, прочитанная едва ли не каждым третьим жителем огромной страны?
И что история книги будет иметь ко всему, что произошло с нами и происходит до сих пор, более непосредственное отношение, чем сама знаменитая книга.
Что сам автор, следующей книги так и не сочинивший, из фигуры, воплощавшей для всех бравурную и брутальную победительность, превратится для тех, кто понимает, что к чему (и сочувствует, несмотря ни на что, писателю Александру Александровичу Фадееву), в фигуру, всего скорее, трагическую – и трагическую не только в истории зачитанной книги, но и всей страны с ее литературой.
Что окажется он жертвой тех литературных правил, которые по высочайшему поручению и по-своему талантливо насаждал, внушал, призывал к ним с почти вдохновенной настойчивостью.
Знаменитый физик Жолио-Кюри, узнавший Фадеева ближе, когда стали они оба борцами за мир (понимая свои задачи в этой борьбе тоже, вероятно, по-своему каждый), восхищался (или огорчался) дару Фадеева придавать любому спущенному ему сверху тезису стилистический блеск литературного эссе.
Фадееву надо было спешить – никакого промедления, никакой рефлексии и продолжительных мук начала он не мог себе позволить. Чувствовал, что времени у него – для взятых на себя обязательств по роману – в обрез.
И с “Молодой гвардией” он успел – надеялся успеть.
И успел ведь – с первым вариантом.
Фадеев, повторяю, ни в какие возможные после войны послабления не верил. Куда определеннее не вхожих туда, куда вправе входить был он, знал, что неоткуда – точнее, не от кого – ждать послаблений.
Кстати, китайцы переводили фамилию Фадеева иероглифом, обозначавшим понятие “строгий порядок”.
Фадееву надо было спешить.
Работая над романом, он почти год отдыхал от властных своих обязанностей.
“Надо было жить и выполнять свои обязанности”.
Почти год в отдалении – большей отлучки романист не мог себе позволить. Дальнейшее отсутствие во власти выглядело бы нелепостью – и на будущем романа тоже, между прочим, могло сказаться.
Фадеев же видел тогда проблему только в том, чтобы погрузиться, ощутив атмосферу Краснодона, в себя – не то чтобы утраченного или позабытого – в его-то годы (помню, он сказал отцу: “Сегодня, Павлик, мне сорок четыре года”), – но на время отодвинутого.
Удалось ли ему – при его воле многое было возможно – забыть (отчасти, разумеется) установленные для себя и всех остальных правила или одно только увлечение работой (я не был поклонником приподнятого слога “Молодой гвардии”, но на лучших, по моему разумению, страницах чувствуется, как истосковался автор по запойно-непрерывному вождению пером), увлеченность сочиняемым заставляли Фадеева отступать от правил? Кто жил в те времена (а никого и не осталось), тот только бы и понял, до какой степени далеко главный по чину писатель от принятых правил отошел, а кто живет сегодня, вряд ли и поймет, о каком вообще отступлении-наступлении я говорю.
“Молодая гвардия” по немедленности успеха и массовости прочтения ни с чем и сегодня не сопоставима. Официоз не препятствовал популярности, а популярность – официозу.
Режиссеры театра и кино торопились перенести грандиозный успех на сцену и экран, развить его актерским одушевлением: театры начали репетировать инсценировки, режиссер Сергей Герасимов в небывало краткий срок запустился с фильмом, обрадованный возможностью занять в им же самим сделанной экранизации (муж знаменитой актрисы МХАТа Фадеев к драматургии никогда никаких наклонностей не проявлял) весь свой молодой курс в Институте кинематографии, где он одновременно обучал артистов и режиссеров.
Записав уже несколько страничек своих воспоминаний, прочел в газетах сообщение, что молодой писатель Сергей Шаргунов – его непрерывно хвалят и показывают по телевизору – сочиняет для серии “Жизнь замечательных людей” “книгу о Фадееве”.
То, что напишет Шаргунов (что у него получится, что знает он, что слышал, что думает), мне, пожалуй, даже интереснее, чем то, что сам я сейчас пишу (что может получиться у меня), и не только из-за того, что взгляд Шаргунова – взгляд из другой молодости, другого времени.
Есть за моим ожиданием (и недоверием отчасти) естественное любопытство.
Писатель Шаргунов – сын девочки из моего детства, которую помню не очень хорошо, лучше помню ее маму (бабушку нового биографа Фадеева) на пляже в Дубултах: она загорает, открыв солнцу больше пространства оголенного тела, чем прочие отдыхающие на литературном курорте дамы.
Эту красивую женщину с пляжа, мать моей сверстницы Ани, звали Валерией Герасимовой. Она была первой женой Фадеева и двоюродной сестрой Сергея Герасимова.
Аня носила фамилию Герасимова – и я как-то никогда не задумывался о том, кто ее отец.
Но в одной мемуарного толка книжке наткнулся на фотографию: елка у Либединских, многодетных и многолетних друзей Фадеева, – мы были соседями по Беговой, угол с Хорошёвским шоссе, и я вполне мог быть на том детском празднике. Среди перечисленных по именам детей с фотографии и Аня Левина; я, как всегда, с опозданием сообразил, что Аня Герасимова – дочь Бориса Левина.
И как могло быть иначе: после Александра Александровича Валерия Герасимова вышла замуж за Бориса Левина (он погиб на войне).
Она говорила о нем как о человеке лучше Фадеева. И я слышал, что Борис Левин был человеком прекрасным. Моего ближайшего друга Борю Ардова назвали Борисом в честь Левина.
Левин (дедушка нынешнего писателя Шаргунова) сочинил известный некогда роман “Юноша” – романа я не читал, но опять же слышал (полнилась слухами среда, где я рос), что прототипом романного героя стал Фадеев.
Куда деться от мысли, что люди, мною здесь просто справочно перечисляемые, мистически между собою связаны и, абстрагируйся я от сочиненного ими или поставленного в кино, история их пересекшихся в советской истории жизней не станет менее захватывающей.
Единственный раз, когда я был в квартире Сергея Аполлинариевича Герасимова – он жил в том высотном доме, где большую часть занимала гостиница “Украина” (сейчас у нее, по-моему, другое название), вместе со своей знаменитой актрисой-женой, красавицей Тамарой Макаровой, им для большего удобства быта соединили в одну две квартиры, – я в кабинете хозяина увидел карандашный портрет, сейчас не вспомню, то ли Фадеева, то ли Сергея Аполлинариевича с надписью Фадеева (фадеевский почерк запомнился мне с детства): “Моему великому другу!”
Не знаю, кто уж из них кого считал более великим, но разговаривал Герасимов так, что казалось, это Ираклий Андроников (я и в Москве, и в Переделкине жил с ним по соседству и слышал некоторые из его историй в домашней обстановке) изображает Александра Александровича Фадеева.
Завершая свою долгую жизнь в киноискусстве, Сергей Аполлинариевич сыграет в своем же фильме Льва Толстого, и говорить его Лев Николаевич будет – от Фадеева; кто Фадеева видел и слышал – не отличить.
Мне кажется, в таком голосово-интонационном сходстве известная логика просматривается.
Фадеев при всей, на мой взгляд, выспренности слога толстовской фразы не чуждался – у советских писателей (даже у великого Гроссмана) всегда была слабость следовать стилистически за Львом Николаевичем.
Сергей Герасимов тоже был щедро взысканным властью человеком. Во время войны руководил студией документальных фильмов в чине полковника – конечно, сталинский лауреат. При всем влиянии у себя в цехе считаться киношным аналогом Фадеева тогда еще не мог (были среди режиссеров люди и поглавнее), но в сотрудничестве с главным писателем получал шанс подняться повыше. Хотя почти не сомневаюсь, что “Молодая гвардия” нравилась ему совершенно искренне, перед Александром Александровичем он преклонялся.
Картину Сергей Аполлинариевич снимал в местах, где происходило действие романа, снимал с тем же увлечением, с каким сочинял роман Фадеев, – огромным стимулом становилась возможность выйти с картиной на волне грандиозного успеха книги.
Конечно, каждого зрителя, успевшего прочитать “Молодую гвардию”, интересовало, насколько подобранные на роли артисты совпадут с теми образами, что рождены были писательским пером.
Но главный зритель, решавший дальнейшую судьбу фильма, судя по всему, не читал самой книги, уже удостоенной премии его имени, – и впечатление о романе создавалось у этого главного зрителя на просмотре картины Герасимова.
Пожалуй, это был единственный в идеологической практике товарища Сталина случай, когда книгу, вызвавшую столько шума, он, едва ли не единственный, прочесть не удосужился, что совсем не было похоже на Иосифа Виссарионовича, штудировавшего толстые литературные журналы с цветным карандашом в руке.
С одной стороны, в случае с отложенным чтением “Молодой гвардии” можно увидеть исключительное доверие к Фадееву (этот не подведет), но с другой – оскорбительный для любого автора неинтерес к его тексту.
Закрадывается сомнение: а любил ли товарищ Сталин Фадеева как писателя?
Впрочем, любовь к тому или иному деятелю искусства или литературы за художественные достоинства их произведений, как мне кажется, не имела для Сталина-политика никакого (или почти никакого) значения при выдвижении на должность, проходящую по идеологическому (а других у нас тогда, в сущности, не было и не могло быть) департаменту.
Известно, что больше всех из мира искусства он любил Чарли Чаплина – ни один кремлевский просмотр не заканчивался без какой-либо ленты любимого вождем актера и режиссера (“Огней большого города”, например).
Но можно ли вообразить, что, будь у нас свой Чаплин (или допустим гипотетическую возможность, что настоящий Чаплин сделался для нас своим), товарищ Сталин доверил бы ему руководить кинематографом?
Любимые Сталиным фильмы Чаплина в прокате для обыкновенных людей у нас никогда не шли.
Я впервые увидел “Золотую лихорадку” на просмотре в частном доме, когда мне было лет восемнадцать. Фильм на узкой пленке принадлежал знаменитому и засекреченному до поры физику-академику Алиханяну.
Академик был влюблен в жену композитора Шостаковича Нину Васильевну и после ее смерти продолжал дружить с ее детьми, Галей и Максимом. Вот Максим и принес, с позволения или без позволения Алиханяна, я не знаю, “Золотую лихорадку” в квартиру покойного Евгения Петрова, соавтора “Двенадцати стульев” и “Золотого теленка”. Максим дружил с будущим композитором Ильёй Катаевым, сыном Петрова. Если кто не знает, Петров и Валентин Катаев – родные братья.
Не покупали картин Чаплина не ради экономии валюты, на идеологии не экономили, просто Сталин считал свои любимые фильмы вряд ли полезными для подданных. Его самого они, возможно, расслабляли, а массам расслабляться не следовало вовсе – или следовало расслабляться на подражательных по стилистике Чаплину комедиях Григория Александрова (товарищу Сталину, кстати, нравилась “Волга-Волга” с Игорем Ильинским, отечественной заменой Чарли Чаплина).
И не ошибся Иосиф Виссарионович, не доверяя до конца любимому Чаплину, – подставил-таки его никогда не видевший воочию своего кремлевского зрителя Чарли (в данном случае я говорю о персонаже, а не об актере и режиссере. Сталин, как я понимаю, полюбил персонаж – бродягу, а не миллионера из Америки).
Чаплин метил в другого, из Германии, но попал в того, в кого нельзя не попасть, если целишь в диктатора. Диктатора в изображении Чарли наш диктатор Чаплину не простил.
Более того, мне кажется, что обида на Чаплина распространилась и на своих кинематографистов, – нам разве привыкать к тому, что личные обиды начальства превращались в обобщения государственного масштаба?
В “Молодой гвардии” – фильме Герасимова, строго (всё же говорим мы про кино) следующего букве романа, Сталин увидел то, что из внимания все понимавшего Фадеева вряд ли выпало.
В городе, не имевшем никакого стратегического значения, покинутом советским начальством всех видов и рангов, обнаружилось сопротивление врагу со стороны детей, чьи действия отдыхавшие в Краснодоне от фронта немцы приняли поначалу за обыкновенное озорство – не ведали они о мотивах такого непослушания.
Если говорить о патриотизме как о доктрине, имеющей особое воспитательное значение, то Фадеев с Герасимовым угадали вроде бы на двести процентов: воспитанная советской властью молодежь может и обойтись, как доказали события в Краснодоне, без старших наставников, когда встает на защиту одной для всех Родины.
Вот это и не понравилось товарищу Сталину: она, может быть, и может, а не должна, нельзя допускать, чтобы обходилась наша молодежь без наставников.
Ушлыми людьми были Фадеев с Герасимовым, но в понимании сталинской политики им до Сталина было еще очень и очень далеко.
Сталинской премии у Фадеева товарищ Сталин отнимать не стал – но дал всем понять, что он может быть недоволен и такими проверенными, как товарищ Фадеев, людьми.
Дал возможность знаменитому писателю признать публично свои ошибки – и, главное, справедливость критики этих ошибок (“критика и самокритика – движущая сила нашего общества”). И сесть за исправление романа.
Второй вариант романа я не читал, но помню, что новое издание книжки стало много толще.
А второй вариант фильма “Молодая гвардия” видел (не видел первого). Герасимов тоже расширил картину – до двух серий (две серии в то время большая редкость). Появилась и роль для Сергея Бондарчука – тот сыграл недостававшего Сталину партийца, направлявшего молодогвардейцев на подвиг. Не помню, получил ли едва ли не со всей герасимовской компанией Сталинскую премию Бондарчук за роль Валько, только не пройдет и трех лет, как получит он за роль Тараса Шевченко не только премию первой степени, но и звание народного артиста СССР. Звание через ступеньку что в армии, что для артистов – случай… сказал бы – беспрецедентный, но вспомнил, что в тридцать седьмом году Сталин точно так же сделал народными СССР мхатовских артистов Тарасову и Хмелёва.
Не дожидаясь указа Президиума Верховного Совета, Иосиф Виссарионович просто перечеркнул в каком-то иллюстрированном журнале подпись под снимком Сергея Бондарчука, обозначавшую прежнее его звание (то ли заслуженный артист, то ли заслуженный деятель), – и своею собственной рукой начертал новое звание. С этого момента понравившийся (возможно, и с политической точки зрения) артист стал народным.
Этот журнал с личной правкой своего отца генерал-лейтенант Василий Сталин, откуда-то знавший Бондарчука, привез ему в грузинский ресторан “Арагви”, потребовав выставить бутылку армянского коньяка.
Василий Сталин первым узнал о возвышении Сергея Фёдоровича, а вот узнать, что станет еще и родственником Александра Фадеева, не довелось: дочь Василия Надежда в конце семидесятых выйдет замуж за приемного сына Фадеева, тоже Александра.
Не получит Сталинской премии очень популярный впоследствии комик-толстяк Евгений Моргунов – у Герасимова в “Молодой гвардии” ему (тогда молодому и стройному) выпало сыграть предателя Стаховича, проклинаемого во всех советских школах, где изучали роман Фадеева.
Со Стаховичем вообще-то выйдет неувязка – выяснится, что прототип Стаховича (настоящая его фамилия Третьякевич) вовсе и не предатель.
За роль Олега Кошевого артист Владимир Иванов свою Сталинскую премию, конечно, получит, но за актерскую команду Герасимова почему-то не зацепится, останется в нашей памяти артистом одной роли. Правда, в середине шестидесятых Бондарчук вспомнит о нем и снимет в эпизодической, но хорошей роли; перекинувшись от Фадеева к Шолохову, Сергей Фёдорович снимет картину “Судьба человека” – и там, когда идет колонна пленных, полуголый красноармеец запевает “Катюшу”…
С Ивановым – Олегом Кошевым я случайно познакомился полвека назад.
В кооперативных домах возле метро “Аэропорт” жило много известных работников культуры – и киноактеров среди них хватало. Были и очень среди них знаменитые или популярные в прошлом, народные и заслуженные, но чаще всех на улице возле магазина видели аэропортовские жители Юрия Киреева – очень красивого, представительного и почти всегда выпившего мужчину, – он сыграл эпизодические роли во множестве советских фильмов, но года с шестьдесят девятого – семидесятого мало снимался, что не уменьшало его известности среди местной публики.
И вот однажды я увидел Юру в обществе господина с медалью лауреата Государственной премии (Сталинские премии давно отменили, а лауреатам выдали новые медали, без сталинского профиля) на светлом пиджаке.
Я не сразу сообразил, что это тот самый Иванов, сыгравший героя фадеевского романа. Пикантность ситуации придавало то, что Киреев недавно тоже сделался родственником Фадеева: уже упомянутый мною как родственник Сталина Александр Фадеев-младший, прежде чем жениться на дочке Василия, был женат короткое время на дочке Киреева. Почему, собственно, бывший Олег Кошевой Кирееву, а не кому-нибудь другому жаловался на идиотов издателей, не желавших печатать его многолетнее исследование о Фадееве-старшем, где он, Иванов, неопровержимо доказывает, что причиной гибели автора “Молодой гвардии” стал Хрущёв, державший Александра Александровича под домашним арестом, отключив у него телефон (тот самый, вероятно, который поставили по распоряжению товарища Сталина, о чем Иванов вряд ли был информирован до знакомства со мной).
У запретов на ту или иную книгу или фильм в послевоенные и последующие долгие годы нет улавливаемой нами логики, но характер, я уверен, есть.
Характер товарища Сталина – при всех интересных в этом направлении предположениях и некоторых свидетельствах, которым хотя бы отчасти можно доверять, – нами не постигнут, возможно, потому, что рассматривать его с холодным разумом никак не удается.
Но характер запретов (или неожиданных разрешений) неотделим от характера того, кто запрещает или вдруг допускает еле заметное послабление.
Я бы допустил вариант, что Сталин всегда руководствовался политической целесообразностью. Но кто поручится (хотя охотников ручаться все прибавляется, только доверия к ним у меня все меньше), что его интерпретация политики была единственно возможной в тех обстоятельствах – и других вариантов не существовало в природе?
В то же приблизительно время, когда патрон решает посечь неприкасаемого для чисто литературной (да и вообще никакой) критики своего протеже Александра Фадеева, журнал “Знамя”, издаваемый под эгидой политуправления армии и возглавляемый соседом Фадеева по даче Всеволодом Вишневским, публикует повесть никому до той поры не известного Виктора Некрасова “В окопах Сталинграда”, где талантливой свидетельской правды о войне несопоставимо больше, чем в “Молодой гвардии”.
Некрасов пишет до бесхитростности искренне. О правилах, мешавших поневоле (вернее, по должности) ортодоксальному Александру Александровичу, он и понятия не имеет – и не только опубликован, но и по прямой инициативе Сталина (иначе бы ни в коем разе) тоже получает Сталинскую премию, никаких поправок свыше к своему тексту не получив.
Но следующие книги о войне – названные “лейтенантской прозой” (их тоже напишут фронтовики) – появятся через десятилетие, уже после смерти Сталина.
Как тут не вспомнить реплику Охлопкова.
Николай Павлович говорил, что у нас в Советском Союзе тридцать три года что-нибудь запрещают, а потом вдруг на три минуты разрешат – и вот этими минутами разрешения необходимо воспользоваться.
“Молодую гвардию” на сцене своего театра (бывшего Театра Революции, затем просто драмы и, наконец, имени Маяковского, хотя театр этот все равно называли не иначе как театр Охлопкова) он поставил чуть ли не раньше, чем Герасимов начал снимать фильм.
Сергей Аполлинариевич был сугубым реалистом, Фадеев с некоторыми отступлениями, в общем, тоже.
А Николай Павлович, отрекшись (куда было деться, не профессию же бросать) от учителя – Мейерхольда, все равно тосковал по исчезнувшему театру, где главным всегда оставался театр, – и, строго придерживаясь в репертуаре того, что называли современной советской темой, все время пытался протащить на сцену под соусом социалистического реализма запрещенную вместе с Мейерхольдом “мейерхольдовщину” – и у него три минуты затягивались иногда на годы и годы.
В истории с “Молодой гвардией” ему и минуты разрешения не требовалось – в стиле Фадеева он безошибочно обнаружил любимые им котурны, почувствовал, что под маркой Фадеева сойдут ему и котурны формалистические тоже.
Когда с помощью художника Вадима Рындина, позднее – главного режиссера Большого театра и мужа Галины Улановой, он придумал образ спектакля в форме огромного – во все зеркало сцены – красного знамени, Сталинская премия была у Охлопкова в кармане.
И в спектакле, напоминавшем одновременно и оперу, и балет, но сыгранном очень талантливыми драматическими артистами, сам черт бы не разобрал, кто на подмостках партийный, а кто беспартийный.
И все равно остается нам гадать, почему в одни и те же три минуты знаменитый Фадеев был приструнен, а безвестный Виктор Некрасов стал знаменитым.
Какая логика в том, что унижение самокритикой Сталин компенсировал Фадееву еще большим упрочением его положения в советской литературе (хотя, казалось, куда уж выше?), а Некрасова только попробовали на должности одного из секретарей украинской писательской организации, да и то скорее для того, чтобы напомнить украинцам, что русский писатель на Украине – фигура самая желанная (а то, почудилось товарищу Сталину, там иногда пытались думать иначе)?
Книгу Виктора Некрасова, как и полагалось книге лауреата Сталинской премии, издали все областные издательства. Но и Фадеев материально не пострадал: “Молодую гвардию” включили в школьную программу, и поэтому толстый ее вариант переиздавали ежегодно – а по популярности “Окопы…” (ни в какую программу не включенные) к роману генерального секретаря Союза писателей и близко не подходили.
Был лишь один нюанс: писателя Фадеева, со всеми его званиями, титулами, всенародной славой (сейчас уже, пожалуй, забытой, как все тогдашние славы), после переделок романа как пишущего писателя больше не существовало. У него отнято было литературное будущее за несколько лет до отмеченного со всей официальной помпой полувекового юбилея, где произнес он речь о своей пожизненной верности Сталину (“имени его, знамени его…”).
Когда-то в киношном комитете в Гнездниковском сидели в соседних кабинетах два чиновника – я никогда их не видел, но, когда проходил мимо дверей, машинально прочитывая на табличках фамилии этих господ, всегда мысленно смеялся: фамилия одного была Фадеев, а другого – Шолохов.
Я думал о том, что настоящих Фадеева и Шолохова – того и другого – сердила непременность сочетания их фамилий (не говорили же, например, никогда “Симонов – Твардовский”).
Известный всем замысел: назначить в каждой области знания одного самого главного человека и видеть структуру власти системой матрешек, вбирающей в себя одну за другой неумолимо уменьшающиеся копии.
С гуманитарными дисциплинами замысел иногда и буксовал: одно дело назначить посредственность выдающимся деятелем, другое – довериться посредственности целиком; и при расхожем мнении, что самые крупные таланты сознательно Сталиным уничтожались, признаем все-таки, что преобразовать талант в дельного придворного вождь все же пытался и удачи на этом пути случались.
И думаю, что за все сталинские времена большей удачи, чем назначение Александра Александровича Фадеева на роль писательского министра, у вождя-режиссера (главного режиссера) при распределении ролей – основного условия для успеха спектакля любой значимости – не отыщешь.
Кто еще из министров пользовался такой любовью подчиненных, каких бы несправедливостей в отношении к ним он ни совершал? Кто из министров мог запойно пить, кто так пел, как пел в застолье Фадеев, кого так любили женщины (и мужчины, между прочим, не очень уступали им в этом – без малейшего намека на перемену сексуальной ориентации). И кто (из министров опять же) находил столько времени на то, чтобы на чувства женщин ответить?
Но при всем при том никто из министров (и боюсь, что не только писательских) с такой точностью не улавливал (осечки по пальцам перечтешь) направления сталинской мысли, касавшейся литературы, не превращал их в факсимильные, окрашенные собственной индивидуальностью решения – и с жестокостью советских полководцев не проводил их в жизнь.
Все последующие писательские министры неизбежно сравнивались с Александром Александровичем – и всегда в таком сравнении проигрывали.
Обречены были на проигрыш.
Ну решил бы, скажем, Сталин сделать начальником и Шолохова (фигуру в литературном отношении помощнее) или каким-нибудь образом соединить их в руководстве (“По деревне мы идем, оба председатели, мы к тебе не пристаем, иди к такой-то матери”) – эффект был бы гораздо меньшим.
Решение сделать Фадеева начальником, а Шолохова вроде бы выведенным за скобки субординации, но все же не начальником (нюанс при строгости нашей дисциплины существенный) намного остроумнее, чем какое-либо другое.
Сталин дорожил удачей своего решения. Но возможное соперничество между Фадеевым и Шолоховым при такой расстановке фигур на официальной литературной доске могло его и развлекать.
Почему недолюбливал Фадеева Шолохов, понятно: тот не сочинил “Тихого Дона”, но жил с такими привилегиями и полномочиями, словно сочинил.
Любивший Фадеева Корней Иванович Чуковский все же записал себе для памяти разговор в гостинице “Националь” с Шолоховым о Фадееве, где Шолохов говорил о Фадееве раздраженно, называл Сашкой, иронизировал, что Фадееву нравится, когда писатели ждут его в приемной: “А ты попробуй быть просто Фадеевым, не членом ЦК”.
Понятно, почему недолюбливал Шолохова Фадеев, – причина, в общем, та же. Притом что в письме (еще довоенном) Ангелине Осиповне он писал об ощущении в себе силы большей, чем у остальных писателей, “Тихого Дона” он не сочинил.
Я давно, еще в школе, читал “Тихий Дон” и так и не собрался перечесть его позднее, когда за свою жизнь кое-что прочел и мог бы сравнивать.
Поэтому верю на слово тем, кто считает роман Михаила Шолохова великим. И не хочу верить, что кто-то сочинил этот роман за него. Чьими-то записями или дневниками он, наверное, мог воспользоваться, но надо же было и понять ценность этих дневников в столь молодом возрасте. А кто мешал другим (и тому же Фадееву) найти рукопись, от которой можно было оттолкнуться в большой собственный замысел?
Верю Василию Шукшину, например, который остался под большим впечатлением от встречи с Шолоховым в станице Вешенской.
Сам я видел Шолохова один раз – в Москве, в конференц-зале агентства печати “Новости”, когда организовали встречу с ним для французских журналистов.
Французов усадили в первый ряд, чтобы они могли задавать вопросы нашему классику. А на сцене были Шолохов и председатель правления агентства Борис Сергеевич Бурков.
Что-то, видимо, с вопросами и ответами не клеилось, и Буркову хотелось форсировать разговор. В завершение встречи он все порывался поцеловать Михаила Александровича.
Руководитель АПН был ощутимо выше ростом, чем автор “Тихого Дона”. Автор, однако, уклонялся от объятий Буркова – сказал, что не хочет целоваться с “этим старым политиком”, а лучше поцелует журналистку из первого ряда: “Французский коньяк я пил (это, кстати, бросалось в глаза), а целовать француженок не приходилось…”
Вырвавшись из бурковских объятий, писатель шагнул с невысокой сцены прямо к француженке из первого ряда – его еле подхватили, предохранив от возможной при падении травмы.
Глава четвертая
В принятой с тех еще пор литературной иерархии Александр Фадеев стоял выше, чем мой отец, что не мешает мне, однако, проводить неожиданные параллели между их внутренней жизнью.
У отца, надо сказать, и в годы безвестности я никаких комплексов по отношению к знаменитому коллеге не замечал.
Несомненная симпатия отца к Фадееву не связана была с отношением к писательскому дару Александра Александровича.
Поэт Семён Израилевич Липкин – человек, крайне сдержанно относившийся к моему отцу (к Фадееву, в общем, тоже сдержанно, но все же лучше, уважительнее или сочувственнее), – раза два или три рассказывал мне про случай из послевоенной переделкинской жизни, когда отец якобы сказал Александру Александровичу: “Эпигона Льва Николаевича Толстого прошу уйти с моего участка!”
Я не до конца поверил в правдивость этого рассказа – ситуация выглядит несколько комично: в общем-то самовольный арендатор, мой отец прогоняет с принадлежавшего Литфонду участка начальника, которому и Литфонд подчинен. Но и Липкин не отличался склонностью фантазировать, наоборот, был педантичен и строг в точности фактов – и я рискнул привести этот забавный эпизод, полагаясь на память Семёна Израилевича.
Отец спокойно отнесся к прекращению завязавшихся в конце войны отношений с Фадеевым. Он вообще не стремился к дружбе с кем-либо в писательском поселке – правда, я знал, что перед войной новосел довольно быстро сошелся со многими старожилами (четыре года в те времена – немалый срок для постоянного жительства в дачном Переделкине). Но на моей памяти после полутора послевоенных лет никто, кроме Корнея Ивановича Чуковского и Александра Остаповича Авдеенко, державшего свою “татру” в нашем пустующем после продажи машины гараже, из примечательных насельников нашего городка к нам на дачу не заходил.
Только лет через десять возник Сергей Сергеевич Смирнов – они с отцом вместе ездили в Будапешт и начали дружить, редкий для отца случай. Ну и молодые тогда писатели, жившие в Доме творчества, иногда заходили: Владимир Тендряков, Григорий Бакланов, Юрий Казаков, Василий Аксёнов, еще кто-то…
Отец и не вспоминал почти про Александра Александровича, но вдруг встрепенулся, когда в газете прочел о работе Фадеева над романом “Черная металлургия”, – журнал “Огонек” опубликовал главы, кажется, две.
Отношения писателя с властью, если уж обойтись без нее нельзя, надо искать не в сохранившихся чудом или по бюрократическому замыслу все той же власти документах, как поступают историки – и правильно, наверное, делают (исходя из своего профессионального кодекса), – а, наоборот, в текстах незаписанных, несуществующих, принесенных в дань тому, что казалось главным, вернее, интерпретировалось властью как главное.
Но что же главнее текстов, чей смысл никем не предписан, какие еще отношения могут быть для писателя важнее, чем отношения с персонажами, поселенными в его судьбе?
На мой взгляд, не менее интересно и поселение самого автора в судьбу персонажа.
Конечно, в авторстве так и не записанных текстов есть что-то мистическое, но это все же скорее факт биографии, а не судьбы – линия судьбы проходит по рукописи, иначе как же ее проследить?
Отец мой вряд ли мог знать, с каких верхов Фадееву была спущена – опять спущена – новая тема.
Маленков – второй в ту пору человек в партии. Его соперник на идеологическом фронте Жданов два года как умер в довольно молодые для начальника годы, при обстоятельствах, которые позже, когда заваривалось знаменитое “дело врачей”, сочли странными, и врачей, лечивших члена политбюро, обвинили в его смерти. Со смертью этому соратнику Сталина, считай, повезло: в предшествующем “делу врачей” “ленинградском деле” верх взяла группа Маленкова – и соратников Жданова, заправлявших во время войны партийной организацией Ленинграда, вскоре после того, как сделались они москвичами, кандидатами в члены политбюро, расстреляли. Так вот, Маленков инициировал работу Фадеева над романом, где прогрессивным металлургам противостояли замаскированные под ученых вредители. По велению Маленкова писателю предоставили все материалы, подтверждавшие злодеяния вредителей.
Не думаю, что тема романа о металлургах увлекла Фадеева в той же мере, в какой увлекла его “Молодая гвардия”. Но подозреваю, что на этот раз пригрезился ему пресловутый эпический масштаб предстоящего повествования.
Стреноженных идеологически советских писателей все равно не оставляла мечта о чем-то непременно грандиозном по размаху – не “Война и мир”, так “Тихий Дон”.
Василий Гроссман в итоге и написал такую книгу, но для этого надо было перестать быть внутренне стреноженным, преодолеть страх перед критикой и запретом.
А как мог избавиться от пут много знающий и больше других понимающий Фадеев, выполнявший к тому же государственный заказ?
Некоторым кажется скучным, излишне производственно приземленным название начатого Фадеевым романа – “Черная металлургия”. Но мне название нравится, метафора очевидна: все в нашей жизни переплавится, и выйдем из переплавки закаленными, как чугун или сталь. Глядишь, в школьной программе “Металлургия” Фадеева стала бы рядом с “Молодой гвардией” и другой “Сталью” – Николая Островского, поднятой у нас в целях воспитания молодежи как бы не выше “Тихого Дона”. (В школе, насколько я помню, изучали не “Дон”, а “Поднятую целину”.)
Отец о предыстории “Черной металлургии” ничего не слышал. Его взбудоражило, что Фадеев снова пишет – и, похоже, на занимавшую и отца тему.
Зимой пятидесятого, кажется, года отец летал на похороны сказочника Бажова (дедушки тогда еще не родившегося Егора Гайдара) в Свердловск – и там, по-видимому, познакомился с заводскими людьми. Что-то удивившее его от них услышал – и, когда вернулся домой, выписал себе уральскую газету, чтобы следить за тем, что происходит в промышленных городах. Выреза́л из газеты заинтересовавшие его заметки и складывал в специально заведенные папки.
Можно понять писателя, сделавшегося газетчиком для сбора материалов к роману. Но труднее понять писателя, никуда не ездившего (Фадеев, между прочим, к своим будущим персонажам ездил и жил в семье рабочего-металлурга) и читавшего газету, прекрасно представляя себе как бывший журналист, насколько в ней приукрашена (или вообще сочинена, почище, чем у романистов) реальность.
Уже можно смеяться, но не так все просто.
Отец называл – не без презрительного снисхождения – иных своих более образованных коллег “гимназистами”, позиционируя себя человеком из народа, знающим про народную жизнь все, что хотел бы знать. Весь вопрос в том, чего он знать не хотел, – вернее, по кодексу условностей, принятому советскими писателями, знать был не должен. А потому должен был не видеть и в упор, а если тем не менее видел, то, уж извините, ничего не оставалось, как молчать – и ждать другого часа, который вряд ли мог пробить в обозримом будущем.
Поэтому без разницы было, поедет ли романист к своим персонажам, как Фадеев, останется ли, как отец, на даче в Переделкине.
Отец, кстати, в начале пятидесятых и не жил на даче – работал над новым сочинением в Москве. С некоторым опозданием почувствовал себя неловко среди сплошь, как ему казалось, преуспевающих переделкинцев. Слишком затянулась послевоенная пауза для писателя его лет (он разменял пятый десяток), мало проявившего себя как прозаик в сопоставлении с теми соседями, кого зачислили уже в советские классики.
После серьезных неприятностей в кино он сгоряча и быстро сочинил пьесу из совсем уж неведомой ему колхозной жизни.
Ее поставил на сцене филиала Малый театр, затем в театре имени Станиславского ставший через некоторое время очень знаменитым Борис Равенских, но на подмостках пьеса продержалась недолго.
Режиссер Леонид Луков, часто бывавший у нас дома, уговаривал отца сочинить новый сценарий о шахтерах, реабилитировать себя за идеологический провал со второй серией “Большой жизни”.
Но у отца ничего путного (проходимого) не придумалось – сценарий Лукову сочинил наш новый сосед Борис Горбатов (и они за картину “Донецкие шахтеры” стали лауреатами Сталинской премии). А отец пошел на год или полтора служить относительно неплохо оплачиваемым клерком в писательское министерство, возглавляемое Фадеевым, – и зависимое положение отца не способствовало возобновлению их послевоенных отношений.
По существу, весь смысл наказа начальства, кого выбирать писателям в герои, укладывался в слова волжской частушки: “Пассажиры – публика, а грузчики – народ”.
Конечно, если пассажиром оказывался начальник (руководитель, директор завода, например, или председатель колхоза), можно еще было подумать-попробовать.
Как-то к Фадееву на дачу приехал посоветоваться некто Марк Колосов. Отец мой тоже хорошо его знал.
В свое время Колосов служил в журнале “Молодая гвардия”, куда, как сказали бы в издательстве, самотеком попал роман Николая Островского “Как закалялась сталь”.
Роман Колосову, очевидно, понравился, он показал рукопись кому-то повыше – и тому понравилось; решили поручить редакторам как можно тщательнее поработать над текстом. Автору-инвалиду послали благоприятный ответ.
Но в редакционной суете рукопись пропала.
О том, что происходило дальше, существуют разные версии.
Официально принята версия, что автор прислал второй экземпляр.
Я же слышал, что никакого второго экземпляра у Николая Островского не было, не осталось, кажется, и черновиков – он же писал текст через специальные прорези и сразу набело (сам он прочесть рукопись не мог).
Для спасения ситуации в помощь Марку Колосову привлекли известную тогда писательницу Анну Караваеву (между прочим, когда отец служил клерком в заведении Фадеева, он был заместителем Караваевой).
Караваева и Колосов (он хорошо запомнил первоначальный текст) сочинили всё, как утверждают, заново. И к довоенному успеху романа, превосходившему успех даже появившейся почти десять лет спустя “Молодой гвардии” Фадеева, имеют непосредственное отношение.
В дальнейшем Караваева преуспела больше Колосова – она оставалась где-то на подступах к советским классикам (по рейтингу – в третьей или четвертой десятке). Мы жили по соседству с Караваевой на Беговой, ее племянница Мила работала учительницей в моей школе – и педагогическому коллективу известно было, кто тетя их коллеги.
А Колосов, видимо, сильнее выложился в работе над “Как закалялась сталь”, его собственные успехи выглядели поскромнее, чем у Анны Александровны.
Так вот, Марк Колосов рассказал Фадееву на даче, что задумал роман, где главным героем будет писатель, – и Александр Александрович сразу перебил его рассказ о будущем герое замечанием, что писатель – для нашего времени фигура нетипичная.
А для какого, интересно бы узнать у Фадеева, времени писатель – фигура типичная?
Тем не менее герои у Достоевского пишут. У Толстого Анна Каренина в поисках выхода из тупика, куда завели ее отношения с Вронским, пробует сочинять детские книжки; не бросилась бы под поезд – могла сделаться Агнией Барто того времени.
Кстати, об “Анне Карениной”. Принято считать, что в этом романе альтер эго Льва Николаевича Толстого – Константин Левин. И не все замечают персонажа, никак не менее значимого для автора, – Сергея Ивановича Кознышева, сводного брата Левина, знаменитого на всю Россию ученого (Левин еще слегка комплексует, когда представляют его как брата Сергея Ивановича).
На протяжении больше чем половины толстовского романа Кознышев пишет книгу о судьбах России, рассчитывая ответить на вопросы, наиболее ее волнующие.
О том, что книга Кознышевым завершена, Толстой упоминает как бы между прочим – и дальше, снова как бы между прочим, замечает, что ожидаемого отклика на книгу Сергей Иванович так и не услышал.
Никто из действующих лиц романа – ни Левин, ни Вронский, ни Каренин, ни Стива Облонский, ни тем более занятая своими переживаниями Анна – тоже не удосужился прочесть этой книги.
Не своей ли судьбой измеряет Кознышева Лев Толстой, удостоверившись в тщете усилий даже великой литературой изменить что-либо в природе этого мира?
Марку Колосову пришлось успокоить министра от литературы сообщением, что недавно завершенная им вещь называется “Товарищ генерал”.
Наш сосед по дачному поселку драматург Александр Афиногенов – он погиб в первый же год войны, я не мог его запомнить (но как человек Александр Николаевич мне вроде бы не совсем чужой: жена драматурга, американская журналистка Дженни, вызвалась быть моей крестной матерью) – отмечал, что врачи или следователи знают людей, вообще людей, лучше, чем писатели.
Но преимущество писателя перед ними в том, что писатели познают себя с большей страстью.
Как объяснить, что писателю, назначенному быть первым писателем страны, оказалось не о чем писать?
Вот ведь и Бабель, не назначенный никем первым – однако едва ли не первый по искусству владения словом (при владении словом на таком уровне и сюжет не так уж важен, и совсем не важен предмет описания), – рассуждая с Ильей Эренбургом о молодом авторе Сирине (Набокове), соглашаясь с тем, что эмигрант писать умеет, сожалеет, что писать тому не о чем.
А жил бы с нами, подразумевается, нашел бы о чем, как застрелившийся Маяковский.
Что же сам-то Бабель все что-то не находил, хотя искал, вроде бы одобряя советские новшества?
Замолчавший после ранней славы Олеша был искреннее в своем раздражении: “Я не могу написать, что погода за окном плохая (дождь, допустим, идет). Кто-нибудь обязательно тут же скажет, что для хло́пка она хороша”.
Бабель или Олеша – ладно, они успели стать притчей во критических языцех. Коллеги над их затянувшейся паузой уважительно (всё же книги Бабеля и Олеши для самых плодовитых собратьев остаются недостижимым образцом) посмеивались. Да и сами они не боялись публично над собой подшучивать, что преуспели в жанре молчания.
Но Фадеев – министр (первый, во всех смыслах, министр советской литературы), и за отсутствие новых текстов его никто не решится упрекнуть. Кто же не знает, что занят он делами поважнее любой рукописи?
Отчего же тогда Эренбургу показалось, что писатель-министр близок к отчаянию после случившегося с “Черной металлургией”?
А что случилось?
Умер Сталин – и тут же выясняется, что вредители никакие и не вредители, а колоссальный вред промышленности нанесли, наоборот, сукины дети, объявившие вредителями тех, кто реально смотрел на вещи и не поддался авантюристам.
Все это внятно и прекрасно изложено у Александра Бека в романе, пролежавшем под запретом до времен Горбачёва (за границей, правда, он был издан раньше). Фадеев в романе Бека увековечен под фамилией Пыжов – очень узнаваемо для тех, кто видел Александра Александровича.
Фадеев не дописывает роман, но ему и не привыкать – за “Молодую гвардию” он ухватился, не закончив второй части “Последнего из удэге”. Теперь у него за десятилетия занятий литературой два законченных романа и два незаконченных – фифти-фифти.
Много пишущий Эренбург положительно не понимает уважаемого им (вместе они борются за мир во всем мире, много ездят вместе по миру в борьбе с поджигателями войны) Александра Александровича: ну ошибся тот с выбором фигур, белые принял за черные, но неужели нельзя сесть теперь, переменив цвет фигур, за шахматную доску романа и разыграть другую, пардон, партию?
Эренбург, скорее всего, не говорит этого вслух, но ясно дает понять, что ничего страшного в осечке Фадеева не видит – все поправимо.
Фадеев же от такого сочувствия приходит в ярость – и кричит на Эренбурга особенно высоким, когда во гневе, голосом: хорошо вам, Илья Григорьевич, у вас вся проблема, что инженер (или кто он там у вас?) страдает от любви, а в “Черной металлургии” решались государственные проблемы – и вот не решились из-за того, что автора ввели в заблуждение те же самые люди, что в такое же заблуждение ввели и само государство – известно в чьем лице.
Не понять Илье Григорьевичу со своими влюбленными инженерами (или любимой девушкой главного героя – иностранкой), разрешенными ему в порядке исключения тем самым лицом, кому приносил он пользу в политике как публицист и борец за мир и кого решились обмануть негодяи от черной (и название приобрело другое значение после изменившегося контекста) металлургии, не понять сочинившему столько романов Илье Григорьевичу Эренбургу, почему же не использовать теперь Фадееву все случившееся в реальности на благо сюжету – роман при раскрытии характеров мерзких обманщиков станет куда интереснее.
Умный (и ушлый) человек Эренбург, а все равно не понять ему, что действительно (без дураков и притворства) государственный человек Александр Фадеев про мнимость вредителей догадывался изначально (он же не только министром, но и писателем работал). Но все равно силой художественного вымысла (писатель не мог перестать в эту силу верить) рассчитывал принести стране, отождествляемой им как государственным человеком прежде всего с образом ее вождя, не меньшую, а может быть, и большую пользу, чем Эренбург со своей публицистикой.
Кого еще в истории литературы, кроме Байрона, Есенина и Блока, так любили женщины, как Фадеева?
Но Байрон с Есениным и Блоком женщин на металлургию (пусть и черную) не променяли бы.
У раннего Фадеева в “Разгроме” описание груди женщины, данное автором в ощущениях жадно жаждущего ее персонажа, отвлекает от истории партизанских действий – или мне так показалось в юности (взрослым я и Александра Александровича не перечитывал, не только Шолохова).
Откуда нам теперь знать – вымышленной (в чем я очень сомневаюсь) или реально увиденной (лишь увиденной?) была женщина, вожделенная партизанами?
Исследователям Байрона, Есенина и Блока известны бывали иногда (а у Есенина и часто) вошедшие в ткань стихов имена возлюбленных.
А как нам быть с Александром Александровичем?
Я не собираюсь – да и не знаю всего списка – приводить здесь исторические, громкие и просто имена дам, любивших Фадеева или (и) любимых им. Тем более что иные из возлюбленных Фадеева предпочли войти в историю литературы в качестве подруг других писателей – Елена Сергеевна так и останется для всех вдовой Михаила Булгакова и Маргаритой.
Я знаком был с некоторыми из женщин, переживших романы с Александром Александровичем.
Про Клаву Стрельченко – вдову поэта – я уже рассказывал. Про Маргариту Алигер (и про ее дочь от Фадеева Машу) много рассказано и без меня.
Но благодаря Ордынке, где протекала у Ардовых в гостях моя долго не кончавшаяся молодость, я имел честь знать и Марию Сергеевну (Марусей звала ее Анна Ахматова) Петровых – замечательного русского поэта, чья широкая известность наконец-то начинается.
Стихов Мандельштама у нас не издавали до середины семидесятых.
Но все на Ордынке знали, и я узнал, что стихотворение, которое я заучил с голоса Миши Ардова раньше, чем прочел глазами: “Мастерица виноватых взоров, маленьких держательница плеч…” – посвящено Марии Сергеевне влюбленным в нее Осипом Эмильевичем.
Сознаюсь, что мне по моим тогдашним представлениям о жизни (хотелось бы понять, многое ли к сегодняшнему дню изменилось?) показалось диким – как можно любить советского Фадеева, когда тебя любит всемирный Мандельштам?
Сегодня мне не семнадцать, как тогда, – и не все, конечно, и не слишком многое, но что-то все же в представлениях моих о жизни (и о женщинах, главное) изменилось. Марию Сергеевну мне теперь легче понять.
Но вот о чем я сейчас опять упрямо думаю, захотев понять, почему же Фадееву и большинству современных ему наших писателей, проживших такую жизнь, какая множеству литературных героев и не снилась, вдруг стало не о чем писать?
Всем ли, однако, было – не о чем?
Или только тем, кто, получив признание, не мог за него в последующем не держаться?
Не совсем уж на кофейной гуще гадаю, пытаясь додумать, как сложилась бы литературная судьба автора “Молодой гвардии” и писательского министра Фадеева, шагни в его прозу женщины (ну хотя бы женщины из писем; том переписки Фадеева стал единственной книгой этого писателя, которую я перечитываю).
Уложенный году в сорок девятом в кремлевскую больницу (или это было уже в санатории “Барвиха”?), Александр Александрович вдруг вспоминает девочку из своей юности, с которой вместе учился, – и ему (фантазия писателя и в малой степени не была исчерпанной) начинает казаться, что сильнее той детской любви у него никогда потом ничего не было – и до сих пор, наверное, нет.
Депутату Верховного Совета СССР ничего не стоит запросить адрес девочки – возможно, он знал ее под девичьей фамилией (тут я опять неожиданным образом возникаю в фадеевском сюжете, поскольку знаком был с взрослым сыном детской любви Фадеева; фамилия сына была Колесников, и разыскиваемая девочка могла быть Колесниковой по мужу), помнил имя, но мог и не знать отчества.
И можно вообразить смятение этой не самой первой молодости школьной учительницы по фамилии Колесникова, когда получает она письмо от знаменитого писателя Александра Фадеева. Способна ли она немедленно связать его в своем сознании с тем мальчиком, от чьего, возможно позабытого, имени пишет ей письмо захворавший министр из кремлевской больницы?
Что может ему ответить она?
Ведь не факт, что она тоже была влюблена в него, тоже считает ту школьную любовь главной в своей жизни?
Она, несомненно, видела в газетах портреты автора “Молодой гвардии”, но узнавала ли на них того самого мальчика?
Судя по более ранним – конца двадцатых – начала тридцатых годов фотографиям, Фадеев красавцем мужчиной становился постепенно, обрел свою ставшую канонической растиражированную внешность ближе к войне.
Но письма Фадеева по желанию быть в них предельно откровенным превосходят любую “Молодую гвардию”: он хочет быть в них юным, чистым, совсем косвенно имеющим (или не имеющим вообще) отношение к жизни, какую прожил.
Вкратце он рассказывает девочке, ставшей учительницей, и про домашнюю свою жизнь, иронизирует над тем, что жена его, народная артистка, как и всякая жена, может устроить сцену за лишнюю рюмку водки. О том, что количеству лишних рюмок Александр Александрович и обязан тем, что сейчас в кремлевской больнице (или в санатории “Барвиха”), умалчивает.
Как ему казалось, он все рассказал бывшей девочке про свою нынешнюю жизнь – была у Фадеева такая потребность.
Теперь про взрослого сына девочки.
Летом шестьдесят третьего года я проходил университетскую практику в сталинградской молодежной газете (я против возвращения городу советского названия, но ни газету волгоградской называть не хочу, ни город Волгоградом). И уже на второй или третий день моей жизни в этом городе люди из газеты захотели познакомить меня с писателем, бывшим летчиком Лёвой Колесниковым, намекая, что он приемный сын Фадеева и мне, как сыну московского писателя, сам бог велел быть с ним знакомым.
Как сын московского писателя из Переделкина, я точно знал, что у Александра Александровича Фадеева трое детей: приемный сын Шуня, родной Миша и родная дочь Маша от Маргариты Алигер (Маргарита Иосифовна Алигер тоже была моей соседкой по дачному поселку).
Но Лёва мне и не вкручивал, что он сын Фадеева, – мы пошли с ним посидеть в ресторан при интуристовской гостинице, и я понял из разговора с писателем-летчиком, чей он на самом деле сын.
Бывалый человек Лёва писал, как нередко бывает с бывалыми людьми, о том, что он пережил, по образцам прочитанных на эту же тему книжек – действительная его бывалость в тексте проявлялась маловыразительно.
Но из нашего разговора с Лёвой я понял, что Фадеев, которого он никогда не видел, имел некоторое касательство к судьбе сына любимой девочки: тоненькая книжка Лёвы в Приволжском издательстве была все же издана.
Мне стало немного грустно – и тогда, и сейчас, при воспоминании, – от того, чем порыв Александра Александровича обернулся: освоившаяся в переписке мама Лёвы Колесникова не смогла не обратиться к нему с просьбой о поддержке литературного дебюта своего сына-летчика.
Ничего, конечно, нет в том страшного, редко кто обходится в литературе вовсе без протекции. Только как не подумать о том, что у Фадеева всегда что-нибудь просили – помочь ли с изданием книги, как Лёве, с квартирой ли… Всегда надо было просить за кого-то, а просить за себя ему и не у кого было…
Да и о чем просить? Просьбы, будь они у него (кто, впрочем, знает, вдруг и были?), могли бы пройти лишь по номенклатуре невыполнимых.
Когда Александр Александрович застрелился, учитель физкультуры в школе, где учился мой друг Боря Ардов, спросил его, тоже как сына писателя: “Из-за чего Фадеев застрелился?” Откуда было знать тому ответ – Боря замялся. А учитель физкультуры поинтересовался: “С квартирой у него все нормально было?”
Отец неоднократно, и после, и вообще до конца жизни, бросал на полпути (и раньше) вещи, много чего, как мне кажется, обещавшие: и автору, так своих возможностей и не развернувшему, и коллегам, не представлявшим его в ином, чем привыкли считать, качестве, и читателям, может быть (за читателя всего труднее поручиться).
А тут, на опасном для всей страны перегоне – от самого начала пятидесятых до кончины “хозяина” (отец обычно называл в разговорах со знакомыми товарища Сталина “хозяином”) – он уперся (дальше отступать некуда?) и мурыжил не меньше трех лет роман (впрочем, роман ли это был – не повесть ли или длинный рассказ? – но автору нравилась мысль, что он все-таки пишет роман) и никак не мог им себя по-настоящему увлечь.
В размышлениях, возникавших по ходу развития сюжета предыдущей его, довоенной еще прозы (ставшей основой сценария для первой серии “Большой жизни”), он, молодой тогда человек, пишет, что книга может иметь шумный успех или может вовсе не иметь никакого успеха, но, как бы там ни было, автору всего важнее пережить момент восторга от нахлынувшей хотя бы ненадолго уверенности в том, что пишешь.
Видимо, за три года моментов уверенности не наступало вовсе – и мало сказать, что книга отца “Поездка в Москву” не имела никакого успеха: прошел слух, что наборщики в типографии не хотели ее набирать.
В четырнадцать лет я не понимал, откуда такая нетерпимость – вполне равнодушно, без всякого всплеска отрицательных эмоций встречали книги и такого же уровня, и похуже, на мой взгляд.
Начался следующий перегон истории – с момента смерти Сталина до антисталинской речи Хрущёва на ХХ съезде партии.
Стала уже общим местом фраза о новых временах, наступивших тотчас же вслед за решениями этого съезда.
Я другого мнения.
Очень не хочется в моем возрасте превращаться в “пикейного жилета”. Но судить о прошедшем, замыкаясь в категорических формулировках, не чувствую себя вправе.
Скажу, что думаю.
За три года, протекших после смерти Сталина, эффект необъявленных изменений в нашей жизни был мощнее, чем после знаменитой речи Хрущёва, когда тот на съезде декларировал новый курс (всей ли, однако, власти или только одного лидера, понадеявшегося обладать той ее силой, какая была у ниспровергнутого им сию минуту, но, повторяю, целых три года как умершего главнокомандующего?).
Для естественного обновления нашего сознания хватало ведь и намека.
Никаким ХХ съездом еще и не пахло – то есть там-то, наверху, ломались партийные копья и шла та самая борьба за власть, отчего и было не до нас все три года начальству. Отдельные недомолвки и были наверняка отблесками разведенного на самых высоких этажах политического костра. Никаких крамольных слов о Сталине никто не произносил, но учитель истории Валерий Семёнович (поговаривали, что по воскресеньям он для приработка торгует мороженым в зоопарке), проверяя, подготовил ли я свой конферанс как ведущий школьного вечера в честь Дня конституции, какими-то намеками (дорого бы сейчас дал, чтобы припомнить – для истории – буквальный их текст) помог мне понять, что эпитета “сталинская”, без которого и слова-то “конституция” мы не воспринимали, произносить со сцены не следует. Значит, был в каком-нибудь райкоме сделан шкрабам намек, что наше отношение к товарищу Сталину будет отныне чуть менее апологетическим.
Буду, конечно, выглядеть глупее, чем на самом деле, но скажу, минуя джентльменский (и мне, конечно, тоже известный) набор примет обновления в первые три года без Сталина. Сознаюсь сейчас в том, что лично на меня более всего повлияло.
Повлияло в первую очередь совместное обучение с девочками, начавшееся для меня с восьмого класса школы, – оно перевернуло все мое мироощущение.
И совсем неожиданное действие оказал забытый теперь – да и тогда, насколько помню, особого успеха не снискавший – кинофильм “Сын”.
Про перевернутое девочками мироощущение расскажу когда-нибудь отдельно, а то, начни я рассказывать сейчас, ни до каких намеченных себе тем никогда уже не дойду.
А про кино совсем коротенько.
Сейчас-то мне смешно, что фильм, который послужил моему освобождению от прилипших стереотипов в понимании своей жизненной роли (в зависимости, конечно, и от кино и его героев), снял не кто иной, как режиссер Юрий Озеров, поставивший при Брежневе несколько громких картин-шоу на военные темы с миллионами танков и прочим (причем фильм, особо прославлявший Брежнева, так и назывался – “Освобождение”: каждому, выходит, свое).
Сам я в четырнадцать лет любил таких киногероев, каких играли Сергей Столяров или Владимир Дружников, но своевременность появления на экране Леонида Харитонова – в “Сыне” он сыграл главную роль – все же смог оценить.
В полном смысле Леонид героем, конечно, не стал – стал предтечей розовских мальчиков (он и успел сняться в “Добром часе”), а в герои вышел Алексей Баталов (на короткий срок и Николай Рыбников), но прорыв в новое качество начинался с Харитонова.
Я познакомился с ним, когда стал учиться в Школе-студии МХАТ. К тому времени Харитонова вдруг перестали снимать в кино, но что-то обещали в театре, если ставили нечто вроде современного водевиля.
Лёня все равно храбрился. Нам устроили общее – студентов и молодых актеров театра – комсомольское собрание. Обсуждали соотношение между мировоззрением и творчеством. Харитонов доложил собранию в своем выступлении, что мечтает и в театре, и в кино сыграть роль современного героя.
Но нам, первокурсникам, он в кулуарах признался, что главная его мечта – иметь всех баб на свете.
Сегодня я все чаще думаю, что непрерывность вроде бы незначительных перемен, начавших обнадеживать нас после марта пятьдесят третьего года, имела бы больше смысла, чем декларация с трибуны партийного съезда, которую все равно пришлось смикшировать с ожиданием тех решений, что могли бы многое в менявшейся и без того жизни перелопатить.
Своим докладом на съезде Хрущёв позиционировал себя как первое лицо государства, принимающее решения в одиночестве, наступившем для него теперь во власти, – как поступал и человек, которого он с трибуны попытался потеснить в истории.
После доклада, прозвучавшего на весь мир, хотя до соотечественников он доходил в форме закрытого письма, адресованного только членам партии, противники Хрущёва притихли, затаившись, – и, воспользовавшись взятой докладчиком паузой для передышки в разоблачениях, начали копить силы, изучая промахи нового вождя, – и чуть позднее искусно подталкивать его к новым промахам, провоцировать на действия, ослаблявшие ту личную власть, на безграничность которой он рассчитывал, волей-неволей опираясь на выстроенную предшественником структуру.
Культ личности был в первую очередь культом образа. Знаменитый артист Алексей Дикий, побывавший в заключении, назначен был на роль Сталина в кино (а потом и в театре).
Из всех исполнителей он Сталину больше всего понравился полным отсутствием грузинских черт в облике и акцента в речи.
Сталин поинтересовался – артист, кроме Сталинских премий (всего он их получил за карьеру пять), удостоился встречи с вождем тет-а-тет, – почему исполнитель его роли не стремился к сходству с оригиналом.
И Дикий ему якобы ответил, что играл вовсе не товарища Сталина, а представление народа о нем.
Думаю, если разговор этот не апокриф (но, если и апокриф, до чего талантливо придуман), ответ мог понравиться товарищу Сталину не меньше, чем игра Дикого на экране.
Дикий угадал: не живого сходства хотел прототип его персонажа в кино. Он хотел видеть в фильме Сталина – русского императора, а не чудесного, как выразился Ленин, грузина родом из Гори.
Божественное происхождение требовалось вождю народов, а не этническое.
На этот счет существует и еще один апокриф.
Товарищ Сталин отчитывает сына Василия за допускаемые тем сумасбродства.
И спрашивает: “Ты думаешь, ты Сталин?” Василий в ужасе молчит (внук Сталина и сын Василия Александр Бурдонский мне рассказывал, что страх его отца перед своим трудно даже передать словами). Тогда Сталин-старший спрашивает: “Ты думаешь, я Сталин?” И, выдержав паузу, пугавшую больше, чем сама речь, показал на портрет Сталина в форме генералиссимуса: “Вот кто из нас Сталин!”
В форме генералиссимуса (Сталина с портрета) товарищ Сталин появился на людях считаные разы. Гораздо чаще – в придуманном для себя полувоенном костюме, копируемом некоторыми из высокопоставленных подданных.
Но Сталин так носил свой полувоенный китель, что делалось понятным: для такого человека и мундир обладателя высшего звания вроде домашнего платья, он и в своем кителе без погон выше на голову любого из придуманных людьми званий.
Сталин не нуждался в политтехнологах, его образ становился образом безграничности его власти.
При Хрущёве политтехнологов еще не существовало. И прибегнуть ни к чьим советам у него не было возможности: подозрительностью Сталина он, на горе себе, не обзавелся, но и доверять – при постоянной угрозе (с момента смерти предшественника и до непростительной для политика утраты полномочий) в борьбе за власть – никому не мог.
Примем еще во внимание, что Сталин был властителем до-телевизионной эпохи. А Хрущёв со своей живостью и многословием пришелся (особенно к завершению своего правления) на самый-самый первый ее расцвет – и сравнение оказалось не в его пользу.
Почему-то полагаю, что, привыкший к виду Сталина, он не очень был доволен своей внешностью.
Нечего ему и думать было примерить парадный мундир из гардероба Сталина.
Однажды в начале шестидесятых мы играли в домино на Арбате, и Эдик Волков сказал Гене Галкину: “Гена, ты сыграл совершенно правильно, но надо было ходить по-другому”.
И вот нечто подобное произошло за несколько (очень важных, как всегда, для страны) лет на самом верху. Только некому было ни ободрить Хрущёва, ни дать ему дельный совет.
Хрущёв вроде бы сыграл совершенно правильно – как советовал всегда играть великий артист Евгений Евстигнеев: обратным ходом.
На смену таинственному монументу пришел деятель, лишенный позы, с демократическими, я бы сказал, повадками, хотя и не без отпечатка долголетней партийной работы, с языком, каждому понятным и по-своему образным, с той непосредственностью, которая должна бы нас подкупать в государственном человеке, ну и с обликом тоже, скорее, домашним – не с портрета на демонстрации (пусть и носили годы и годы через Красную площадь портреты Хрущёва). Словом, скорее с рабоче-крестьянским, чем бюрократическим обликом.
Вроде бы должен такой человек понравиться массам, или народу, как мы неуместно высокопарно спешим называть эти слитые глухой инерцией массы (притом что чувствовать себя частью народа, видеть в самом себе народ никому не заказано; что-то подобное и Чехов говорил).
Но явление народу Хрущёва оказалось преждевременным – вернее сказать, наоборот, своевременным, однако непривычным.
Каким бы инертным ни казалось привычное, не считаться с ним невозможно.
Продолжая театральные примеры, вспомнил случай с постановкой пьесы Чехова “Иванов” в театре Марка Захарова.
Главную роль получил любимый всеми артист Евгений Леонов.
Это после того, как во МХАТе Иванова сыграл Смоктуновский.
Вообще театралов долго приучали к мысли, что чеховский Иванов – русский Гамлет – должен выглядеть на подмостках примерно так, как традиционно выглядит шекспировский Гамлет.
А Леонов, неподражаемый в комических ролях (правда, всегда почти тяготеющий к драме), и похож был внешне на Хрущёва – примерно тот же самый вид внешности (лысина, брюшко).
Мне кажется, что Леонов – и по типу, между прочим, тоже – всего ближе был к сочиненному Чеховым герою – Антон Павлович и фамилию ему выбрал самую что ни на есть распространенную – не случайно же на премьере “Иванова” у театра только и слышалось: “Карету Иванова!” (впечатление складывалось, что зрительный зал заполнили одни Ивановы).
Но даже так талантливо понимавшая театр Фаина Раневская спросила потом у Инны Чуриковой, сыгравшей жену героя: “Инночка, вам не трудно было играть с этим водопроводчиком?” Возможно, что и воспитанные в себе всей сознательной жизнью чувства Фадеева к Сталину (я не про любовь или преклонение, а про душевную причастность к делу человека, которому служил уж действительно верой и правдой) были оскорблены исполнением Хрущёвым роли Сталина.
И ведь Александр Александрович прав был – по-своему, конечно.
Он знал, что советской власти как института не существовало – существовала только власть Сталина.
И под его власть выстроены были все институты внутри несуществующего института советской власти.
И не было к моменту воцарения Хрущёва ни роли премьер-министра (которую Хрущёв отдал сначала ради консенсуса Маленкову, но скоро отобрал, вызвав огонь на себя тех, кого сам позднее и прозвал антипартийной группой), ни роли первого секретаря ЦК, отвоеванной Хрущёвым для себя сразу же.
Не было и не могло быть этих ролей в не переписанной до основания пьесе про советскую власть.
Была одна роль из ставшего для всех последующих начальников классическим репертуара – роль Сталина. И не надо забывать, что пьесу про советскую власть сам Сталин и сочинил – и удалось ему это не слабее, чем Шекспиру (почему, кстати, Сталин и не разрешал театрам ставить “Гамлета”: рефлексия – штука заразительная).
Думаю, что Хрущёв был не столько огорчен смертью Фадеева, сколько раздосадован: не украшала такая смерть начало его царствования.
Не вижу и веских причин смещения им Фадеева на Втором съезде писателей с должности генерального секретаря (министра, как привык я здесь говорить). Тем более что равноценной замены и близко не было.
По самой сути придуманной этой должности не могло быть.
Занявший должность Александра Александровича Алексей Александрович Сурков знаменит был песней “Землянка” (“Бьется в тесной печурке огонь…”) и оговоркой на многолюдном собрании, когда сказал: “Мы, писатели, пишем для миллионов рублей” (людей, он хотел сказать).
Никак не думаю, что к Эренбургу Хрущёв относился лучше, чем к Фадееву. Но Илья Григорьевич чрезвычайно удачным (что значит талант публициста!) названием “Оттепель”, данным слабенькой повести, оказался на стороне тех, кто пошел за Хрущёвым против Сталина на два года раньше, чем Хрущёв произнес свою речь на съезде. Правильно говорил Эренбург Фадееву в начале пятидесятых: перемелется, мука будет. Кто же виноват, что у Фадеева не перемололось?
На писательском съезде пятьдесят четвертого года Фадеев раскаялся в своей критике романа Василия Гроссмана “За правое дело”, признав, что на самом деле выдающаяся работа о войне ему понравилась сразу, но, как высказывался он в подобных случаях, это была перестраховка в хорошем смысле слова (знать бы Александру Александровичу, что продолжение романа Гроссмана через семь лет не то что будут ругать-критиковать или даже запретят печатать, а вовсе арестуют, плюнув на оттепель – не только Эренбурга, а вообще).
Между прочим, в назначении Суркова вместо Фадеева ничего антисталинского и не было. После ХХ съезда, когда вошло в наш обязательный обиход выражение “культ личности” (не “культ образа”), тут же появилась эпиграмма на Суркова: “Нам культ принес немалый вред. Но слава богу («Бог» тогда писали с маленькой буквы), культа нет. Так почему стоит у пульта поэт Сурков – служитель культа?”
Возможно, на смещение (без равноценной замены) Фадеева и гнев на Симонова повлияло и житейское раздражение Хрущёва эффектным внешним видом этих мужчин. Уж очень хорошо они выглядели, слишком выделялись, слишком уверенными в себе казались ему Фадеев и Симонов – надо было сбить с них спесь, прежде чем определить им место в царствовании Никиты Сергеевича.
Делегатами Первого съезда писателей были все жители литературного Переделкина, кроме, может быть, Симонова (в тридцать четвертом году ему и двадцати не исполнилось) и моего отца (ему в тридцать четвертом году было двадцать шесть, но прозы он толком не писал, оставался газетчиком).
Через двадцать лет, перед Вторым съездом, Хрущёв выразил свое неудовольствие генеральным секретарем Союза писателей Симоновым. Но при всех своих постах и лауреатствах тот не переставал быть и едва ли не самым знаменитым из советских писателей.
Отца делегатом на Второй съезд избрали, но делегатство не улучшало его положения – чувствовать себя комфортно на людях он вряд ли мог.
Вчера еще верноподданнические (теперь за бесконфликтность их обзывали лакировочными) сочинения без проблем удостаивались Сталинских премий (ныне отмененных) – и авторов даже в профессиональной среде ругали без злости – с пониманием, иногда завистливым (умеют же подсуетиться).
А сегодня отец оказался в самом глупом положении. Лауреаты сочинили свои книги и пьесы при Сталине, с них какой спрос? Сейчас, когда все мыслящие люди задумали зажить по-новому, отец проявил себя приверженцем старого: ничего менее удачного, чем его “Поездка в Москву” (и название плохое), и придумать нельзя было в пятьдесят четвертом году.
Годы возраставшего, если позволено будет так выразиться, неинтереса к себе писательской среды, отсутствие читателя, неопределенность дальнейших перспектив отец пережил внешне спокойно, повторяя к случаю и без случая цитату из не читанного им Бальзака о том, что писатель, не способный выдержать критики, напоминает путешественника, вышедшего из дома в расчете только на солнечную погоду.
На эпиграмму с удачно найденной рифмой “Нилина – извилина”, интерпретирующую отца человеком редчайшей (одна извилина) глупости, в пору ее сочинения Михаилом Лукониным никто не обратил внимания: вышучиваемого персонажа за пределами клуба писателей и Переделкина мало кто знал. Но стоило отцу войти в широкую известность, как эпиграмму заучил каждый – и далекий от писательской среды – человек.
Стоит кому-либо из мемуаристов упомянуть фамилию отца, тут же – с обязательными оговорками о несправедливости фразы про извилину (все же совсем дурак такой книги, как “Жестокость”, не написал бы, и вроде бы некоторые литературные способности налицо) – и приведет текст эпиграммы полностью.
В тот же пятьдесят четвертый год, который отец не любил вспоминать (вспоминать даже сорок шестой, когда разносили вторую серию “Большой жизни” и все висело на волоске, ему было гораздо интереснее), он съездил в командировку от “Правды” к себе на родину – увидеть гигантские стройки – и оттуда писал матери, что чувствует силы сочинить что-то настоящее, увиденное наводит его на сюжет, который сможет увлечь всецело, чего с ним не бывало давно или вообще никогда прежде не бывало.
Но по возвращении он ни за какую эпопею так и не сел, ограничился двумя рассказами, никак не связанными с поездкой.
И только осенью следующего года, оставшись один в пустой даче, он написал очень быстро “Испытательный срок” – опять никакого отношения к современным стройкам не имевшую повесть из времен своей юности в Сибири.
Повесть напечатали в первом же номере толстого журнала за пятьдесят шестой год – и тут же отдельной книжкой. Вскоре Сурков говорил кому-то, кто продавал свою машину: “Вы предложите купить ее Нилину, у него сейчас денег много”.
Фадеев встретил отца на переделкинской аллее – сказал: “Ты пишешь, Павлик…” Александр Александрович шел с дамой, разговор не продолжился. Повесть Фадеев вряд ли прочел, отметил лишь (с удивлением вроде), что “пишешь”.
Обе заметные отцовские публикации пришлись на последний год жизни Фадеева.
Отцу в этот год предложили собрать книжку из новых вещей и старых рассказов.
Он перечел свою повесть в “Новом мире” за сороковой – моего рождения – год. И начал ее переписывать.
Книжку пришлось отложить. Из старой вещи вырастала новая. Она будет опубликована в одиннадцатом и двенадцатом номерах – нет, не “Нового мира”, где вскоре произойдут главные литературные события второй половины века, а в “Знамени”.
Но в моем рассказе пятьдесят шестой год еще не завершился.
Несчастье с Фадеевым случилось в мае.
Смерть Александра Александровича сталинисты восприняли с гордостью (и укором к тем из своего лагеря, кто заколебался).
Фадеев не захотел сотрудничать с новой властью Хрущёва.
Но адептам перемен хотелось думать, что убил он себя, узнав из хрущёвского доклада всю правду о Сталине.
Якобы сказал другу Юрию Либединскому (тоже нашему переделкинскому обитателю), навестившему Фадеева за день до случившегося: “Я думал, что охраняю храм, а на самом деле охранял нужник”.
Таким, однако, наивным я, наслышанный дома о Фадееве, и в свои шестнадцать Александра Александровича не считал.
Не верили в моей семье и в ту версию, что Фадеева замучила совесть, когда стали приходить к нему писатели, возвращавшиеся из заключения. Они, мол, инкриминировали Фадееву, что его подпись стояла под согласием на их репрессии.
Неужели писатели, отбывшие срок, совсем ничего про советскую власть не поняли – и могли считать, что без согласия генерального клерка Фадеева на их арест они остались бы на свободе? О чем же они тогда говорили между собой, в лагеря заключенные?
Я все же думаю, что увела Фадеева из жизни вина перед собой.
Как опять не согласиться с Эренбургом, сказавшим Фадееву, что больше, чем перед всеми остальными писателями, виноват он перед писателем Фадеевым.
Я так понял Илью Григорьевича, что, держись Фадеев настойчивее себя – писателя, поставь не на власть, а на литературу, неизвестно еще, как бы все обернулось.
Будь у Александра Александровича за душой хоть одна законченная вещь из тех, какие сам он собирался написать, а не по заказу…
Или, добавляю от себя нынешнего, наоборот, бросил бы он лучше мысли о литературе вовсе, уйдя в любезную себе власть безоглядно.
Физкультурник из школы Бори Ардова задал не такой уж глупый вопрос насчет квартиры.
Была и большая квартира, и дача двухэтажная, но при прогрессирующей душевной неприкаянности он, что называется, места себе не находил.
В кого стрелял Фадеев?
В себя – министра или в себя – писателя?
Склоняюсь теперь к выводу, что все-таки в себя – писателя, когда ощутил, что не в состоянии жить без власти, которой наделяют министра.
Судьба, вознесшая Фадеева в ущерб писательству (до зарезу ли нужно было ему писательство, если так и не смог отдать ему предпочтение, подпирая литературную работу властью, что для свободного сочинительства гибельно), все равно хранила его, предложив ему выход из ситуации – выход, разрешивший не выйти из образа, сохранить лицо – искаженное, как утверждают очевидцы, болью от выстрела в сердце, – лицо человека, усомнившегося, может быть, во всем, но не в силе своей воли.
Когда я услышал в Москве о самоубийстве Фадеева, сразу же представил седую простреленную голову.
Но Фадеев стрелял в сердце – очень прицельно выстрелил, как потом объясняли специалисты.
Я так и не понял, не удосужился выяснить у отца, видел ли он мертвого Фадеева сразу после случившегося.
Знаю точно от матери, что он сразу же, как разнеслась по Переделкину весть о самоубийстве, отправился на фадеевскую дачу – от нашего дома ходу до улицы Вишневского пять минут. Но Александра Александровича могли уже с дачи увезти.
Мать рассказывала, что отца не хотели пускать – милиция или КГБ.
Сам же он записал в дневник, что посторонних не пускал Всеволод Иванов.
Попал ли отец тогда в дом – увидел ли мертвого Фадеева? Полной уверенности нет, раз нет подробной записи о том дне. Но помню, как говорил он о своем впечатлении, будто на лице Фадеева была очевидна гримаса боли.
Вместе с тем в записях за последующие годы Фадеев несколько раз возникает – и однажды впроброс отец вспоминает, как увидел откинувшегося на подушки Александра Александровича без рубашки, – не вообразил ли себе это, как нередко с ним бывало? Не сохранилось, к моему глубочайшему сожалению, этой записи, но пятно запекшейся крови у меня перед глазами и до сих пор.
Первым, кто увидел Александра Александровича мертвым, был его одиннадцатилетний сын Миша, вбежавший в комнату звать отца к обеду.
Я дружил с Мишей Фадеевым – не так близко, как со старшим его братом Шуней, но дружил и дружу (что́ это я о нас в прошедшем времени!), просто видимся мы сейчас крайне редко.
И я, наверное, мог расспросить Мишу, как все было на самом деле, но никогда не заводил с ним разговоров на тему о смерти Александра Александровича – мне казалось, не надо касаться этой темы, она представлялась мне закрытой. Я удивился, когда прочел в газете, что Миша через много лет какими-то сведениями поделился с журналистами.
Журналисты занимались своим делом. И все равно не жалею, что не стал Мишу Фадеева ни о чем расспрашивать.
Мой отец никогда и не осуждал Фадеева, и не оправдывал – Фадеев был для него таким, каким был. И когда в мае пятьдесят шестого шли непрерывные разговоры о возможных причинах, побудивших Фадеева поступить так, как поступил, удивился лишь тому, что он не пожалел Мишу – не мог же забыть о жившем с ним на даче сыне?
Теперь я догадываюсь, что работавший над превращением старого рассказа в новую повесть отец прикидывал-примеривал случившееся с Фадеевым на себя, пытался точнее представить себе состояние Фадеева перед тем, как спустить курок.
У отца и в старом рассказе герой стрелялся, но сейчас он как писатель пытался сделать более психологически обоснованным мотив, ведущий к самоубийству.
Когда это случилось на соседней даче, к тому же с хорошо знакомым человеком, это не могло не сказаться на тех уточнениях, которые он вносил в текст.
Герой перестает быть вымышленным, когда писатель всем своим существом входит в его состояние.
Возможно, я уж слишком элементарно трансформирую свою смутную, в общем, догадку.
Вскоре после выхода повести “Жестокость” в журнальной книжке мы сидели в ресторане Дома литераторов за одним столиком с поэтом Павлом Антокольским и его женой, актрисой Зоей Бажановой.
И муж, и жена близко дружили с Фадеевым – он жил во время войны у них на квартире (этой квартире также часто гостивший там Константин Симонов посвятил стихотворение “Дом друзей”) – дом друзей, между прочим, был и домом военной любви Александра Александровича и Маргариты Алигер.
Антокольские завели разговор об отцовской повести – и Зоя сказала, что она с первых же строк поняла, что это “про Сашу”.
Отец сказал Зое, что совершенно не имел в виду Фадеева. Он и потом сердился, когда проводили прямую параллель между его героем и Александром Александровичем.
О внешних причинах, приводящих к самоубийству, мы можем толковать до бесконечности.
Внутренних же причин нам никогда не понять.
Их, наверное, до конца не понять было и самому Александру Александровичу, но сил, по-видимому, не осталось дальше ими мучиться.
Алексей Александрович Сурков как новый писательский министр вхож был в те же сферы, куда и Фадеев, – и при случае спросил Хрущёва: “Никита Сергеевич! Нам, писателям, хотелось бы все же знать, что пишет Фадеев в письме, адресованном Центральному комитету”. “Центральный комитет отчитывается только перед съездом партии”, – отбрил министра глава государства.
Смири Хрущёв разраставшуюся в нем с каждым днем гордыню, смени государственный гнев на милость и своими глазами, не полагаясь на помощников, внимательнейшим образом перечти письмо Фадеева – не каждый день у нас стреляются без видимого повода люди такого уровня, – он мог бы понять, что публикацией письма самоубийцы только набирает себе очки. А Фадеев, которого интрига с непрочитанным письмом вновь поднимала на пьедестал, будет как автор опубликованного письма выглядеть менее убедительно, чем хотелось бы представить его верным почитателям.
Но власть наша – старая и новая, новая и старая – на самокритику (как ни призывал к ней товарищ Сталин) не способна. И никакой критики (в ней товарищ Сталин предлагал подданным видеть движущую силу нашего общества) не выдерживает во всех смыслах.
Сказав в сообщении о самоубийстве Александра Александровича Фадеева, что находился он в состоянии глубокой душевной депрессии (все правильно – и глубокой, и душевной, несомненно), тут же в подлой мстительности добавляли, что страдал он алкоголизмом как болезнью.
Решили дать понять публике, что стрелял в себя писатель по пьяной лавочке?
Так скажите уж определенней – из-за депрессии или по пьянке; каждый пьющий знает, что депрессия наступает потом, а выпил – значит, перемогся временно.
На самом-то деле в предшествующие несчастью дни Александр Александрович вообще ничего не пил – у него подозревали цирроз печени, что, кстати, не подтвердилось.
Предсмертное письмо Александра Фадеева оставалось под запретом как бы не три десятилетия. И всех, кто ждал в письме откровений, оно разочаровало.
Я бы назвал последнее письмо Фадеева последней литературной его неудачей.
То, что губило в нем писателя, произошло и когда сочинял он последнее письмо: возобладал в Фадееве государственный человек. И пишет он, то ли желая, то ли опасаясь, что обиду прочтут между строк, о плачевном положении в искусстве и литературе из-за невежества высших сановников…
Не получалось письма – ничего не мог он объяснить ни себе, ни давно выбывшим адресатам. Для того письма, какое бы он хотел – и умел когда-то – написать, не находилось точных слов.
Он понял, наверное, с безнадежностью, что, впиши он новые строчки вместо вычеркнутых, разорви вовсе письмо и возьми чистый лист, ничего уже не изменишь – не сможет он сейчас на чистом листе сочинить ничего нового.
И я представил себе совсем отчетливо, как той же рукой, что сердилась на не подчинявшееся ей перо, он спустил курок револьвера.
Очевидную депрессию отца в последние годы жизни легко было объяснить осознанием упущенных шансов.
Но и для меня, когда прочел я после смерти отца его дневники, неожиданным оказалось признание, что депрессию он испытал уже в конце пятидесятых, когда времени на перемены в себе оставалось не так уж и мало – больше двух десятилетий.
В дневниках отец не пытался объяснить причин депрессии – и я попробовал сопоставить не особенно заметные приметы ее в отцовских записях с тем, что сам помнил о той поре.
Помнил я ту пору хорошо, но впечатления мои о жизни родителей не могли быть регулярными. Они жили в Переделкине круглый год, а я старался подольше задерживаться в городской квартире для веселых встреч с приятелями.
Разобраться во внутренних причинах всякой, и родственной тоже, депрессии так же маловероятно, как и в случаях самоубийств.
Искать опору в генетическом сходстве своего характера с отцовским – чувствую, что есть оно, – можно и следует, но и особенно обольщаться не стоит. Мы жили с ним все-таки в разных сюжетах – и трудности преодолений бывали разными, и везение одного совсем не обязательно приходилось на везение другого.
Начнем с перепада происхождений: он сын каторжанина, а я только внук (с примесью инородной материнской крови).
Правда, лень, в большой степени наследственная, помешала мне существенно воспользоваться гуманитарными преимуществами сына писателя перед сыном кузнеца: не могу сказать, что так уж сильно продвинулся я в знаниях, чтобы опять же преимущество в знаниях (оно весьма незначительно) принесло пользу. Или вред.
В середине девяностых (отец умер осенью восемьдесят первого) Анатолий Рыбаков, обсуждая с моей женой отца, отозвался о нем совсем неплохо, но выразил сожаление, что Нилин всего боялся.
Более доброжелательно относившиеся к отцу люди, Юрий Трифонов например, склонны были говорить не о страхе – об осторожности. Трифонов к тому же приводил при этом пример поступка, свидетельствующего обратное: отец подписал привезенное ему Юрием Валентиновичем письмо в защиту Твардовского и никаких колебаний не выказал.
Летом шестьдесят четвертого года на том месте прогулочного круга, где, спустившись вниз (спуск этот в моем детстве назывался “бешеной горкой”, но мне всегда слышалась “бешеная гонка”, поскольку разгонялся здесь велосипед), аллея классиков (улица Серафимовича официально) сворачивает на улицу Горького, мы (я шел с отцом) встретили Анатолия Рыбакова со второй его женой Натальей Давыдовой – и Рыбаков сразу после приветствий настоятельно посоветовал отцу прочесть в “Новом мире” свою повесть “Лето в Сосняках”.
Отец “Сосняков” читать не стал, Рыбакова он считал, вероятно, детским писателем – и никогда не читал, как вообще не читал большинства современных ему и взрослых писателей.
А я прочитал Рыбакова (мне он, как и всем, казался интересен после “Кортика”) – и теперь, вспоминая этот эпизод, понимаю, что Рыбакову важно было, чтобы автор “Жестокости”, считавшейся смелой повестью, увидел, что смелость выражается и в иной форме самоубийства героя.
Насколько я знаю, Анатолий Наумович работал уже над “Детьми Арбата” – не только с возвращением к юности, как в повестях отца, но и продолжением этой юности до времен войны, – то есть собирался сказать обо всем, что выпало его поколению при Сталине.
Известно, какой грандиозный (на весь мир) успех ждал Рыбакова уже после семидесяти, когда во времена Горбачёва роман удалось напечатать.
На вечере в честь столетия Анатолия Наумовича близко знавший писателя Алексей Кириллович Симонов высказал мысль, что по складу своего характера Рыбаков напоминал Сталина – и отлично распорядился возможностью перевоплощения (слияния автора с натурой); это и предопределило звучание романа.
Мысль Алексея Кирилловича я имел честь слышать и в приватном порядке до того, как прочел дневники Чуковского (при чем тут Чуковский, через мгновение объясню), а потом читал в романе-воспоминании самого Рыбакова, как приезжали к нему из МХАТа (Ефремов загорелся идеей первым поставить инсценировку романа на сцене своего театра) – и восхищены были его показом Сталина и хотели даже пригласить семидесятипятилетнего писателя сыграть роль Сталина.
Но за двадцать приблизительно лет до разговора Рыбакова с Олегом Ефремовым – в конце июля шестьдесят восьмого года – Корней Иванович Чуковский записывает у себя в дневнике буквально следующее: “Встретил Нилина, который дивно, очень талантливо изобразил Сталина – процитировав наизусть страницы романа, который он сейчас пишет”.
Вынужден предположить, что цитирование было всего-навсего импровизацией, – я не помню чтения вслух готовых страниц. Возможно, жил я тогда другой жизнью, чем жили родители, и что-то пропустил.
Но ни романа, ни даже повести или рассказа о Сталине так и не случилось.
Что же касается изображения отцом Сталина – это тоже вызывает у меня сомнения.
Отец очень артистично рассказывал, но копирование кого-либо на манер Андроникова было ему несвойственно. Он добивался выразительности средствами рассказа, а не показа. Правда, помню, как, чуть подкрепив слово жестом, изображающим курносый нос жены одного соседа-писателя с угла улицы Тренёва, он вызвал восторг дочери Андроникова Мананы. Да и Корней Иванович – поклонник и постоянный зритель-слушатель Ираклия Луарсабовича – вряд ли стал бы в дневнике выдумывать.
Но как бы то ни было, отец про Сталина не написал – изображал сцену из несочиненного романа; а Рыбаков – из уже опубликованного. Разница есть.
И страх ли тому виной, если рассказывал отец, как показалось опытнейшему в литературном деле Чуковскому, готовые страницы?
Отталкиваясь от внешнего (вернее, общеизвестного), я мог бы сразу найти оправдание отцу в истории с “Большой жизнью”, когда вторая серия фильма была запрещена лично Сталиным – и отца вызывали на оргбюро Центрального комитета партии, где он с постановщиком фильма Леонидом Луковым выслушивал замечания от Сталина.
Они пытались утешиться предположением, что не все для них потеряно, раз вызвали сценариста и режиссера в Кремль, – хотя пригласили не всех фигурантов исторического постановления (вместе с “Большой жизнью”, вынесенной в заголовок постановления, ругали также фильмы Пудовкина и Эйзенштейна, но с них в тот раз штаны снимали заочно).
И вроде бы действительно ни Луков, ни отец в тюрьму не сели, а вот Рыбаков за неосторожно сказанное слово в тридцатые годы попал в тюрьму и отбыл в ссылку.
Впрочем, как еще сказать, легко ли отделались Луков с Нилиным.
Отцу в нестарые еще годы случалось терять внезапно сознание в общественных местах. Случай обморока дома помню единственный, весной пятьдесят третьего года. Но знаю, что падал он и сразу после войны в Малом театре, и на конференции читательской, посвященной его повестям, в пятьдесят седьмом году, когда хвалили, а он упал вдруг со стула за столом президиума.
Не помню года, когда открывали новое здание Дома литераторов, – предположительно, на рубеже шестидесятых; отец, вполне трезвый, по словам матушки, пошел к соседнему столику с кем-то перекинуться словом – и упал. Вызвали скорую – несли к выходу на носилках. Рядом с носилками шел совершенно пьяный поэт-песенник Алексей Фатьянов, плакал и приговаривал: “Павел, ты не умрешь, наше правительство не даст тебе умереть”. А пока отец лежал в седьмом корпусе Боткинской, умер Фатьянов – и теперь уже моя матушка плакала, вспоминая, как шел тогда Алёша рядом с носилками…
В новом веке серия “Жизнь замечательных людей” пополнилась книгой о Фатьянове – и в ней я прочел, что осенью сорок шестого года жена Фатьянова очень беспокоилась за мужа, сочинившего текст песен для второй серии “Большой жизни” (в постановлении песни осудили за кабацкий надрыв), – и беспокоилась не беспочвенно. Она уже знала, что автор сценария Павел Нилин арестован. Так черным по белому и написано – кто у нас сейчас что проверяет.
Я стал думать – напоминало ли что-то в нашем доме о возможном аресте отца? И ничего не смог припомнить.
Наоборот, бодрые разговоры, что раз сам Сталин покритиковал прилюдно, значит, верит Иосиф Виссарионович, что выводы автором сценария будут сделаны правильные. И с этим жили.
Жили бедно – денег же за фильм не заплатили, залетели из-за этого с денежной реформой, долги отдавать надо было новыми деньгами.
Жили бедно, непразднично (почему и полюбил я футбол, никого в семье не интересовавший), но не в страхе, страх от детей удалось скрывать.
Много позднее отец рассказывал мне, что до самого начала заседания в Кремле не верил, что придет товарищ Сталин, – и, только увидев начальника охраны Сталина генерала Власика, понял, что придет “хозяин” непременно.
“Я подумал, – вспоминал отец, – ну, посадят, что буду делать – брошу курить”. И настолько свыкся (это к вопросу о силе воображения, рождаемой страхом), что, когда режиссер Чиаурели попросил у него закурить, ответил, к изумлению Чиаурели (Нилин же минуту назад курил сигарету), что не курит.
Вот это уже больше похоже на отца, если рассуждать о природе его страхов.
Но еще позднее он путано – не все я в подробностях понял – рассказал историю.
Был у него друг Юра Иванов, о котором отец не знал, что служит тот на Лубянке. И сказал при нем году в тридцать первом, что Сталин не удержится.
Потом на Лубянке отца лупили (его выражение) и требовали идти к ним работать.
А он написал письмо Ягоде, объяснив причины, почему не сможет.
История казалась мне фантастической.
Но сколько людей, служивших на Лубянке, потом уличали, разоблачали, приводили компрометирующие свидетельства их деятельности, об отце же никаких сведений не поступало, а я уверен, что при его невезучести любое лыко в дни удачи поставили бы ему в строку.
Несмотря на подчеркнутую лояльность, начальство отца не жаловало, а заметная часть прогрессивной публики подозревала в недостаточной симпатии к лицам определенной национальности (как сам отец говорил, “братскому еврейскому народу”), притом что женат он был неосторожно и что один из главных партийных идеологов Ильичёв считал самого отца евреем – прямо говорил: “Я этому жиду ходу не дам!”
Кто-то сообщил отцу, что у нас в аэропортовском отделении милиции я многих начальников хорошо знаю. Отец на это сказал, что к праздникам министр внутренних дел присылает ему поздравительную телеграмму на правительственном (с красной полосой) бланке, но он вырос в Иркутске на Семинарской улице, где принято было, завидев полицейского, переходить на другую сторону улицы. И он по такому принципу живет до сих пор.
В писательской среде побаивались, но стойко презирали тайных осведомителей-стукачей.
Другое дело – всяческие поощрения, значки, грамоты, премии от силовых, как сейчас их именуют, министерств: официальная причастность к силе со времен Бабеля (репрессированного в итоге) становилась предметом гордости.
Ехал я однажды в машине Сергея Сергеевича Смирнова в Москву – мы с хозяином на заднем сиденье, а впереди, рядом с водителем, наш переделкинский писатель из Львова Владимир Павлович Беляев. И, рисуясь перед шофером, Владимир Павлович громко спрашивал Сергея Сергеевича как о само собою разумеющемся, познакомился ли он уже с новым председателем комитета (Беляев подразумевал Комитет государственной безопасности).
Сергею Сергеевичу неприятен был такой разговор при мне и при водителе. Вряд ли видел он необходимость в немедленности подобного знакомства. Но и неловко было перед Владимиром Павловичем делать вид, что для него, руководителя писательской организации, вопрос этот кажется праздным.
Отец изловчился так и не прийти на Лубянку (вряд ли был он вообще на ней со времени так неожиданно для него обернувшейся дружбы с Юрой Ивановым) на вручение знака почетного чекиста (щит и меч), чем избежал премий от этой конторы, довольно щедро раздаваемых писателям.
Кстати, ничего такого уж зазорного в щите и мече на лацкане писатели не видели: в брежневские времена удостоверениями всяких там консультантов силовых министерств козыряли перед милицией (а потом перед знакомыми – рассказами об этих козыряниях), за милую душу входили в общественные советы.
Общий любимец Оня (Иосиф) Прут, первый советский сценарист, в пиджаке со щитом и мечом разве что не спал – и не скрывал, какие льготы знак чекиста дает на таможне.
А ортодокс Нилин жил по законам воровской Семинарской улицы.
В последнее время я чаще (да и на себя, на свою природу, на свой генетический коктейль делая поправку) пытаюсь абстрагироваться от советской реальности, на которую мы теперь всё валим – валим не без серьезной аргументации, – и подумать о предрасположенности (как бывает высокий и низкий болевой порог) к страху, которая нас, кому предрасположенность эта выпала, подчиняет себе.
Это не отдельный страх – высоты, темноты, замкнутого пространства, а страх вообще – страх перед страхом, может быть, страх, пространство которому предоставляет воображение.
Люди с истинным воображением редко бывают безоглядно храбрыми. Безоглядная храбрость всего чаще требуема обществом, состоящим не из храбрецов, но всегда на храбрецов опирающимся в минуты опасности. А опасность редко измеряется минутами, бывает, что и веков мало.
Люди с истинным воображением редко бывают безоглядно храбрыми, но храбрость этих людей, хоть изредка проявленная, – как золото самой высокой пробы.
Еще из рассказов о Первой мировой войне мне запомнился случай, когда два солдата сидят в окопе – и подходит к ним офицер со словами: “Молодец, Петров. Хорошо воюешь – ничего не боишься, на́ тебе в награду рубль”. А второй, обнесенный наградой, говорит офицеру: “Ваше благородие, дайте лучше рубль мне – я боюсь, но воюю”.
У отца моего предрасположенность к страху заложена была в психике, видимо, изначально – шла от каких-то необоримых страхов детства; страхи, как утверждает мой младший брат – психолог, доводили его иногда до галлюцинаций.
И как тут тогда найти грань, отделяющую предрасположенность, себе подчинявшую, от опыта жизни, когда знал он, чего реально боится?
Я лет, кажется, до семи ничего не боялся – даже высоты (страх, меня потом, с отрочества, всю жизнь мучивший).
Мой дядя, старший брат отца (в нем никакой предрасположенности к страху не замечалось, вот вам и общие гены; хотя вряд ли страх происходил от каторжанина-отца, скорее уж от матери, отличавшейся кротостью, – но ведь кротостью, не боязливостью; вся, кстати, иркутская родня отца, его двоюродные братья – люди по-разному отважные), – мой дядя Семён Филиппович подарил мне, шестилетнему, дорогую игрушечную собаку за смелость. Мы ходили с ним в цирк – и что-то в моем поведении сибиряка-дядю подкупило.
И в более раннем детстве я как-то удивил обеих своих бабушек.
Мне было два года, и на елку в редакцию меня бы по младости не пустили, не работай матушка в ташкентской эвакуации ответственным секретарем.
Сюжет представления на елке в редакции, разумеется, связан был с газетой: зайцы (или там кто-то) вывесили в лесу стенную газету, а волк сорвал ее с елки. Я вскочил со своего места – и закричал, чтобы волк сейчас же повесил газету обратно.
В школе я начал чего-то бояться – и, как следствие, врать; а родители так гордились, что Саша никогда не врет.
С Беговой (угол с Хорошёвским шоссе) мы переехали в Лаврушинский переулок – в дом, где жили знаменитые писатели.
Как-то утром уходила от меня довольно большая компания – и я предупреждал гуляк, чтобы громко не разговаривали: “А то в нашем доме такой резонанс…” – “Да, – подхватил Миша Ардов, – один жилец сочинил «Доктора Живаго» – и резонанс на весь мир”.
На даче я бывал от раза к разу – и в каждый из приездов замечал перемены в сторону процветания: мебель появилась, купили машину. Родители совершили круиз по Средиземному морю, отец съездил в Швецию.
Переделкинский мир, однако, не перевернулся от неожиданного для всех соседей успеха отца.
В Переделкине нельзя проснуться знаменитым, если не был им до вселения сюда.
Если же нет, то изволь просыпаться знаменитым в течение не одного года – и тогда, может быть (может быть!), старожилы, знаменитые задолго до самого проекта дачного поселка для избранных, примут тебя наконец за своего.
До войны, когда никаких успехов, кроме киношного, отец не знал, ко времени моего рождения славные обитатели Переделкина превратились для моих родителей в хороших знакомых.
Неужели так много и тогда значило бытовое благополучие, машина и так далее?
Пастернак своим летящим в размахе линий почерком благодарил мою матушку запиской за то, что подвезла она на машине сына Лёню с няней.
В гостях у родителей за вечерним чаем или выпивкой перебывали все признанные классиками переделкинцы.
Но я никого из них у нас на дачном участке не видел, когда что-то стал понимать, ко второй половине сороковых – началу пятидесятых годов.
Зимой пятьдесят седьмого или пятьдесят восьмого шел я с отцом, и встретили мы Леонида Леонова, тот гулял с поэтом Степаном Щипачёвым. По тому, как поздоровался с отцом Леонов, совсем не похоже было, что приходил он к нам до войны (а он приходил). Зато Щипачёв просиял при виде отца, радостно сообщив, что только вчера вернулся из Америки, где, в частности, познакомился с издателем, который выпустил книгу Нилина. На лице Леонида Максимовича выразилось чувство, что не ревнует он, конечно (много чести), но ему просто стыдно за американских издателей, которые издают черт-те что.
Однако в дневнике отца за шестьдесят второй год наткнулся на запись, как возвращаются они вместе с Леоновым из ЦК партии, где писатели встречались с каким-то большим начальством, – и ведут вполне дружески-философский разговор о том, что в нашей стране происходит. После вызова в ЦК они уже вроде бы люди одного круга, хотя, если не ошибаюсь, Леонид Максимович беспартийный, а отец во время войны вступил в партию.
Есть основания предполагать, что успех отца нашей семьей преувеличивался – и я, этот разговор сейчас затевающий, выгляжу всего-навсего лицом, заинтересованным в долгой известности своего родителя.
Нас, родственников, можно понять.
Я пробую сейчас представить, как сложилась бы жизнь отца (и всей нашей семьи), откажи ему тогда “Знамя” в публикации.
Оправился бы он после третьей за десятилетие неудачи?
Иногда мне кажется, что психика его бы не выдержала.
Но и предполагаю, что, не будь того успеха (нами, как теперь кажется, преувеличенного), дальнейшая писательская жизнь отца сложилась бы лучше: он больше бы сочинил, не скован бы оказался ожиданиями от него шагов именно в том направлении, какое он своей книгой обозначил.
Книгу отца в ретроспективе заслоняет непременностью упоминаний “Не хлебом единым” Дудинцева.
Я за прошедшие более полувека два или три раза перечитывал “Не хлебом единым”, ничего к первому впечатлению – на четыре с минусом – не добавив, а отца – именно “Жестокость”, эту наиболее известную его вещь, – так никогда и не перечитывал из-за нескольких абзацев, которые отец и тогда, когда отдавал рукопись в журнал, откровенно называл понтами, наведенными для прохождения цензуры.
Преимущества книги Дудинцева можно находить в том, что она подверглась гонениям. Но замечу, что, не напечатай ее терявший при началах Хрущёва свое прежнее влияние и тем не менее главный редактор “Нового мира” Константин Симонов, романа бы и не существовало (о самиздате тогда еще не слышали – и не слишком ли просоветской показалась бы она для самиздата?).
Точно так же, не пробей сменивший Симонова в “Новом мире” Александр Твардовский публикацию Солженицына, неизвестно еще, состоялся бы Александр Исаевич в том масштабе, в каком состоялся, – и состоялся бы вообще?
Должно было время пройти, чтобы репутация (репутация, заметьте, а не условия, необходимые писателю для продолжения литературных занятий) стала больше зависеть от самиздата, чем от официальных изданий. И все равно, назовите мне писателя, который не хотел бы официальных изданий (с их тиражами) у себя на родине!
Отец потом спрашивал Вадима Кожевникова (он тоже жил в Переделкине):
– Вадик, а как ты решился меня напечатать?
Вадим изображать смельчака не стал – подмигнул: “Я кое-что уже знал”.
Знал, надо полагать, кое-что о происходившем наверху, ну и правило Охлопкова вряд ли осталось ему неизвестным.
Кожевников не был чужд некоторого редакторского авантюризма – для чего и завязывались связи наверху, связи для расширения трехминутной щели (когда другим журналам нельзя, а твоему вдруг можно, только в благодарность за такие разрешения печаталось много всякого дерьма).
Кожевников попал в начальство примерно в то же время, что и Симонов, блеском и славой Константина Михайловича не располагал, но с пользой для себя съездил по заданию верхов в Китай – и вообще с войны входил в редколлегию “Правды”, а затем и в секретариат Союза писателей, возглавляемый Фадеевым.
Журнал “Знамя” Кожевников получил после Вишневского. Но журнал под эгидой политуправления армии после войны популярность утрачивал, от “Нового мира” отставал.
Потому и схватился Кожевников за “Жизнь и судьбу” Гроссмана, что рассчитывал, своими связями заручившись, вставить фитиль не любившему его со времен войны Твардовскому.
Отец рассказывал мне, как пошли они втроем в гости к знакомому Твардовского, генералу, выпивали там – Твардовский стал читать им не опубликованного еще “Василия Тёркина”, главу “Переправа”, и Кожевников был уязвлен какой-то его репликой насчет не очень-то и больших его, Кожевникова, способностей (отцу Александр Трифонович великодушно сказал: “В тебе хоть что-то есть, но Вадик-то вообще никакой…”).
Кожевников помнил, как отрекался Твардовский от Гроссмана при Сталине (тем не менее Гроссмана опубликовав) и как потом им с Фадеевым было неловко, что они согласились с критикой романа, который на самом деле им очень нравился.
Но возможности Гроссмана Кожевников недооценил – и, начав читать новый роман, ужаснулся.
Не только тому ужаснулся, о чем впервые рассказал столь правдиво Василий Семёнович, а, главное, тому, что понял, во что обойдется ему и его журналу не намек даже на возможность публикации, а сам факт, что роман оказался у них в редакции.
И сделал единственно возможный спасительный ход: сдал Гроссмана, оправдав себя перед верхами, – роман оказался в ЦК и КГБ.
Прошло не больше года после истории с Гроссманом, как Твардовский в “Новом мире” напечатал Солженицына.
Что же? Ситуация снова изменилась – наступили, как всегда жданно, но негаданно, три минуты послаблений – и редактору Кожевникову волосы на себе надо было бы рвать за свой поступок – не из раскаяния, конечно (начальство не ошибается, даже ошибившись во всех своих делах), а из-за редакторской промашки: “Новый мир” опять был на несколько голов впереди.
Нет, Кожевников мог спокойно спать у себя на даче по улице Лермонтова в Переделкине: на великий роман Гроссмана правило трех минут не распространялось.
Я и такое слышал: “Убери из «Жестокости» выстрел – и ничего примечательного в ней не останется”.
Но выстрел был изначально и в старом рассказе – выстрел комсомольца в себя из-за любви (он и назывался “О любви” – у Фадеева, кстати, тоже был под таким названием рассказ или, может быть, отрывок из чего-то, опубликованный после смерти автора в “Юности” Катаева).
Никто тогда ни выстрела не запрещал, ни рассказа не запомнил.
В культовой, как теперь говорят, книге “Как закалялась сталь” Павка Корчагин в минуту малодушия, как считает Николай Островский (и вслед за ним все изучающие “Сталь” по школьной программе вынуждены считать), наставляет на себя револьвер.
Но в том-то и фишка, что не стреляет, а произносит монолог, в мое время многими заученный наизусть, о том, что жизнь человеку дается один раз и надо прожить ее так, чтобы не жег позор за какое-то там прошлое. И чтобы, умирая, мог сказать – видите, и я через столько лет почти наизусть помню монолог Корчагина, – что все твои силы отданы борьбе за освобождение человечества (последних слов в точности не помню, пересказываю смысл).
Вместе с тем трудно не заметить, что поводом для отмененного в итоге ухода из жизни Павки стал его личный недуг, грозящая ему, как и Николаю Островскому, неподвижность, а не что-либо другое – и уж ни в коем случае хоть какое-то несогласие с происходящим вокруг.
Позор за происходящее не жег.
А что было делать молодому и здоровому герою отца, которого нестерпимо жег позор – за ложь, с которой начиналась (и ею же бесконечно и продолжалась) борьба за мифическое освобождение?
Жившая переводами, не имевшая никакой надежды опубликовать оригинальные произведения Мария Сергеевна Петровых пишет стихи, посвященные любви своей к Фадееву: “Назначь мне свиданье на этом свете…” (я каждый день повторяю строчку оттуда: “Пусть годы промчатся в круженье обратном”).
Ахматова считала “Назначь мне…” шедевром лирики ХХ века.
И не получится ли так, что великолепный в подсиненной своей седине и прижизненной славе Александр Александрович Фадеев останется в истории литературы как герой лирики Марии Петровых?
Отцу в последней его квартире на Аэропорте (семидесятые завершались) приснился Фадеев.
Как при сновидениях и положено, времена совмещались – то ли настоящее с прошедшим, то ли (что скорее всего) прошедшее с исчезающим настоящим.
И отец сказал из настоящего: “Саша, ты же умер?”
“А думаешь, ты не умрешь?” – засмеялся своим смехом Фадеев.
II
Лауреаты
Глава первая
Николай Фёдорович Погодин утверждал, что драматургия начинается с непорядка.
Изначальный арендатор дачи № 8, он жил на улице, носившей имя другого знаменитого советского драматурга – Константина Тренёва.
Тренёв, впрочем, знаменит был одной пьесой “Любовь Яровая” – в отличие от драматурга с дачи № 8, сочинившего десятки репертуарных пьес.
Уважаемый профессор (литературы, разумеется, ее же исследователь, к тому же поэт, наставник поэтов, критик и телеведущий), уже в XXI веке поселенный Литфондом в названную дачу, иронизировал, что по ночам ему мерещится человек с ружьем (“Человек с ружьем” – пьеса Погодина, где он впервые вывел на сценические подмостки Ленина, после чего был переведен в ранг классиков и получил двухэтажный коттедж в подмосковном писательском поселке).
Причину иронии нового жильца я, откровенно говоря, так и не понял.
Энергетика прежних жильцов, накопившись за десятилетия, въедается в стены дачи – и ни капитальными, ни тем более косметическими ремонтами ничего не изменишь – разве что более мощной личной энергетикой.
Это не сочиненный Погодиным человек с ружьем (а почему бы, кстати, не Ленину, стольким обязанному первому арендатору, явиться здесь эхом?) чудится новоселу, не солдат Иван Шадрин (имя этого персонажа), а сам драматург, призывая войти в не написанную пока никем пьесу о нашем поселке.
Поэт, живший на даче неподалеку, заметил, что “весь Шекспир, наверно, только в том, что запросто болтает с тенью Гамлет”.
Кто мешает нам искать диалога с тенями?
Здесь, на погодинской даче, разворачивался мировой сюжет, в котором драматург не признался – вернее, не решился признаться себе же самому. Сюжет, который он хотел бы считать для себя главным (может быть, итоговым), вытеснен сюжетом не придуманным, но опровергнувшим всю прежнюю успешность прожитой жизни.
Этот сюжет начинался здесь – продолжился, обретая губительный поворот, за океаном – и завершился, словно на сцене, в летний день на даче.
Своему литературному секретарю Погодин говорил, что едет в Америку за главной своей пьесой. Первый вариант был уже предложен им театру, не был отвергнут, но автора не удовлетворял. Ему требовалось непосредственное впечатление от Америки – и он выхлопотал себе право съездить туда туристом.
В США он поведением правильного советского человека за границей сымпровизировал пьесу, где роль свысока смотрящего на эксперименты буржуазных художников знаменитого драматурга из России удалась ему с блеском. Это зафиксировал в похожих на пьесу воспоминаниях спутник Погодина в поездке, не последний, по тогдашним меркам, драматург Анатолий Софронов, живший у нас на улице Гоголя в собственной каменной даче. Как острил мой отец, сложенной из остатков метро.
Но в сознании Погодина – независимо от его воли (наоборот, воля была ей подчинена, парализована, может быть) – складывалась иная пьеса, почище, чем задуманная перед Америкой или, тем более, в Америке им сыгранная – что, возможно, и навело подсознательно на участие в пьесе, так никогда и не записанной.
Финал этой незаписанной (и вряд ли до конца осмысленной, хотя как знать, как знать после всего случившегося с Погодиным) пьесы он, однако, поставил как режиссер, у себя на открытой веранде. И сам исполнил в ней главную роль.
Со стороны мне всегда казалось, что жизнь Погодина на даче мизансценирована на театральный манер. Не помню, как в раннем детстве, когда не знал я термина «мизансцена», не слышал про поворотный круг сцены, – как тогда определял я для себя, что дача Погодиных повернута к воротам не фасадом, как все наши родственные по архитектуре дачи, а в профиль. От ворот шла очень прямая (в пятидесятые годы уже заасфальтированная) дорожка шириной в подъезжающую к черному ходу машину. А выставочная, парадная часть с огромной верандой, откуда голоса часто съезжавшихся к Николаю Фёдоровичу и жене его Анне Никандровне гостей на улицу не доносились, открывала вид на пруд.
На веранде у Погодиных я так ни разу и не был. А мог бы – в сорок пятом году, на дне рождения Тани Погодиной – девочки тогда ощутимо взрослее меня (я с ней в дальнейшей жизни и не сталкивался никогда). Собирались показать в домашних условиях кино. И по-соседски пригласили меня, пятилетнего. Я всю неделю предвкушал, как впервые увижу кино, – почему-то в нерастраченном воображении возникала фольга от шоколада.
Но накануне дня рождения старшие мальчики чем-то обидели девочек, Таниных подруг, и гостей отменили.
У Погодиных на даче, повторяю, я так и не побывал. Отец году в сорок седьмом с Погодиным у него же в гостях поссорился – и до пятьдесят четвертого, кажется, года, когда они помирились, я видел Николая Фёдоровича только на улице.
С внутренней стороны забора Погодиных, выходившего на улицу Тренёва, вытоптали волейбольную площадку – теперь там кем-то посажены тоненькие деревца. Играли на ней старшие, меня не звали. Я и не любил волейбола, но люди, игравшие у Погодиных (сам Погодин на площадку не выходил, но волейбол представлялся частью казавшейся мне таинственной жизни их семьи), интересовали меня – и я следил за ними от забора нашей дачи, отделенной проезжей частью дороги.
Общим местом в разговоре о Погодине всегда становилась фраза о его богатстве. Мемуары сохраняют и высказывания на этот счет соседа, Пастернака, когда он говорил Александру Гладкову, что пятнадцать рублей для него большая сумма (“Я не Погодин”), и родственницы Бориса Пильняка. И у нас в семье как-то зашел разговор про Николая Фёдоровича – и Алексей Спешнев сказал моему отцу: “Как хочешь, Павлик, но Погодин – классик”. На что отец немедленно ему ответил, что не всякий богатый человек уже классик.
Алексей Владимирович Спешнев (или, как все в нашей семье называли его, Алёша Спешнев) был очень высоким, очень красивым, всегда чуть ироничным в прищуре глаз и тоне, легковесно остроумным в оценках и приятном, но столь же легковесном суждении обо всем на свете, несомненно не злым человеком, дружившим с моим отцом, который над ним обычно слегка посмеивался, оставаясь неизменно к Спешневу привязанным.
Спешнев тоже писал пьесы и сценарии, не имевшие успеха (Алексей не работал на износ, как привык Погодин). Способности имел подражательного свойства, которые опять же не утруждался развивать – и потому достаточно часто (до поры, пока не стал сам снимать как режиссер фильмы по своим сценариям) залезал в долги – приходилось постоянно одалживать у одних, чтобы погасить долг другим. Жена Спешнева дружила с Анной Никандровной – и Николай Фёдорович без раздражения (свойственного отцу, когда приходилось давать деньги Алёше) выручал незадачливого коллегу.
Спешнев помирил отца с Погодиным, когда жил со своей семьей летом у нас на даче, – и пригласил Николая Фёдоровича в гости. Я к тому времени увлекся театром, и меня, конечно, интересовал драматург, чьи пьесы ставились и в Малом, и во МХАТе, и у Охлопкова. Охлопкова я, как и Погодина, видел на улицах поселка, но вблизи не случалось. А тут вслед за Погодиным зашел на наш участок и он, сыграв даже сценку – взял у мужика, развозившего продуктовые заказы по писательским дачам, картонную коробку и с нею на плече появился, изображая посыльного. Вместе с Николаем Фёдоровичем в гости Спешневым зван был и сын Погодина Олег (он, правда, заходил к моему отцу и в период ссоры наших родителей).
Погодин с отцом разговаривали как ни в чем не бывало – и когда Николай Фёдорович что-то сказал насчет вроде бы, как ему, мол, показалось, размолвки между ними, отец отмахнулся: “Да брось ты, Коля, какая размолвка, ты что?”
Прежние – довоенные, военные и сразу послевоенные отношения, о которых был я наслышан, – все равно не возобновились. Но на похороны Погодина отец, бывавший на похоронах вообще-то крайне редко и неохотно, все же поехал. Похоронен Погодин был на Новодевичьем, недалеко от входа, и на могильном камне скульптор выделил особо человека с ружьем, что дало повод вышедшему из моды долгожителю, драматургу Алексею Файко, пошутить, чтобы у него на могиле не ставили человека с портфелем (самая известная пьеса Файко, нашумевшая в тридцатые годы, называлась “Человек с портфелем”).
Для меня в детстве постоянные разговоры о богатстве Погодина всегда почему-то ассоциировались с голубовато-дымными елками у него на участке.
Несколько лет назад я проходил мимо бывшей погодинской дачи, населенной новыми жильцами, и подумал: а что в пейзаже ее существенно изменилось, кроме засаженной деревцами волейбольной площадки?
И понял, что куда-то делись необычного цвета елки, – и тогда же подумал, что они ассоциировались не с богатством, а с темами пьес Николая Фёдоровича. Ведь точно такого же цвета ели были посажены возле Мавзолея.
Со мной в младших классах учился Алёша Щеглов – мальчик из актерской семьи. Отец – он с ними не жил и вообще к этому моменту умер – был артистом (снимался в знаменитом фильме “Мечта”, подаренном во время войны Сталиным американскому президенту Франклину Рузвельту), мама – режиссером и профессором театрального института, правой рукой руководителя Театра Моссовета (тоже бывшего ее мужа), а бабушка – очень известной в прошлом актрисой, воспитавшей ту самую Фаину Раневскую, что больше всех в “Мечте” понравилась Рузвельту.
Дружба – и самая тесная, теснее не бывает – связывала Павлу Леонтьевну Вульф (так звали бабушку Алёши) с Фаиной Григорьевной, переиначившей отчество для лучшего звучания в Георгиевну, до самой бабушкиной смерти.
Школьником я привык видеть, как обе актрисы – хрупкая Вульф и габаритная Раневская – медленно прогуливались по улочкам нашего поселения на Хорошёвке, мимо каменных коттеджей, построенных сразу же после войны пленными немцами.
Наше поселение связывали с Моссоветом – и весь пятидесятый (моя семья жила в первом) корпус занимали артисты Театра имени Моссовета.
Отдельных квартир на корпус было только две – на втором этаже. Жильцы нижнего этажа делили трехкомнатные квартиры пополам – у кого комната, а у кого и две. В такой квартире соседствовали семьи двух актеров, Пирогова и Осипова. Раневская считала талантливыми обоих и огорчалась, что и тот и другой склонны к разрушающей здоровье слабости.
Алёша Щеглов дружил с двумя девочками из этой квартиры (как приятель Алёши, я тоже их знал) – с Леной Осиповой и Людой Пироговой.
Обе собирались стать актрисами. Но Лена была еще и чемпионкой по фигурному катанию. После школы с помощью Алёшиной мамы (и через посредство Ирины Сергеевны Анисимовой-Вульф – бывшей жены Завадского) Лена Осипова поступила на балетмейстерский факультет театрального института (тогда он назывался ГИТИСом), не заканчивая хореографического училища.
Протекция режиссера Анисимовой-Вульф повлияла на будущее мирового фигурного катания. Поскольку Лена, взявшая фамилию своего второго мужа Толи – Чайковская, – стала великим тренером, в спорт она вдохнула эстетическую ноту.
А Люда окончила Щепкинское училище и стала заслуженной артисткой Малого театра. Когда лет десять назад зашел разговор про игровой фильм о Елене Чайковской, я предложил сделать картину про двух соседок, где одна потом играет в кино другую. Как и почти все мои идеи для кино, эта идея показалась продюсерам бредовой. Жаль – актерам дано иногда проникнуть внутрь чужого характера гораздо глубже, чем тот, кому такой характер выпал.
Семья Алёшки занимала трехкомнатную квартиру. В комнате у бабушки висел портрет, как я подумал сначала, Ленина.
Но бабушка-актриса объяснила мне, что на портрете ее друг-артист в роли Ленина.
Не могу – вернее, задним числом не хочу – объяснить мое тогдашнее смятение.
Вряд ли готов я был к догадке о проникновении актерским даром и в тайны власти.
И понимал ли – в таком случае, – что власть – это прежде всего роль?
В том же сезоне (уж придерживаюсь театральной терминологии) в начале пятидесятых у нас на даче снимал самую большую комнату артист Малого театра Михаил Францевич Ленин. Дача была казенной (принадлежала Литературному фонду) – и то, что теперь называется субарендой, было категорически запрещено. Но сложность материального положения на тот момент вынудила моих родителей пойти на такое нарушение: деньги, заплаченные съемщиком, снижали арендную задолженность.
Видимо, при выборе псевдонимов артист Игнатюк и большевик Ульянов руководствовались разными ассоциациями. Артисту бы больше подошло Ленский, но в Малом был уже артист, взявший сценическую фамилию Ленский, – Александр Павлович Ленский, руководивший этим театром.
От большого ума Михаил Францевич накануне революции опубликовал в газете заметку, где просил почтеннейшую публику не путать его, артиста императорских театров, с немецким шпионом Лениным.
Когда Ленин (не артист, а большевик) возглавил Совет народных комиссаров, он подписывал указы двойной фамилией – Ульянов-Ленин. Спохватился – уже бытовала присказка: «чай Высоцкого, сахар Бродского, Россия Троцкого». Интернационализм интернационализмом, но для публики национальные приоритеты следовало обозначить. Когда председателем Совнаркома стал Молотов, он по примеру Ильича рассекретил настоящую фамилию – подпись ставил “Молотов (Скрябин)”.
Был такой партийный остряк Карл Радек, который не удержался от предположения, что скоро появится подпись Сталин-Бетховен (Сталин, мол, меньше Скрябина не возьмет). Надо ли потом удивляться, что Сталину пришлось Радека расстрелять.
В антисемитскую кампанию, озаглавленную борьбой с космополитами, какой-то писатель с правильной фамилией (кажется, Бубеннов) обратил внимание, что есть еще немало коллег, маскирующих псевдонимами свою национальность.
Настоящая фамилия Николая Фёдоровича была Стукалов, но фамилия Погодин показалась ему в юности более литературной – и он предпочел ее.
В дискуссии о псевдонимах Стукалов-Погодин участия не принял – его бы в еврействе вряд ли кто-нибудь заподозрил.
А Константин Симонов вступил из-за псевдонимов в полемику с Михаилом Шолоховым, поддержавшим своего тезку Бубеннова.
Симонов с детства грассировал, и свое имя Кирилл выговаривал с трудом – поэтому переименовал себя в Константина. И свою заметку в ответ на придирки автора «Тихого Дона» подписал полемически: Константин, в скобках Кирилл – Симонов (на мой слух “Кирилл Симонов” звучит лучше).
Симонов был политически грамотнее Шолохова – и Сталин без лишней огласки поддержал Кирилла-Константина.
По словам Фадеева (он это не мне, конечно, говорил, а Эренбургу), Сталин-Джугашвили сказал, что рассекречивание настоящих фамилий попахивает антисемитизмом. Это выглядело бы, надо понимать, бестактным во время антисемитской кампании.
Сейчас подумал, а не сама ли власть, предпослав себе эпитет “советская”, по привычке взяла себе псевдоним.
Все изначально догадывались, что Советы здесь будут ни при чем, но прилип эпитет, не отлепишь.
В двадцать четвертом году директор Малого театра Южин (князь Сумбатов) сидел у себя кабинете и говорил кому-то в телефонную трубку: “Нет, спектакля сегодня не будет. Ленин умер…Тьфу, типун вам на язык, не Михаил Францевич, а этот…”
Когда сделалось ясным, что бывший немецкий шпион обрел популярность, какая не только для Ленина-артиста, но и вообще для любого работника искусства казалась недостижимой, Михаил Францевич жил мечтой – получить к юбилею (своему или театра) орден Ленина.
Но у большевиков была хорошая память – и не только ордена Ленина, но и звания народного артиста СССР старейший артист не получил.
Можно, конечно, над этим смеяться. Можно, потеряв чувство юмора, заходиться в либеральном гневе.
Но нельзя не признать – с определенным уважением к писательскому ремеслу, – что для популяризации Ленина в нашей стране, насаждения сочиненного для масс образа драматург Погодин сделал больше, чем ИМЭЛ. Притом что Институт Маркса – Энгельса – Ленина, имевший златые горы разного рода документов, обладал правом раздавать разрешения и налагать запреты на ту или иную трактовку образа Ильича.
И надо было иметь известную храбрость, чтобы довериться не документу (сугубый документ на сцене не сыграешь, хотя теперь, и не без успеха, пробуют), а воображению, угадав, однако, в какую же сторону роль Ленина повернуть.
Конечно, толкование Ленина, уловленное и киносценаристом Алексеем Каплером, сделали растиражированным фильмы Михаила Ромма. Но на роль Ленина режиссер взял вахтанговского актера Бориса Щукина, уже заряженного театральным опытом.
Знаменитый Щукин играл роли разного типа, но что-то же было подсказано ему (и постановщику спектакля Рубену Симонову, рискнувшему еще и сыграть Сталина) пьесой “Человек с ружьем”. В роль Ленина он шагнул не чуждаясь, а, наоборот, оттолкнувшись от лицедейских наработок из фирменного спектакля Театра Вахтангова, самим Вахтанговым и поставленного, – “Принцесса Турандот”. Будущий исполнитель роли Ленина сыграл там Тарталью (а Симонов-Сталин – Труффальдино).
Симонов имел в роли Сталина меньший успех. Но неплохого отношения вождя к себе, тремя Сталинскими премиями подтвержденного, не утратил. Благое намерение было оценено, а заметная скованность, сенсационная для мало кем превзойденного виртуоза сцены Рубена Николаевича (когда место в правительственной ложе заняла натура в своем кителе), была высочайше прощена и традицией исполнения не стала.
Зато маска (кто не знал ее потом – с большим пальцем за вырезом жилетки, бесстрашные остряки вспоминали потом “фрейлехс”; грассирование, смягчающие любую резкость высказывания), предложенная Погодиным и Щукиным воплощенная, сделалась каноном и для последующих драматургических опытов, и для всех будущих исполнителей роли Ленина.
Ленин, самую малость, чуть-чуть чудаковато ласковый, воплощал отныне исходную доброту революции, которую призван был защищать от врагов беспредельной жестокостью Сталин.
В следующей пьесе о Ленине Погодин, декларируя скромность Сталина (и Ленин, и Сталин были скромны в изображении их на сцене и экране каждый по-своему), несколько укоротил время пребывания его на сцене.
И просчитался.
Первый раз это сошло с рук после премьеры “Кремлевских курантов” во МХАТе – Сталин пощадил МХАТ. Николай Фёдорович усугубил ситуацию с починкой главных часов, сочиняя для режиссера Сергея Юткевича на основе своей пьесы сценарий.
МХАТ гастролировал с “Кремлевскими курантами” за рубежом.
И лондонский театральный рецензент в приступе иронии прицепился к реплике о том, что бы сказал англичанин, остановись часы на Биг-Бене.
“Да ничего бы он не сказал, – уверял рецензент, – и уж точно не сочинил бы об этом пьесу”.
Не понял он, однако, мысли рвавшегося в придворные драматурги Николая Фёдоровича. Пьеса на самом деле – о том, что время нашей жизни безраздельно принадлежит власти. Вот и нынешний президент взял за обыкновение поощрять кого-либоиз отличившихся, на его взгляд, тем, что снимает с руки часы (он, в отличие от большинства, носит их на правой) и дарит их, как некогда Пётр Первый жаловал верных подданных кафтаном с царского плеча.
Часами (миллионной, вероятно, стоимости) одарили по какому-то случаю президента крупнейшего банка – того самого господина, что явился на корпоратив в мундире, скопированном со сталинского.
Дарение сопроводили шуткой – опять-таки не помню точно, кто пошутил, то ли кто-то из приближенных президента, то ли сам президент (у наших правителей со времен Сталина принято шутить для истории), что по таким ценным часам удобнее будет сверять время с курантами на кремлевской башне.
Получалось, что Иосиф Виссарионович, находившийся в данную минуту за кремлевской стеной, сразу после революции отвлеченный, несомненно, чем-то тоже очень важным, отдал всю инициативу в деле работы над трансформацией курантов одному Владимиру Ильичу. Будто бы каждый человек в стране не знал о том, что без совета со Сталиным Ленин и тогда шагу не ступал.
Фильм Юткевича по сценарию (пьесе) Погодина запретили.
И Погодину в закрепленной за ним теме сделалось совсем неуютно.
В исправлении ошибок он сгоряча зашел дальше, чем следовало. Рассказывали мне во МХАТе, что в одном из улучшенных вариантов пьесы Ленин для Сталина чуть ли не за спичками бегал.
В театре, однако, знали, что товарищ Сталин и к перегибам конъюнктурного свойства бывал нетерпим – лишнего ему было не надо.
Во МХАТе знали про ошибку, допущенную Малым театром при постановке пьесы Всеволода Вишневского “Незабываемый 1919-й” (кто читал Солженицына “В круге первом”, должен помнить, что на вечеринку к прокурору дочь прокурора приходит с премьеры “Незабываемого” в Малом театре). Ошибка Малого театра заключалась в самом главном – в распределении ролей.
В Малый перешел тогда служить Алексей Дикий – и двух мнений, кому играть Сталина, не возникало: все знали, как Сталину нравится Сталин в исполнении Дикого.
А роль Ленина предложили другому великому артисту, Борису Бабочкину, Чапаеву из любимого фильма Сталина “Чапаев”. Сталинские премии, казалось, обеспечены всем причастным к постановке. Но режиссер не подумал о том, какое впечатление произведут на товарища Сталина, заинтересованного в том, чтобы историю фальсифицировали только в нужном ему направлении, габариты исполнителей центральных ролей.
И Дикий, и Бабочкин не были богатырского роста, но Алексей Денисович своим телосложением напоминал медведя, а жилистый, сухощавый Борис Андреевич мог показаться рядом с ним уж очень нефигуристым и в энергетике своей несколько суетливым.
После первого акта товарищ Сталин собрался уходить. О причине такой поспешности ни директор Малого Шаповалов, ни главный режиссер Зубов спросить не осмелились. Но главный зритель смилостивился – сказал: “Когда ко мне обращался Ленин, я стоял вот так” – и показал здоровой рукой, как обе вытягивал по швам…
Иди разберись – попробуй актер в роли Сталина вытянуться на подмостках перед Лениным, так ведь и в Норильске есть театр, и в Магадане, куда и постановщика вслед за исполнителем отправить могут.
Тем не менее пьеса “Кремлевские куранты” в мхатовском репертуаре была необходима. Другие пьесы в данном направлении сильно ей уступали. Репетировали “Залп Авроры”. Соавтором пьесы был Михаил Чиаурели – постановщик “Падения Берлина” и “Клятвы”. И какими силами репетировали – на роль Сталина специально пригласили со стороны актера Квачадзе с очень подходящим акцентом. Репетировали так долго, что показали премьеру накануне смерти Иосифа Виссарионовича. А уж после смерти – говорю же, что в воздухе сразу же стало меньше пахнуть грозою, – вообще от этого спектакля отказались.
И без дела оказался Квачадзе, чье исполнение моей матушке, например, понравилось как необычное: красивый, порывистый, по-грузински темпераментный Сталин.
Отказавшись от “Залпа” на пути, как тогда считалось, к обновлению, МХАТ вернулся к мысли о “Кремлевских курантах”, и появился на роль Сталина в редакции пятьдесят четвертого года претендент поталантливее Квачадзе – выпускник Школы-студии Игорь Кваша. Кваша уже дружил с Ефремовым, Ефремов был педагогом у них на курсе, постановщиком дипломного спектакля – и они вместе начали работать над ролью (Ефремов руководил, он когда-то собирался в Детском театре играть Сталина) – слушали пластинки с выступлениями вождя.
Тем не менее от Сталина в “Курантах” пришлось-таки отказаться.
Ефремов с Квашой занялись основанием “Современника”.
А “Кремлевские куранты” с большим успехом возобновили в другой редакции – на роль Ленина пригласили очень хорошего актера из театра Пушкина – Бориса Смирнова, он играл там Иванова в чеховском “Иванове”. И погиб актер для других ролей – играл в театре и в кино Ленина, а на прочее сил не оставалось.
Режиссер Сергей Юткевич, имевший серьезные неприятности после экранизации пьесы Погодина – сам-то Погодин реабилитировал себя, сочинив для многократного сталинского лауреата Пырьева сценарий фильма “Кубанские казаки”, – рискнул (во времена послаблений) опять сделать картину про Ленина. Риск был менее велик, чем при Сталине, зато в случае удачи он сильно укреплял свое положение в режиссерском цехе и мог рассчитывать на высшие награды.
Но эстет Юткевич искал новые формы для конъюнктуры. Борис Смирнов был для него слишком прямолинеен – ему подавай актера философского склада. Он решил снимать Михаила Штрауха, который, кстати, в «Незабываемом 1919-м» всех выручил, заменив Бабочкина, – его Ленин выглядел несколько крупнее, чем сыгравший Сталина артист Борис Горбатов (не путать с писателем Борисом Горбатовым). Для такого артиста, как Штраух, и текст должен был быть иным, представляющим Ленина-мудреца в большей степени, чем Ленина-добряка. Сценаристом в продолжение своей ленинианы Сергей Иосифович Юткевич пригласил Евгения Иосифовича Габриловича.
Старик Габр (как привыкли называть молодые режиссеры и сценаристы профессора Института кинематографии Евгения Иосифовича Габриловича) рассказывал потом про свое выступление перед отдыхающими какого-то правительственного санатория.
Захотев поделиться с этой публикой подробностями работы над сценарием для Юткевича о Ленине, он признался, что работа пошла только после того, как уверил себя в том, что Ленин – это он сам, Евгений Иосифович Габрилович.
Не успел он договорить слова признания, как из зала, громко хлопнув откидным стулом, поднялся человек постарше Габриловича – и уже от дверей охарактеризовал докладчика как редкого болвана.
Этим вспыльчивым господином (товарищем) оказался сталинский соратник Лазарь Каганович, лично знавший персонажа, которым так свободно почувствовал себя наш знаменитый сценарист.
Вы легко поверите, что Каганович глубоко мне омерзителен, а старика Габриловича я люблю и часто вспоминаю.
Но вот невообразимый вроде бы случай: выкинув с негодованием незаслуженно оскорбительное определение Кагановичем нашего старика, я скорее на стороне этого сталинского сукиного сына.
Режиссер и сценарист, эстетизируя и, как они считали, углубляя, очеловечивая Ленина, нанесли куда больше вреда, чем иконописец Погодин.
Но вскоре еще больший вред – по сравнению уже с Габриловичем и Юткевичем – принес драматург Михаил Шатров, попытавшийся документами подтвердить правоту ленинского дела и картой этих документов бивший сталинскую карту. Шатров этот вред усугублял максимально аргументированной неправдой.
Погодин приемами театра обращался к не желавшим думать самостоятельно массам.
А Евгений Иосифович вкупе с гуттаперчевым Юткевичем и косившим под интеллектуала Шатровым апеллировали к тем немногим, кто хоть как-то пытался самостоятельно разобраться в случившемся с нами.
В данном случае прогрессивные художники напоминают мне специально выращенную для охоты на лис мохнатую таксу, которую в темноте норы лисица не может сразу отличить от своих рыжих собратьев и сестер.
Евгений Иосифович все последние годы своей жизни обитал в киношном пансионате недалеко от станции Матвеевская по Киевской железной дороге – пансионат соседствовал с “Ближней дачей” Сталина.
В киношную богадельню соглашались поселить на постоянное жительство только тех, кто отдал кинофонду взамен московскую квартиру.
Для классика советского кинематографа Габриловича сделали исключение – за ним сохранялась четырехкомнатная кооперативная квартира около метро «Аэропорт». Матвеевская обещала ему давно желаемое одиночество – он жил там все время после смерти жены Нины Яковлевны, непременно бывавшей прототипом героинь тех камерных сценариев, которые своей редкостью в нашем кино очень поддерживали репутацию Габриловича, уравновешивая официальное признание.
Старик редко выползал из своей кельи, даже в столовой старался не бывать, запасался бутербродами с засохшим сыром, но в основном питался сладким: сын Алексей привозил ему из Москвы варенье и шоколад.
Евгений Иосифович целыми днями сочинял свой, как он считал, роман. По сути, это была его третья мемуарная книга, где он надеялся быть до конца откровенным.
Неоднократно удостоенный всех советских премий и наград, Евгений Иосифович важнейшим для себя (после сочинений сценариев, а в последние годы романа) делом считал слушание антисоветских голосов по запрещенному иностранному радио.
Пенсионеры, обитатели пансионата, рады бывали возможности перекинуться словом с мэтром и приставали к старику с долгими разговорами. Обычно занятый своими мыслями Габрилович сам ничего не говорил, а только слушал, но, когда разговор затягивался, он начинал нервничать, что опоздает к началу передачи по Би-би-си или “Голосу Америки”, – и, взглянув украдкой на часы, прерывал собеседника фразой: “Вот приблизительно и все, дружочек, что я хотел вам сообщить” – и ковылял к своему транзистору.
Мне он как-то (я как режиссер делал фильм о нем и наезжал в Матвеевскую) сказал: “Работаю с увлечением, но, знаешь, когда ложусь спать, начинаю сомневаться – записал я фразу или только собирался”.
И я теперь ежедневно вспоминаю в связи с этим Евгения Иосифовича, хотя и сейчас на десять лет моложе, чем он тогда.
Но мне, наверное, важнее помнить, что роман свой старик на девяносто четвертом году все-таки дописал – и только после этого позволил себе умереть, полюбив незадолго до кончины говорить: “Надоело. Все надоело”.
Погодин был всего на год младше Габриловича.
Габрилович умер в девяносто четыре года, а Погодин – в шестьдесят два.
Неизвестно, сколько бы прожил еще Николай Фёдорович, не укороти он себе жизнь поездкой в Америку.
Но человек он был импульсивнее Евгения Иосифовича – и судить свою жизнь, как мне теперь кажется, умел строже, чем Габрилович.
Ему романа-оправдания (а что еще воспоминания мыслящего человека как не оправдание?) не понадобилось. Правда, проза ему положительно не удавалась. Он напечатал ее в “Юности” не без успеха, но прошло время, и журнал “Литературная учеба” опубликовал рукопись “Янтарного ожерелья” Погодина с замечаниями на полях Катаева (тогда редактора “Юности”») – по ним видно, кто прозаик, а кто не совсем.
В утешение Николаю Фёдоровичу можно бы вспомнить, что Булгаков в глаза называл Катаева плохим драматургом. Вряд ли, однако, он так уж восхищался драматургом Погодиным – пьес Булгакова в тридцатые годы практически не ставили, а пьесы Погодина шли повсеместно.
Погодин угадал с Лениным, а Булгаков не угадал со Сталиным.
Но где теперь Булгаков – и где Погодин?
При всей склонности к чувственным забавам, подогреваемым неумеренным винокушеством, Погодин, подобно Алексею Толстому в описаниях Бунина, оставался первоклассным работником. В театре, где пьесу ждут к сроку, иначе и нельзя – Николай Фёдорович старался каждый сезон выпускать премьеру. Пьес он, по собственным подсчетам, сочинил больше сорока, и больше тридцати из них были поставлены.
В драматургию он пришел из газеты – работал в “Правде”. Первые пьесы его, те же очерки, разбитые на диалоги, привлекли театр журналистским чутьем на темы, утверждавшие советский образ жизни. Но без глаза и слуха все равно очерки в пьесы не превратишь.
При постановке первой же своей пьесы Погодин встретился с человеком, сделавшим журналиста драматургом – давшим ему предметные уроки сцены режиссером Алексеем Дмитриевичем Поповым.
Погодин шел за Поповым – и прибавлял в ремесле от пьесы к пьесе.
Закрепившись на плацдарме, отвоеванном пьесами о Ленине, угодив властям талантливо поставленными Алексеем Поповым пьесами на производственные темы, особо оконтуренными в истории советского театра, превращенный таким идеологическим капиталом в прижизненные классики, Николай Фёдорович все равно всю свою жизнь в театре стремился вырваться из спасительного для драматургической карьеры круга. Но почти каждый выход за политически выверенную околицу таил для него неприятности. Наверху считали, что человек, выводящий на подмостки Ленина, не должен опускаться до персонажей со страстями, государством не регламентированными. А Погодин норовил вынырнуть с каким-нибудь “Бархатным сезоном”, где под маркой нравоучения живо изображал курортные развлечения пожилого академика. Потерявшего контроль над собой ученого, которого зло высмеивает не приемлющий такой формы отдыха на юге автор, обманывает корыстная… чуть не сказал прямым текстом кто… молоденькая секретарша. Тем не менее от начальства не удалось скрыть, что взявший строгий тон Погодин и сам не прочь потерять чувство реальности ради раскрепощения чувств.
Начальство спускало на драматурга критиков – и он тут же в ответ на критику сочинял пьесу желаемой властью социальной значимости.
Но через некоторое время снова дразнил гусей.
В середине пятидесятых годов Николай Фёдорович влюбился в женщину чуть ли не на тридцать лет моложе, чем он, – родственницу моих друзей Ардовых, весьма симпатичную и мне особу, физика Елену Николаевну Нарбекову.
Завершив пьесу, как полагал сам Погодин, о своей любви с этой прекрасной молодой дамой, он сообщил в письме Анне Никандровне на курорт, что излечил этой работой семейных мужчин от всех Лаур и сумятицы, которую вносят они в душу. Пьесу он озаглавил “Сонет Петрарки” – и вопреки заверениям, что с Лаурами для него покончено, продолжил в отдельной от сцены жизни роман с Леной (или, как мы позднее стали в шутку называть возлюбленную автора “Сонета”, тетей Леной).
Пьеса выглядела настолько неожиданной для правоверного советского драматурга, что выпускаемый прогрессивными писателями Казакевичем, Алигер и другими толстый альманах “Литературная Москва”, избегавший сотрудничества с лауреатами Сталинских премий, ее опубликовал.
Сочувствующий идее альманаха Корней Чуковский среди удач (правда, на его взгляд, относительных) отметил и “Сонет Петрарки”, сказав, однако, что замысел – отличный, а исполнение посредственное.
Начальство было недовольно и самой “Литературной Москвой”, выламывавшейся из принятых рамок, и пьесой, где блюстителями писательской нравственности улавливался явно автобиографический мотив – история, с одной стороны, беспартийного, но за пьесы о Ленине как бы и очень даже партийного Николая Фёдоровича Погодина.
Тем не менее соблазн показать на сцене любовь мужчины, достигшего солидного возраста, и юной девушки был слишком уж велик. Николай Павлович Охлопков, лучше многих усвоивший им же и обнаруженное правило трех минут, когда разрешают то, чего много лет не разрешали, – Николай Павлович Охлопков поставил-таки “Сонет Петрарки”: и альтер эго драматурга стал Евгений Самойлов, сыгравший в кино у Довженко героя Гражданской войны Щорса, а в театре у Охлопкова Гамлета, при Сталине запрещаемого.
Я видел этот спектакль – и помню свое удивление театральной смелостью Охлопкова и неожиданной для меня откровенностью соседа по даче.
Но, перечитывая потом пьесу глазами, я легко удостоверился, что никакого сходства между Еленой Нарбековой и героиней Майей, кроме возраста, нет; что и любовных сцен, по существу, тоже нет; охранительной риторики больше, чем откровенного чувства; фоном для любви становится, как во всех советских пьесах, гигантская стройка – и Самойлов играет не Погодина, а какого-то большого начальника, который бы и в койку не лег без партийного билета в кармане, будь в пьесе предусмотрена постельная сцена (но такая сцена, конечно, предусмотрена не была).
В общем, я испытал полное разочарование.
Но знали же что-то Охлопков с Погодиным о театре, чего я не мог тогда знать – и, захваченный непривычным для советской пьесы содержанием, видел в постановке Охлопкова и тексте Погодина все то, чего в пьесе не было, но подразумевалось влюбленным в тетю Лену Николаем Фёдоровичем, когда он сочинял, как ему казалось, из собственной жизни.
И все же пришлось ему от Лены вернуться к Ленину. Обратиться к Ленину в третий раз.
Названия своим пьесам Погодин придумывать умел – третью пьесу о Ленине он назвал “Третьей Патетической” (вроде бы метафорически, неодномерно).
Шел пятьдесят девятый год. Товстоногов в Ленинграде поставил “Пять вечеров” Володина, а в Москве “Современник” начинал репетиции той же пьесы, пригласив неожиданно в руководители постановки Михаила Николаевича Кедрова, вчера еще главного режиссера Художественного театра.
Погодин догадывался, что и Володин, и Зорин (Розов был признателен Погодину за поддержку своей первой пьесы) относятся к нему, как к заслуженному, талантливому в том, что их, правда, не интересовало, но все же ископаемо-хвостатому… ну не чудовищу, конечно, а хорошему мужику, помогающему молодым коллегам посредством своего журнала… но не сегодняшнего дня драматургу.
Погодина не могло не задевать такое к себе отношение. Ефремов приятельствовал с его сыном Олегом, бывал у них на даче, но разговора о том, что у нового театра есть хоть какой-нибудь интерес к живому классику, не заводил.
Николай Фёдорович помнил, однако, как был журналистом – и нашел в командировках сюжеты, которыми умыл тогдашних драматургов вроде Файко или – на свой манер – Булгакова.
Он и в барской жизни на даче – с десятками радиол, магнитофонов и прочей техники, с автомобилем самой дорогой отечественной марки, со всем господским укладом жизни и стоивших денег развлечениями – журналистской хватки не утратил.
Погодин в свои за пятьдесят съездил на целину – и привез пьесу, где все было как на самом деле – не комсомольцы-добровольцы устремились первыми поднимать целину.
Драматург увидел на целине совсем другую молодежь – разную, неприкаянную, отбывшую, бывало, и срок заключения. Конечно, опытный (вознесенный и битый) Погодин не сделал их положительными героями, но те, кого к положительным критика ни за что бы не отнесла, написаны автором колоритнее, поскольку с натуры. Погодин сочинил свою лучшую, может быть, пьесу – и уж точно самую правдивую за всю его жизнь в драматургии.
Она называлась “Мы втроем поехали на целину”. Пьесу поставил в Детском театре Анатолий Эфрос – и разнесли же ее критики по указанию начальства. Погодина стыдили, приводя в пример другие его пьесы. Острили в эпиграммах, что его “аристократы” (заключенные из поставленной Охлопковым пьесы Погодина “Аристократы”) целину не поднимут. А подняли бы – они, прямо скажем, и на самом деле сделали на целине немало – зачем бы тогда комсомол, лозунги, советская власть вообще?
Погодину, как всегда, удалось выправить положение: он переделал пьесу в сценарий, по-иному расставив акценты, для Михаила Калатозова – они дружили на почве обмена пластинками и музыкальной техникой. В “Первом эшелоне” – так теперь называлась переделанная пьеса Погодина – оператором был Сергей Урусевский, а одну из главных ролей сыграл дебютант кино Олег Ефремов.
Не в привычках Николая Фёдоровича упорствовать в начинаниях, не принесших успеха. Он не сдался, но соревнование с молодыми отложил до нового успеха на официальной сцене.
Осенью пятьдесят седьмого года первокурсником Школы-студии при Художественном театре я участвовал в правительственном концерте по случаю сорокалетия советской власти.
В концерте заняли всех первокурсников творческих вузов Москвы – не перечесть, сколько из них выросло знаменитостей. В приступах тщеславия вспоминаю, что был их партнером.
Студенты изображали посланцев всех союзных республик. Институт кинематографии был Украиной, а мы, из Школы-студии МХАТ, почему-то были назначены латышами (я бабочкой завязывал галстук-шнурок).
Предполагалось, что мы, дети разных народов, споем хором песню известного композитора Новикова: “Мы – коммунисты, мы всегда, единой волей непреклонною, под красным знаменем труда идем несметною колонной…”
За прошедшие с той поры шесть десятилетий я спел и слышал сотни песен, прочел и заучил множество хороших и плохих стихов, а вот сидят в башке и эти слова: “Бессмертный Ленин, наш отец, создал Советское Отечество. Он счастья нашего творец, он – светлый гений человечества”.
И припев еще был: “За нашей правды гордый свет ходила в бой стальная гвардия, за твой Центральный комитет, Коммунистическая партия…”
В итоге спел эту песню знаменитый хор, а не мы.
Бессмертный Ленин был в центре всего представления – из главной ложи смотрели на него руководители всех коммунистических партий с нашим новым вождем Хрущёвым во главе.
Роль Ленина исполнял уже упомянутый народный артист МХАТа Борис Александрович Смирнов.
Едва под вал аплодисментов закрылся занавес, как мимо нас пронесли на носилках бездыханного Бориса Александровича в гриме и костюме Владимира Ильича – я машинально обратил внимание на желтую нетронутость подошв его башмаков.
Мы, студенты Школы-студии, были в двойном шоке: несчастье случилось одновременно с Лениным и нашим старшим товарищем.
Откуда-то мы узнали, что на уже ушедшего со сцены Смирнова – Ленина упала сверху какая-то железка.
Борис Александрович, к счастью, поправился – и дальше играл Ленина в “Кремлевских курантах”, а затем и в “Третьей Патетической”.
Спектакля “Третья Патетическая” я целиком не видел – я в нем участвовал. Нас, студентов (теперь уже второго курса), снова заняли в массовке.
Художественный театр со дня основания, с первого спектакля “Царь Фёдор Иоаннович” массовые сцены называл народными – и случайные статисты в них не предусматривались – каждый из выходивших в народной сцене должен был чувствовать себя необходимым персонажем – сознавал свое место в общем сюжете, сочинял для себя вместе с постановщиком роль.
В старом МХАТе служил на выходах пожилой артист по фамилии Мозалевский, между прочим внук декабриста.
Перед началом репетиции Немирович-Данченко, назвав артиста по имени-отчеству Сергей Александрович, спросил, придумал ли он биографию своего персонажа.
“И не морочьте мне и голову, – ответил режиссеру Мозалевский, – и скажите и мне откуда выходить” (без непременного “и” перед каждым словом этот артист разговаривать не умел).
Большинству из нас судьба – быть занятыми в массово-народных сценах. И если взглянуть на себя внимательно, задумаешься: а не похож ли ты на давно умершего артиста Мозалевского?
Между тем Пушкин последней, грозово заряженной ремаркой “Народ безмолвствует”, венчающей “Бориса Годунова”, поднимает участников народной сцены до уровня главных персонажей пьесы.
Всегда ли молчание означает согласие?
В утешение тем, кому привычнее следовать примеру внука декабриста, скажу, что карьеру свою артистическую Сергей Мозалевский закончил не бесславно.
На тридцатилетие театра его никак не отметили. Но, давая для какой-то инстанции отзыв о Мозалевском, Немирович утверждал, что роль таких артистов, как он, в общей работе очень важна, так как только при их преданном и любовном отношении к делу возможен тот ансамбль и то художественно верное жизни исполнение массовых сцен, которым Художественный театр всегда придавал такое исключительное значение.
И на следующий – через десять лет – юбилей, когда звания раздавались с небывалой щедростью и получили их почти все артисты, кроме только-только приглашенных в труппу талантливых молодых людей из первого выпуска Школы-студии при МХАТ, не обошли и Мозалевского – он стал заслуженным деятелем искусств.
За постановку “Третьей Патетической” взялся рассорившийся с компанией Ефремова на “Пяти вечерах” Михаил Николаевич Кедров.
Когда из окна квартиры на Лаврушинском я увидел ЗИМ и выходящего из него Кедрова, испытал понятное потрясение – сообразил, что не к Ефремову же он приехал (Ефремов уж год как съехал от Вадима Кожевникова, на чьей падчерице он был женат, да и не приехал бы Кедров к Ефремову, иерархия не могла нарушиться до такой степени), – а направляется сейчас домой к автору пьесы Погодину.
МХАТ был для меня тогда превыше всего – и Кедров виделся мне фигурой более крупной, чем Погодин. Я удивлялся совершенно искренне, почему бы Николаю Фёдоровичу самому было не приехать к Михаилу Николаевичу во МХАТ.
Итак, однокашники изображали революционных солдат и матросов. Мой же персонаж возникал из неопределенности костюма.
По ходу примерки костюмов к спектаклю “Третья Патетическая” Владлен Давыдов, исполнитель роли инженера-коммуниста Сестрорецкого, раскапризничался и отказался носить сшитую для него студенческую фуражку. Фуражку отдали мне вместе с кирзовыми сапогами, уже разношенными футбольным комментатором Николаем Озеровым, еще служившим во МХАТе.
Кроме того, на меня надели штатское пальто (из подбора, как говорят костюмеры) – я воинственно перетянул его солдатским ремнем и взял у бутафоров винтовку.
Мой экзотический вид обратил на себя внимание режиссера Владимира Богомолова (первого из воспитателей Владимира Высоцкого) – и он поставил меня рядом с Лениным. По правую руку – я, по левую – мой однокурсник, будущий народный артист Володя Анисько (он изображал матроса).
Николай Фёдорович Погодин, мой переделкинский сосед, сидел в партере один (даже если и сидела с ним рядом Анна Никандровна или кто-то еще из семьи, все равно один, автор всегда один), а я вместе с множеством загримированных и одетых в театральные костюмы людей с бутафорскими винтовками вышел к рампе и увидел автора.
Нас троих – Ленина и меня с Анисько – штатный фотограф Художественного театра Александров обособил от общего снимка, увеличил – я уже давно не учился в Школе-студии, а снимок продолжал висеть за стеклом витрины на фасаде Художественного театра в Камергерском.
Время моего пребывания в Школе-студии ограничилось двумя сезонами не без участия Николая Фёдоровича – точнее, его пьесы “Маленькая студентка”, которой он, воодушевленный полученной им за “Третью Патетическую” Ленинской премией (премии эти, чей статус был выше Сталинских, переименованных в Государственные, только учредили – и до Погодина никто их не удостаивался), бросил вызов молодым драматургам. “Маленькая студентка” была крайне неудачной – отчасти из-за слабого знания среды, где происходит действие.
У нас на курсе ставили из нее отрывок. Мне дали роль студента Ивана Каплина, умного флегматика (как бы сказали теперь, ботаника), а я захотел сыграть героя – и сыграл до такой степени плохо, что сам же и написал заявление о том, что не вижу смысла мучить педагогов дальше.
Сын Погодина Олег, тоже ставший драматургом под настоящей фамилией отца Стукалов, унаследовал эту неверную профессию после всех метаний и проб начала жизни.
Чем-то он всегда интересовал меня, но знакомство с ним, считаю, так и не состоялось – притом что мне всегда интересны жизни, сложившиеся целиком у меня на глазах. Правда, жизнь Олега Погодина (как называли его в Переделкине) сложилась на моих соседских глазах не совсем целиком.
Чего-то существенного он не коснулся и в своем романе, про который сначала говорили, что Олег пишет гениальный роман, потом, что написал он этот, как и ожидалось, гениальный роман, а дальше ничего не было. Автор сравнительно рано умер (от рака легкого из-за неумеренного курения) – изданием романа пытались заняться люди, которым лучше бы заняться чем-нибудь другим, и я не уверен, что есть еще сегодня, кроме меня, кто про этот роман помнит.
Однажды, оказавшись одновременно со Стукаловым у Ардовых, я услышал – обращался он не ко мне, но я зачем-то услышал, – что пьеса, над которой он сейчас работает, будет ремейком, – то-гда не принято было говорить “ремейк”, но я о сути им сказанного, не до буквального сейчас цитирования сына классика, – “Моего друга”.
“Мой друг” – нашумевшая в тридцатые годы постановка все того же Алексея Дмитриевича Попова по пьесе отца Олега, где главную роль начальника крупнейшего строительства по фамилии Гай играл знаменитый Михаил Астангов, а под Значительным лицом (так обозначен был персонаж), который непосредственно курировал начальника строительства Гая, подразумевался нарком Орджоникидзе.
Алексей Дмитриевич в минуты растерянности перед современным драматургическим материалом, а такие минуты были знакомы всем советским режиссерам, желающим удержаться на ведущих позициях, вернулся на рубеже шестидесятых к имевшей когда-то успех пьесе (главную роль он отдал своему сыну, не менее замечательному, чем Астангов, актеру Андрею Попову). Ничего путного из повторной постановки не вышло.
Ничего путного не вышло и у Олега Стукалова.
Но я тогда же и понял, что соревнование Олега с Николаем Фёдоровичем ничем, кроме усугубления комплексов, не кончится. Притом что способности у сына к сочинительству для театра вряд ли меньше, чем у отца.
Начав читать роман Олега, по первым же страницам понял, что главными фигурантами в нем являются отец и сын. Отец – нечто среднее между Николаем Фёдоровичем и режиссером “Кубанских казаков” Иваном Пырьевым, но в пору, когда Пырьев пытался экранизировать Достоевского; а сын – горемыка, музыкант, ищущий чего-то противоречащего канонам обжитого стариками успеха. Я ожидал художественного воплощения мысли, что не природа, как принято считать, отдыхает на детях, но судьба.
И я ожидал рассказов не только о судьбе отца и судьбе сына – в скрещении ли, в противопоставлении, – а о заточении судьбы в том или другом времени, льготном для одних и несчастливом для других.
Возможно, все это и было в романе Олега, а я не заметил. Замечал, наоборот, мелочи – вроде выпада против долго дружившего с ним Миши Ардова: Стукалов изображает священника, в подлинность веры которого он, неверующий, не верит.
Конечно, трудно читать роман твоего знакомого, который тебе заведомо прокламировали как гениальный. И тем более трудно, когда читаешь этот роман много лет спустя после его завершения – в другом времени, в другой стране, – и давит на тебя недоумение, почему же гениальный роман не встретил хоть сколько-нибудь широкого отклика и, более того, до сих пор не опубликован.
Печально думать о том, что роман, оцененный двумя-тремя читателями как гениальный, вряд ли гениален, если не прочтен многими.
Конечно, легко возразить, что никто ничего в литературе не понимает – никто сегодня не в состоянии дать настоящей экспертной оценки, нужны связи, протекции, навязанная кем-либо влиятельным мода на вещь, не самую, может быть, легкую в чтении.
И я согласен с тем, что никто в литературе не понимает (а иногда и, занимаясь ею специально, не понимает ничего) – и свидетельства двух-трех приятелей о гениальности не в счет (иное дело, когда друзья писателя или его ближайшая родня положат жизнь на продвижение рукописи, но много ли мы знаем таких друзей, такой родни).
И я ничего в литературе не понимаю – и мне необходимо чье-то мнение, подтолкнувшее мой интерес.
И тем не менее сочувствую тем, кто приходит в отчаяние оттого, что, как говорит пушкинский Сальери, “правды нет и выше”. А вдруг выше она все-таки есть – и надо уповать на ту высоту, где сгущаются непонятным мне образом облака, огненным зигзагом молний прочерчиваются судьбы.
Или только мистикой можно объяснить присутствие в нашем сознании гениального Пушкина и всех реально великих, вне зависимости от непонимания – ни нашего, ни народных масс?
Роман Олега Стукалова дал мне почитать писатель Анатолий Макаров, в свою очередь взявший книгу у знаменитого московского бездельника Виктора Горохова (смотрите фильм Хуциева “Июльский дождь”, он там стоит в кадре возле вывески кафе “Националь”, его университетов).
Для меня загадка, почему роман Олега Стукалова хранился не в семье, а у Горохова. Может быть, у кого-то были еще экземпляры, но ничего больше про гениальный роман я не слышал.
Я решил зачитать у Толи Макарова рукопись – и он не возражал, разве если спохватится Горохов. Но я был уверен, что Горохов про роман не вспомнит никогда.
Я ведь еще знал, что покойный муж моей нынешней жены, мой товарищ детства Саша Рыбаков тоже носился когда-то с этим романом, но так никуда и не сумел его пристроить. Литературному вкусу Саши я, откровенно говоря, доверял больше, чем своему. Он был из тех преданных литературе людей, для которых печатное слово значило все (себя я, при всем желании, не могу к таким людям причислить).
И я подумал, что в память о Погодине-младшем и одновременно Рыбакове-младшем надо бы что-то все-таки с гениальным романом сделать.
Я решил было перечесть роман очень внимательно, а потом попробовать уговорить жену, работающую в толстом литературном журнале, показать рукопись своим сослуживцам.
И в этот момент объявился Горохов – и каждый день стал звонить мне по телефону, требуя возвращения романа – и притом немедленно (у него есть верняковый издатель).
Я выразил слабое сомнение в его возможностях, намекая, что некоторые возможности есть у меня, а он, я слышал, болеет (про преклонный возраст Горохова, а ему шло к восьмидесяти, я из деликатности умолчал).
Но Виктор Соломонович был непреклонен – за рукописью, чтобы передать ее Горохову, пришла девочка с нашей улицы – дочка Беллы Ахмадулиной, – и когда соседка уходила в калитку, я уже догадывался, что произойдет дальше: Горохов умрет, а романа никто не хватится.
Горохов умер, романа никто не хватился.
Говори после этого, что судьба не отдыхала на сыне Николая Фёдоровича Погодина Олеге Николаевиче Стукалове.
Про историю с возвращением Погодина из Америки когда-то многие знали в подробностях. Хотя во всех подробностях знали все-таки немногие. Некоторые.
Но сейчас все же есть смысл ее рассказать снова.
Знают ли сегодня, кто такой сам Николай Фёдорович – богатый и знаменитый человек, лауреат Сталинских и Ленинской премий?
Слава рано или поздно превращается в петит энциклопедических справочников. Сейчас этот петит прививают еще к стволу интернета.
Нужен только повод щелкнуть поисковиком.
А будет ли такой повод?
Между тем я уверен, что самые интересные сюжеты заложены в сопоставлении петитных строчек, в характере точек и запятых, в безднах интервалов, разделивших строчки.
Конечно, не повредит и дополнительное знание, если докопаться до него.
Погодин имел сведения об Эйнштейне и теории относительности примерно на уровне изложенного в энциклопедии. Но что-то же будоражило фантазию драматурга – зачем ему американец, когда в распоряжении у него судьбы отечественных ученых?
Жизнь Ленина он не ассоциировал со своей – не смел.
А Эйнштейн? Когда-то в пьяном, разумеется, виде Погодин напихал на курорте лицам еврейской национальности – и потом надо было что-то предпринимать для перемирия, ведь рецензии на спектакли пишут не одни арийцы.
Возможно, национальность Эйнштейна он в расчет и не принимал – увидел в нем близкого себе (нам все равно не понять до конца, по какой причине) героя.
Допускаю, что подходил Погодин к пьесе об Эйнштейне из рациональных побуждений. Знаменитый на всю планету американец скорее заинтересует мир, чем неведомый за рубежом русский такого же масштаба.
Допускаю, что, заинтересовавшись фигурой автора теории относительности, автор пьес о Ленине продолжил свой спор с драматургами нового созыва. Он смирился с тем, что сегодняшнего человека они, пожившие среди этих людей, сумели понять лучше, чем Погодин, сочинявший пьесу за пьесой в Переделкине.
Но зато он убьет всех масштабом, как было когда-то, когда решился придумывать реплики за Ленина.
Для первого варианта “Эйнштейна” для представления о теории относительности ему – при его-то опыте сочинения пьес – хватило одного (последнего, правда, – не мог он из-за болезни глаз регулярно учиться) класса начальной школы. Тетя Лена смеялась, что вокруг же сплошные физики: дочь-физик, возлюбленная тоже физик.
А про живые черты Эйнштейна он расспросил Чарли Чаплина (Чаплин дружил с Эйнштейном) – к Чаплину на виллу он попал вместе с другими нашими писателями, когда ездили они туристами в Швейцарию.
Но Погодин понимал, что для пьесы всерьез этого маловато. Он продолжал думать про мировую аудиторию, понимая себя человеком значительным, который поверяет себя масштабом ученого, создавшего самую знаменитую из теорий.
Он поехал расширить свои представления, приобрести знания о чужой стране (свою, он считал, понимает).
Дополнительное знание (многое ли малое) погубило Погодина. О многом знании говорить все же не приходилось – он понял, в общем-то, только то, что Америка богаче (каждый человек на плаву живет там лучше, чем он, знаменитый советский богач) и что драматурга Николая Погодина никто там не знает. Не такое уж ошеломительное знание.
Но печаль оказалась несоизмеримо больше того, что узнал он. И он, не пивший лет восемь, предупрежденный врачами насчет никудышности печени, поступил так, как ни за что не поступил бы американец, а он, Николай Фёдорович Погодин, поступил – какой же русский, думал в глубине души драматург, не поступил бы точно так же?
Он не стал стреляться, подобно Фадееву, он не искал осины, чтобы повеситься.
Он не жахнул из стакана водку, убийственную для печени, как приходилось мне слышать от вроде бы сведущих людей.
Он, по словам верного Волгаря, принимал у себя на даче гостей, мужа и жену, – Анна Никандровна проводила бархатный сезон, стоял сентябрь, она была на курорте – выпивку на стол поставил такую, какую сам не употреблял, разные ликеры.
Гости побыли недолго. Он оставался в паршивом, не улучшенном гостями настроении.
Водки он по-прежнему остерегался, чувство самосохранения не оставляло его, ни о каком самоубийстве и не думал (а что, разве кто-то – или он сам – мог проникнуть в подсознание?).
Он пригубил рюмку противного ликера, выпил другую. Плохо ему стало уже ночью.
Но не хотел он умирать – предлагал врачам миллион, если вытащат. Не надо в таких случаях искать логику, как советовал Брежнев, до чьего царствования Погодин не дожил.
Руководителем нашего курса был Александр Михайлович Карев. Старшим преподавателем – Олег Николаевич Ефремов. И художественным куратором согласился стать Михаил Николаевич Кедров.
Конечно, мною, семнадцатилетним, владел и суетный интерес к педагогу с наивысшим в стране актерским званием (Карев был заслуженным артистом, а Ефремову по возрасту званий еще не полагалось).
Но и сейчас, когда стала ясной тщета званий рядом с действительными явлениями в искусстве, когда моя жизнь в общих чертах прошла – и от театра я неправдоподобно (учитывая мою юношескую им увлеченность) далек, думать о судьбе Михаила Николаевича Кедрова мне все равно интересно.
К началу нашей учебы Кедров перестал быть главным режиссером Художественного театра, он возглавлял теперь режиссерскую коллегию – и вроде бы меньше мог влиять на происходящее в Камергерском.
Но положение лучшего режиссера МХАТа у него сохранялось – рвавшиеся в режиссуру выдающиеся артисты Борис Ливанов и Виктор Станицын, вместе с ним входившие в руководящую коллегию, бо́льшими авторитетами для труппы, чем Кедров, никак не становились, притом что симпатии большинства артистов были, по-моему, на их стороне. Кедров сохранял дистанцию между собой и остальными мхатчиками – и ни с кем, кажется, кроме дачного соседа по Снегирям Анатолия Кторова, приятельских отношений не поддерживал.
Он не производил впечатления человека, уязвленного утратой полноты власти. И казалось, что он никогда не спешит.
Так оно на самом деле и обстояло – Борис Ливанов (Астров в кедровском “Дяде Ване”) подкалывал при встрече: “Ну как, Миша, твоя зимняя спячка?” Он намекал на безразмерные сроки репетиций Кедрова, ставившего “Зимнюю сказку” Шекспира.
Кедров в острословии с Ливановым не тягался, но когда на художественном совете Борис Николаевич предложил поставить “Отелло” с ним в главной роли, Михаил Николаевич выразил сомнение: “Нужен ли сейчас театру черномазый Ноздрёв?” (в “Мертвых душах” у Станиславского Ливанов знаменито сыграл Ноздрёва, а Кедров – не менее знаменито – Манилова).
Ефремов, выделявший Кедрова среди мхатовских первачей, считал сыгранного им Манилова удачей на все театральные времена.
Мне кажется, что найденную для роли Манилова характерность Кедров перенес на свое внешнее поведение.
У нас на уроках Кедров никогда не повышал голоса и улыбался, а не гневался, когда мы не сразу могли выполнить предложенное им. Но наш громогласно-грозный Карев при нем затихал – и свои суждения приберегал для занятий, когда Михаила Николаевича не будет (Кедров приходил к нам не чаще раза в месяц).
Но Маниловым он, конечно, не был. Манилов не мог бы возглавлять театр.
Некоторыми из административных решений Кедров восстановил против себя историков театра, никогда потом к нему не благоволивших.
Он уволил из МХАТа Павла Маркова (у Булгакова в романе – Мишу Панина), без которого не мыслили театр ни Станиславский, ни Немирович-Данченко, – и Марию Осиповну Кнебель: счел их противниками внедряемого им метода физических действий (последнего открытия Станиславского).
Мне трудно судить, насколько прав был, принимая такое решение, Михаил Николаевич, но в театроведах, учившихся в ГИТИСе у Павла Александровича Маркова, он приобрел врагов навсегда.
Отсюда и пошли, наверное, разговоры, что он, поставивший два несомненных шедевра – “Глубокую разведку” (Иван Москвин после этого спектакля по советской пьесе воскликнул, что настоящий МХАТ продолжается) и “Плоды просвещения” (я могу свидетельствовать, какой это был спектакль со звездами МХАТа разных поколений) – театр погубил.
Но я напомню, что Олег Ефремов руководил Художественным театром в три раза дольше, чем Кедров (и не при Сталине) – больше ли шедевров было при нем?
Другое дело, что конъюнктурные пьесы-однодневки Ефремов ставил со страстью, с искренней верой в необходимую современность репертуара. И все же обновленный МХАТ был у него в “Современнике”, но не в самом МХАТе.
Кедров же ставил свои “зеленые улицы” и “чужие тени” равнодушно к их драматургии, пользуясь случаем, чтобы обратить артистов в его режиссерскую веру – привить им по ходу репетиций прежде не привитое.
Артистам успех дороже качества игры – в конце концов, публика более всего любит штампы, а Кедров к штампам бывал непримирим и репетициями мог замучить.
Впрочем, “зеленые улицы” и “чужие тени” неизменно отмечались Сталинскими премиями – и артисты забывали про задетое на репетициях самолюбие, когда прикрепляли к лацканам парадных костюмов и вечерних платьев очередной лауреатский значок.
Медлительность Кедрова входила в поговорку. Кто-то из критиков (кажется, уважаемая Инна Натановна Соловьёва) назвал его репетиции завораживающе вялыми. Но я задержался бы на эпитете – Кедров завораживал – мы, студенты, испытывали на себе актерский магнетизм Михаила Николаевича.
Он вальяжно сидел на наших занятиях за столиком вроде режиссерского, а мы на стульях, расставленных полукругом, – и когда говорил (или, тем более, когда ко мне обращался), мне он казался то удалявшимся на большое расстояние, то приблизившимся вплотную.
Кедров, как и Станиславский в свои последние годы, чувствовал прохладное отношение мхатовских актеров к более или менее настойчивым предложениям постановщика спектакля находить в себе что-то новое.
И как Станиславский эмигрировал в свой особняк на улице Станиславского (а до этого – и ныне – Леонтьевский переулок), так и Кедров, ближайший сотрудник Константина Сергеевича, регулярно бывавший у него, перенес свои опыты в организованную театральным обществом лабораторию, куда приходили к нему ведущие артисты столичных театров.
В лаборатории у Кедрова знаменитости делали этюды, вроде тех, что задавали студентам первых курсов театральных институтов. Но вникали при этом в нюансы, не всем и первачам доступные.
Постоянно посещавший эти занятия (задолго до создания театра на Таганке) Юрий Любимов называл себя учеником Кедрова, как и Ефремов, оставшийся после окончания Школы-студии педагогом, ассистентом Кедрова.
Откровенно не любившая Кедрова Инна Соловьёва признавала, что общественная репутация главного режиссера сохранялась почти незапятнанной – он не подписывал никаких подлых писем, не вступил в партию (что для руководителя театра нонсенс), отказался от избрания в депутаты Моссовета, сославшись на занятость, что вызвало саркастическое замечание Сталина: у меня, выходит, есть больше времени для депутатства, чем у этого артиста.
Помню, правда, Кедрова в кинохронике за сорок девятый год, где он высказывается язвительно про критиков-космополитов за негативную оценку “Зеленой улицы”. Но артисты не терпят критики при любом политическом режиме.
И похоронить себя Михаил Николаевич завещал не на мхатовской аллее Новодевичьего, а на Ваганьковском – рядом с отцом-священником.
Кедров не проявлял ни малейшего желания запечатлеть себя на пленке – снялся однажды до войны, сыграв военного летчика.
А когда снимали на пленку знаменитые спектакли МХАТа с его участием, устранился от съемок, отдав дублерам и Манилова, и Каренина в “Анне Карениной”.
Для истории остались документальные кадры, где они со Станиславским репетируют “Тартюфа”.
Мне жаль, что из-за своего предубеждения по отношению к артистам кино он поломал кинематографическую судьбу дочери, то ли запретив, то ли отсоветовав ей сниматься у Хуциева в роли из “Заставы Ильича”, принесшей известность Марианне Вертинской. Директор Школы-студии Вениамин Захарович Радомысленский (до войны директор оперной студии Станиславского) рассказывал, что у Константина Сергеевича была идея объединить в руководстве новым, открытым эксперименту театре Мейерхольда и Кедрова.
Фамилия Мейерхольд вчера еще была запрещена, теперь он возвращался из забытой истории в новейшую. И хотя при рассказе Радомысленского мы находились на территории МХАТа, соединение бросившего вызов Художественному театру Всеволода Эмильевича с наследником Станиславского по творческой прямой Михаилом Николаевичем придавало Кедрову в наших глазах дополнительную значимость.
Вот такой исторический человек был у нас педагогом.
Дочь Кедрова Анюта – прелестная, умная девочка – училась на одном со мною курсе – и, вероятно, рассказывала дома обо мне что-то забавное. Карев же говорил, что я – самый странный человек на курсе.
Скорее всего, этой странностью я и обязан личным общением с Кедровым. Дочери он говорил, что я ему своей фактурой напоминаю себя в молодости.
Помню: спешу я на репетицию (пьесы Погодина, между прочим, но не “Третьей Патетической”, а “Маленькой студентки”) – и на лестничной площадке встречаю Михаила Николаевича. Он рассматривает прикнопленную к дверям таблицу шахматного турнира среди студентов – ему и это интересно. Он спрашивает меня, играю ли я в шахматы, отвечаю, что знаю только ходы (в первом классе соученик Гена Бурд показал мне их, а дальше не продвинулся), – Кедров мне что-то говорит о психологии игроков в шахматы… На репетицию опаздываю. Отрывок из пьесы ставит артист Художественного театра Игорь Терёшин. Он человек тайной сексуальной ориентации, но его выдают дружба с опереточным комиком Владимиром Шишкиным, уже отсидевшим за то самое, и своеобразная манера обращения. “Шура, – спрашивает он, – мой птичка, почему ты опаздываешь?” Объясняю, что меня задержал Кедров. Терёшин меняется в лице, забывает про репетицию. Просит пересказать другим участникам репетиции нашу с Михаилом Николаевичем беседу – он считает драгоценным для будущих артистов каждое произнесенное Кедровым слово.
Или выхожу я из служебного подъезда театра, отыграв массовку в “Третьей Патетической”, – и вижу Кедрова, постановщика этого спектакля, окруженного занятыми в “Патетической” артистами (различаю – на дворе полночь – Владлена Давыдова и его жену, красавицу Маргариту Анастасьеву). Кедров (по-простецки в кепке) приветственно машет рукой. Артисты оборачиваются ко мне – силятся понять, кто я такой, чтобы Михаил Николаевич меня приветствовал. У меня самомнения было больше, чем сейчас, но мне делается крайне неловко – не заслуживаю я такого внимания.
Для Кедрова никакого значения не имело, что педагоги, кроме Ефремова, относятся ко мне скептически.
Я уже учился в университете, когда встретил на Дмитровке Михаила Николаевича, – я шел вниз, к метро, а он из театра возвращался домой, Кедров жил в мхатовском доме в Глинищевском переулке (тогда улица Немировича-Данченко, Немирович-Данченко тоже жил когда-то в этом доме).
Я поклонился ему, не уверенный в том, что он меня помнит – мало ли студентов у него училось. Но Кедров остановился – он, как всегда, никуда не спешил, поинтересовался, почему я не попробовал поступить (после того как из студии при МХАТ ушел) в Щукинское училище. Я от растерянности пробормотал, что вахтанговская школа вряд ли мне близка. А может быть, искусствоведение? В учебе на искусствоведа, может быть, и был бы резон, но мне тогда казалось диким, не дойдя самому до сцены, судить тех, кто на нее выходит.
“Что же вы, так и будете жить без театра?” – удивился Кедров.
Я не был тогда уверен, что смогу. Но смог же – теперь-то можно точно сказать, – я даже редким зрителем перестал быть, а театралом никогда и не был.
Утешает одно – жизнь (и не только моя) развивается по законам театра.
Законы театра незыблемы, как, допустим, законы физики. Квантовая механика переворачивает классическую физику, но не опровергает же – и всякая новая теория включает старую как частный случай.
Распределение ролей было и остается общечеловеческой проблемой.
Только артисты готовы жизнь положить за роль, а все ли мы – из публики – к этому готовы?
Пушкин еще когда заметил, что среди нас ходят великие полководцы, не командовавшие и ротой, великие писатели, никогда не печатавшиеся и в “Московском телеграфе”.
Ефремов недавно приснился мне. Он выглядел постаревшим ровно на столько лет, сколько нет его на свете.
На похоронах Ефремова я пробыл целый день – панихида длилась бесконечно, потом поехали на кладбище – и вернулись обратно в дом на Камергерском, помянуть.
За распорядок панихиды отвечал мой однокурсник, народный артист Гарик Васильев. Он настоял, чтобы и я встал в почетный караул.
От неловкости стоять у гроба со знаменитыми театральными людьми (я казался себе самозванцем) не сразу и сообразил, что скорбное действие происходит на сцене Художественного театра, где я со времен студенческого участия в массовке “Третьей Патетической” не был – и не должен был быть.
Когда меня сменили в карауле, я сделал несколько шагов к рампе и с необъяснимым чувством смотрел в зрительный зал – поверх голов сидящих в партере – и что-то видел, от чего никак не мог оторваться.
Олег Табаков – новый хозяин МХАТа – положенной скорби не изображал, держался как-то свободнее, чем принято на похоронах. Он подошел ко мне сзади бесшумно – и спросил: что ты здесь инвентаризируешь?
Я вздрогнул внутренне от неожиданного проникновения в мои мысли точно найденным словом: инвентаризируешь.
Он для меня и в двухтысячном году оставался тем же (стал ли он другим, я уже не мог проверить), каким в пятьдесят седьмом году с ним познакомился, когда звался он Лёликом; и я сказал ему, что он-то еще на эту сцену выйдет, а я здесь – последний раз. Со сцены я не в зал спустился, а ушел за кулисы – и долго бродил там.
На ходу само собою складывалось (сочинялось все же, наверное) повествование, где бесконечность панихиды вмещала бы все, что знал я о Ефремове, и все, что думал, вторгаясь личными воспоминаниями в общее суждение о его судьбе.
Но по свежим впечатлениям я ничего тогда толком не записал – и по прошествии времени такая форма повествования начинала казаться мне приемом, чего Ефремов не любил, настаивая на процессе, передачи которого, как естественного течения жизни, всегда пытался добиться в своих спектаклях, – нередко в ущерб театральности, на мой взгляд.
Мне тогда еще нужна была опора на конкретный заказ. А уж в фарватере заказа я имитировал независимое плавание, используя давние, отложенные из-за недостаточной уверенности в себе замыслы, – заказчиков это неизменно раздражало, но что-то удавалось опубликовать.
У меня и на Ефремова был заказ – авансовый договор на книгу в серии “Жизнь замечательных людей”. Но, подписав договор, я почувствовал ту же неловкость, что испытывал в почетном карауле перед людьми, ближе к Ефремову стоявшими, теснее – и главное – дольше, чем я, с ним общавшимися. Со своим представлением, подкрепленным воспоминаниями о раннем Ефремове времен начала “Современника”, я мог показаться его достойным биографам (вроде Смелянского) авантюристом и верхоглядом.
Я искал выхода из ситуации, но начались болезни, больницы, врачи, продлившие мое присутствие в земной жизни, – и мне кажется, что в сохраненном существовании я уже не совсем тот, каким когда-то был, и к давно канонизированному Ефремову вряд ли имею какое-то касательство.
Тем не менее он недавно мне приснился заметно постаревшим.
Александр Михайлович Карев начинал свою актерскую карьеру в еврейской студии “Габима”, руководимой Евгением Вахтанговым.
В монографии о Вахтангове я видел портрет Карева (он выступал тогда под своей фамилией – Прудкин) в роли Прохожего из спектакля “Гадибук”.
Во время гастролей по Америке за кулисы театра, где играла “Габима”, зашел Альберт Эйнштейн – и обратился непосредственно именно к исполнителю роли Прохожего.
Что-то в этом образе показалось гениальному физику созвучным – и общение с этим персонажем захотелось продлить после спектакля. Но ведь обратился он со своими вопросами не к Прохожему, а к Александру Михайловичу – тогда еще Прудкину, – и ответа не дождался. Александр Михайлович через много лет признавался студентам, что так и не понял, чего хотел от него Эйнштейн.
Вся “Габима” осталась за границей – и только Прудкин вернулся в СССР. Трудно поверить, но его не расстреляли как шпиона, а разрешили вступить в труппу Художественного театра при условии, что фамилию он сменит. Один Прудкин в МХАТе уже был – и была еще причина, как бы и не первая из причин.
Александр Михайлович не рассказал нам, на каком языке он разговаривал с Эйнштейном. Подозреваю теперь, что на идиш, чему в академическом театре, признанном в стране главным после Большого, вряд ли обрадовались.
В МХАТе с этим было строго.
Станиславскому приписывают фразу, что евреи могут, конечно, служить в Художественном театре, но тогда они должны быть так же талантливы, как Леонид Миронович Леонидов.
Для объективности, правда, скажу, что в МХАТе важнее всего были все же правильные фамилии – и у Андровской, и у Станицына в паспортах изначально стояли немецкие фамилии, но кто из обожавших этих знаменитых первачей знает их?
Карев помогал Кедрову при постановках в сезонах конца сороковых пьес “Зеленая улица” и “Чужая тень”.
“Зеленая улица” прошла во МХАТе всего двадцать девять раз за три сезона.
Но когда прогрессивные критики пишут о послевоенном падении Художественного театра, они с наибольшим гневом пишут про “Зеленую улицу”.
Кстати, сюжет этой пьесы очень напоминает сюжет “Премии” – пьесы, поставленной множеством театров в семидесятые годы, – и с наибольшим успехом Ефремовым во МХАТе, где сам же Ефремов сыграл и главную роль.
В “Зеленой улице” машинист-железнодорожник возвращает генерал-директору тяги наградные золотые часы – не соглашается, как и герой “Премии” (бригадир строителей), быть премированным за нечестную игру, затеянную начальством. Рабочий в советских пьесах не бывал неправ. Начальство могло ошибаться, но над ним стояло еще более высокое начальство, справедливое, как царь Соломон.
“Зеленая улица” вошла в историю из-за того, что формально с нее началась кампания по борьбе с космополитами. И первыми козлами отпущения сделали театральных критиков (в большинстве своем людей спорной национальности), которые сочли постановку подобной пьесы недостойным традиций Художественного театра актом.
Автор пьесы, сталинградский драматург Суров, завоевавший слабенькими пьесами театральную Москву в конце сороковых, вел себя чрезвычайно подло-разнузданно, пользуясь поддержкой Фадеева и других писательских командиров. В ту минуту он был им очень полезен для развертывания инициированной Сталиным кампании.
Но был в истории с “Зеленой улицей” еще один, существенный для всего дальнейшего нюанс.
Суров не сочинил “Зеленой улицы” – пьесу написал за него весьма уважаемый в среде гонимых критиков Яков Варшавский, что спасло его от погрома.
И при дальнейшем рассмотрении случившегося обнаруживалась неувязка.
Одно дело, когда бездарную пьесу написал скотина и антисемит Суров, – и совсем другое, когда замаскированным автором был одаренный человек Варшавский.
В самом начале девяностых, когда я жил неделю в киношной богадельне из-за съемок фильма о старике Габриловиче, со мною рядом в столовой сидел Варшавский. Он узнал меня по фотографии в газете “Экран и сцена”, где я некоторое время подвизался колумнистом. Он отечески похвалил мои заметки, спросив, помню ли я, что писать от первого лица начинали они (как я понял, гонимые критики).
Я был польщен, но не знал, как связать это с “Зеленой улицей”, – о чем человеку много старше меня тогдашнего, пережившему то, чего я не переживал, напоминать не счел для себя возможным.
“Чужую тень” по нынешним временам тоже можно бы восстановить – политический оппонент остается неизменным.
После войны Сталин обратил внимание на то, что успеху наших разведчиков, узнавших секрет изготовления атомной бомбы, поспособствовали левые настроения американских атомщиков.
Сталин опасался, что и среди наших ученых могут обнаружиться (в реальности он их сам и “обнаружил”, заподозрив) люди, которые из соображений ложно понятого гуманизма не станут скрывать от американцев (и прочих иностранцев-засранцев, как обычно рифмовал товарищ Сталин) свои научные открытия. И будет бесхозяйственностью расстреливать полезных обороне страны людей – лучше сделать упреждающий (но достаточно строгий, но не строже, чем в реальности) ход.
