Все рушится
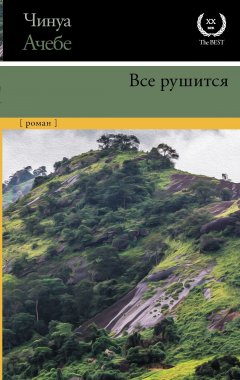
Chinua Achebe
Things fall apart
© Chinua Achebe, 1958. All rights reserved
© Перевод. И. Доронина, 2020
© Издание на русском языке AST Publishers, 2020
У. Б. Йейтс. Второе пришествие[1]
- Все шире – круг за кругом – ходит сокол,
- Не слыша, как его сокольник кличет;
- Все рушится, основа расшаталась,
- Мир захлестнули волны беззаконья…
Часть первая
Глава первая
Оконкво был хорошо известен во всех девяти деревнях общины Умуофия и даже за их пределами. Репутацией своей он был обязан собственным достижениям. Еще в восемнадцатилетнем возрасте он прославил свою деревню, одолев Кота Амалинзе. От Умуофии до Мбайно Амалинзе слыл великим борцом, семь лет не знавшим поражений. Котом его прозвали за то, что лопатки его никогда не касались земли. И такого человека Оконкво победил в схватке, которая, по мнению старейшин, была одной из самых ожесточенных с того времени, когда основатель их рода семь дней и семь ночей бился с Духом дебрей.
Гремели барабаны, пели флейты, и зрители следили за поединком, затаив дыхание. Амалинзе был хитер и умел, но Оконкво оказался юрким, как рыба в воде. Каждая жила и каждый мускул отчетливо выдавались у борцов на руках, спине и бедрах, и казалось: они напряжены и натянуты настолько, что вот-вот порвутся. В конце концов Оконкво одержал верх над Котом.
Это было много лет назад, двадцать или больше, и все это время слава Оконкво росла и распространялась, как лесной пожар, раздуваемый харматаном[2]. Он был высок ростом, коренаст, кустистые брови и широкий нос придавали ему свирепый вид. Он тяжело дышал, говорили, будто, когда он спал, его жены и дети слышали его дыхание в своих домах. При ходьбе почти не касался земли пятками, создавалось впечатление, что он ходит на пружинах – как будто в любой момент готов на кого-нибудь напасть. Он и впрямь часто нападал на людей. Из-за небольшого заикания, возникавшего, когда он сердился, он порой не мог быстро найти нужных слов и тогда пускал в ход кулаки. Оконкво терпеть не мог неудачников. Оконкво терпеть не мог своего отца.
Унока – так звали его отца – умер десять лет тому назад. При жизни он был ленив, расточителен и совершенно не способен думать о завтрашнем дне. Если какие-то деньги попадали ему в руки, а случалось это редко, он тут же накупал несколько калебас[3] пальмового вина, созывал соседей и устраивал пирушку. Он любил повторять, что, глядя на рот мертвеца, всегда думает: какая дурость не наесться при жизни до отвала. Конечно же, Унока был вечным должником, всем соседям вокруг он задолжал от нескольких каури[4] до весьма существенных сумм.
Унока был высоким, но очень худым и немного сутулым. Вид у него был изможденный и унылый – за исключением тех моментов, когда он пил или играл на флейте. Играл он на ней очень хорошо, и самыми счастливыми периодами в его жизни были две-три луны после сбора урожая, когда деревенские музыканты снимали со стены инструменты, обычно висевшие над очагом. Унока играл вместе с ними, и лицо его тогда светилось блаженством и покоем. Иногда их оркестр вместе с их же танцующими эгвугву приглашали на некоторое время в другие деревни, чтобы поучиться их искусству. Они гостили в таких деревнях на протяжении трех-четырех базаров, исполняя свою музыку и пируя. Унока любил хорошее угощение и хорошую компанию, поэтому любил он и это время года, когда прекращались дожди и солнце всходило каждое утро в своей ослепительной красоте. И сильной жары в это время не бывало, потому что холодный и сухой харматан дул с севера. Выдавались годы, когда харматан особенно свирепствовал, и тогда в воздухе висело плотное марево. Старики и дети в такую погоду усаживались вокруг дровяных костров и грелись. Унока любил все это, любил наблюдать, как с наступлением сухого сезона возвращались первые коршуны и дети встречали их песнями. Он вспоминал собственное детство, как бродил по окрестностям, высматривая в небе коршуна, и, завидев его, лениво парившего в синем небе, разражался радостной песнью, вкладывая в нее все свое существо, приветствуя возвращение коршуна из долгого-долгого путешествия и вопрошая, не принес ли он домой хоть какой-то кусочек ткани.
Но то было много лет назад, в его детстве. Взрослый Унока стал неудачником. Он был беден и едва мог прокормить жену и детей. Люди смеялись над ним, считая его бездельником, и клялись ни за что больше не давать ему взаймы, потому что долгов он никогда не отдавал. Но было в этом человеке что-то такое, что заставляло тех же людей ссужать его снова и снова, и долги его накапливались.
Однажды к нему в хижину зашел сосед по имени Окойе. Унока полулежал, прислонившись к глиняной лавке, сооруженной вдоль стены, и играл на флейте. При виде соседа он тут же вскочил и пожал ему руку. Окойе расстелил козью шкуру, которую принес под мышкой, и сел. Унока сходил в заднюю комнату и вернулся с круглой деревянной дощечкой, на которой лежали орех кола, аллигаторов перец[5] и кусочек белого мела.
– У меня есть кола, – объявил он, сел и передал дощечку гостю.
– Спасибо. Приносящий колу приносит жизнь. Но я думаю, что ты сам должен расколоть его, – ответил Окойе, возвращая дощечку.
– Нет, я считаю, что это должен сделать ты. – Так они попререкались немного, пока Унока не согласился принять честь разделать орех. Окойе же тем временем взял мел, начертил на полу несколько прямых линий, а потом покрыл мелом большой палец ноги.
Разломив орех, Унока вознес молитву предкам, прося жизни, здоровья и защиты от врагов. Поев, они поговорили о том о сем: о проливных дождях, затапливавших посадки ямса, о грядущем празднике в честь предков и о надвигающейся войне с деревней Мбайно. Война никогда не радовала Уноку. По правде сказать, был он трусоват и не выносил вида крови. Поэтому предпочел сменить тему и заговорил о музыке, тут-то лицо его засияло. Его внутреннему слуху были внятны будоражившие кровь замысловатые ритмы экве, уду и огене, и он мог представить себе, как его флейта вплетается в них, украшая выразительными печальными мелодиями. Общее звучание было веселым и оживленным, но если выделить из него голос флейты: то взмывающий вверх, то падающий, а потом распадающийся на короткие рваные всхлипы, – становилось очевидно, что это голос тоски и печали.
Окойе тоже был музыкантом. Он играл на огене. Но он не был неудачником, как Унока. Его амбар ломился от ямса, он имел три жены и вскоре должен был получить титул идемили[6], третий по значимости в их краях. Церемония предстояла очень дорогостоящая, и он собирал все свои ресурсы. За этим-то и пришел к Уноке. Откашлявшись, Окойе начал:
– Спасибо за колу. Ты, может, слышал, что в скором времени я намерен принять титул.
Говоривший до сих пор прямо, следующие полдюжины фраз он выдал в виде пословиц. У ибо[7] искусство вести беседу ценилось очень высоко, и пословицы были чем-то вроде пальмового масла, на котором «готовились» слова. Язык у Окойе был подвешен отменно, говорил он долго, ходя вокруг да около, и только в конце перешел к делу. Короче говоря, он просил Уноку вернуть ему двести каури, которые тот взял взаймы у него больше двух лет назад. Как только Унока понял, к чему ведет сосед, он разразился смехом. Смеялся долго и громко, голос его звенел чисто, как огене, а из глаз лились слезы. Гость онемел от изумления. Наконец Уноке удалось – между приступами хохота – выговорить ответ.
– Посмотри на эту стену, – сказал он, указывая на дальнюю стену хижины, до блеска натертую красной глиной. – Видишь те черточки, нарисованные мелом? – Окойе увидел нанесенные мелом группы вертикальных штрихов. Их было пять: в самой маленькой насчитывалось десять штрихов. Унока обладал драматургическим чутьем, поэтому сделал многозначительную паузу, во время которой втянул носом щепотку табаку и громко чихнул, после чего продолжил: – Каждая группа черточек – мой долг кому-нибудь, а каждая черточка – это сто каури. Видишь, я должен вот этому, например, человеку тысячу каури. Но он не приходит и не будит меня из-за этого ни свет ни заря. Я отдам тебе долг, но не сегодня. Наши старики говорят: солнце освещает сначала тех, кто стоит во весь рост, а уж потом коленопреклоненных. Вот так и я: сначала рассчитаюсь с теми, кому задолжал больше. – И он вдохнул еще одну понюшку, словно она символизировала бóльшие долги. Окойе свернул свою козью шкуру и ушел.
Когда Унока умирал, он не имел вообще ни одного титула и был по уши в долгах. Удивительно ли, что его сын Оконкво стыдился его? К счастью, у здешнего народа было принято ценить человека по его собственным достоинствам, а не по достоинствам его отца. Оконкво, вне всяких сомнений, был рожден для великих дел. Будучи еще молодым, он уже завоевал славу первого силача всех девяти деревень, был зажиточен, имел два амбара полных ямса и только что взял третью жену. А в довершение всего обладал двумя титулами и продемонстрировал невероятную доблесть в двух межплеменных войнах. Поэтому, несмотря на молодость, Оконкво уже считался одним из самых выдающихся людей своего времени. В его народе возраст почитали, но перед личными достижениями преклонялись. Как говорили старики: если ребенок вымыл руки, он может есть с королями и старейшинами. Оконкво, безусловно, «вымыл руки», поэтому ел вместе с королями и старейшинами. И именно поэтому ему поручили присматривать за обреченным мальчиком, которого пожертвовали деревне Умуофия ее соседи, чтобы избежать войны и кровопролития. Несчастного мальчишку звали Икемефуна.
Глава вторая
Только-только Оконкво задул масляную лампу и вытянулся на своем бамбуковом ложе, как ночную тишину прорезал звук огене деревенского глашатая. Бом-м – бо-м-м – бом-м – гудела металлическая полость. Потом глашатай прокричал новость и после этого снова ударил в свой инструмент. А новость была такова. Всех мужчин Умуофии призывали собраться на следующий день утром на базарной площади. «Что же за беда нагрянула?» – думал Онокво; в том, что случилось что-то плохое, он не сомневался. В голосе глашатая он ясно расслышал трагический оттенок, и даже теперь, когда голос все больше и больше удалялся, отчетливо различал эту нотку.
Ночь была очень тихой, как всегда, кроме периодов полнолуния. Для его народа, даже для самых смелых его людей, темнота таила в себе смутный страх. Детям строго наказывали не свистеть по ночам, чтобы не вызвать злых духов. Опасные животные в темноте представлялись еще более зловещими и фантастическими. Ночью змею никогда не называли змеей, потому что она могла услышать. Ее называли Струной. По мере того как голос глашатая постепенно замирал вдали, на мир снова опускалась тишина – тревожная тишина, вибрирующая от вселенской трели миллионов и миллионов лесных насекомых.
В полнолуние все бывало по-другому. Тогда поляны оглашались радостными детскими криками. А те, кто постарше, уединялись парами в не столь открытых местах; старики и женщины, глядя на них, вспоминали молодость. Как гласит пословица ибо, когда светит луна, и хромому хочется погулять.
Но эта ночь была непроглядной и тихой. И во всех девяти деревнях Умуофии глашатай со своим огене призывал мужчин утром явиться на общий сход. Лежа на своей бамбуковой постели, Оконкво пытался разгадать причину срочного сбора: «Война с соседним кланом?» Эта причина казалась наиболее вероятной. Война Оконкво не страшила. Он был человеком действия, воином и, в отличие от отца, вида крови не боялся. В последней войне, которую вела Умуофия, он первым добыл человеческую голову. И это была уже пятая голова на его счету, а ведь он еще далеко не стар. По торжественным случаям вроде похорон деревенской знатной персоны он пил пальмовое вино из своего первого трофейного черепа.
Наутро базарная площадь была запружена мужчинами, их собралось там тысяч десять, все разговаривали приглушенными голосами. Наконец в центр площади вышел Огбуэфи Эзеуго и четырежды, поворачиваясь каждый раз в одну из четырех сторон и словно нанося кому-то в воздухе удар кулаком, громогласно выкрикнул:
– Умуофия, слушай!
И каждый раз десять тысяч голосов отвечали ему возгласом одобрения. Потом наступила мертвая тишина. Огбуэфи Эзеуго был великолепным оратором, и в подобных случаях говорить поручалось именно ему. Он провел рукой по своим седым волосам и огладил седую бороду. Затем поправил одежду – полотнище, пропущенное под правую подмышку и связанное над левым плечом.
– Умуофия, слушай! – пророкотал он в пятый раз, и толпа в ответ взорвалась оглушительным ревом. Потом вдруг он, словно одержимый, выбросил вперед левую руку, указал ею в направлении Мбайно и произнес сквозь гневно сжатые ослепительно-белые зубы: – Это отродье диких зверей посмело убить дочь Умуофии. – Голова его упала на грудь, он заскрежетал зубами и дал время гневному ропоту прокатиться по толпе. Когда же он заговорил снова, ярость в его лице сменилась улыбкой, оказавшейся еще более жуткой и зловещей, чем маска гнева.
Четким бесстрастным голосом он поведал жителям Умуофии, как дочь их племени пошла на базар в Мбайно и была там убита. «Эта женщина, – сказал Эзеуго, – была женой Огбуэфи Удо», – и указал на мужчину, сидевшего рядом с ним с поникшей головой. Толпа гневно взревела, требуя крови.
Многие высказались после этого, и в конце было решено следовать обычному порядку вещей. В Мбайно тут же был отправлен ультиматум, жителям деревни предлагался выбор: либо – война, либо – юноша и невинная девушка в порядке компенсации.
Все соседи боялись Умуофии. Она была сильна и в войне, и в магии, перед ее жрецами и колдунами трепетала вся большая округа. Их самое могущественное военное колдовство имело традиции древние, как сам клан. Никто не знал, насколько древние. Но в одном сходились все – секретом его владела одноногая старуха. Она так и называлась – агади-нвайи, что означало «старая женщина». Святилище агади-нвайи находилось в центре Умуофии, на расчищенном месте. Если кому-нибудь хватило бы дурости пройти мимо него в сумерках, он непременно увидел бы скачущую на одной ноге колдунью.
Соседние кланы, разумеется, все это знали, боялись Умуофии и никогда не стали бы воевать с ней, не попытавшись сначала уладить дело миром. И к чести Умуофии надо сказать, что она никогда не начинала войну, если причина ее не была совершенно ясна, справедлива и признана таковой ее оракулом – Оракулом холмов и пещер. Бывали случаи, когда Оракул запрещал умуофийцам вступать в войну. Если клан не повиновался Оракулу, ему неминуемо грозило поражение, потому что грозное агади-нвайи никогда не стало бы ему помогать в том, что ибо называют войной неправедной.
Но война, которая грозила разразиться сейчас, была праведной. И это понимал даже вражеский клан. Поэтому когда Оконкво из Умуофии прибыл в Мбайно как гордый и надменный посланник войны, принят он был с огромным уважением и почестями, а два дня спустя возвратился домой с пятнадцатилетним подростком и невинной девочкой. Мальчика звали Икемефуна, и его печальную историю в Умуофии рассказывают по сей день.
Старейшины, ндичье, собрались, чтобы выслушать отчет Оконкво о выполнении им порученной миссии, после чего решили – вполне предсказуемо, – что девочка в возмещение утраченной жены достанется Огбуэфи Удо. Что же касается мальчика, то он принадлежал теперь клану в целом, и не было никакой спешки с решением его судьбы. Тем не менее Оконкво попросили от имени клана приглядеть за ним до поры до времени. В результате Икемефуна прожил у Оконкво целых три года.
Оконкво сурово правил своими домочадцами. Его жены, особенно младшие, а также дети пребывали в постоянном страхе перед его горячим и крутым нравом. Вероятно, в глубине души Оконкво не был жесток. Но вся его жизнь определялась собственным страхом – страхом проявить слабость и оказаться несостоятельным. Этот страх был более глубоким и сокровенным, чем страх перед злыми и своенравными богами и волшебством, перед лесом, перед силами природы, жестокими, с кровавыми пастями и когтями. Страх, преследовавший Оконкво, был сильнее. Он не приходил извне, а таился глубоко внутри него самого. Оконкво боялся самого себя, боялся показаться похожим на отца. Уже в раннем детстве он презирал слабость и никчемность отца и по сей день помнил, какие страдания испытывал, когда кто-нибудь из сверстников называл его отца агбалой. Именно тогда он узнал, что агбала – не просто синоним слова «баба», так называли мужчину, не заслужившего ни одного титула. Поэтому Оконкво обуревала одна страсть – ненависть ко всему, что любил его отец Унока. Одним из объектов его ненависти была доброта, другим – праздность.
В сезон посадок Оконкво трудился весь день напролет: от первых петухов до того времени, когда куры усаживались на ночь на насест. Физически он был очень силен и редко уставал. Но его жены и младшие дети были отнюдь не так сильны и тяжко страдали от непосильной работы. Однако роптать вслух не смели. Старшему сыну Оконкво, Нвойе, было тогда двенадцать, но отца уже тревожила его врожденная склонность к лени. Во всяком случае, отцу казалось, что сын склонен к лени, и он упорно старался исправить его бранью и побоями. Поэтому Нвойе рос ребенком с постоянно печальным видом.
Владения Оконкво свидетельствовали о достатке и процветании его хозяйства. Территория вокруг них была огорожена толстой стеной из красной глины. Его собственное жилище, оби, стояло непосредственно за единственными воротами в красной стене. Каждая из трех его жен имела собственную хижину, они были расположены полумесяцем позади его оби. В одном конце двора у стены был построен амбар, в котором штабелями громоздились горы ямса. На противоположном конце двора находился загон для коз. И у каждой из жен к хижине был пристроен курятник. Возле амбара имелся маленький домик, «домовой храм», или святилище, в котором Оконкво держал символические деревянные фигурки своего бога-покровителя и духов предков. Он поклонялся им, приносил в жертву орехи кола, еду, пальмовое вино и возносил молитвы от собственного имени, а также от имени трех жен и восьмерых детей.
Итак, после убийства дочери Умуофии жителями Мбайно Икемефуна стал одним из домочадцев Оконкво. Вернувшись в тот день домой, Оконкво позвал старшую жену и поручил мальчика ей.
– Он принадлежит племени, – сказал Оконкво жене. – Так что присматривай за ним.
– Он долго у нас будет жить? – спросила та.
– Делай то, что велено, женщина! – рявкнул Оконкво и, слегка заикаясь, добавил: – Когда это ты стала одной из ндичье Умуофии?
Так что, не задавая больше вопросов, мать Нвойе забрала Икемефуну в свою хижину.
Что же касается самого мальчика, то он был до смерти напуган, не мог понять, что с ним происходит и что плохого он сделал. Откуда ему было знать, что его отец участвовал в убийстве дочери Умуофии. Единственное, что он знал, – это то, что несколько мужчин явились в их дом, тихо переговорили с его отцом, а после его вывели и передали какому-то чужаку. Мать рыдала навзрыд, а сам мальчик был слишком потрясен, чтобы плакать. Незнакомец повел его и еще одну девочку далеко-далеко от дома по уединенным лесным тропам. Девочку Икемефуна не знал и никогда больше не видел.
Глава третья
Свой жизненный путь Оконкво начинал не так, как обычно начинают его молодые люди. Он не получил в наследство амбар ямса. В Умуофии рассказывали, как его отец Унока отправился однажды к Оракулу холмов и пещер, чтобы выяснить, почему у него всегда такой скудный урожай.
Оракул вещал от имени бога Агбалы, и посоветоваться с ним приходили люди не только из ближних, но и из дальних деревень. Они приходили, когда несчастье являлось к ним на порог или когда возникали споры с соседями. Приходили они и чтобы узнать предуготованное им будущее или попросить наставления у духов покойных отцов.
В святилище вело круглое отверстие в склоне холма, лишь немногим большее, чем такой же открытый круглый вход в курятник. Поклоняющиеся и те, кто хотел что-то узнать у богов, проползали в это отверстие на животе и оказывались в темном бесконечном пространстве в присутствии Агбалы. Никто никогда не видел Агбалу, кроме его жрицы. Но ни один из тех, кто проползал когда-либо в его жуткое святилище, не выходил из него, не устрашившись могущества бога. Его жрица стояла возле священного огня, который разводила в самом сердце пещеры, и возвещала божественную волю. Над костром никогда не поднимались языки пламени, тлеющие поленья служили лишь для того, чтобы смутно освещать фигуру жрицы.
Иногда какой-нибудь мужчина приходил посоветоваться с духом своего умершего отца или другого родственника. Рассказывали, что когда такой дух появлялся, пришедший видел его расплывчатые очертания в темноте, но голоса не слышал. Зато кое-кто утверждал, что слышал, как духи летали и задевали крыльями потолок пещеры.
Много лет назад, когда Оконкво был еще мальчиком, его отец Унока отправился посоветоваться с Агбалой. Жрицей в те времена была женщина по имени Чика. Бог наделил ее огромной силой, и все ее страшно боялись. Встав перед ней, Унока начал свою историю.
– Каждый год, – печально произнес он, – прежде чем начинать посадки, я жертвую петуха богине Ани[8], владелице всей земли. Таков закон наших отцов. Я также режу петуха в святилище Ифеджиоку, бога ямса. Я расчищаю буш[9] и сжигаю выкорчеванные кусты, когда они высыхают. Я высаживаю ямс с первым упавшим на землю дождем и подвязываю ростки, как только они появляются. Я выпалываю…
– Хватит, замолчи, – приказала жрица, голос ее был пронзителен, ужасен и многократным эхом разносился по темному пространству. – Ты не погрешил ни против богов, ни против предков. А если человек в ладу с богами и предками, его урожай зависит только от его собственного усердия. Ты, Унока, известен всему племени своей ленью, тем, что еле ворочаешь мотыгой и мачете. Когда твои соседи выходят с топорами рубить девственный лес, ты сажаешь свой ямс в истощенную землю, чтобы не утруждать себя расчисткой. Другие пересекают семь рек, чтобы освоить новые земли, ты же остаешься дома и приносишь жертвы усталой земле. Иди домой и работай как пристало мужчине.
Унока был несчастным человеком. У него был плохой чи – бог-покровитель, злая судьба следовала за ним по пятам до самой могилы, вернее, до самой смерти, потому что не было у него никакой могилы. Он умер от отека, а это вызывает омерзение у богини земли. Человеку, у которого раздуваются живот и конечности, запрещено умирать дома. Его относят в Поганый лес и оставляют умирать там. Существует легенда об очень упрямом человеке, который несколько раз приволакивался оттуда домой; его относили обратно, и наконец пришлось привязать его к дереву. Эта болезнь считалась оскорблением для земли, поэтому тело жертвы нельзя было захоранивать в ее чрево. Больной умирал и сгнивал на ее поверхности – и не удостаивался ни первого, ни второго погребения[10]. Такова была и участь Уноки. Когда его уносили, он взял с собой свою флейту.
С таким отцом, как Унока, Оконкво не был обеспечен жизненный старт, какой имели многие другие молодые мужчины. Он не унаследовал ни амбара, ни титула, ни даже молодой жены. Но несмотря на столь неблагоприятное положение, он – даже еще при жизни отца – начал закладывать основу своего будущего процветания. Процесс был медленным и мучительным. Но Оконкво ринулся в него как одержимый. Он и впрямь был одержим страхом повторить презренную жизнь и позорную смерть отца.
Жил в деревне Оконкво богатый человек, имевший три огромных амбара, девять жен и тридцать душ детей. Звали его Нвакиби, и носил он второй по значимости титул, какой мог получить мужчина их племени. Именно на этого человека батрачил Оконкво, чтобы заработать на первую свою посадку ямса.
Однажды он принес Нвакиби кувшин пальмового вина и петуха. Послали за двумя престарелыми соседями, двое старших сыновей Нвакиби тоже присутствовали в его оби. Он выставил орех кола и аллигаторов перец, которые передали по кругу, чтобы все их рассмотрели, после чего угощение вернулось к хозяину, и тот, разломив орех, сказал:
– Будем живы! Помолимся, дети, попросим у богов долгой жизни, хорошего урожая и счастья. Пусть будет дано вам – то, что хорошо для вас, а мне – то, что хорошо для меня. Пусть парят в небе рядом и коршун, и орел. А если один скажет другому «нет», да подломится у него крыло.
Когда орех кола был съеден, Оконкво принес свое пальмовое вино из угла хижины, где оставил его, войдя, и, встав в центре круга присутствовавших, обратился к Нвакиби, назвав его «отцом нашим».
– Нна айи, – сказал он, – я принес тебе этот скромный дар. Как говорят у нас в народе, человек, почитающий великого, мостит путь к собственному величию. Я пришел выразить тебе свое почтение и просить о милости. Но сначала давайте выпьем вина.
Все поблагодарили Оконкво, и соседи достали свои роги для вина, принесенные в мешках из козьих шкур. Нвакиби снял с потолочной балки свой рог. Младший из его сыновей, который был и младшим из присутствовавших, вышел в центр круга, взял кувшин и, уперев его в левое колено, стал разливать вино. Сначала он налил Оконкво, которому полагалось попробовать вино раньше всех. Потом – остальным, начиная с самого старшего. Когда все выпили по два или три рога, Нвакиби послал за женами. Пришли только четыре, остальных не было дома.
– А где Анази? – спросил он. Ему сказали, что она сейчас придет. Анази была старшей женой, и другие не могли пить раньше нее, поэтому стояли в ожидании.
Анази оказалась женщиной средних лет, высокой, крепко сбитой. Она держалась с большим достоинством, и не было ни малейших сомнений в том, кто правит женской частью большой процветающей семьи. На щиколотке у нее красовался браслет с символами титулов мужа – такой имела право носить только первая из жен.
Подойдя к мужу, она приняла рог из его рук, опустилась на колено, отпила немного и вернула рог. Потом поднялась, назвала мужа по имени и отправилась назад, в свою хижину. Остальные проделали то же самое в положенной очередности и удалились.
Мужчины продолжили выпивать и беседовать. Огбуэфи Идиго заговорил о виноделе по имени Обиако, который неожиданно оставил свой промысел.
– За этим что-то стоит, – сказал он, вытирая винную пену с усов тыльной стороной левой ладони. – Должна быть какая-то причина. Без причины и жаба на свет не вылезет.
– Говорят, Оракул предсказал ему, что он свалится с пальмы и разобьется насмерть, – пояснил Акукалия.
– Обиако всегда был странным, – сказал Нвакиби. – Я слышал, что давным-давно, вскоре после смерти отца, он отправился посоветоваться с Оракулом, и Оракул сказал ему: «Твой отец хочет, чтобы ты принес ему в жертву козу». Знаете, что он ответил Оракулу? Он сказал: «А спроси-ка моего покойного отца, была ли у него при жизни хоть курица?»
Все от души расхохотались, кроме Оконкво, этот смеялся смущенно, потому что, как гласит пословица, старухе всегда неловко, когда в ее присутствии поминают старые кости. Оконкво вспомнил своего собственного отца.
Наконец молодой человек, разливавший вино, поднял рог, наполовину заполненный густым белым осадком, и сказал:
– Еда закончилась.
– Это мы видим, – ответили остальные.
– Кто выпьет гущу? – спросил юноша.
– Тот, для кого это насущно, – ответил Идиго и озорно подмигнул старшему сыну Нвакиби, Игвело.
Все согласились, что гущу должен выпить Игвело. Тот принял наполовину полный рог из рук младшего брата и выпил. Как сказал Идиго, для молодого человека это было «насущно», потому что тот месяцем или двумя раньше взял первую жену. А считалось, что густой осадок пальмового вина полезен мужчинам, которые часто навещают своих жен.
После того как вино было выпито, Оконкво поведал Нвакиби о своих трудностях.
– Я пришел к тебе за помощью, – сказал он. – Возможно, ты уже догадался, о чем речь. Я расчистил поле, но у меня нет ямса для посадки. Я знаю, что значит просить кого-то доверить другому свой ямс, особенно в наши дни, когда молодые люди чураются тяжелой работы. Но я работы не боюсь. Ящерица, прыгнувшая с высокого дерева ироко[11] на землю, сказала: сам себя не похвалишь – никто не похвалит. Я начинаю заботиться о себе в возрасте, когда большинство молодых еще сосут материнскую грудь. Если ты одолжишь мне немного ямса для посадки, я тебя не подведу.
Нвакиби откашлялся.
– Мне приятно видеть такого юношу, как ты, в наши времена, когда молодежь стала слишком изнеженной. Много молодых людей приходило ко мне просить ямса, но я отказывал им, потому что знал: они просто воткнут его в землю и бросят зарастать сорняками. Когда я им отказывал, они считали меня жестокосердным. Но это не так. Птица энеке говорит: с тех пор как люди научились стрелять без промаха, я научилась летать без отдыха. А я научился быть бережливым. Но тебе верю. Поверил, как только увидел. Как говорили наши отцы, зрелое зерно на глаз определить можно. Я дам тебе дважды по четыре сотни клубней. Иди, готовь свое поле.
Оконкво много раз поблагодарил его и, счастливый, пошел домой. Он знал, что Нвакиби ему не откажет, но не ожидал, что тот проявит такую щедрость. Он не рассчитывал получить больше четырехсот клубней. Теперь придется расширять поле. Потому что еще четыреста клубней он надеялся получить у отцовских друзей в Исиузо. Работа в долг была очень медленным способом обзавестись собственным хозяйством. После тяжких трудов должнику оставалась только треть урожая. Но для юноши, чей отец вовсе не имел ямса, это был единственный выход. А что было того хуже в случае Оконкво, так это то, что из остававшейся ему скудной доли урожая приходилось обеспечивать мать и двух сестер. Обеспечивать же мать означало обеспечивать и отца. Она не стала бы готовить и есть, если бы муж ее при этом голодал. Таким образом, в очень раннем возрасте, отчаянно стараясь создать собственное хозяйство тяжелыми трудами, Оконкво содержал еще и отцовский дом. Это было все равно что ссыпáть зерно в дырявый мешок. Мать и сестры трудились усердно, но они могли выращивать лишь то, что под силу женщинам: кокоямс, бобы и маниок. Ямс же, король всех полевых культур, был делом мужским.
Год, когда Оконкво взял в долг у Нвакиби восемьсот клубней посадочного ямса, был худшим на памяти живущих. Ничто не происходило в положенный срок, а только либо слишком рано, либо слишком поздно. Казалось, что мир сошел с ума. Первые дожди запоздали, а когда начались, продолжались очень недолго. Вернулось ослепляющее солнце, свирепое как никогда прежде, и сожгло все ростки, которые появились из-под земли за время дождей. Земля превратилась в раскаленные угли и испекла в себе весь посаженный ямс. Как все хорошие земледельцы, Оконкво начал посадку с приходом первых дождей. Он успел высадить четыреста клубней, когда дожди прекратились и вернулась жара. Он днями напролет высматривал в небе предвестников дождевых туч и не спал ночами. Спозаранку уходил в поле и видел там увядшие ростки. Он пытался защитить их от земного жара, окружая кольцами из толстых листьев агавы. Но к концу дня листья высыхали и серели. Он менял их каждый день и молился, чтобы ночью выпал дождь. Но засуха продолжалась восемь базарных недель[12], и посадки ямса погибли.
Кое-кто еще не посадил свой ямс. Это были беззаботные лентяи, всегда старавшиеся оттянуть расчистку полей на как можно более дальний срок. В этом году они оказались «мудрецами». Качая головами, они выражали сочувствие соседям, но в душе радовались тому, что толковали как собственную дальновидность.
Когда дожди наконец вернулись, Оконкво высадил оставшийся еще у него ямс. Утешался он только тем, что ямс, посаженный им до засухи, был его собственным, из прошлогоднего урожая. Так что у него все еще оставалось восемьсот клубней, одолженных у Нвакиби, и четыреста взятых у отцовского друга. Поэтому ему было чем начать все сначала.
Но безумие природы продолжалось. Теперь дождь лил как никогда прежде: день и ночь, бурными потоками, безжалостно смывавшими посадки ямса, с корнем выворачивая деревья, повсюду образуя глубокие промоины. Потом дождь ослабел, но продолжал идти день за днем без перерыва. Период ясной солнечной погоды, который обычно случался в середине сезона дождей, так и не наступил. Ямс выпустил пышную зеленую листву, но любой земледелец знал, что без солнца клубни расти не будут.
В тот год сбор урожая был печальным, как похороны, и многие мужчины плакали, выкапывая жалкие подгнившие клубни. Один человек привязал конец своей накидки к ветке дерева и повесился на ней.
Тот трагический год Оконкво до конца жизни вспоминал с дрожью. Позднее, думая о нем, он всегда изумлялся: как ему удалось выстоять под таким бременем отчаяния? Он считал себя сильным борцом, но тот год был способен и льву разорвать сердце.
– Раз уж я пережил тот год, – говорил он бывало потом, – то смогу пережить все, – и считал, что обязан этим своей несгибаемой воле.
Его отец Унока, который в тот ужасный месяц сбора урожая был уже немощен, сказал ему:
– Не отчаивайся. Да ты и без моего совета не отчаешься. У тебя мужественное и гордое сердце. А гордое сердце способно пережить любую общую беду, потому что такая беда не уязвляет твоей гордости. Куда горше и труднее пережить личный провал.
Таким был Унока в свои последние дни. С возрастом и хворобами его разговорчивость усугубилась. И терпение Оконкво было на пределе.
Глава четвертая
– Глядя на губы властителя, – говорил старик, – можно подумать, что они никогда не сосали материнскую грудь.
Он имел в виду Оконкво, который так неожиданно поднялся из пучины нищеты и несчастий и стал одним из тузов племени. Старик не испытывал недоброжелательства к Оконкво. Он даже уважал его за трудолюбие и успешность. Но он, как и большинство других, был поражен его грубостью по отношению к менее успешным соплеменникам. Всего неделю назад один из них на собрании рода, посвященном предстоявшему празднику почитания предков, позволил себе не согласиться с Оконкво, и тот, не глядя на него, отрезал:
– Это собрание – для мужчин.
У возразившего ему не было титулов, и только поэтому Оконкво косвенно обозвал его бабой. Он знал, как убить в человеке дух мужества.
Все участники собрания встали на сторону Осуго, когда Оконкво унизил его. Старейший из присутствовавших строго напомнил: те, кому благосклонные духи помогают раскалывать кокосовые орехи, не должны забывать о скромности. Оконкво извинился за свои слова, и собрание продолжилось.
Но на самом деле было бы несправедливо сказать, что раскалывать кокосовые орехи Оконкво помогали благосклонные духи. Он раскалывал их сам. И никто из тех, кто знал, как яростно боролся он с нищетой и бедами, счастливчиком его бы не назвал. Уж если кто и заслужил успех, так это Оконкво. В раннем возрасте он завоевал славу величайшего борца всех здешних мест. Это не было везеньем. Самое большее, что можно было признать, так это то, что его чи, его личный бог-покровитель, оказался хорошим. Но у народа ибо есть пословица: если мужчина говорит «да», то и его чи скажет «да». Оконкво произнес свое «да» очень твердо и решительно, поэтому и чи его поддержал. И не только чи, но и все соплеменники, так как они привыкли судить о человеке по делам рук его. Поэтому-то жители всех девяти деревень именно ему поручили предъявить военный ультиматум врагам в случае отказа отдать юношу и невинную девушку в искупление убийства жены Удо. И так велик был страх врагов перед Умуофией, что они приняли Оконкво по-королевски и выдали ему девочку, которая должна была заменить Удо его убитую жену, и юношу по имени Икемефуна.
Старейшины племени решили на время поручить Икемефуну заботам Оконкво. Но никто не думал, что время это продлится так долго – целых три года. Казалось, что, приняв такое решение, все просто забыли о мальчике.
Поначалу Икемефуна жил в постоянном страхе. Раз или два даже собирался бежать, но не знал, как это сделать. Он постоянно думал о матери, о своей трехгодовалой сестричке и горько плакал. Мать Нвойе была к нему очень добра, обращалась с ним как с одним из собственных детей. Но он лишь твердил: «Когда меня отпустят домой?» Узнав, что он отказывается есть, Оконкво пришел в хижину с большой палкой и стоял над ним, пока он, дрожа, судорожно глотал свой ямс. Несколько минут спустя, спрятавшись за хижиной, мальчик изверг из себя все съеденное. Мать Нвойе нашла его и приложила ладони к его груди и спине. Икемефуна проболел три базарные недели, а когда выздоровел, то, судя по всему, заодно оправился и от страха и тоски.
По характеру он был жизнерадостным ребенком и постепенно прижился в семье Оконкво, особенно подружился с детьми. С Нвойе, сыном Оконкво, двумя годами младше, они стали неразлучны, потому что Икемефуна, казалось, знал все. Он мог вырезáть дудочки из бамбуковых стеблей и даже из слоновой травы[13]. Знал названия всех птиц и умел устраивать хитрые ловушки для маленьких грызунов, обитающих в буше. И еще он знал, из какого дерева получаются самые гибкие луки.
Даже самому Оконкво мальчик нравился, но он, разумеется, этого не показывал. Он вообще никогда открыто не выражал своих чувств – кроме гнева. Обнаруживать привязанность было проявлением слабости, считал он, единственное, что следует демонстрировать, – это сила. Поэтому он обращался с Икемефуной так же, как со всеми, – сурово. Но не было никаких сомнений, что мальчик ему нравился. Иногда, отправляясь на общие собрания деревни или на общинные праздники в честь предков, он позволял Икемефуне сопровождать его как сыну, нести его скамеечку и его мешок из козьей шкуры. И мальчик действительно называл его отцом.
Икемефуна прибыл в Умуофию в вольготное время между сбором урожая и посадками. А от болезни оправился всего за несколько дней до Недели мира. И было это в тот год, когда Оконкво нарушил мир и был, как предписывал обычай, наказан жрецом богини земли Эзеани.
Законный гнев Оконкво спровоцировала его младшая жена, которая отправилась плести косички к подруге и не вернулась вовремя, чтобы приготовить дневную еду. Сначала Оконкво не знал, что ее нет дома. Но так и не дождавшись еды, пошел к ней посмотреть, чем она занята. В хижине никого не оказалось, и очаг был холодным.
– Где Оджиуго? – спросил он у второй жены, вышедшей из своей хижины, чтобы набрать воды из гигантского чана, стоявшего посреди двора в тени небольшого дерева.
– Пошла плести косички.
Гнев стал подниматься в груди Оконкво, он закусил губу.
– А где ее дети? Она взяла их с собой? – холодно поинтересовался он с несвойственной ему сдержанностью.
– Они здесь, – ответила его первая жена, мать Нвойе.
Оконкво наклонился и заглянул в ее хижину. Дети Оджиуго сидели и ели вместе с детьми его первой жены.
– Она перед уходом попросила тебя их накормить?
– Да, – солгала мать Нвойе, пытаясь загладить легкомыслие Оджиуго.
Оконкво понял, что она говорит неправду, и пошел обратно в свой оби ждать возвращения Оджиуго. А когда та вернулась, жестоко избил ее. В гневе своем он позабыл, что шла Неделя мира. Две старшие жены, выбежав из своих домов в страшной тревоге, умоляли его не делать этого в священную неделю. Но Оконкво был не из тех, кто, войдя в раж, способен остановиться на полпути, даже из страха перед богиней.
Соседи Оконкво, услышав, как кричит его жена, сбежались и стали через стену вопрошать, что происходит. Кое-кто даже перелез во двор, чтобы увидеть все собственными глазами. Неслыханное дело: побить кого-то на священной неделе!
Еще до того как наступили сумерки, Эзеани, жрец богини земли Ани, явился в оби Оконкво. Тот вынес орех кола и поставил его перед жрецом.
– Убери свой орех. Я не стану есть в доме человека, который не уважает богов и предков.
Оконкво пытался объяснить ему, в чем провинилась его жена, но Эзеани, казалось, не обращал на его слова никакого внимания, а когда Оконкво замолчал, стукнул об пол коротким посохом, чтобы подчеркнуть важность своих слов, и сказал:
– Слушай меня. Ты в Умуофии не чужак и не хуже меня знаешь, что праотцы повелевают нам: прежде чем опустить первое семя в землю, в течение недели никто не должен даже грубого слова сказать соседу. Эту неделю мы живем в мире со всеми соплеменниками и чтим богиню земли, без благословения которой не вырастет ни травинки. Ты совершил большое зло. – Он снова тяжело стукнул посохом по полу. – Да, жена твоя провинилась, но даже если бы ты вошел в свой оби и застал на ней любовника, все равно, избив ее, ты совершил бы тяжкий грех. – Снова удар посоха об пол. – И теперь твой грех может погубить все племя. Богиня земли, которую ты оскорбил, может отказать нам в своей милости, и все мы умрем. – Он сменил тон с гневного на командный. – Завтра доставишь в святилище богини Ани одну козу, одну курицу, кусок ткани и сто каури. – Он встал и покинул хижину.
Оконкво сделал так, как велел жрец, присовокупив к дани еще и кувшин пальмового вина. В глубине души он раскаивался, но был не таким человеком, чтобы ходить по соседям и признаваться, что совершил ошибку. Поэтому люди сочли, что он проявил неуважение к богам племени. А враги говорили, что богатство ударило ему в голову. Они называли его нза – по имени маленькой птички, которая, наевшись до отвала, настолько осмелела, что стала перечить своему чи.
В течение Недели мира никто не работал. Люди ходили в гости друг к другу и пили пальмовое вино. В этом году все только и говорили что об оскорблении Ани, которое позволил себе Оконкво. За многие годы это был первый раз, когда человек нарушил заповедь священной недели. Даже старожилы могли припомнить разве что один-два таких случая, да и то в туманном прошлом.
Огбуэфи Эзеуду, самый старый человек в деревне, жаловался двум своим гостям, что наказание за нарушение мирной заповеди Ани стало в их племени слишком мягким.
– А ведь так было не всегда, – говорил он. – Отец рассказывал мне, а ему рассказывал его отец, что в былые времена того, кто нарушал мир, волочили по земле через всю деревню, пока дух не покидал его тело. Но потом этот обычай отменили, потому что он сам осквернял мир, который был призван охранять.
– Вчера кто-то мне сказал, – вставил мужчина помоложе, – что умереть на Неделе мира среди некоторых племен считается непристойностью.
– Это правда, – ответил Огбуэни Эзеуду. – У ободоани, например, есть такой обычай. Если человек умирает на Неделе мира, его не хоронят, а относят в Поганый лес. Это плохой обычай, люди соблюдают его по недомыслию. Они оставляют большое количество женщин и мужчин без погребения. А что в результате? Их племя кишит злыми духами непогребенных мертвецов, жаждущих причинить зло живым.
По окончании Недели мира все мужчины со своими домочадцами приступали к расчистке буша под новые поля. Срезанные кусты оставляли высыхать, а потом поджигали. Как только дым начинал подниматься к небу, со всех сторон слетались коршуны и парили в небе над горящими полями в немом прощании. Приближались дожди, и коршуны улетали до следующего сухого сезона.
Несколько дней, следовавших за Неделей мира, Оконкво готовил свой ямс: осматривал каждый клубень, определяя, годится ли он для посадки. Иногда он решал, что клубень слишком велик, чтобы высаживать его целиком, и ловко разрезал его в длину острым ножом. Его старший сын Нвойе и Икемефуна помогали ему, поднося клубни из амбара в длинных корзинах, пересчитывая готовые к посадке клубни и складывая их в кучи по четыре сотни. Иногда Оконкво доверял каждому из них самому подготовить по нескольку клубней. Но всегда находил ошибки в их работе и грозно их за это ругал.
– Ты что, думаешь, что готовишь ямс для кухни? – строго вопрошал он Нвойе. – Еще раз разрежешь клубень такого размера – челюсть тебе сломаю. Ты считаешь, что ты еще ребенок. У меня в твоем возрасте уже было свое хозяйство. Ну а ты, – обращался он к Икемефуне, – у вас там, откуда ты родом, что, ямс не выращивают?
В душе Оконкво понимал, что мальчики еще слишком малы для того, чтобы в полной мере постичь сложное искусство подготовки ямса к посадке, но не сомневался, что начинать учиться никогда не рано. Ямс символизировал достоинство мужчины, и Оконкво, который мог прокормить своим ямсом семью от урожая до урожая, безусловно, заслуживал большого уважения. Он хотел, чтобы и его сын стал уважаемым земледельцем и большим человеком, и старался вырвать ростки лени, которые, как ему казалось, уже пробились в сыне и тревожили отца.
– Я не потерплю, чтобы мой сын не мог поднять голову на сходе племени, скорее задушу его собственными руками. И если ты будешь вот так стоять и бессмысленно глазеть на меня, – он выругался, – Амадиора[14] тебе голову разнесет на куски.
Несколько дней спустя, когда два-три сильных ливня увлажнили землю, Оконкво и вся его семья вышли в поле с корзинами посадочного ямса, мотыгами и мачете – и посадка началась. Ровными рядами, тянувшимися вдоль всего поля, они сгребали землю небольшими кучками и в каждую закапывали клубень.
Ямс, король полей, был очень взыскательным владыкой. В течение трех или четырех лун он требовал тяжелого труда и постоянной заботы от зари до заката. Молодые ростки нужно было оберегать от земного жара, обкладывая их мясистыми листьями агавы. Когда дожди усиливались, женщины сажали между ямсовыми грядами маис, дыни и бобы. Потом приходила пора подвязывать ростки ямса, сначала – к коротким палочкам, потом к высоким и прочным древесным веткам. За время созревания ямса женщины трижды пропалывали поле в строго определенное время, ни раньше, ни позже.
И вот пришли настоящие дожди, такие обильные и непрекращающиеся, что даже деревенский колдун, вызывающий дождь, больше не утверждал, будто способен ими управлять. Он не мог остановить дождь теперь, так же как не мог вызвать его в разгар сухого сезона, не рискуя очень серьезно своим здоровьем. Для человеческого организма состязание с подобными погодными крайностями было чрезмерно и опасно.
Поэтому в середине сезона дождей никто не пытался вмешаться в разгул природы. Порой ливень лил такой плотной стеной, что земля и небо смешивались в одну серую пелену, и невозможно было понять, снизу или сверху раздаются басовые раскаты громов Амадиоры. В такие дни в каждой из бесчисленных крытых пальмовыми листьями хижин Умуофии дети рассаживались вокруг очага, на котором их матери готовили еду, и рассказывали разные истории или в отцовском оби грелись у дровяного костра и лакомились початками маиса, которые поджаривали на нем. Это был короткий период отдыха между суровым и тяжким сезоном посадки и таким же тяжелым, но веселым месяцем сбора урожая.
Икемефуна уже чувствовал себя членом семьи Оконкво. Он все еще вспоминал мать и трехгодовалую сестренку, и случались у него приступы тоски и подавленности. Но они с Нвойе так привязались друг к другу, что подобные приступы находили на него все реже и становились все менее тягостными. Икемефуна был неистощимым кладезем народных сказок. Даже те из них, которые Нвойе уже знал, Икемефуна рассказывал как-то по-новому, привнося в них колорит другого племени. Это время Нвойе до конца жизни вспоминал очень живо, во всех подробностях. Он даже помнил, как хохотал, когда Икемефуна сказал, что маисовый початок, в котором осталось всего несколько зерен, правильно называть эзе-агади-нвайи, что означало «старушечьи зубы». Нвойе мысленно сразу же перенесся в дом Нвайеке, которая жила возле дерева удала. У нее было всего три зуба, и она не выпускала трубку изо рта.
Постепенно дожди ослабевали, между ними случались просветы, небо и земля снова разделились. Теперь вода падала с неба тонкими косыми струями сквозь солнечный свет и легкий ветерок. Дети больше не сидели по домам, а носились на открытом воздухе и пели:
- Дождик струится, и солнышко сияет,
- А Ннади все стряпает и сам все съедает.
Нвойе всегда было интересно, кто такой Ннади, почему он живет совсем один, сам себе готовит и сам же все съедает, и в конце концов он решил, что Ннади, должно быть, живет в стране из его любимой сказки, где король – муравей, у которого роскошный двор, где все всегда танцуют и жизнь никогда не кончается.
Глава пятая
Приближался Праздник нового ямса, и настроение в Умуофии царило приподнятое. В этот праздник положено было благодарить Ани, богиню земли и источник всяческого плодородия. Ани играла в жизни племени бóльшую роль, нежели любое другое божество. Она была непререкаемым судьей в вопросах морали и правил поведения. А что еще важнее – состояла в тесном общении с духами предков племени, чьи тела были преданы земле.
Праздник нового ямса отмечался каждый год перед началом сбора урожая в честь богини земли и духов предков. Ямс нового урожая нельзя было есть, пока они не получат свою долю в виде жертвоприношения. Мужчины и женщины, молодые и старые, с нетерпением ждали этого торжества, потому что оно открывало сезон изобилия и знаменовало начало нового года. Вечером накануне праздничного дня те, у кого еще оставался ямс старого урожая, избавлялись от него. Новый год следовало начинать со вкусным свежим ямсом, а не со сморщенными волокнистыми прошлогодними клубнями. Все кухонные котлы, калебасы и деревянные горшки тщательно вымывались – особенно деревянная ступа, в которой толкли ямс. Фуфу[15] с овощным супом был главным угощением на празднике. Его готовили столько, что, как бы ни объедалась им вся семья и сколько бы гостей и родственников она ни пригласила из соседних деревень, в конце дня все равно его оставалось немерено. Из уст в уста передавался рассказ о некоем богатом человеке, который выставил перед гостями такую гору фуфу, что сидевшие на одном конце стола не видели, что происходит на другом, и один из гостей только поздно вечером заметил свойственника, прибывшего уже после начала трапезы и обосновавшегося на противоположном конце стола. Только тогда они поздоровались и пожали друг другу руки поверх снизившейся, но все равно еще немалой кучи фуфу.
Словом, Праздник нового ямса для всей Умуофии был поводом для радости. И всем «мужчинам с сильной рукой», как называли зажиточных односельчан в народе ибо, полагалось приглашать на него как можно больше гостей из самой дальней округи. Оконкво всегда звал родственников своих жен, а поскольку их у него теперь было три, гостей набиралась целая толпа.
Но Оконкво никогда не был таким энтузиастом праздников, как большинство людей. Он любил хорошо поесть и мог выпить один-два кувшина пальмового вина, но всегда чувствовал себя неуютно в ожидании праздника и во время застолий. Ему было бы гораздо приятней вместо этого трудиться на своем поле.
До праздника оставалось всего три дня. Жёны Оконкво до блеска натерли стену усадьбы и свои хижины красной глиной, а потом разрисовали их белой, желтой и темно-зеленой красками. После этого они уселись окрашивать друг дружку соком дерева бафия и наносить красивые черные узоры на животы и спины. Детей тоже украшали, особенное внимание уделяли волосам, которые выбривали замысловатыми узорами. Три женщины взволнованно судачили о приглашенных родственниках, а дети предвкушали, как эти родственники по материнской линии будут их баловать. Икемефуна тоже волновался. Здешний Праздник нового ямса представлялся ему событием гораздо более грандиозным, чем в его родной деревне, которая казалась уже далекой и которую он помнил весьма смутно.
И вдруг разразилась буря. Оконкво, бесцельно бродивший по своим владениям, подавляя в себе гнев, вдруг нашел повод дать ему волю.
– Кто загубил это банановое дерево? – спросил он.
На усадьбу мгновенно опустилась мертвая тишина.
– Кто загубил это дерево, спрашиваю? Вы что, все оглохли и онемели?
На самом деле дерево было живехонько. Вторая жена Оконкво просто срéзала с него несколько листьев, чтобы завернуть в них приготовленную еду, в чем и призналась честно. Без лишних слов Оконкво жестоко избил ее и оставил вместе с ее единственной дочерью в горьких рыданиях. Ни одна из двух других жен не осмелилась вмешаться, если не считать их робкие мольбы с безопасного расстояния: «Хватит, Оконкво».
Утолив таким образом свой гнев, Оконкво решил отправиться на охоту. У него было старое заржавленное ружье, изготовленное умельцем-кузнецом, уже давно обосновавшимся в Умуофии. Но будучи большим человеком, чье могущество признавалось повсюду, охотником Оконкво был никаким. Если говорить начистоту, он не убил и крысы из этого ружья. И когда он велел Икемефуне принести ружье, жена, которую он только что избил, пробормотала что-то насчет ружей, которые никогда не стреляют. На ее беду Оконкво услышал это и сам ринулся в свой оби за заряженным ружьем, а когда выбежал обратно, прицелился прямо в нее; она тем временем уже перелезла через низкую ограду амбара. Оконкво спустил курок, раздался оглушительный выстрел, сопровождаемый воем его жен и детей. Опустив ружье, он перепрыгнул через ограду и влетел в амбар, женщина лежала там, потрясенная и испуганная, но невредимая. Он издал тяжелый вздох и, сжимая ружье, пошел прочь.
Несмотря на это происшествие, Праздник нового ямса отмечался в доме Оконкво очень весело. Рано утром, принося в дар духам предков новый ямс и пальмовое масло, он попросил их в новом году защищать его, его детей и их матерей.
В течение дня из трех окружающих деревень прибывали его свойственники, и каждая новая группа гостей приносила с собой большой кувшин пальмового вина. Ели и пили до позднего вечера, пока гости не начали расходиться по домам.
Второй день нового года был днем больших соревнований между деревней Оконкво и соседними деревнями. Трудно сказать, что доставляло людям большее удовольствие – застолья в веселой компании первого дня или состязания в силе второго. Только у одной женщины не было на этот счет никаких сомнений – у второй жены Оконкво, Эквефи, которую он чуть не застрелил. Ни один праздник в году не радовал ее больше, чем состязания в силе. Много лет назад, когда она слыла первой красавицей деревни, Оконкво покорил ее сердце, положив на лопатки Кота в величайшем на памяти жителей деревни поединке. Тогда она не вышла за него только потому, что он был слишком беден, чтобы заплатить за нее выкуп. Но спустя несколько лет сбежала от мужа и стала жить с Оконкво. Все это было давно. Теперь Эквефи было сорок пять лет, и она сильно настрадалась в свое время. Но ее любовь к борцовским состязаниям за минувшие тридцать лет ничуть не убавилась.
Еще не наступил полдень второго дня Праздника нового ямса. Эквефи со своей единственной дочерью Эзинмой сидела у очага и ждала, когда закипит вода в котелке. Курица, которую Эквефи только что зарезала, лежала в деревянной ступке. Как только вода закипела, она одним ловким движением сняла с огня котелок и вылила кипяток на курицу. Относя пустой котелок на круглую подставку в углу, где было его место, она взглянула на свои ладони, они были черны от сажи. Эзинму всегда изумляла способность матери снять с огня кипящий котелок голыми руками.
– Эквефи, – спросила она, – а это правда, что взрослых людей огонь не жжет? – Как и большинство детей, Эзинма называла мать по имени.
– Да, – ответила Эквефи, у которой не было времени на разговоры. Ее дочке исполнилось всего десять лет, но она была разумна не по годам.
– А вот мать Нвойе на днях уронила горшок с супом так, что тот даже разбился, потому что был горячим.
Эквефи перевернула курицу в ступе и стала ее ощипывать.
– Эквефи, – сказала Эзинма, пристроившись помогать матери ощипывать птицу, – у меня веко дергается.
– Это к слезам, – ответила мать.
– Нет, вот это веко, верхнее.
– А это значит, что ты что-то увидишь.
– А что я увижу? – спросила девочка.
– Откуда мне знать? – Эквефи хотела, чтобы девочка сама догадалась.
– А! – воскликнула та. – Я знаю – это будут борцовские состязания.
Наконец курица была чисто ощипана. Эквефи попробовала было выдрать ороговевший клюв, но он оказался слишком прочно вросшим. Тогда, развернувшись на своей низкой табуретке, она сунула клюв в огонь на несколько секунд, после чего он с легкостью вышел наружу.
– Эквефи! – окликнули ее из другой хижины. Это была мать Нвойе, первая жена Оконкво.
– Это меня зовут? – Так было принято отвечать, если тебя звали снаружи. Здесь никогда не говорили в ответ «да» из страха, что звать мог злой дух.
– Пусть Эзинма принесет мне огня. – Ее собственные дети и Икемефуна ушли на речку.
Эквефи положила несколько раскаленных углей на черепок от разбитого горшка, и Эзинма отнесла их через чисто выметенный двор матери Нвойи.
– Спасибо, детка, – сказала та. Она чистила новый ямс, а в корзине рядом лежали зелень и бобы.
– Давай я разведу тебе огонь, – предложила Эзинма.
– Спасибо, Эзигбо. – Она часто так называла девочку, слово означало «милая».
Эзинма вышла, принесла пучок хвороста из большой вязанки, предназначенной для растопки. Об подошву ступни поломала ветки на мелкие кусочки и начала дуть на угли.
– Ты себе так глаза сожжешь, – сказала мать Нвойе, подняв голову от ямса, который чистила. – Возьми опахало.
Она встала и сняла опахало с балки, на которой оно висело. Как только она встала, шкодливая козочка, которая до того, как положено, поедала очистки, вонзила зубы в целый клубень, откусила два больших куска ямса и выскочила из хижины, чтобы безопасно сжевать добычу в козлятнике. Мать Нвойе ругнулась ей вслед и уселась обратно чистить ямс. Над огнем, который разводила Эзинма, столбом поднимался густой дым. Девочка продолжила раздувать огонь опахалом, пока над очагом не взметнулись языки пламени. Мать Нвойе поблагодарила ее, и она отправилась обратно в свою хижину.
И как раз в этот момент до них донесся отдаленный бой барабанов. Он шел от ило – деревенской площади для развлечений. Каждая деревня имела свою ило, обычно ровесницу самой деревни, на ней происходили все важные церемонии и устраивались танцы. Сейчас барабаны отбивали ритм, возвещающий о начале состязаний, – быстрый, легкий и веселый, его разносил по округе ветер.
Оконкво откашлялся и задвигался в такт барабанам. Их рокот всегда, с юности, воспламенял его. Он дрожал от желания победить и покорить. Это походило на вожделение к женщине.
– Мы опоздаем на состязания, – сказала Эзинма матери.
– Они не начнутся, пока солнце не перевалит на закат.
– Но барабаны уже бьют.
– Да. Барабаны начинают бить в полдень, но соревнования начнутся не раньше, чем солнце начнет клониться к закату. Пойди посмотри, вынес ли отец ямс для дневной еды.
– Вынес. Мать Нвойе уже готовит.
– Тогда ступай принеси наш. Нужно поторопиться с готовкой, а то опоздаем на состязания.
Эзинма побежала к амбару и принесла два клубня, лежавшие под его низенькой оградой.
Эквефи быстро очистила их. Шкодливая коза шныряла вокруг, поедая очистки. Женщина нарезала ямс мелкими кусочками и принялась готовить похлебку с курицей.
В этот момент они услышали плач, доносившийся из-за стены, огораживавшей усадьбу. Голос был похож на голос Обиагели, сестры Нвойе.
– Это не Обиагели плачет? – крикнула Эквефи матери Нвойе через двор.
– Да, – отозвалась та. – Наверное, свой кувшин для воды разбила.
Теперь плач слышался уже совсем близко, и вскоре во двор цепочкой вошли дети, все несли на головах сосуды с водой, соответствующие возрасту каждого ребенка. Первым, с самым большим сосудом, шел Икемефуна, за ним по пятам – Нвойе и два его младших брата. Обиагели замыкала шествие, по ее лицу в три ручья текли слезы. В руках она несла круглую матерчатую подушечку, которую подкладывают на голову под ношу.
– Что случилось? – спросила ее мать, и Обиагели поведала свою печальную историю. Мать утешила ее и пообещала купить ей другой кувшин.
Младшие братья Нвойе хотели было рассказать матери, как все было на самом деле, но Икемефуна строго посмотрел на них, и они осеклись. А дело было в том, что Обиагели решила исполнить иньянгу с кувшином на голове. Водрузив его на макушку и сложив руки на груди, она начала вращать бедрами, как это делают взрослые девушки. Когда кувшин упал и разбился, она разразилась безудержным смехом, а плакать начала, только когда они подошли к дереву ироко, росшему за оградой их усадьбы.
Барабаны продолжали отбивать ритм, непрерывный и неизменный, уже слившийся со звуками жилой части деревни. Он словно бы стал биением ее сердца. Воздух, солнечный свет и даже деревья пульсировали в такт ему и будоражили жителей.
Эквефи отложила мужнину часть похлебки в отдельную миску и накрыла ее крышкой. Эзинма понесла миску в оби отца.
Оконкво сидел на козлиной шкуре и уже ел то, что приготовила его первая жена. Обиагели, принесшая еду из хижины своей матери, примостившись на полу, ждала, когда он поест. Эзинма поставила стряпню своей матери перед ним и устроилась рядом с Обиагели.
– Сядь как положено сидеть женщине! – рявкнул на нее Оконкво. Эзинма свела ноги вместе и вытянула их перед собой.
– Папа, ты пойдешь смотреть состязания? – поинтересовалась она после приличествующей паузы.
– Да, – ответил Оконкво. – А ты?
– Да, – сказала Эзинма и после еще одной паузы спросила: – Можно я понесу твою скамеечку?
– Нет, это дело мальчиков.
К Эзинме Оконкво испытывал особую привязанность. Она была очень похожа на мать, а та когда-то слыла первой красавицей в деревне. Однако свое расположение он выказывал крайне редко.
– Обиагели сегодня разбила свой кувшин, – сообщила Эзинма.
– Да, она мне рассказала об этом, – ответил Оконкво, продолжая есть.
– Папа, – вставила Обиагели, – нельзя разговаривать во время еды, а то перец может попасть не в то горло.
– Совершенно верно. Ты слышала, Эзинма? Обиагели младше тебя, а разумнее.
Он снял крышку с миски, присланной второй женой, и начал есть из нее. Обиагели забрала пустую миску и пошла обратно в хижину своей матери. Тут вошла Нкечи с третьей миской. Нкечи была дочерью Оконкво и его третьей жены.
Вдали продолжали бить барабаны.
Глава шестая
Казалось, вся деревня – мужчины, женщины, старики – собралась на ило. Люди стояли широким кругом, оставив середину площадки свободной. Деревенские старики и важные персоны сидели на собственных табуретах, которые принесли для них младшие сыновья или рабы. Среди них был и Оконкво. Все остальные стояли, если не считать тех, кто пришел загодя и успел занять место на нескольких скамьях, сооруженных из обструганных бревен, уложенных на столбцы-рогатки.
Участники состязаний еще не прибыли, в центре внимания оставались барабанщики. Они сидели перед огромным кругом зрителей лицом к старейшинам, спиной к могучему древнему хлопковому дереву, которое считалось священным. В нем жили духи хороших детей, дожидавшихся своего рождения. В обычные дни посидеть в его тени приходили молодые женщины, мечтавшие стать матерями.
Барабанов было семь, и они были установлены соответственно своим размерам по убывающей в длинном деревянном коробе. Барабанные палочки в руках троих мужчин лихорадочно метались от одного барабана к другому. Музыканты были одержимы духами барабанов.
Молодые мужчины, назначенные поддерживать порядок на таких мероприятиях, сновали взад-вперед, переговариваясь друг с другом и с «капитанами» обеих соревнующихся команд, которые все еще находились за пределами круга зрителей. Время от времени эти двое юношей с длинными пальмовыми ветвями обегали круг и, чтобы оттеснить зрителей назад, ударяли ветками по земле, а наиболее упорных хлестали по ногам.
Наконец команды танцевальным шагом вступили в круг под рев и аплодисменты толпы. Барабаны впали в неистовство, толпа резко колыхнулась вперед. Стражи порядка метнулись по кругу, размахивая пальмовыми ветками. Старики кивали в такт барабанам, вспоминая времена, когда сами участвовали в состязаниях под их возбуждающий ритм.
Открывали соревнования мальчики пятнадцати-шестнадцати лет. В каждой команде таких было всего трое. Они еще не считались настоящими борцами – просто разогревали публику. Две первые схватки закончились очень быстро. А вот третья стала сенсацией даже для старейшин, которые обычно не демонстрировали своего волнения столь открыто. Она закончилась так же быстро, как две предыдущие, возможно, даже быстрее, но мало кому доводилось прежде видеть такой поединок. Как только мальчики сошлись, один из них сделал нечто, чего никто даже не мог описать, потому что все произошло молниеносно, – и другой уже лежал на спине. Толпа взревела и захлопала в ладоши так, что даже иступленный барабанный бой на какое-то время потонул в этом шуме. Оконкво вскочил, но тут же снова сел на место. Трое молодых мужчин из команды победителя выбежали вперед, высоко подняли мальчика над головами и, приплясывая, понесли его через восторженно приветствовавшую толпу. Вскоре все узнали, кто этот мальчик. Его звали Мадука, он был сыном Обиерики.
Перед началом настоящих соревнований барабанщики сделали короткий перерыв. Их тела блестели от пота, они обмахивались опахалами, пили воду из маленьких кувшинчиков и ели орехи кола. На короткое время они стали обычными людьми – смеялись, разговаривали между собой и с теми, кто стоял рядом. Атмосфера, которая только что была наэлектризована общим возбуждением, разрядилась. Словно туго натянутую кожу барабанов полили водой. Многие только теперь впервые осмотрелись вокруг и заметили тех, кто стоял или сидел рядом.
– А я и не видела, что это ты, – сказала Эквефи женщине, стоявшей с ней плечом к плечу с самого начала.
– Ничего удивительного, – ответила та. – Никогда еще не видела такого скопления людей. Это правда, что Оконкво чуть не застрелил тебя?
– Да, подруга, правда. Я до сих пор не могу найти слов, чтобы рассказать, как это было.
– Знать, твой чи не дремлет, подружка. А как там моя дочка Эзинма?
– Теперь уже хорошо. Вероятно, выживет.
– Наверняка выживет. Сколько ей сейчас?
– Почти десять.
– Да, думаю, она выживет. Если они не умирают до шести лет, то обычно выживают.
– Я молюсь, чтобы выжила, – сказала Эквефи с тяжелым вздохом.
Женщину, с которой она разговаривала, звали Чиело. Она была жрицей Агбалы, Оракула холмов и пещер. А в обычной жизни Чиело была вдовой с двумя детьми. С Эквефи они дружили и торговали на базаре под одним навесом. Чиело очень любила единственную дочь Эквефи Эзинму и называла ее «моя дочка». Она часто покупала соевые лепешки и передавала их через Эквефи для Эзинмы. Вряд ли кто-нибудь, наблюдая за Чиело в обычной жизни, поверил бы, что это та же самая женщина, которая пророчествует, когда на нее снисходит дух Агбалы.
Барабанщики снова взялись за свои палочки, и воздух завибрировал и напрягся, как натянутый лук. Две команды выстроились на свободном пространстве площадки лицом к лицу. Молодой человек из одной команды протанцевал на другой конец ее и указал на того, с кем хотел сразиться. Потом они вместе протанцевали на середину площадки и вступили в схватку.
В каждой команде было по двенадцать человек, и право вызова на поединок переходило поочередно от одной из них к другой. Двое судей топтались вокруг борющихся и, если решали, что их силы равны, останавливали схватку. Вничью закончилось пять боев. Но по-настоящему волнующими были моменты, когда кого-то укладывали на лопатки. Тогда рев толпы взвивался до небес и распространялся во всех направлениях. Его слышали даже в соседних деревнях.
Последними сходились «капитаны» команд. Они принадлежали к числу лучших борцов всех девяти деревень общины. Зрителям не терпелось узнать, кто кого положит на лопатки в этом году. Одни считали сильнейшим Окафо, другие утверждали, что он и в подметки не годится Икезуе. В предыдущем году ни один не смог одолеть другого, несмотря на то, что судьи позволили им бороться дольше, чем обычно принято. Оба имели одинаковую выучку, и каждый заранее предугадывал действия другого. Это могло повториться и в нынешнем году.
Когда они вступили в противоборство, уже начали сгущаться сумерки. Барабаны совершенно обезумели, и толпа тоже. Она хлынула вперед, и никакие юноши с пальмовыми ветками не могли сдержать ее.
Икезуе выбросил вперед правую руку. Окафо перехватил ее, и они вошли в клинч. Это была яростная схватка. Икезуе старался утвердить правую пятку позади Окафо, чтобы опрокинуть его назад хитроумным приемом. Но каждый из двоих предугадывал, чтó замышляет другой. Толпа сомкнулась вокруг борцов, поглотив барабанщиков; иступленный барабанный ритм перестал быть бесплотным звуком, он стал биением сердца самой толпы.
