Поздний сталинизм: Эстетика политики. Том 1
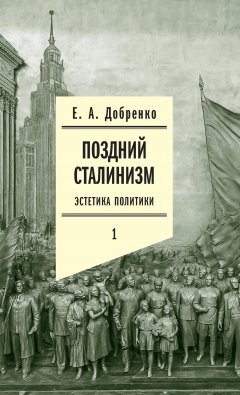
Введение
Сумерки сталинизма
В архиве эстетика и философа Михаила Лифшица сохранилась папка «Ora pro Nobis»[1], с записями начала 1960‐х годов, когда в эпоху оттепели он сотрудничал с «Новым миром» Александра Твардовского. В заметках «Трагедия революции» он писал:
Страшное, слишком легкое «окаменевание» революционной лавы в ее аппарате, ее средствах. И тогда ужас готового, уже сделанного, того, что новые поколения находят уже законченным, получают в качестве обязательного, заставляет этих несчастных искать какого-нибудь дикого выхода из создавшейся для них ситуации, а все, что сохраняет и охраняет итоги революции, теперь должно систематически занимать арьергардное положение, играть задерживающую роль. Действительно ужас, еще не заметный вначале, но потом…[2]
Это «потом» наступило после войны. Лифшиц был человеком 1920‐х годов. Уже для следующего поколения жизнь складывалась несколько по-иному, и мир поначалу казался менее трагическим. Те из него, кто оставался верен марксизму, рассматривали наступавший в середине 1930‐х годов Большой возврат, поворот к национализму, а затем и союз с нацистской Германией как тактические шаги. Яркий и проницательный представитель поколения 1930‐х годов поэт Давид Самойлов писал по этому поводу: «Тактикой, как видно, мы считали начало великодержавной и шовинистической политики ‹…› Тактика оказалась стратегией»[3]. Это поколение, вернувшись с войны, не узнало страны:
Держава окончательно отливалась в азиатско-византийские формы. Требовались новые идеологии. Пресловутая борьба с космополитизмом была тридцать седьмым годом для ортодоксально марксистских идеологов довоенного типа. Из них уцелели только самые прожженные. Обнаружилось, что во время войны руками и кровью народа одержало победу бюрократическое государство, что незаметно новая государственная идеология подменила довоенную, что некий новый слой, выдвинутый к власти, воевавший за нее ради себя, нуждался в новой своей идеологии, которую для удобства именовал тоже марксизмом, марксизмом творческим[4].
«Ужас», о котором писал Лифшиц, настиг поколение Самойлова. Поколенческий разрыв между ними как нельзя лучше подтверждает известную максиму: в России все меняется за десять лет, и ничего – за двести. Эти слова, приписываемые Петру Столыпину, как кажется, подтвердила вся последующая история страны. В нулевые годы ХX века, когда они были произнесены, Россия пережила революцию, подавлением которой Столыпин и вошел в историю. Уже в следующее десятилетие – Первую мировую войну и две революции, последняя из которых смела прежние элиты, изменила политический строй и утвердила новую экономическую систему. Пережив разрушительную гражданскую войну, страна вступила в четвертое десятилетие, которое ознаменовалось не меньшими потрясениями – коллективизацией, индустриализацией и культурной революцией, навсегда изменившими социальный профиль страны. Оно принесло неслыханный по масштабам Большой террор, окончательно закрепивший смену элит и новый политический режим. 1940‐е годы ознаменовались Отечественной войной, смерчем пронесшейся над страной, разрушившей наиболее экономически развитую ее часть и истребившей целые поколения людей. Сразу же по ее окончании страна вступила в эпоху холодной войны, очередной мобилизации и неслыханной ранее автаркии, одновременно развивая новый имперский проект и превращаясь в мировую державу и один из полюсов нового миропорядка. Следующее десятилетие принесло оттепель, новый модернизационный порыв, который в 1970‐е годы сменился застоем. Новый всплеск исторической динамики в 1980‐е, символом которых стали «перестройка и ускорение», завершился к началу последнего десятилетия ХX века развалом СССР, «лагеря социализма», концом холодной войны, очередной сменой политического строя и экономической системы. Вступив в новый век, страна включилась в ускоряющийся процесс политических контрреформ, за которыми последовал экономический кризис, застой, новая автаркия и противостояние с окружающим миром.
Действительно, каждые десять лет менялось все. Но всякому, кто знаком с русской историей, известен феномен цикличности и повтора. Как и в XIX веке, половинчатые и запоздалые либеральные реформы (Александра I и Александра II) сменялись длительными периодами застоя и политических репрессий (Николая I, Александра III и Николая II). Как и в XIX веке, воспроизводятся этатизм, государственный патернализм, неготовность к реформам и антилиберализм, патриархально-консервативная инерция, социальная апатия «низов» и циничная безответственность «верхов», обусловливающие неспособность к устойчивому развитию, а попытки экономической модернизации каждый раз срываются установкой на сохранение ретроградной политической системы персоналистского правления, сводящего намечающиеся достижения модернизации на нет и возвращающего страну в прежнее состояние непрекращающегося догоняющего развития. Действительно, за двести лет меняется все – и не меняется ничего.
И все же – меняется многое. Перемены протекают на глубине.
Послевоенная эпоха всегда находилась в тени куда более бурных и потому интересных для историков эпох – революционной (1920‐е), эпохи террора (1930‐е) или оттепели (1956–1964). Эпоха позднего сталинизма затерялась среди этих исторических всплесков, как какой-то исторический провал. Она воспринимается как эпоха политической и социальной стабильности. Первая подобная эпоха в русской истории ХX века, начавшегося с революции, которая перешла в эпоху стабилизации и активных социальных и экономических реформ, а затем погрузившегося в, кажется, перманентный хаос: Первая мировая война, Февральская и Октябрьская революции, Гражданская война, разруха, нэп и ожидание интервенции во второй половине 1920‐х годов, коллективизация, голод, индустриализация, Большой террор и, наконец, Вторая мировая война. Но наступившая после шторма депрессия казалась историкам мало интересной. Поздний сталинизм является лучшей иллюстрацией к метафоре Арчибальда Маклейша, сравнившего историю с плохо спроектированным концертным залом с мертвыми зонами, где не слышно музыки[5]. Поздний сталинизм был во всех смыслах именно такой мертвой зоной.
Можно согласиться с Шейлой Фицпатрик: в эпоху, когда возникла советология, сталинизм был предметом не столько историков, сколько политологов, которых мало интересовали эволюционные, а не системные изменения[6]. Тем не менее отсутствие интереса к этому периоду со стороны историков таким объяснением не исчерпывается.
Гегель утверждал, что «периоды счастья, гармонии, благополучия народов и индивидов, бесконфликтности не интересны для историков»[7]. Послевоенная эпоха была зенитом сталинизма и кульминацией исторического торжества советской России: победа в войне стала ее звездным часом – искуплением унизительных поражений Первой мировой войны, распада империи, революционных пароксизмов, братоубийственной Гражданской войны, надрыва коллективизации, индустриализации, Большого террора и, наконец, самой Отечественной войны, катастрофически бездарно начатой и стоившей стране слишком дорого. После десятилетий исторических поражений и турбулентности наступил мир, впервые забрезжил «период счастья», а «гармония» и «бесконфликтность» стали определяющими чертами советской культуры. В этом и таятся причины отсутствия интереса историков к этому периоду.
Но историки не без основания предпочитают «эпохи перемен» эпохам, когда «не происходит ничего»: именно в эпохи перемен совершаются осязаемые социальные, политические, культурные разломы и сдвиги, значимость которых определяется долговечностью их последствий. Речь идет о войнах и революциях, которые производят слом, но эффекты от этих сломов – а именно то, где созревают следующие войны и революции, которые породят новые разломы, – в малозаметных сдвигах, в формировании новой рутины, в долговременности жизни внутри этих последствий. Извержение вулкана – явление кратковременное; вулканообразование – процесс долговременный. Под бесконфликтностью послевоенной эпохи незримо вызревало то, что определило собой историческое сознание советской (а затем и постсоветской) нации на десятилетия вперед. Подобно тому как бесконфликтность советского искусства будет признана мнимой, такой же мнимой была неподвижность и бесконфликтность и самой послевоенной эпохи.
Нации рождаются посредством триумфальных событий, в которые они обычно обращают трагедии. Это лучше других понимал Шарль де Голль, утверждавший, что будущее длится долго. На самом деле, куда дольше длится прошлое. Победа в войне – это событие, в котором впервые проявила себя советская состоявшаяся нация. Но произошло это не в руинах 1945 года. Для того чтобы трагедия войны превратилась в триумф Победы и советская нация коллективно осознала себя, потребовались годы, в течение которых был создан миф о войне и советском величии, о всепобеждающем вожде и величайшем государстве, о зависти высокомерного Запада и русской национальной исключительности, об обидах, украденной славе и мессианстве. Это и составило содержание эпохи позднего сталинизма. Сталин действительно принял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой. Но не менее важно и то, что он принял страну, населенную людьми, потерявшими свою историю и национальную идентичность, а оставил состоявшуюся советскую нацию, которая была всецело продуктом сталинизма. Сталин был отцом этой нации.
История совершается в эпохи, когда «не происходит ничего», а именно – когда произошедшие в «эпоху перемен» разломы и яркие политические манифестации обрастают политическими институтами и обзаводятся своими ритуалами и традициями, порождают соответствующую политическую культуру, которая воспринимается как естественная, превращаются в «образ жизни», «образ мышления», «структуры повседневности», формируют соответствующую систему социальных отношений и связей, этику и эстетику. Иначе говоря, для того чтобы иметь долговременный эффект, последствия «эпохи перемен» должны пройти этап стабилизации, когда происходит своего рода оседание революционной волны и приспособление к жизни в новых условиях, когда эти новые условия рутинизируются, нормализуются. В такие стабильные периоды рождаются нации и совершается история. Поздний сталинизм – именно такая эпоха.
Это ощущение прочной внутренней спаянности периода вплоть до неразличимости составлявших его лет, чувство особой исторической вязкости позднесталинской эпохи удивительно точно передал проницательный и чуткий к «шуму времени» Борис Слуцкий:
- Конец сороковых годов –
- Сорок восьмой, сорок девятый –
- Был весь какой-то смутный, смятый.
- Его я вспомнить не готов.
- Не отличался год от года,
- Как гунн от гунна, гот от гота
- Во вшивой сумрачной орде.
- Не вспомню, что, когда и где.
- ‹…›
- Года и месяцы, и дни
- В плохой период слиплись, сбились,
- Стеснились, скучились, слепились
- В комок. И в том комке – они.
Принято считать, что история совершается тогда, когда происходят зримые перемены (1905, 1917, 1929, 1937, 1956, 1991 годы для России ХX века). Но чем более неподвижным кажется время, тем основательнее и неотвратимее совершает свою работу крот истории. Подлинно важные, исторические изменения, для того чтобы произвести действительно глубокое, внутреннее, имеющее долговременные последствия воздействие на общество, требуют времени, чтобы закрепиться в, используя терминологию «Анналов», ментальных привычках и структурах повседневности. Они поэтому протекают медленно и незаметно. Но оттого особенно важны. Самые глубокие и серьезные последствия таких эпох позже прорываются не только в штурмах дворцов, массовых демонстрациях, танках на площадях и других эффектных исторических зрелищах, но и в стереотипах, ментальных картинах мира, политической культуре. Там, где смещаются социальные тектонические плиты, где устанавливаются нормы поведения, отливаются мифы.
Поздний сталинизм – несомненно, самые глухие годы русской истории ХX века, когда этот глубинный исторический процесс был особенно интенсивным и завершился окончательной кристаллизацией советской нации. Ее постсоветская наследница до сих пор переживает фантомные боли, комплексы и травмы той эпохи. Именно тогда (не до и не после) окончательно отлились ее идеологические параметры. В эти годы осело многое из эпохи 1930‐х, возникла новая взвесь модернизированного консерватизма и ностальгической патриархальности, антиамериканизма и ревнивого отношения к достижениям Запада, изоляционизма, ксенофобии и агрессивно-экспансионистской международной повестки – всего того, чего не знал Советский Союз до войны.
Уникальность этой эпохи – в ее особых отношениях с предыдущим и последующим периодами советской истории. В конце 1920‐х годов стало ясно, что страна входит в новую эпоху. Но в 1930‐е в начале этого туннеля еще брезжил свет 1920‐х. Он шел из прошлого, сзади. Оборачиваться не рекомендовалось, но, обернувшись, можно было еще заметить (хотя к концу 1930‐х уже и с большим трудом) «отблеск костра» Революции (используя метафору Юрия Трифонова). После смерти Сталина, и особенно после 1956 года, как будто открылась настежь дверь впереди и свет пошел оттуда[8]. У многих современников возникло ощущение, что все началось заново («очищение идеалов революции», «возврат к ленинским нормам жизни» и т. д.). Послевоенное десятилетие во всех смыслах уникально: в нем не было света вообще: свет Революции уже погас, а свет Оттепели еще не забрезжил.
Это пребывание в кромешной тьме лучше других передал Давид Самойлов: «Страшное восьмилетие было долгим. Вдвое дольше войны. Долгим, ибо в страхе отшелушивались от души фикции, ложная вера; медленно шло прозрение. Да и трудно было догадаться, что ты прозреваешь, ибо прозревшие глаза видели ту же тьму, что и незрячие»[9]. Но жизнь в этой сплошной мгле не остановилась. Напротив, шел интенсивный процесс переплавки опыта в новое историческое самосознание. Именно в эти годы – не в 1920‐е, не в эпоху террора, не во время войны, но именно после нее – завершалось формирование советской нации.
Послевоенная эпоха отличается от предшествовавшей тем, что именно она была вершиной сталинизма. Один из самых проницательных современников – киновед и историк театра Майя Туровская писала:
Как свидетель этого времени я высказываю предположение, что 30‐е годы не были конечным продуктом диктатуры и ее «золотым веком». Что, напротив, это было переходное время, когда революционаризм 20‐х годов стал переходить в прагматическую, практическую сталинскую диктатуру – «большой террор», как его называют историки, но быт и культура, пережившие радикальную ломку, все еще сопротивлялись унификации, сохраняя неоднородность, негомогенность, многоукладность, которая практически рухнула после войны, когда и наступила ждановщина[10].
Эта переходность, текучесть 1930‐х годов, в которых ясно видны отзвуки революционных 1920‐х, была связана с тем, что огромные крестьянские массы, затопившие города, готовые жадно впитывать городскую культуру и активно перестраивавшие ее, еще не успели ее воспринять. Да и сама она отнюдь не была чем-то готовым: 1930‐е годы были переходными еще и в том смысле, что здесь происходил глубокий идеологический перелом. В конце 1920‐х произошел мощный поворот влево (разгром «правой оппозиции», коллективизация, культурная революция); с середины 1930‐х начинается Большой возврат – отвечавший глубоко консервативным ценностям патриархального сознания резкий поворот вправо (национализм, традиционные ценности и т. д.)[11]. За время, прошедшее до начала войны, массы населения еще просто не успели в этот поворот вписаться, освоить происходящее. Это освоение совпало с эпохой позднего сталинизма, «ждановских» репрессий, кампании против «космополитов», дела «врачей-убийц» и холодной войны. Можно поэтому сказать, что в 1930‐е годы и после войны страна жила в разных культурных хронотопах.
Пространственно довоенная советская культура была почти полностью сконцентрирована на Советской стране. Внешний – непременно враждебный ей – мир входил сюда лишь отзвуками былых боев, упоминаниями о внутренних врагах либо «засылаемых шпионах и диверсантах». В советской довоенной «оборонной литературе» рисовалась победоносная Красная армия и легкая победа над будущим противником на его территории «малой кровью, могучим ударом». Советский довоенный экран лишь изредка демонстрировал современную жизнь за рубежом – либо в немногочисленных антифашистских фильмах, таких как «Профессор Мамлок» (1938, реж. Адольф Минкин, Герберт Раппапорт) или «Мечта» (1941, реж. Михаил Ромм), либо, когда тема советского морального превосходства выходила на первый план, как в «Цирке» (1936, реж. Григорий Александров), в виде полуминутной сцены в заштатном американском городке.
Не то после войны, где литература живописала заграницу в широко издававшихся и отмеченных Сталинскими премиями романах Ильи Эренбурга «Буря» (1946–1947) и «Девятый вал» (1950), Николая Шпанова «Поджигатели» (1949) и «Заговорщики» (1951), Дмитрия Еремина «Гроза над Римом» (1951), Ореста Мальцева «Югославская трагедия» (1951) и мн. др., в многочисленных пьесах, стихах и поэмах, а кино переносило зрителя то в Америку («Русский вопрос», 1947, реж. Михаил Ромм; «Серебристая пыль», 1953, реж. Абрам Роом), то в поверженную Германию («Встреча на Эльбе», 1949, реж. Григорий Александров; «Секретная миссия», 1950, реж. Михаил Ромм), то в оккупированную Восточную Европу («Заговор обреченных», 1950, реж. Михаил Калатозов). Послевоенная эпоха была для советского человека эпохой настоящего «открытия мира». Заграница вошла в советскую культуру через главные идеологические кампании позднего сталинизма – борьбы за мир, советского превосходства, борьбы с низкопоклонством перед Западом и космополитизмом.
Если до войны внешний мир почти отсутствовал в советском воображаемом, то теперь оно обусловливалось по крайней мере четырьмя новыми факторами: (i) новым статусом сверхдержавы, который требовал активной внешней политики, нуждавшейся в обосновании и внутренней мобилизации, а соответственно, в производстве угрозы и представлении Запада как ее источника; (ii) новым имперским статусом в Восточной Европе и в Азии, что требовало их интеграции и, следовательно, знакомства; (iii) необходимостью противоядия от того образа заграницы, который могли «некритически усвоить» советские «воины-освободители»; (iv) укреплением образа победителя и ощущения советского превосходства, что питало множество идеологических кампаний антизападной направленности и требовало постоянного поддержания образа враждебного и коварного Запада и нарратива о нем. Все эти факторы наложили глубокий отпечаток на образ Запада, пришедший к советскому человеку. Тот факт, что это «открытие мира» было отравлено самой острой фазой холодной войны, оставил глубокий след в советском и постсоветском сознании[12].
Не менее радикальным был сдвиг и на темпоральной шкале. Национализм требовал утверждения приоритетов и исторической укорененности, постоянного нарратива о нанесенных обидах и украденной славе. Если до войны советская культура была занята доказательством своей революционности и новизны, то теперь, напротив, – своей древности и «первородства». Если советские исторически фильмы 1930‐х апеллировали к прошлому для демонстрации преемственности «революционных традиций народа», то теперь – для того, чтобы доказать российское первенство в прошлом. В 1930‐е годы, даже после националистического сдвига в середине десятилетия, речь шла о революционности и связи современности с прошлым, которое сделалось доменом исторических аллюзий. После войны прошлое становилось самоценным.
И этот перелом точнее многих зафиксировала Туровская, увидевшая в позднесталинской эпохе вершину сталинизма:
Война физически нарушила экологию культуры, в 30‐е годы еще достаточно многосоставной. Уходили из жизни носители старой образованности, гибли в печках-«буржуйках» уцелевшие в революцию библиотеки и мебель, исчезали из обихода предметы быта – истощался материальный слой культуры. С другой стороны, именно в послевоенное время конституировалась и приобрела окончательный вид эстетическая система сталинского «ампира». Стиль богатства державы-победительницы становился эстетической нормой[13].
Это изменение политической оптики и культурного хронотопа в эпоху расцвета сталинского барокко соответствовало архетипическим представлениям о русской ментальности, чутко уловленным Алексеем Толстым и реализованным именно в позднесталинскую эпоху: «Грандиозность как сознание, как форма мышления, как (качество) строй души – вот один из краеугольных камней новой морали, грандиозность – очень восточная идея. Она проникла через Грецию, Рим, Империю Карла Великого, Французскую революцию. Там она столкнулась с дремавшей восточной идеей», – рассуждал Алексей Толстой. И тут же добавлял: «Россия – неизмеримые земли, неизмеримые богатства, всевластные империи – породила идею грандиозности. Дерзновенность, непримиримость, планетарность, беспредельность – вот окраска революции»[14]. Последнее нуждается в поправке: это окраска не столько революции, сколько того, что от нее осталось.
Сталинизм есть не что иное, как застывшая в политических институтах, идеологических постулатах, многочисленных артефактах гражданская война. Эпоха позднего сталинизма была, по сути, итоговой точкой полувекового процесса, называвшегося Русской революцией. Постсталинская эпоха стала временем выруливания из длившейся полстолетия гражданской войны, робкой нейтрализации последствий сталинизма (в лучшие времена), подновления его фасада (в худшие), но в целом – жизни взаймы, за счет созданного Сталиным. До тех пор, пока непригодная для мирной жизни и не подлежащая реформированию сталинская постройка (политическая, экономическая, институциональная, военная, идеологическая, культурная) еще продолжала функционировать.
Во всех иных отношениях понятие «сталинизм» имеет право на существование скорее как зонтичное определение, ведь всякий, кто знаком с советской культурой, знает разницу между 1927–1937–1947 годами или 1929–1939–1949 годами и т. д. Причем эта разница не только культурная, но и социальная – речь идет о разных обществах. Советское общество образца 1933 года, когда страна находилась в шоке от коллективизации и на пике индустриализационных усилий, и 1953 года, когда страна, уже пережившая Большой террор, Отечественную войну, идеологические потрясения позднего сталинизма, застыла в преддверии «дела врачей», – это разные страны. 1946 год отличается от 1936-го не меньше, чем 1936‐й от 1926-го и все три они – от 1956-го. За десять лет меняется все…
Правильно поэтому говорить не столько о сталинизме, сколько о сталинизмах, рассматривая сталинскую эпоху в широкой исторической перспективе, а именно – как завершение революционной эпохи, растянувшейся в России на полвека. Фактически русская революция, если видеть в ней процесс интенсивной насильственной социальной, экономической, политической и культурной ломки (то есть полувековой гражданской войны 1905–1956 годов), завершилась лишь с началом десталинизации в 1956 году. В этом широком контексте поздний сталинизм – это, помимо всего, еще и конец полувекового развития страны. В нем – все, чего достигла страна, к чему она пришла в результате пятидесяти лет гражданской войны: абсолютная центральная власть и мощнейшая и огромнейшая в русской истории империя – от Берлина до Пекина.
Сталинизм не только был страницей истории, но сам имел историю. Ее можно разделить на три периода: ранний (1927–1934), высокий (1935–1945) и поздний (1946–1953) сталинизм. Как и всякая периодизация, эта не абсолютна и имеет переходные фазы. Так, можно считать переходными 1924–1927 годы, когда сталинское лидерство в партии не было ни очевидным, ни абсолютным, хотя его политическое доминирование росло экспоненциально. Переходным можно считать также период от убийства Кирова в декабре 1934 года до 1936 года, когда машина Большого террора включилась на полную мощность. Наконец, переходными были 1943–1945 годы, когда обозначившийся победный конец войны сформировал подходы, которые будут превалировать после войны, но заявят о себе окончательно лишь с началом холодной войны в 1946 году. Если на первом этапе доминировали экономические задачи (коллективизация, пятилетки), то на втором – политические (Большой террор), а на третьем – идеологические, мобилизационные задачи национального строительства (сохранение политического режима, холодная война). Разумеется, все три фактора присутствовали в каждый период. Речь идет о доминирующем.
Ранний сталинизм завершился, на языке тех лет, «построением экономического фундамента социализма». Его итогом стал «съезд победителей». Под взбаламученной эпохой высокого сталинизма, в которую решались прежде всего политические задачи смены элит (тех самых «победителей»), лежал страх. О создании нации было пока лишь заявлено – сталинской Конституцией, началом Большого возврата. Процесс был прерван (и ускорен) войной. Для рождения нации одного страха не достаточно. Нужна идея нации. Именно это идеологическое наполнение эпохи позднего сталинизма обеспечило условия для рождения советской нации. Под тихой (в сравнении с прежней) поверхностью этой эпохи страх мутировал в национальные травмы и фобии, историю славы и обид, ложившиеся в идеологическое основание советской нации. Поскольку в центре этого периода была идеология, основной являлась проблема ее продвижения, что обеспечило высокий политический статус культуры в это время. При этом говорить следует не столько о сугубо идеологических основаниях исторических перемен, сколько о культурных.
Свою знаменитую книгу «Культурные истоки Французской революции», заложившую основы новой культурной истории, Роже Шартье начал с вопроса, перевернувшего подход не только к этому ключевому событию мировой истории, но и к культурной истории как дисциплине. Он проблематизировал давно сложившиеся представления об отношениях между Просвещением и Революцией. Согласно превалировавшему взгляду, Революция была подготовлена идеями Просвещения: «Утверждая, что именно Просвещение произвело Революцию, классическая интерпретация, вероятно, перевернула логический порядок: не должны ли мы считать, напротив, что именно Революция изобрела Просвещение, пытаясь укоренить свою легитимность в корпусе текстов и авторов-основателей, примирив и объединив их, несмотря на их крайние различия, их деятельностью по подготовке разрыва со старым миром?»[15] Этот парадокс открывал нишу, где действовала не плоская «история идей», но объемная культурная история, которая видит в них самих культурные конструкции и продукты взаимодействия культуры и политики. Эти культурные конструкции являются ответом на запросы политического свойства.
Та же обратная причинность может быть установлена и в связи с большевистской революцией, которая многим виделась (да и по сей день видится) результатом приложения марксистской теории и «марксистско-ленинской идеологии», якобы определявших советский политический проект, тогда как марксизм задолго до 1917 года был принесен Лениным в жертву политической прагматике захвата власти, а в 1927 году окончательно заменен Сталиным проектом модернизации и национального строительства. И чем больше реалии советского госкапитализма и полицейского государства отличались от целей, задач и самого духа марксистского проекта, тем гуще становился туман сконструированного Сталиным «марксизма-ленинизма», из которого якобы произрастал советский социализм. Это смогло обмануть целые поколения советологов, но не ушло от внимания проницательных современников. Как остроумно заметил Давид Самойлов, «марксизм настолько заменился системой фразеологии, что не исключена возможность, что какой-нибудь лихой генерал, дорвавшись до власти, отменит его приказом № 1»[16].
И все же то обстоятельство, что «отмена» марксизма произошла в СССР только вместе с крахом самого Советского Союза, не было случайностью. В 1930‐е годы, несмотря на Большой возврат и очевидные признаки политического термидора, в стране все еще оставались представители старого революционного класса, образованные марксисты, которые продолжали продвигать марксистскую теорию. После смерти Сталина интерес к марксизму вновь возродился в СССР в эпоху оттепели и надежд на реформированный «социализм с человеческим лицом». Но никогда марксизм не был столь далек от советской реальности и столь прочно к ней привязан, как в эпоху позднего сталинизма. Именно после войны, когда эксцессы 1930‐х годов (ужасы голода и коллективизации, массовый надрыв индустриализации и ужасы Большого террора) были оттеснены на второй план пережитой войной, из которой сталинский режим вышел как никогда сильным, опора на «марксизм-ленинизм» стала для него особенно актуальной. Здесь нет противоречия: именно после войны откровенно реакционная природа сталинизма приобрела открытые формы. Замену классовости великодержавием и национализмом, интернационализма – империализмом, ксенофобией и открытым антисемитизмом, демократизма (пусть и декоративного) – социальной иерархией и сословностью уже трудно было скрывать. И чем отчетливее проступали черты архаичного, имперского, по сути своей, военно-феодального режима, тем гуще накладывались румяна «марксизма-ленинизма».
Если понять советский «марксизм» не как некую данность, производной от которой якобы были революция и сталинизм, но как сталинскую конструкцию, легитимирующую сталинизм и, по сути, произведенную под него, мы поймем, что рожденный в сталинизме «марксизм-ленинизм» был для него такой же поздней легитимирующей конструкцией, каким Просвещение стало для Французской революции. Сталинизм точно так же пытался укоренить свою легитимность «в корпусе текстов и авторов-основателей, примирив и объединив их, несмотря на их крайние различия, их деятельностью по подготовке разрыва со старым миром» – в том числе и с самим марксизмом. В результате во многом взаимоисключающие сталинские и ленинские интерпретации марксизма, схожие разве что в том, что радикально ревизовали его, превращались в единое и стройное «марксистско-ленинское учение». Однако в свете рассмотрения эстетической политики сталинизма следует видеть ограниченность сугубо идеологической интерпретации происходящих перемен, поскольку эти идеологические основания были более поздними легитимирующими конструкциями, которые нуждались в эстетическом оформлении, без чего они не подлежали усвоению, то есть лишались политической функциональности.
Трудно не согласиться с выводами бывшего руководителя Государственной архивной службы России и главного государственного архивиста страны Рудольфа Пихои, в 1998 году выпустившего в свет книгу «Советский Союз: История власти. 1945–1991», наполненную уникальными документами, на основании которых автор не только показывал особенности эволюции институтов власти в первые послевоенные годы, но и убедительно доказывал, что именно сложившаяся в эти годы система власти может рассматриваться как классически советская (или сталинская). Этот вывод подтверждают Олег Хлевнюк и Йорам Горлицкий, когда, описывая механизмы работы сталинского аппарата и системы принятия решений, сложившиеся в послевоенную эпоху, заключают: «Такой была для Сталина идеальная модель диктатуры»[17]. Именно так: завершенный, идеальный в представлении самого вождя сталинизм сложился именно после войны. Но это не только идеальный режим для самого диктатора. Отнюдь не 1930‐е годы с голодом коллективизации, трудовым надрывом первых пятилеток и массовым террором, но именно поздний сталинизм с его пафосом, помпезностью и самовозвеличиванием остался тем идеальным образом, к которому апеллирует массовая постсоветская ностальгия.
Эта апелляция именно к сталинскому прошлому не должна вызывать удивления. Сталинизм – это сердце советскости. В нем сложились ее институциональные, политические, экономические, идеологические и культурные основания, именно в послевоенную эпоху достигшие завершенной формы. По сути, вся история после сталинизма – оттепель и десталинизация, застой и ресталинизация, перестройка и ельцинские рыночные реформы, путинизм – была лишь реакцией на сталинизм, поскольку их инструментом, субъектом и объектом воздействия одновременно являлись основные продукты сталинизма – созданное Сталиным советское государство и советская нация, отцом которой он оставался.
В этом свете период 1930‐х годов, который был в фокусе интереса историков на протяжении десятилетий, может рассматриваться как период становления сталинизма, когда система продолжала находиться в динамике (культурная революция, коллективизация, индустриализация, Большой возврат, Большой террор), а период, последовавший за смертью Сталина, – как период непоследовательной либерализации и перелицовки созданной Сталиным системы власти. Точкой же отсчета оказывается наименее изученная позднесталинская эпоха. Институты и механизмы управления, персоналистский режим, система власти, работа органов надзора и контроля, взаимодействие партии и государства и т. д., созданные после войны, без серьезных изменений продолжат работать на протяжении десятилетий. В главном мало изменились они и сегодня. В тех же кабинетах на Старой площади, где располагался ЦК партии, управлявший страной, сегодня располагается Администрация Президента РФ, осуществляющая практически те же функции теневого управления государством.
Не менее важен поколенческий аспект. Поколение двадцати-тридцатилетних погибло в войну (из каждых ста призывников, ушедших на фронт в 17–20 лет, вернутся лишь 4–5 человек), тогда как предыдущее поколение в хрущевскую эпоху уже покидало активную социальную жизнь. Так что наиболее активным поколением после Сталина оказались либо те, чье формирование задержалось во время войны, либо те, чья юность пришлась на послевоенную эпоху. Именно они и составляли демографический костяк активного советского населения. Следующее за ними поколение (по той же причине демографического провала) было слишком малочисленным, что привело к значительному продлению влияния первого послевоенного поколения, продолжавшего дольше обычного проецировать и воспроизводить воспринятое в позднесталинскую эпоху мировоззрение. По сути, советская эпоха завершилась лишь с уходом этого поколения.
Следует учитывать, что именно в позднесталинскую эпоху фактически закончилась активная политическая карьера целого поколения сталинских сподвижников 1920–1930‐х годов (таких, как Молотов, Каганович, Маленков и др.). Эпоха, наступившая после смерти Сталина, была эпохой выдвиженцев уже самой позднесталинской эпохи, условно – брежневского поколения (таких, как Суслов, Косыгин, Громыко и др.), которое, по сути, и было последним поколением советских руководителей. Если помнить, что в сталинской системе, по известному замечанию самого вождя, «кадры решают все», то станет ясно, какую роль в эволюции советского строя сыграл период, в который произошла эта кадровая революция. Новая советская элита – молодые кадры разраставшейся номенклатуры, партийный и административный актив, перевоспитанные кадры интеллигенции – усвоила внедренные в ее сознание установки послевоенного сталинизма. Именно это поколение, сформировавшееся и выдвинувшееся после войны, и станет последним поколением советских лидеров, пришедшим на смену поколению сталинских соратников. Уже следующее поколение, сформировавшееся и выдвинувшееся в эпоху сменившей поздний сталинизм оттепели, не смогло или не захотело спасти созданный Сталиным Советский Союз[18].
Изменились, по сравнению с довоенной эпохой, и социальные настроения, которые характеризовались сближением населения с режимом. На уровне массового сознания на эту специфику послевоенной эпохи указал летописец повседневной жизни 1940‐х годов Георгий Андреевский: «Теперь, после Победы, любовь к Сталину из организованной превратилась в естественную и всеобщую»[19]. 21 июня 1945 года Сталину было присвоено звание Героя Советского Союза, а спустя неделю – звание генералиссимуса: «Для его имени теперь не существовало слишком лестных эпитетов ‹…› Люди поверили в силу сказанного им слова. Масса дел, совершенных народом на единицу сталинской фразы, придавала словам вождя необычайный вес. У советских людей начало складываться мнение, что история вообще развивается по указанию начальства»[20]. Как замечают А. Данилов и А. Пыжиков, несмотря на то что недовольство тяжелыми условиями жизни (как и сами эти условия, которые даже ухудшились) сохранилось и после войны, само отношение к ним изменилось, и
именно этим советское общество конца 40‐х годов принципиально отличалось от общества середины 30‐х годов. Самое интересное, что антиправительственные настроения теперь сдерживались не только страхом за свою судьбу, но и верой в правильность выбранного курса развития. Война не только на словах объединила народ и правящую партию. Не случайно высказывания недовольства характеризовались как болтовня, нездоровые настроения, лживые, провокационные и антисоветские слухи, враждебные антисоветские настроения. Такая точка зрения была свойственна партийной элите и простому народу[21].
То, что описывают здесь политические историки, можно определить как процесс интериоризации страха: довоенный страх не «ушел», но лишь без остатка интериоризировался. Однако кроме «партийной элиты» и «простого народа» существовал слой мыслящих (в основном молодых) людей, которые пытались реализоваться в новой жизненной ситуации. И их размышления о том, куда девался после войны довоенный страх, объясняют куда больше. Этот страх будет подспудно определять очень многое из того, о чем пойдет речь в настоящей книге. И в этой связи особо ценны откровенные размышления Давида Самойлова о том, почему столь неудачными оказались его собственные «громоздкие и неоконченные поэмы послевоенного времени»:
Натужность, внутренняя неоткровенность моих стихов, их романтическое велеречие проистекали из страха, настолько вошедшего в плоть тогдашнего времени, что он становился формирующим началом духа, движущей силой фарисейства, обоснованием приятия действительности. Это был высший страх, почти страх божий. Он был настолько высший страх, что существовал отдельно от низшего – от страха расправы, который нарастал с каждым годом и сопровождал повсюду в часы бодрствования. Страшные были годы, ни с чем не сравнимые[22].
В 1930‐е годы были только созданы предпосылки для происшедшего во время войны и после нее сращения русской и советской идентичности. Хотя в связи с необходимостью мобилизации из‐за внешней опасности национализм стал все отчетливее окрашивать советский проект в 1930‐е годы, он еще не был русско-этническим, но продолжал оставаться в целом советским. А сама эпоха 1930‐х годов – глубоко связанной с революционным проектом политически и идеологически. Поэтому довоенная советская культура еще во многом сохраняла интернационалистский характер[23].
Поздний сталинизм, однако, был уже никак не связан с революцией. Это был сугубо национально-государственный проект, причем почти исключительно этнически фундированный. Не в 1930‐е годы, но во время и после войны началось целенаправленное и системное внедрение агрессивного национализма (мифологии первенства и превосходства России и исторических обид), антисемитизма, антиамериканизма, империализма и др. ключевых элементов поздне- и постсоветской идеологии. В этом смысле завершение формирования советской нации в ее основных параметрах состоялось в эпоху позднего сталинизма. Именно здесь следует искать истоки множества ее проявлений в дальнейшем.
Как показал Амир Вейнер в одной из лучших работ о послевоенной эпохе, война навсегда
изменила советские государство и общество физически и символически. Она служила утверждению исходного революционного пророчества, одновременно почти полностью его затмевая; она являлась доказательством (а может быть, и причиной) одновременно бессилия режима и его легитимности; она переопределила партию согласно этосу ветеранских жертв; она продвигала этнизацию большевистского «драйва очищения»; она перестраивала «братскую семью советских народов»; она заставляла и вдохновляла людей переоценивать себя, брать на себя новые роли, предъявлять новые требования; она навсегда разделила советскую историю и жизнь на две разные эпохи[24].
Но война изменила не только страну. Она до неузнаваемости изменила мир. Историк Джей Винтер назвал 1945 год «настоящей цезурой» в культурной жизни Европы[25]. Определение это представляется поразительно точным. Цезура – это не только ритмическая пауза в стихе и не только композиционный прием, подчеркивающий границы смысловых частей картины. В определении Винтера цезура возвращает нас к своему прямому значению в древнегреческом языке: рассечение, отсечение, отрубание. Вторая мировая война разрубила европейскую историю, отсекла одну эпоху от другой практически во всех европейских странах (включая те, где не произошло изменения политического строя). Послевоенная эпоха принесла радикальные изменения в политическую культуру Запада, по сути, породив и сам «свободный мир», и «либеральный мировой порядок».
И только в Советском Союзе режим не только не изменился, но лишь укрепился и застыл в своей «классической» форме. Причем установка на сохранение довоенного порядка была задана сразу же после войны. И дело не только в консервативности сталинского мировоззрения. Вся политическая философия Сталина была философией власти и управления своей разрастающейся империей. Единственная из прослеживаемых целей проводившихся им преобразований 1946 года, которые очевидно были задуманы во время долгого сочинского отдыха осенью 1945 года, – ужесточение централизации и личного контроля за партийными кадрами. Главной задачей существовавшего с 1919 года Оргбюро ЦК становится, по замыслу Сталина, проверка работы местных партийных организаций; на Секретариат возлагалась подготовка вопросов для Оргбюро и проверка исполнения решений Политбюро и Оргбюро ЦК; организационно-инструкторский отдел ЦК был преобразован в Управление по проверке партийных органов, также резко возрастала роль Управления кадров ЦК. Если сталинская философия была философией бюрократической централизации и управления, то сталинская внутренняя политика была, прежде всего, политикой кадровой – в ней находили выражение его параноидальная подозрительность, восточное коварство и феодальное всевластье над жизнью подчиненных.
Человек глубоко консервативных взглядов, но радикально-революционных методов, Сталин часто менял политический курс страны потому, что никогда не изменял своим политическим принципам: смена политического курса была его методом приспособления неизменных принципов к изменяющейся реальности. Принципы кадровой политики, сформулированные им еще в 1923 году на ХII съезде партии, так никогда и не изменились: «Необходимо подобрать работников так, чтобы на постах стояли люди, умеющие осуществлять директивы, могущие понять директивы, могущие принять эти директивы, как свои родные, и умеющие проводить их в жизнь»[26].
Эта модель – вождь – директивы – аппарат – проверка – была не просто сталинской бюрократической утопией, воплощенной им в жизнь и отлившейся после войны в институциализированную систему, настолько нереформируемо-жесткую, что все последующие десятилетия страна, по сути, продолжала жить в ней, лишь изредка подкрашивая фасад. Это была материализованная философия сталинизма, настолько адекватная его видению политической реальности, что в 1947 году вождь позволил себе отказаться от двусмысленности и в очередном томе своих «сочинений» неожиданно предал гласности старую рукопись, где о партии говорилось, будто она – «своего рода орден меченосцев внутри государства Советского, направляющий органы последнего и одухотворяющий их деятельность». В этом «ордене» – 3–4 тысячи руководителей, составляющих «генералитет», 30–40 тысяч офицеров» и 100–150 тысяч «унтер-офицеров»[27]. Остальные как безропотные «солдаты партии» пригодны были лишь на беспрекословное исполнение «директив» и решений «инстанций».
Еще в 1920 году Сталин без обиняков сформулировал свое понимание «социалистической демократии»: «Страной управляют на деле не те, которые выбирают своих делегатов в парламенты при буржуазном порядке или на съезды Советов при советских порядках. Нет. Страной управляют фактически те, которые овладели на деле исполнительными аппаратами государств, которые руководят этими аппаратами»[28]. Успех Сталина был обеспечен тем, что он успел овладеть этим искусством раньше своих соперников. Но до войны ему приходилось «управлять фактически» либо в борьбе с ними, либо с оглядкой на них. После войны он мог строить то, что считал нужным и что, будучи человеком глубоко патриархальным, мог черпать только из прошлого.
Сталинский социализм был, по сути, смесью милитаризованного, насильственно и ускоренно индустриализуемого, но культурно и экономически отсталого аграрного общества с полуфеодальной системой отношений (партийная номенклатура, социальная иерархия) и собственности (колхозный строй), госкапиталистической эксплуатацией и бюрократизацией, однопартийной монополией на власть. И хотя эта модель имела мало общего с марксистским проектом, война убедила Сталина в правоте его концепции социализма. Именно об этом Сталин говорил в своей речи в 1946 году. После долгого сочинского отпуска 1946 года он преобразовал наркоматы в министерства, резко увеличив их количество, а также число ведомственных чиновников, ввел «табели о рангах», униформу для работников некоторых отраслей народного хозяйства, финансов, юстиции, даже школьников, усилил роль партаппарата, и без того контролировавшего каждый шаг в стране.
Сталинское видение послевоенного устройства Роберт Такер сформулировал так: «Послевоенный период должен был превратиться по идее, если не в реальности, в новый довоенный период»[29]. Как проницательно заметила Шейла Фицпатрик, хотя Советский Союз после войны изменился, как изменился послевоенный мир, новая эпоха была представлена советским людям совсем в иной проекции – как эпоха «реконструкции», «восстановления», «возрождения», то есть воссоздания как можно скорее довоенной ситуации, которая была разрушена войной[30]. Под этим знаком она оставалась вплоть до конца советской эпохи (воспоминания Брежнева об этой эпохе назывались «Возрождение»). Иначе говоря, делалось все, чтобы советские люди не восприняли 1945 год как цезуру. Все усилия режима были направлены на самосохранение. Этим отчасти и объясняется то обстоятельство, что эпоха, наступившая вслед за Победой, осталась, по сути, в полной тени.
Между тем отношения СССР с миром также претерпели радикальные изменения. Страна заняла совсем иное место в нем, в одночасье превратившись из государства-изгоя не просто в великую державу, но в один из полюсов послевоенного мироустройства. Именно позднесталинская эпоха задала парадигму отношений Восток – Запад на десятилетия вперед и стала формативной для всех последующих отношений СССР/России с миром. Причем не только в эпоху холодной войны. Импульс этот был настолько мощным, что инерция, заданная в это время, определяет отношения постсоветской России с Западом по сей день.
Исключительное значение позднесталинской эпохи состоит в том, что именно тогда процесс формирования советской нации завершился ее признанием миром. Как проницательно заметил Михаил Рыклин, «после победы во Второй мировой войне у СССР появляется общепризнанная история, не связанная с диктатурой пролетариата и мировой революцией, советский народ конституируется как суперэтнос, получает (в том числе и из рук мирового сообщества) вторичную национальность»[31]. Поздний сталинизм стал эпохой, когда были заложены ключевые параметры новой нации – привитые ей комплексы, обиды, фобии, травмы, образ врага, образ собственного величия и т. д.
Рождение наций в XIX – ХX веках носило массовый характер, и в этом Россия не уникальна. Уникальность ее национального проекта (и, соответственно, национального строительства) обнаруживает себя только после 1917 года – Революции, поставившей страну поначалу на совершенно новые, отличные от общеевропейских, рельсы. До того национальное движение было вполне традиционным. Национализмом были заражены прежде всего политические и культурные элиты. Его подъем неслучайно пришелся на николаевскую эпоху – 1840–1850‐е годы, когда заявили о себе славянофилы, почвенники, панслависты, западники. Этот вполне органичный проект интеллектуально питался немецким идеализмом и романтизмом, которым Россия тогда была заражена. Здесь и романтическая политика (народничество), и романтизм в искусстве. Примеры из литературы общеизвестны. В музыке ему отдают дань не только представители «Могучей кучки» и Владимир Стасов, к национальной теме обращаются не только авторы «Бориса Годунова», «Царской невесты» и «Князя Игоря», но и «космополит» Чайковский, написавший «Опричника» и «Мазепу»[32]. То же наблюдаем в живописи у передвижников: от социально-критических сюжетов к историко-героическим. Не говоря уже о расцвете русской темы в постпередвижническую эпоху у Петра Нестерова, Виктора Васнецова, Ивана Билибина.
В начале ХX века в Европе параллельные процессы начинают политически оформляться и достигают пика с обвалом империй. В России же в это время происходит двадцатилетний провал на самом пике патриотической истерии. С 1917 до середины 1930‐х годов в стране доминирует интернациональная идеология. Когда Сталин возродил национализм в середине 1930‐х, страна была уже иной: прежней национально ориентированной элиты не осталось, действовали новые элиты и новые массы с иной политической культурой. Большевики продолжили имперский проект. Национальное русское государство не состоялось. Хотя русский национализм захлебнулся, он получил важное место в интенсивно формирующемся советском имперском проекте. Уникальная межеумочность этого национализма-интернационализма-империализма породила уникальную интернациональную по форме и национальную по содержанию имперскую культуру.
Апелляция к дореволюционной российской истории поучительна в том еще отношении, что дает возможность провести некоторые проясняющие параллели, продуктивные лишь тогда, когда позволяют контекстуализировать конкретную историческую ситуацию. Послевоенная эпоха советской истории в известном смысле повторяла на новом витке XIX век, наступление которого ознаменовалось событиями, ставшими звездным часом в российской истории и одновременно на десятилетия вперед предопределившими глубокий кризис внешней и внутренней политики страны. Россия пережила в Новое время две войны, получившие статус «Отечественных». Соответственно, речь идет о периоде от победы над Наполеоном, которая в одночасье вывела Россию в число ведущих европейских держав, до поражения в Крымской войне, которое ознаменовало окончание целой эпохи в российской истории и стало катализатором Великих реформ.
Следствием победы в первой Отечественной войне стало сворачивание политических и социальных реформ, затормозившее развитие экономики, и без того отстававшей от динамично развивавшегося Запада, а господство крепостного права и усиление абсолютизма сделались политической программой царствования Николая I. Расцвет национализма, ксенофобии, обскурантизма, всесилие бюрократии и полицейского государства увенчались возведением в ранг государственной идеологии уваровской триады, в которой «великие государственные начала» – православие, самодержавие, народность – работали на усиление автаркии и возгонку великодержавной спеси, превознесение отечественных ценностей и принижение западных либеральных устремлений, осуждение любого рода прогрессизма.
Усиление реакции после европейских революций 1848 года привело в конце царствования Николая I к эпохе, вошедшей в историю как «мрачное семилетие» (1848–1855), которую сложно не сравнить с финалом сталинского правления – своего рода новым «мрачным семилетием» (1946–1953). Началось резкое усиление цензуры, был учрежден знаменитый Бутурлинский комитет, который должен был осуществлять сплошной просмотр всех печатных изданий, выходивших в России, надзор за цензорами, редакторами и издателями. Утверждение в России единомыслия и еще большее усиление идеократии окрасили это семилетие в самые мрачные тона. После 1848 года даже реакционнейший Сергей Уваров уже казался слишком прогрессивным и был заменен на посту министра просвещения ставшим героем анекдота князем Платоном Ширинским-Шихматовым (его назначение называли не только «шахом», но и «матом» российскому просвещению). Вместо политической экономии, философии и правовых дисциплин он поощрял преподавание богословия, запретил принимать в университеты лиц недворянского происхождения, резко сократил число студентов и повысил плату за обучение. Как констатировал историк Сергей Соловьев, следствием стало то, что «все остановилось, заглохло, загнило. Русское просвещение, которое еще надобно было продолжать взращать в теплицах, вынесенное на мороз, свернулось». Борьба с «рассадниками вольнодумства» (университетами, учебными заведениями, учреждениями культуры) превратилась в главную заботу государства.
Исторические проекции слишком очевидны, чтобы оставаться незамеченными. Эпоха Николая I завершилась унизительным поражением в Крымской войне, которое стало закономерным итогом избранной им политики. Приняв империю, еще не вышедшую из состояния эйфории после победы над Наполеоном, Николай I посчитал себя вправе диктовать свою волю всей Европе. Его внешняя политика стала отражением внутренней: приспособив послевоенный патриотический подъем к реакционной повестке внутри страны и быстро израсходовав весь его потенциал, он не только превратил Россию в жупел для европейцев, но и создал репрессивный режим, ставший основным препятствием на пути политического, социального и экономического развития самой России, что, в конце концов, привело к ее военному поражению.
Сталинское «мрачное семилетие» внутри страны, завершившее эпоху его правления, также было отчасти реакцией на внешние факторы: подобно тому как победившая Наполеона Россия вместо реформ и развития безуспешно боролась с европейскими революциями, Советский Союз расходовал свои ресурсы и силы не столько на внутреннее развитие, сколько на холодную войну с Западом. Крот истории роет медленно, но это не лишает историю иронического профетизма: от триумфа над Наполеоном до поражения в Крымской войне (1812–1855) прошло ровно столько же, сколько от победы во Второй мировой войне до падения Берлинской стены (1945–1989).
Это стало закономерным итогом конфронтационной политики, избранной Сталиным (и, по сути, проводившейся всеми его наследниками, пусть и с небольшими вариациями). Истощенная десятилетиями внутреннего надрыва страна не могла диктовать миру свою волю даже после победы над Германией. Однако, держа население в постоянной мобилизации и искусственно возгоняя националистическую истерию, Сталин и его наследники до конца исчерпали внутренний потенциал советской нации, жизнь которой оказалась по историческим меркам недолгой, что читалось уже в начале этого пути – в самом стиле позднесталинского «барокко». Так обозначил стиль этого времени Михаил Рыклин, связавший редукцию террора с его визуализацией. Эта «орнаментализация, – отмечал Рыклин, – отражает то, что террор медленно идет на спад, становясь называемым, точнее наглядным. Основанные на насилии общества, как известно, быстро стареют. Советское общество не составляет исключения этого правила – для него любая „гуманизация“ равнозначна распаду»[33].
Искусство позднесталинской эпохи – своего рода письмена на стене, предсказавшие, чем закончится сталинский пир Валтасара. Агрессивный имперский порыв надорвал экономику, воинственный государственный национализм превратил страну в настоящий жупел для развитого мира, окончательно выхолостив из советского строя изначальное революционное содержание, и загасил всякие импульсы к развитию, оставив разъеденный массовым цинизмом каркас, стоявший на пути развития страны и, в конце концов, рухнувший.
Именно в позднем сталинизме находятся корни основных идейно-политических течений постсоветской эпохи. Именно после войны русифицируется и пересаживается на почву русской истории введенный в 1930‐е годы «советский патриотизм» – аберрация, которой будет питаться постсоветская ностальгия по сталинизму, основанная на том, что, как утверждала послевоенная пропаганда, советскость была вершиной русскости. Если в сознании человека 1920‐х, а отчасти и 1930‐х годов советское противопоставлялось русскому, то, как замечают А. Данилов и А. Пыжиков,
во второй половине 40‐х годов практически все историческое полотно русской истории служило своеобразным подкреплением концепции советского патриотизма. По мнению властей, его корни должны подпитываться ярким российским прошлым, что выстраивало и обеспечивало своего рода преемственность великих дел и свершений русского народа как тогда, так и сегодня[34].
Хотя процесс этот начался в середине 1930‐х годов, он не успел до войны затронуть сознание миллионов людей. Помимо того что между изменением, например, школьных учебников и его последствиями для массового сознания существует значительный временной разрыв, этот временной разрыв был заполнен во время войны массированной националистической пропагандой – как советской, так и антисоветской. Отчасти поэтому после войны мы имеем дело с другой страной. Эти доминанты послевоенного массового сознания – десятилетиями внедряемые в полупатриархальном обществе антилиберализм, антимодернизм, антизападничество, антисемитизм – и привели к тому, что в условиях кризиса они массово воспроизвелись в сознании нового поколения.
В этом смысле современная российская нация сформировалась именно в послевоенные годы. Постсоветская ностальгия по имперскому величию СССР, по его непобедимости и страху перед ним в мире – отнюдь не из 1930‐х годов (довоенные мифы о советской непобедимости и величии развеялись во время катастрофы 1941 года). Они именно из послевоенной эпохи. Оттуда же и государственный культ Победы, и Сталин – победитель в войне, перед которым «трепещут» великие державы. Ностальгия по СССР имеет вполне точную хронологическую локализацию: это ностальгия по послевоенной эпохе, по позднему сталинизму, когда Советский Союз «боялись и уважали». Истоки этой ностальгии также позднесталинские: революционная футуронаправленность довоенного сталинизма полностью исчерпалась, привлекательный образ будущего в современной России не сформировался, а современность заменилась политическими импровизациями очередного автократа.
Дереализуемая культурой современность вытеснялась как единственная ощущаемая реальность и заменялась конструктами: в 1920–1930‐е годы – будущим, в послевоенные – прошлым. Постсоветский обсессивный интерес к сталинизму объясняется тем, что социологи называют «компенсаторной гордостью» за страну в условиях кризиса и упадка. Когда имеется внятный и/или привлекательный образ будущего, расставание с прошлым проходит быстрее и легче, чем когда такого образа будущего нет. Главным убежищем в этом случае становится сакрализация «великого прошлого» – той самой «грандиозности», о которой писал Алексей Толстой.
Политика эстетики и эстетика политики
Эта книга была задумана так давно, что когда в апреле 1985 года я впервые набросал ее будущий план, самое слово «сталинизм» в СССР было табуировано. Не употреблялось даже словосочетание «сталинская эпоха», а до перестроечной десталинизации оставалось не менее двух лет. Но табуировано было не только понятие. Советская история была структурирована таким образом, чтобы основная ее коллизия не проступала: вместо формативной для советской нации сталинской эпохи, этого нервного центра русской истории ХX века, были разрозненные «периоды» (коллективизации, индустриализации, «послевоенного восстановления народного хозяйства» и т. д.). Поскольку не было сталинизма, не было и оттепели. Не было оттепели – не было и брежневской ресталинизации. Особняком стоял лишь ХХ съезд (без упоминания секретного доклада Хрущева), принявший постановление «О преодолении культа личности и его последствий» и «возродивший ленинские нормы партийной жизни». В диссидентской и западной историографии сталинизм ассоциировался (да и сейчас чаще всего ассоциируется) почти исключительно с 1930‐ми годами – Большим террором и ГУЛАГом. Такой взгляд настолько распространен, что за пределы 1930‐х исследователи почти не выходят, а если и выходят, то либо ничего нового не находят, видя там простое продолжение 1930‐х, либо вовсе не берут в расчет эпоху, наступившую после войны. Послевоенное десятилетие выглядит в этой проекции непонятным малозначащим эпизодом: сталинизм состоялся в 1930‐е, а наступившая в 1956 году оттепель вся была сконцентрирована на реабилитации жертв Большого террора. Между этими точками располагалась война, которая рассматривалась как событие либо военной, либо мировой истории.
В 2001 году А. Данилов и А. Пыжиков завершили свою книгу о политической истории послевоенного СССР справедливой критикой того положения в историографии, в котором оказалась послевоенная эпоха, полностью затененная революционной эпохой 1920‐х и эпохой террора 1930‐х, с одной стороны, и хрущевской оттепелью, с другой, несмотря на то что
именно в 1945–1953 годах, а не ранее или позднее, СССР приобрел статус мировой «сверхдержавы», с четко выраженной военизированной экономикой, великодержавной идеологией, сложившимся кругом высшего руководства, составившего костяк лидеров на последующие десятилетия. С этих позиций данный этап истории советского общества следует квалифицировать как ключевой[35].
К аргументам Данилова и Пыжикова о позднем сталинизме как об историческом «водоразделе» Шейла Фицпатрик добавляет такие «социальные и психологические характеристики», как
новое признание элитой своих прав и безопасности, новое чувство национальной гордости и того, что означает быть советским, основанное на победе во Второй мировой войне, и, что касается интеллигенции, длительной травмы, которая была продуктом как спонсируемого государством антисемитизма позднесталинского периода, так и ждановщины, и создала почву для более позднего диссидентского движения[36].
И тем не менее эпоха эта оставалась неисследованной. Тем, чем Данилов и Пыжиков завершали свою книгу, В. Д. Есаков и Е. С. Левина открывали свою о сталинских «судах чести» в 2005 году: «Послевоенный период истории советского общества, последние восемь лет сталинского единовластия, продолжает оставаться, пожалуй, наименее изученным и наиболее засекреченным из всех периодов российской истории»[37]. Это писалось в отношении политической и социальной историографии. Но в еще большей степени это справедливо в отношении культурной истории.
Картина начала меняться после распада СССР (о чем свидетельствуют и цитируемые книги). Революционная эпоха отступила на задний план, и сталинизм был наконец понят в качестве центрального события русской истории ХX века. Это объясняется тем, что с концом холодной войны и идеологического противостояния двух систем взгляд на Октябрьскую революцию стал более трезвым. Интерес к сталинизму стимулировал и переоценку послевоенной эпохи. За прошедшие четверть века были опубликованы важные архивные документы[38] и многие страницы ее истории получили освещение в работах как российских, так и западных историков. Это, прежде всего, работы о ключевых событиях и кампаниях тех лет, таких как антикосмополитическая кампания в науке, дело ЕАК, дело врачей, лысенковщина, ленинградское дело и др.[39]
И все же как целостная эпоха поздний сталинизм (хотя и без использования этого понятия) был пока что рассмотрен только политическими историками[40] и историками международных отношений (главным образом историками холодной войны)[41]. Наконец, пробудился и интерес к социальной и экономической истории этого периода[42]. В результате образовалась ситуация, которую я бы назвал позитивистской дистрофией, когда из‐за методологических ограничений узко-фактажного подхода и дисциплинарной обособленности различных разделов историографии накопленный корпус документов и знаний не производит прорывов ни в интерпретации этого ключевого во многих отношениях периода, ни в его понимании[43].
Историки сталинской культуры также занимались по преимуществу 1930‐ми годами. О культуре позднего сталинизма написано лишь несколько книг, и все они ограничены материалом – либо творчеством одного автора[44], либо одним событием[45], либо отдельной институцией[46], либо одним видом искусства или наукой[47], либо географией[48]. Проблема, однако, в том, что узкие специалисты редко выходят за пределы своего материала к историческим обобщениям, а историки, которые обращаются к культуре, не будучи специалистами и не обладая соответствующими навыками анализа культурных текстов, рассматривать ее не берутся. В результате целостная картина эпохи в ее своеобразии и значимости не складывается.
Политическая история продолжает доминировать. При всей ее важности, в своем чистом виде она нередко ведет к такому сужению исторической проекции, при котором ускользает самое историческое содержание эпохи (в этом была одна из причин недовольства засильем политической истории в 1960‐е годы). Примером такого сужения могла бы служить одна из лучших подобных работ о послевоенной эпохе «Холодный мир: Сталин и завершение сталинской диктатуры»[49], написанная такими яркими и в высшей степени информированными историками, как Олег Хлевнюк и Йорам Горлицкий. Сама логика этого нарратива сводит все в конечном счете к сталинской реакции на холодную войну и борьбе за власть (отсюда – самое название книги). Авторы концентрируются на множестве деталей, проходя мимо самого содержания этого периода – процесса завершения создания советской нации.
Интересно, что автор другой весьма влиятельной книги «Национал-большевизм. Сталинская массовая культура и формирование русского национального самосознания (1931–1956)» Дэвид Бранденбергер также проходит мимо этой специфики: для него послевоенные годы – лишь продолжение 1930‐х. Но ведь в 1930‐е годы (точнее, с середины 1930‐х) мы имеем дело с национализмом, который оперировал еще не столько национальным, сколько классовым врагом, а страна в целом продолжала развиваться в интернациональной парадигме[50]. До 1941 года СССР не имел опыта национальной войны и массовой индоктринации националистической пропагандой (главным образом антисемитской и антинемецкой), не был полноценной империей с зонами влияния и не имел послевоенного статуса супердержавы. Все это было дано войной: опыт массового уничтожения, жертвы в каждой семье, травмы поражений и радость победы, имперский синдром и холодная война, новый враг – все это вместе составляло специфику позднего сталинизма. Новая советская нация отливалась из стали военной закалки. От неспособности соотнести свой новый статус с возможностями – многие из ее послевоенных комплексов, привитых ей после войны: комплекс неполноценности и комплекс превосходства, ксенофобия и имперская спесь, антисемитизм и антилиберализм, чувство обиды на Запад и антиамериканизм.
Поскольку мы имеем дело с персоналистским режимом, многие комплексы и травмы являлись проекцией сталинских комплексов и травм в ходе его борьбы за власть и его имперских амбиций. Сталин заражал ими страну, как любой автократ превращал личные комплексы в национальную повестку дня (подобная же связь без труда прослеживается в путинской России). Как замечал Самойлов, своей «тяжелой старческой болезнью, усугубившей его природную подозрительность и жестокость» Сталин «сумел заразить всю страну. Мы жили манией преследования и манией величия»[51]. Но поскольку содержанием эпохи являлась не только холодная война, но и национальное строительство, велика была роль культуры.
Представленная здесь историографическая картина отражает динамику исторической науки во второй половине ХX века. До появления «новых левых» историков в западной историографии (включая советологию) доминировала политическая история. Она была оттеснена в 1960‐е социальной историей. Однако в последние десятилетия в результате ослабления импульса 1960‐х и отхода от социальной истории в ее ригидном понимании (исследование социальных структур и социальных классов) произошел т. наз. культурный поворот, часто описываемый как сдвиг от социальной истории культуры к культурной истории социума. Постмодернистский сдвиг к т. наз. «мягким», гибким, податливым, текучим и хрупким социокультурным формам и сконструированным идентичностям (историческим, классовым, гендерным, национальным, политическим, индивидуальным) питался работами Мишеля Фуко и Жака Деррида, Жана Бодрийяра и Ги Дебора, Пьера Бурдье и Мишеля де Серто[52]. Вместе с феноменом, названным Зигмунтом Бауманом «текучей современностью»[53], определился и «культурный поворот»[54]. Однако советология в силу своего специфического положения оказалась (как и сам объект ее изучения) в ситуации догоняющего развития: запоздалый переход к социальной истории совпал здесь с нисходящей фазой интереса к ней в западной историографии. В результате сдвиги к социальной и культурной истории в советологии наложились друг на друга.
Эта динамика в историографии имела серьезные последствия для понимания самого предмета исследования: историческая последовательность перешла в иерархическую. Согласно логике post hoc ergo propter hoc сложилось представление о том, что есть политическая история, под которой проходит социальная, а под ней располагается культурная. Однако в действительности самое обращение социальных историков к культуре связано с осознанием того, что между социальной и политической историей образовался разрыв и что культура является тем потерянным звеном, которое требуется восстановить, чтобы замкнуть цепь и ток смысла потек в ней. Культурная история располагается между социальной и политической историей.
Ее нишу прекрасно обозначил один из отцов новой культурной истории Роже Шартье, утверждая, что последняя сводится к «анализу процесса репрезентации, а именно – производству классификаций и исключений, которые конституируют социальные и концептуальные конфигурации, свойственные определенному времени или месту»[55]. Это не столько традиционная история культуры, сколько культурная критика истории, работа с культурными текстами, дисциплинарно близкая как к истории, так и к политике, социологии, критической теории и, конечно, к специальным дисциплинам (филологии, искусствознанию, киноведению, театроведению и др.). Ведь материалом культурной истории являются структуры социального мира, которые, как показали Фуко, Деррида, Бурдье, де Серто и др., являются не более объективно данными, чем интеллектуальные и психологические категории. Напротив, все они произведены
исторически взаимозависимыми практиками – политическими, социальными и дискурсивными, – которые конструируют их фигуры. Именно эти различия и схемы, которые их оформляют, и являются объектами культурной истории, задача которой – полное переосмысление традиционно постулированных отношений между социальной реальностью (идентифицируемой с самой что ни на есть реальной действительностью, существующей самой по себе) и репрезентациями, которые должны отражать или деформировать ее[56].
Таким образом, культурная история – это не приложение к «главной» (политической, социальной, экономической) истории, не виньетка, не несколько строк в конце исторического повествования: «И о культуре…» Культура есть не что иное, как основа социальности, и может быть определена как символическая система конвенций, ограничений и норм. Человек формируется и функционирует в обществе, которое манифестируется системой рестрикций, механизмами контроля и нормализации. Иначе говоря, социальность регулируется и осуществляется через закон. Но голый закон являет собой голое же насилие. Чтобы стать воспроизводимой нормой, быть морально и этически легитимным, социально признанным и универсальным, он должен, как утверждает Терри Иглтон, явиться в одежде культуры, которая в широком смысле (воспитание, школа, медиа, искусство и т. д.) есть не что иное, как облачение закона[57].
Сталинизм, будучи культурой перманентной гражданской войны, являл собой военную культуру, устроенную таким образом, что репрессивная сторона закона в ней была открыта. Но даже мобилизационная культура не может существовать на чистом насилии (или угрозе насилия). Роль культуры здесь особенно велика, поскольку война обостряет и приводит в состояние подвижности все те аспекты жизни, которые в мирное время представляются более или менее устоявшимися: воспроизводство, легитимность, моральные константы, социальное единство. Все это в условиях войны перестает быть очевидным, требует обновления, подтверждения и укрепления.
Культура позднего сталинизма уникальна тем, что она является культурой уникальной войны: холодная война, которая позиционировалась как война с внешними «врагами мира», велась внутри страны; война, которая войной может называться лишь метафорически, поскольку была войной идеологической по преимуществу (например, пропаганда советского миролюбия была куда успешнее внутри страны, чем вовне; чем дальше, тем больше главной аудиторией советской «борьбы за мир» являлись собственные граждане, поскольку внешняя аудитория была весьма ограниченной). В этой войне не могло быть различий между внешней и гражданской войнами: то, что происходило на международной арене, подлежало немедленной идеологической трансляции внутри страны, а сама международная ситуация конструировалась для внутреннего потребления соответственно. В этой войне, парадоксальным образом, не могло быть различий между активной фазой и «затишьем», поскольку она не знала ни первого, ни второго.
Если после первой русской революции наступил период нормализации (в советской историографии он именовался «периодом реакции»), если после революции 1917 года и Гражданской войны наступил период относительного социального мира (нэп), если после пароксизмов первой пятилетки наступила короткая сталинская оттепель, а после эпохи Большого террора – кратковременный период нового умиротворения, то после Великой Отечественной войны политика государства была направлена на подрыв нормализации и «настроений успокоенности». Это – результат двойственности самой эпохи позднего сталинизма. Внутриполитически послевоенная эпоха – это нирвана сталинизма: никогда еще режим не был столь прочен, власть Сталина столь абсолютна, а общество (ни до, ни после) столь гомогенно советским, когда даже небольшие отклонения от официальной линии были сугубо советскими и внутрисистемными. Внешнеполитически – наоборот, никогда прежде сталинский режим не решал столь сложных внешнеполитических (не путать с военными!) проблем, а мир не казался столь волатильным, как в послевоенные годы. Страна впервые после революции стала супердержавой и одним из основных мировых игроков, занявшись строительством Pax Sovietica как в Европе, говоря словами Черчилля, «от Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике», так и в Азии – от Ближнего Востока до Китая и Кореи.
Является ли советская культурная история производной от политической? Сводима ли она к социальной? Вопросы не праздные. Их сращенность обусловлена глубокой взаимозависимостью. В отличие от культивировавшихся в русской эмигрантской среде и по сей день распространенных в России представлений о «навязанности» и «привнесенности» большевистской идеологии и советской политической модели, ее чужеродности и «неорганичности», мы исходим из того, что сталинизм был русской национальной формой универсального феномена – реакции патриархального общества на процесс модернизации. В этом качестве он был одновременно и политической формой модернизации, перехода от аграрного общества к индустриальному, и формой сопротивления этому процессу. Его инструментом и ресурсом были социалистическая идеология, марксизм, мифы большевизма и ленинизма и, разумеется, «партия нового типа». Но в основе сталинизма лежит продукт многовековой истории России – российская политическая культура. Это становится особенно ясным при редких ярких вспышках истории, которые неожиданно освещают то, что обычно скрыто за политической театрализацией, погружено в туман идеологических стереотипов. Таковы революционные ситуации.
Оказавшись свидетелем кульминационного момента августовской революции 1991 года в Москве, философ Михаил Рыклин так описывал происходящее:
На площади Дзержинского без Дзержинского и на площади Свердлова без Свердлова я кожей чувствовал, что никогда еще террористический «рай», воплощенная смерть, не подступали так близко, как сейчас, что субъектом террора стал буквально каждый из нас. Интериоризация вины была полной; поэтому толпа взяла репрессивные функции на себя. На пустующих пьедесталах царил окончательный, неантропоморфный референт Террора – сам народ… Отделавшись от наиболее одиозных вождей, народ – поклонился самому себе, метафоре всех метафор (каковой он был уже в сталинской культуре)[58].
Источником террора были не Дзержинский и Свердлов, но сами «мы»: охраняемый НКВД «рай» существует в «нас». Общий вывод Рыклин сформулирует несколько позже: «Советская власть не выдумывает свои идеологемы, а черпает их из бессознательного простых людей»[59]. В этой перспективе политическая, социальная и культурная история нерасторжимы. Они образуют единое смысловое поле.
История – это смысл. И, строго говоря, она и исчерпывается культурой. Именно это имел в виду Йохан Хейзинга, когда написал на полях заметок к своему лекционному курсу по исторической теории в 1928 году: «Если попытаться дать предварительное определение: история – это форма, в которой культура осознает свое прошлое. Все бы вошло сюда»[60]. Но чтобы свет исторического смысла прошел сквозь частокол традиционного событийного нарратива, требуется расширительное понимание культуры, которая в ХX веке была беспрецедентно политически инструментализирована. Как показал в своих пионерских работах по культуре итальянского фашизма Джефри Шнапп, революционная культура любого типа – фашистская, нацистская или коммунистическая – стремится вырваться из культурной изоляции предшествовавшего революции периода. В процессе производства новых субъектов, новых граждан, массовых обществ она не только расширяет и втягивает в себя все новые и новые реальности, но и сама проходит полный спектр превращений – от сопротивления к автономности и от нее к инструментализации.
В этом качестве она жизненно важна для диктаторских режимов, поскольку, будучи, по сути, единственным способом конструирования реальности, производства властью и потребления массами собственного образа и легитимности, она является универсальным орудием политической власти, необходимым объектом централизованного планирования и координации, способом дотянуться, кооптировать или противопоставить политических субъектов, доменом понятий и образов, который должен находиться под контролем государства. По всему по этому культура современных диктатур, включая сталинскую, выходит за пределы своего прежнего пребывания при дворах и салонах, в галереях и театрах. Она выходит на площади, в школы, на спортивные арены, на телевидение – излюбленные пространства массовых обществ, где вступает во взаимодействие с печатной и визуальной культурой и коммуникационными технологиями. Без этого необходимого взаимодействия история этих государств, обществ и их институций состояться не может.
Вот почему ошибочным следует признать представление о том, что культурная история занимается исключительно «высокой» культурой. В действительности высокая культура изучается главным образом специальными дисциплинами. Так, Ахматовой или Зощенко занимаются не столько культурные историки, сколько историки литературы. Культурным историкам они оставляют Симонова с Михалковым. Эйзенштейном занимаются историки кино, оставляя историкам культуры творчество Пырьева. Шостаковича и Прокофьева изучают музыковеды, оставляя Хренникова историкам культуры. Между тем самое это деление – продукт дисциплинарных предрассудков.
Ввиду эстетической второсортности массовой культурной продукции специалисты относятся к ней с глубоким пренебрежением. Она считается недостойной внимания филологов, искусствоведов, музыковедов, киноведов, для многих из которых культуры без определения «высокая» не существует, а понятие «советская культура» воспринимается ими едва ли не как оксюморон. У большинства же историков, для которых культура – это часто некое необязательное приложение к «собственно истории», она также выпадает из внимания. Одни объясняют культуру без истории, другие – историю без культуры. В обоих случаях сам предмет исследования подвергается серьезной деформации.
В советском культурном процессе в силу самой природы сталинского политико-эстетического проекта граница между высокой и низкой культурами последовательно стиралась. Высокая культура была политически ангажирована и активно вовлечена в процесс соцреалистического производства. Великие Вертов, Пудовкин и Довженко были активными участниками главных политических кампаний сталинской эпохи. Так или иначе (чаще в результате огромного внешнего давления) вынуждены были встраиваться в общий процесс Ахматова и Пастернак. А Шостакович и Прокофьев были чемпионами по количеству присужденных Сталинских премий (первый – пяти, второй – шести). Поэтому в культурной истории советской эпохи «высокая» культура важна наравне с низкой: рядом с Эйзенштейном здесь стоит Пырьев, возродивший в своих комедиях традиции лубка, и Александров, прививавший советскому кино традиции голливудских мюзиклов. Рядом с Шостаковичем стоит Дунаевский, один из создателей советской «массовой песни», и т. д. В сфере культурной истории оказывается также и интеллектуальная история, которая в качестве истории идей и истории науки, активно включенных в идеологическое производство и конструирование советской идентичности после войны, становится важной частью широко понимаемой культуры.
Эти аспекты взаимодействия эстетического и политического в тоталитаризме ХX века давно и глубоко исследуются в западных работах по нацизму и фашизму[61], но все еще далеко недостаточно учитываются исследователями сталинизма. Размышляя над феноменом нацистской культуры и методами ее анализа, один из самых глубоких исследователей взаимодействия власти и масс и природы массовых обществ Элиас Канетти указывал не только на бессилие традиционных оптик и методологических ключей:
Для истинного постижения этого феномена нужны новые средства. Их надо обнаружить, привлечь и применить, где бы они нам ни подвернулись. Метод для такого исследования пока еще утвердиться не может. Строгость специальных дисциплин оборачивается здесь предрассудком. Именно то, что от них ускользает, и составляет суть дела. Важнейшее условие – рассмотрение самого этого феномена как целого. Всякое самодовольство понятия, как бы это понятие себя ни оправдало, будет вредным[62].
Принципом гибкости и гетерогенности мы и руководствуемся в этой книге.
Политика как произведение искусства
Эту книгу можно рассматривать как культурную и интеллектуальную историю эпохи завершения формирования советской нации, а значит – и утверждения тех ментальных и культурных доминант, которые определили характер сегодняшней России. Но эта история рассказывается здесь особым образом – через сами продукты культурной и интеллектуальной истории. В литературе есть жанр критической биографии – это одновременно антиапокриф и биография художника или мыслителя, раскрытая через анализ его произведений. Эта книга – попытка написания критической биографии эпохи. Вслед за Линн Хант, редактором влиятельной «Новой культурной истории», можно было бы сказать, что в перспективе этой новой критической практики «история понимается скорее как ветвь эстетики, чем служанка социальной теории»[63].
Это не рассказ об истории позднесталинской культуры, но попытка прочтения истории через ее культурные тексты. Это не исторический нарратив, но чтение культурных текстов (литературы, театра, кино, искусства, музыки, архитектуры, научных и исторических текстов, популярной литературы и т. д.), через которые история раскрывает свою внутреннюю логику. Я пытаюсь избегать традиционного исторического нарратива, поскольку в таких нарративах система аргументации строится на цепи нетекстуализованных или текстуализованных только в архивах событий и действий.
Архивный текст, будучи лишь свидетельством о тех или иных действиях, представляется несамодостаточным отчасти потому, что функции официальных партийно-государственных документов и средств массовой информации (с которыми в подавляющем большинстве работают историки) сводились к нивелировке смен политического курса. Призванный продемонстрировать «неизменность курса», верность и «неуклонное следование единственно верному учению» официальный дискурс выполнял стабилизирующую и гармонизирующую функцию. Поэтому трансформация режима, идеологические флуктуации, массовые мировоззренческие метаморфозы чаще всего обнаруживаются на границах или за пределами этого дискурса (и, соответственно, документа) – там, где он эстетизируется, встречается с искусством, перетекает в него. Идеологическое сообщение не превращалось в факт массового сознания прямо из резолюций Агитпропа. Чтобы «овладеть массами», оно должно было медиализироваться и эстетизироваться. Это единственный путь к массовому усвоению и индивидуальной интериоризации. Как заметил Дэвид Квинт,
литературный текст является одним из множества культурных продуктов, разделяющих единые глубинные структуры или ментальности. Более того, текст возникает как активный агент формирования или медиации, а вовсе не пассивного отражения окружающей его культуры, включая механизмы власти, создающие сами возможности для существования культурных фикций и, следовательно, сами являющиеся текстами, подлежащими чтению и интерпретации; в этом смысле все культурные отношения интертекстуальны[64].
Опора на культурные тексты не только является, таким образом, необходимой предпосылкой для объяснения политики, но и имеет важные методологические последствия:
На практике литературный текст сопоставляется с некоторыми другими манифестациями (текстами, объектами или событиями) культуры, нередко с ее массовой или экзотической периферии, что позволяет вскрыть через их гомогенность общие привычки сознания. Соответственно, отношения метонимии – исторической смежности – оборачиваются перекрестной моделью метафоры. Этот метод сильно расширил самое понимание исторического контекста литературного произведения; то, что поначалу может удивить и показаться несвязанным и произвольным сопоставлением, обнаруживает культурные аналогии и, в конечном счете, является существенной частью объясняющих обобщений ‹…› Эксплицитная аллюзивная сеть самого текста становится лишь одним (и определенно не привилегированным) элементом этой интертекстуальности. Политика, а также социальная диспозиция насильственной власти становится еще одним продуктом этой ментальности или «поэтики». Соответственно, политика по необходимости эстетизируется интерпретатором[65].
Поскольку «власть в определенной мере зависит от манипуляций семиотического и символического порядка», постольку сам этот семиотический и символический порядок, зафиксированный в культурных текстах, является предметом нашего анализа. В конце концов, именно через искусство проводилась в сталинизме новая повестка дня, медиализировался новый политический курс, внедрялись новые идеологические модуляции. Именно искусство делало их достоянием массового сознания. Его следует рассматривать поэтому не просто как некую иллюстрацию, приложение к политической, социальной, экономической истории (как чаще всего культура и рассматривается), но как важнейший (а нередко и единственный) индикатор динамики массового сознания. Однако прочесть это сообщение можно только в текстах, в культуре. Именно сквозь призму советского искусства прослеживается политическая и идеологическая трансформация сталинского режима от революционного интернационального утопизма к консервативно-патриархальному национал-большевизму.
Это определяет ключевую роль культурного текста, в самодостаточности которого заложен огромный смысловой и объясняющий потенциал. Архивный текст может пролить свет на те или иные события и обстоятельства, но он не может их концептуализовать. Это – работа историка. В отличие от архива, культурный текст в своей концентрированной концептуальности несет не только следы событий прошлого, но целостную картину того, как в этом прошлом мыслили и воображали. Кроме того, и сама история является нам в виде культурного текста. Как заметил в «Политическом бессознательном» Фредрик Джеймесон:
История – это не текст и не нарратив, но скорее то, что называется отсутствующим основанием, недоступным нам иначе, чем в текстуальной форме; и потому наш подход к нему и к самой реальности по необходимости проходит через предварительную текстуализацию и нарративизацию его в политическом бессознательном[66].
Идеология также апеллирует к нарративу. Но текстуализация и нарративизация являются областью культурного производства. С другой стороны, сама власть может быть определена как способность и возможность нарратива: производство текста и есть способ отправления власти. В авторитарном, а тем более в тоталитарном государстве концентрация власти есть концентрация способности к нарративу, монополизация этой способности. Эти нарративы – не просто акты прямого политического действия в форме политической речи, передовой установочной статьи или лозунга. Наиболее функциональны из них те, что выходят за пределы сугубо политических жанров, но обращены к сфере политического бессознательного и воображаемого. Последние живут своей жизнью, вплетаясь в сложную мозаику культурных и психических ассоциаций, основанных на исторической и культурной памяти и опыте различных социальных групп и выработанных ими представлений, выраженных в символических формах. Именно через них происходит натурализация и универсализация того, что несет официальная идеология. Именно они осуществляют легитимизирующую функцию. Реальная власть осуществляется, таким образом, через власть над воображением, через контроль над производством и потреблением знаков и образов реальности – через культуру.
Когда речь заходит об эстетизации политики, мы имеем дело с тремя компонентами: прямым политическим действием, идеологией и культурой. Именно культурные тексты являются необходимым медиумом, переводящим идеологические задания в политические действия. Однако, рассматривая политику, историки нередко не идут дальше идеологии. Объяснение лежит на поверхности: в отличие от языка искусства язык идеологии менее специален и менее сложен для анализа и интерпретации, а потому доступен политическим историкам.
Различные определения идеологии сводятся в конечном счете к тому, что именно посредством идеологии государство «продвигает убеждения и ценности, близкие себе по духу; натурализирует и универсализирует эти убеждения с тем, чтобы представить их как очевидные и практически единственно возможные; опорочивает идеи, которые могут бросить вызов этой картине мира; исключает конкурирующие формы мысли при помощи какой-то непроартикулированной, но систематической логики; и затушевывает социальную реальность удобными для себя способами»[67]. Из этого даже чуткие к культуре историки делают вывод о том, что будто бы «идеология служит как целью, так средством, не только определяя политические задачи и мировоззрение, но и действуя как механизм реализации этих задач»[68]. В действительности же идеология является набором представлений, которые (для того чтобы стать частью или даже мотивом для политического действия) должны быть укоренены в массовом сознании. Чистой пропагандой процесс индоктринации не исчерпывается. Одних политинформаций и простого чтения газет мало для трансформации массового сознания и социальной мобилизации. Для того чтобы быть эффективным, этот процесс нуждается в трансформации самой реальности. Хотя газета играет здесь важную роль, она не воздействует напрямую на сферу воображаемого, а тем более – бессознательного.
Здесь, бесспорно, ключевая роль принадлежит эстетике. Другой вопрос, как понимать эстетизацию политики[69] и насколько универсальны описанные Жаком Рансьером «эстетические режимы»[70]? В большинстве работ культурных историков фашизма, нацизма, сталинизма дело не идет дальше массовых зрелищ, наглядной агитации, песен, ритуалов и т. п. и отсутствует понимание того, что эстетика структурирует политическое поле, определяет основные параметры политического дискурса, оформляет репрезентационные практики. Так, без провозглашенного Сталиным соцреализма в качестве эстетической доктрины неясным остается «эстетический режим» сталинизма.
Соцреализм не был простым набором канонизированных текстов, он не был и только доктриной и не являлся лишь институциональной машиной. Свое завершение эта эстетика находила в выходе за пределы искусства, в преобразовании самой жизни, в политике – через ее эстетизацию и создание «государства как тотального произведения искусства»[71]. Вот почему необходимо все время видеть, как происходили в нем взаимодействие и синтез политически мотивированных действий и доктрины, разного рода эстетических практик, порождающих новые текстуальные приемы и фигуры политической речи, и производящегося в нем политического воображаемого, интенций самих участников художественного процесса и работы бюрократических институций, трансформирующих политическое действие в эстетику, а эстетику – в политическое действие, имеющее социальные предпосылки и последствия.
Как показал в своих работах (в особенности в «Эстетической политике») Франклин Анкерсмит[72], самая материя политического является продуктом репрезентации: «неверно, что политическая реальность сначала дана нам, а потом репрезентируется; политическая реальность возникает только после репрезентации и благодаря ей» (67). Продолжив эту мысль, можно сказать, что, будучи основанной на эстетических модусах, тропах и фигурах, сфера политического не может быть понята без эстетического инструментария. Политическое измерение пересекается с эстетическим. Политическая история без культурной невозможна, поскольку
политическая реальность не есть отражение естественной реальности представляемых людей, которая существовала бы сначала; политическая реальность не существует до политической репрезентации, но существует лишь посредством нее. Политическая реальность не есть то, с чем мы сталкиваемся как с чем-то всегда существовавшим; она не обнаруживается и не открывается, а создается в процедурах политической репрезентации и посредством них. Клише о создании нового факта здесь можно понимать буквально (68).
Этот «новый факт» находится на границе политики и эстетики. Как и искусство, политика пронизана метафорикой и ложной миметичностью. Политическая репрезентация функционирует практически по тем же законам, что и искусство. Подобно искусству, она «делает присутствующим то, что отсутствует». Например, представительный орган «материализует» отсутствующее:
В процессе политической репрезентации изображение политической воли, которая существует в одной среде (народе), делается видимым и присутствующим в иной среде (представительном органе). Следовательно, репрезентация есть по существу процесс изображения. Репрезентация реальности – деятельность художника в области изобразительного искусства. По этой причине то, что эстетика может сказать о художественном изображении реальности, позволит нам углубить наше понимание политической репрезентации (64).
Роль эстетической репрезентации в формировании политического поля исключительна: она порождает самую власть. Как замечает Анкерсмит, «политическая реальность, созданная эстетической репрезентацией, есть по существу политическая власть. Эстетическое различие или зазор между представляемым лицом и его представителем оказывается источником (легитимной) политической власти, которой в связи с этим у нас есть основание приписать скорее эстетическую, нежели этическую природу» (69).
Дело здесь в фиктивности, сконструированности самого основания политического в Новое время. Ведь понятие народного суверенитета было «наиболее полезным концептуальным инструментом в борьбе против абсолютистских политических теорий начиная с XVII века. Конечно, данное понятие было самой ценной и эффективной фикцией в этой борьбе, но мы не должны забывать, что оно есть фикция и навсегда останется ей» (75). И этой фиктивностью пронизана вся сфера политического.
Однако, распадение политического и эстетического имеет политическое измерение. Ведь «чисто политическая история», по сути, опирается на миметическую теорию, согласно которой существует «реальная» связь между сувереном власти и ее институтами, государством. И в этом, как замечает Анкерсмит, с точки зрения самого государства состоит величайшая заслуга миметической теории:
она помогает государству сделаться невидимым, максимально затемнить природу и объем политической власти и беспрепятственно принять левиафановские размеры и свойства, какие оно приобрело за последние два столетия. Миметическая политическая власть стремится стать невидимой, а значит, неконтролируемой; эстетическая же власть отчетливо видна, узнаваема как таковая. В этом смысле она сохраняет на всех уровнях, от сознания отдельного гражданина до коллективного «сознания» представительных институтов, желание контролировать и сдерживать коллективную власть. Миметическая репрезентация парализует политический контроль, а эстетическая репрезентация стимулирует его, создавая в то же время политическую власть (76).
В этом свете дисциплинарный антагонизм политических и культурных историков предстает частным случаем торжества миметической концепции государства: предполагается, что первые занимаются «реальной историей», а вторые – тем, что не интересно ни историкам, ни специалистам по литературе и искусству. В действительности же, эстетическое измерение политики позволяет восстановить утерянное звено и, говоря словами Анкерсмита, вернуться к эстетическому пониманию политического. А также понять, что в знаменитом призыве Вальтера Беньямина противопоставить фашистской эстетизации политики коммунистическую политизацию искусства зеркальность противопоставления мнимая: политизация эстетики оборачивается эстетизацией политики, но не наоборот. В этой неравнозначности двух половин формулы политика первична. И эстетизируется она не через политизацию искусства. Напротив, политизация эстетики сопровождается деполитизацией искусства.
Эстетическая политика возможна тогда, когда политика – вместе с властью – отчуждается, что является предпосылкой любой диктатуры. Именно с такой эстетикой мы и имеем дело в сталинизме. Деполитизация эстетики является предпосылкой эстетизации политики. Поэтому в соцреализме умирает политическая поэзия, политический театр и т. п. Только деполитизированная эстетика работает на эстетическую политику. Не случайно Беньямин видел окончательное торжество такой политики в войне, где торжествует «искусство для искусства» – уничтожение ради уничтожения: «Все усилия по эстетизации политики достигают высшей степени в одной точке. И этой точкой является война»[73]. Именно в ней наиболее последовательно и полно реализуется эстетический потенциал диктатуры – романтический национализм, идеалистическая героика, образ врага, культ вождя и, по сути, культ смерти. Это и превращает эстетизированную политику фашизма в чистое искусство.
Есть, однако, соблазн развести опыт фашизма и нацизма и опыт сталинизма на том основании, что сталинизм, в отличие от фашизма, программной эстетизацией войны и воспеванием милитаризма не занимался, он не склонен был к эстетическому брутализму, но, напротив, всячески проецировал свой позитивно-созидательный характер. Между тем по своей политической сути, в своих практиках насилия и террора сталинизм был не чем иным, как отлившейся в формы государственных институтов и бюрократических процедур перманентной гражданской войной (трансформация революционного террора в сталинский, ГУЛАГ, коллективизация, индустриализация, Большой террор, послевоенные кампании, тотальная милитаризация производства и т. д.) и империалистической войной (пакт Молотова – Риббентропа, роль СССР в развязывании Второй мировой войны, оккупация Восточной Европы и т. д.). Неудивительно поэтому, что и политика сталинизма была военной, а потому и эстетизированной по своему характеру. Однако если в фашизме эстетизация насилия была эксплицитной, то идеология и практика сталинизма разительно отличались друг от друга. Вот почему эстетический характер сталинской политики требует раскрытия. При этом речь идет не о внешней, бросающейся в глаза установке на эстетизацию, но о подчинении логики этой политики определенной эстетической программе, совпадающей по основным параметрам и принципам с модусами и тропами соцреализма.
В условиях весьма специфических для диктатур отношений между субъектами и объектами политики, для того чтобы стать эффективной, политика реализуется через различные модусы и тропы, которые часто либо игнорируются, либо воспринимаются как некое ее «идеологическое сопровождение». Однако, пытаясь проанализировать политическую тропологию сталинизма, я обратил внимание на то, что они совпадают с модусами эстетики соцреализма. Модусы реализуют себя через систему тропов, каковым соответствуют определенные фигуры. Эти эстетические модусы, тропы и фигуры политики позднего сталинизма и являются предметом настоящей книги.
В позднем сталинизме (и в этом он нисколько не уникален) мы имеем дело с политикой, играющей по законам эстетики. В раннем сталинизме эта эстетика не была еще соцреалистической. Это была революционно-авангардная эстетика бури и натиска. В высоком и позднем сталинизме единственно возможной эстетикой оставался соцреализм. Однако ни во второй половине 1930‐х годов, ни тем более в годы войны он не мог стать полноценной матрицей для политики, поскольку ко второй половине 1930‐х не успел еще окончательно сложиться, а во время войны был оттеснен насущными военно-мобилизационными задачами. Только после войны политика начинает играть по правилам соцреалистической эстетики. Эта политика потому оставалась столь успешной, что была, по сути, художественной.
В соцреализме, который понимается здесь как эстетическая практика сталинизма, я склонен усматривать советскую версию универсального, а отнюдь не исключительно российского, феномена. Сталинский режим представлял собой одну из фаз всемирно-исторического процесса – он возник в силу специфической констелляции тенденций развития, порожденных универсальной демократизацией в ХX веке, столкновением патриархального мира с эпохой Нового времени. Конфликт, давший импульс синтезу этих двух начал в тоталитаризме ХX века, породил условия для рождения культуры массовых обществ и последующего выхода задержавшихся в докапиталистическом мире наций за пределы традиционного общественного уклада.
Впервые официальное определение соцреализма было дано, как известно, во вступительной речи Андрея Жданова на открытии Первого съезда советских писателей в 1934 году, где он сформулировал определение, почти дословно вошедшее в текст Устава СП СССР, принятого на Первом съезде СП:
Социалистический реализм, являясь основным методом советской художественной литературы и литературной критики, требует от художника правдивого, исторически-конкретного изображения действительности в ее революционном развитии. Причем правдивость и историческая конкретность художественного изображения действительности должны сочетаться с задачей идейной переделки и воспитания в духе социализма.
Лишь несколько слов из речи Жданова выпущены в этом определении: он говорил о «задаче идейной переделки и воспитания трудящихся людей в духе социализма», а также указывал на то, что «революционный романтизм должен входить в литературное творчество как составная часть, ибо вся жизнь нашей партии, вся жизнь рабочего класса и его борьба заключаются в сочетании самой суровой, самой трезвой практической работы с величайшей героикой и грандиозными перспективами»[74].
Выделить ключевые принципы этой доктрины не составляет труда.
1. Преобразование действительности («переделка в духе социализма»).
2. Историзм («историческая конкретность»).
3. Идейность («идейная переделка»).
4. Партийность («воспитание в духе социализма»).
5. Народность («воспитание трудящихся людей»).
6. Революционный романтизм («изображение действительности в ее революционном развитии», «революционный романтизм должен входить в литературное творчество как составная часть»).
7. Реализм («самая суровая, самая трезвая практическая работа»).
8. Изображение жизни в формах самой жизни («конкретность художественного изображения действительности»).
9. Правдивость («правдивость художественного изображения»).
Перед читателем – не просто перечень основных параметров соцреализма, но и структура настоящей книги.
Главная отличительная функция соцреализма – преобразующая. Это искусство не изображать, но изменять мир. Здесь многое идет от авангарда: сталинская культура продолжила его жизнестроительный проект, понимая искусство не столько как создание индивидуальных произведений, сколько как формирование социальной среды, в которой живут люди. Однако роль авангарда переоценивать не следует. Функция эта заложена была в соцреализм всей предшествовавшей русской литературной традицией социального воспитания (частью которой были и сами революционные авангардные предшественники соцреализма с их идеями радикальной переделки мира), а также марксистским пониманием новых надстроек как изменяющих, а не только объясняющих мир, и, наконец, его основоположником Горьким, видевшим в культуре «вторую природу», а задачей искусства – создание «второй реальности». Эта преобразующая функция может быть описана как функция дереализации действительности. После войны она наиболее очевидным образом проявила себя в решении основной политико-идеологической задачи власти – переформатировании травматического Опыта Войны в героико-романтическую Историю Победы и замену Победой Революции в качестве фокальной точки советской истории и основания мифа творения нации. В этой перспективе Сталин не только переставал быть «верным учеником Ленина», но и «Лениным сегодня» – уходила в прошлое сама концепция «двух вождей», начинался новый отсчет времени. Опаленная революциями и Гражданской войной, разорением коллективизации и ускоренной урбанизацией, Большим террором и ужасами войны советская нация входила в состояние нормальности. Обратившись в первой главе к поэзии первого послевоенного года, к теме ленинградской блокады, к молодогвардейскому мифу, к проектам создания Пантеона жертв и к посвященным войне послевоенным фильмам, мы увидим, как этот процесс протекал в послевоенной культуре.
Отмеченная трансформация требовала изменения образа прошлого. Его переработка стала насущной задачей режима. В этом «полезном прошлом» должна была выплавиться новая основа легитимности и произойти окончательная формовка новой советской нации. Соцреалистический принцип историзма приобретает здесь решающее значение. Историзм – это образ прошлого, каким его хотела бы видеть власть. Хотя сталинизм отверг формулу главного марксистского историка Михаила Покровского: «История – это политика, опрокинутая в прошлое», исходил Сталин из того, что политика – это история, опрокинутая в настоящее. А поскольку политика была исключительной прерогативой вождя, то и содержание историзма определялось каждый раз Сталиным в соответствии с актуальными политическими задачами. Так было в 1930‐е годы и во время войны. Но после войны Сталину больше не требовались аллюзии и исторические метафоры. Пришло время изменения ключевых тропов. На смену аллегории пришла синекдоха, метафору сменила метонимия. Наступила эпоха метонимической замены. Если Иван Грозный был аллегорией вождя, то Сталин в картинах Чиаурели – это уже не аллегория, но метонимическая (замещающая) фигура. Во второй главе мы увидим, что именно с этой заменой была связана критика в 1946 году фильмов Эйзенштейна и Пудовкина об Иване Грозном и Нахимове; ею определялся статус нового главного режиссера страны – Чиаурели. Мы увидим, далее, на примере празднования 800-летия Москвы, как происходила трансформация визуального режима и исторического нарратива. И наконец, обратившись к архитектурной практике позднесталинской эпохи (главным образом к московским высотным зданиям), мы увидим, как произошел переход метонимии в метаморфозу.
Изменение исторического нарратива было частью более широкого процесса переформатирования режима репрезентации советской реальности. Как будет показано в третьей главе, оно составляло главную цель трех августовских 1946 года постановлений ЦК ВКП(б) о наиболее популярных и важных для власти искусствах – литературе, кино и театре, с которых принято начинать отсчет т. наз. «ждановской эпохи». Эти постановления объединяла тема современности. Одно говорило о неверном изображении послевоенного Донбасса во второй серии картины Лукова «Большая жизнь»; другое требовало положить конец засилью иностранных пьес и создать советские пьесы о современности; третье указывало на опасность как «отрыва от жизни» (у Ахматовой), так и слишком пристального (сатирического) к ней приближения (у Зощенко). «Коммунистическая идейность» призвана была заменить использовавшееся в XIX века понятие «тенденциозность». Это были не только цензурные постановления (внимание всегда обращалось на положенные на полку или отправленные на переработку фильмы, снятые с репертуара пьесы, изъятые из библиотек и с производства книги), но и акции, окончательно утвердившие «большой стиль» парадного сталинского искусства: пылающий ампир московских высоток, барочная помпезность послевоенных станций метро, сталинский стиль роскоши, пафосная популистская поэзия – все это стало прямым результатом постановлений 1946 года. Без них лакировочно-бесконфликтные литература и искусство не стали бы доминирующими. Эти постановления создали условия для производства пьес и спектаклей, романов и поэм, фильмов и картин, резко отличных от осужденных, что в куда большей мере определило развитие как советского искусства, так и советского политико-эстетического проекта в целом на годы вперед, чем то, что было ими цензурировано. Культурогенный потенциал постановлений, утвердивших в 1946 году «идейность», оказался огромным. От них взяло свое начало все послевоенное советское искусство, вершинами которого станут «бесконфликтные» пьесы, заполонившие советскую сцену, «Кубанские казаки» в кино, «Кавалер Золотой Звезды» в литературе, полотна Александра Лактионова и Дмитрия Налбандяна, циклопические монументы Николая Томского – самые известные образцы «лакировочного искусства». Именно в нем соцреализм достиг своей завершенной формы.
Соцреализму присуща открытая партийность. Это то, что осталось в нем от политического искусства, из которого он родился. Ее не следует путать с тенденциозностью («идейностью»). Партийность – это не содержательная позиция, но modus operandi, способность и готовность к изменению по заданному извне импульсу, принцип прямого политического действия. Чтобы быть партийной, позиция должна быть гибкой, поскольку партийная позиция всегда политическая. Сталинские решения и тексты вождя были абсолютно непрозрачны и порождали неопределенность, беспокойство, тревожное ожидание. Законы диалектики превратились в руках художника-вождя в законы триллера. В сталинизме не было иных правил, кроме партийности (читай: диалектики), которая в политике – лишь произвол и, соответственно, основа террора. Партийность была поэтому идеальным инструментом контроля. Диалектика составляет самую ее суть и потому наиболее полно проявляется в сфере идеологии и в особенности в сталинской философии, которая была продуктом идеологического аппарата. Партийность советской философии может быть понята как принцип связи между марксистской философской традицией и партийными институциями, в том же смысле, в каком партийность советского искусства была принципом связи между эстетической практикой и идеологическими институциями государства. Подобно тому как соцреализм был по форме эстетической практикой, а по функциям – идеологией, советская философия функционально также была именно идеологией. Иначе говоря, не идеология была продуктом «марксизма-ленинизма», а наоборот – сам «марксизм-ленинизм» стал продуктом мутации марксистской идеологии. Философия превратилась в идеологическую машину, которая не только непрестанно производила легитимирующий идеологический язык, но и обновляла его. Для того чтобы смена политически актуальных версий «марксистско-ленинского учения» происходила плавно и при всех поворотах легитимно, нужен был принцип партийности. Тема партийности стала центральной в развернувшейся на «философском фронте» борьбе и достигла апогея в 1947 году в ходе «философской дискуссии», рассмотрению которой посвящена четвертая глава.
Эффективность политико-идеологических трансформаций обеспечивается доступностью пропаганды. Если пропаганда, как определял ее Теодор Адорно, – это «рациональная манипуляция иррациональным»[75], то кратчайшим путем к нему является искусство как важнейший и самый эффективный ее инструмент. Народность – ключевая категория соцреализма – это образ народа, каким его хотела бы видеть власть. В этом смысле народность – это зеркало власти. Занимаясь конструированием образа «народа», она конструировала саму себя. Функция эта вытекала из самой природы режима: советская бюрократия не могла говорить о себе иначе, как в форме разговора обо всем социальном целом (народе, обществе, общих интересах), который был единственной доступной ему формой универсализации собственных интересов[76]. Инсценированная артикуляция мнения «народа» была для режима единственной формой репрезентации. Народность как ключевое свойство соцреализма получила новый импульс в 1948 году в ходе кампании по борьбе с формализмом в музыке. «Реалистическое направление в музыке», за которое ратовал Жданов, было в этом смысле реалистическим не столько стилистически, сколько функционально: речь идет о предельном прагматизме и реализме как об эстетической стратегии власти, артикулирующей интенции масс. Произведенная в результате эстетика (по аналогии с «Realpolitik») может быть названа Realästhetik. Отличало эту кампанию то, что, казалось бы, посвященная столь специфической теме, как народность музыки, она нашла свое отражение не только в самой музыке, но и в театре, кино, литературе. В пятой главе мы увидим, как происходила медиализация народности, которая из эстетической категории сама превратилась в предмет эстетизации.
Молодая советская нация, утверждая свою идентичность и возвращаясь к традиционалистской утопии, требовала романтической народности не только потому, что такое искусство «понятно народу». Романтизм изначально был составной частью соцреализма, провозгласившего своим объектом «жизнь в ее революционном развитии». Последний впитал в себя революционный романтизм (яркое направление в раннем советском искусстве), трансформировав его в то, что я назвал бы госромантизмом, окончательно сложившимся в позднесталинскую эпоху. В отличие от традиционного романтизма, утверждавшего конфликт мечты и реальности, трагизм, пессимизм, индивидуализм и гибель идеала, который всегда виделся в прошлом, последний утверждал торжество мечты, коллективизм, героику, исторический оптимизм и победу идеала, который всегда находился в будущем. Наиболее последовательно это проявилось в радикальной трактовке изменчивости и отрицании наследственности в советской биологии. Соцреализм материализовывал фантазмы и агрономические чудеса, производимые волшебной наукой народного академика Лысенко. Как эстетика режима, давно утратившего всякие связи со своими марксистскими просветительскими истоками, соцреализм оказался созвучным романтической реакции на просветительский рационализм. В отличие от романтизма, который противопоставлял просвещенческому культу разума культ природы, а просветительской идее прогресса – идею возвращения к корням, соцреалистический революционный романтизм соединял одно с другим, диалектически утверждая идею прогресса через Большой возврат. Рассмотрению этих аспектов политического романтизма посвящена шестая глава, сфокусированная на кампании 1948 года вокруг биологических теорий Трофима Лысенко, Ольги Лепешинской, Геворга Бошьяна и др., и главным образом на том, как эти теории раскрылись в научно-фантастических романах, пьесах, кинофильмах и научно-популярной литературе.
Подобные радикальные теории плодились в сталинское время не только в естественных, но и в гуманитарных дисциплинах. В лингвистике доминировала теория Николая Марра. Это был бунт романтико-революционного духа против позитивистской науки. Его конец наступил, когда Сталин, романтик-лысенковец в 1948 году, выступил реалистом-антимарровцем в 1950‐м. Смена роли не была ни оппортунистической, ни случайной. Сравнение двух крупнейших идеологических кампаний эпохи позднего сталинизма – в биологии (1948) и лингвистике (1950), – инициировал которые, а затем самое непосредственное и горячее участие в которых принимал Сталин, указывает на то, что реализм наравне с революционным романтизмом оставался главным балансирующим элементом политико-идеологической конструкции сталинизма, основанной на диалектических противовесах, необходимых для политической инструментализации идеологических кампаний в различных науках, целью которых были актуальные политические сигналы, посылаемые вождем «городу и миру». Выступив против марровского понимания «языковой революции» как некоего «взрыва», Сталин проявил ясное понимание логики исторического реализма: если в случае России в 1917 году «переход от старого качественного состояния к новому» и произошел при помощи «взрыва», то, во-первых, ни к чему хорошему это привести не могло (продуктом взрывов являются руины, а Сталин был реставратором); во-вторых, само это «новое качество» также весьма сомнительно – Россия оставалась страной, политическая культура которой вполне соответствовала советскому историческому опыту, что Сталин также прекрасно понимал; в-третьих, ни само патриархальное общество, ни его политические элиты (советская бюрократия) не были готовы к глубинной социальной модернизации (даже ограниченная, индустриальная модернизация была весьма поверхностной); и, наконец, в-четвертых, реальный «переход к новому качеству» возможен только на путях, говоря словами Сталина 1950 года, «постепенного и длительного накопления элементов нового качества ‹…› путем постепенного отмирания элементов старого качества», то есть эволюционно, а потому непременно (о чем свидетельствует и постсоветский опыт) – в пределах истории. Приход коммунизма откладывался. Споры о теории Марра как в начале 1930‐х, так и в начале 1950‐х годов вращались вокруг ее «марксизма». Провозглашенное настоящим его воплощением в языкознании на рубеже 1930‐х годов «новое учение о языке» было низвергнуто с марксистского пьедестала главным идеологическим судией. Политическому измерению дискуссии о языке посвящена седьмая глава.
Стилистическое оформление этого реализма воплотилось в принципе правдоподобия: соцреализму чужда условность – он опирается на «изображение жизни в формах самой жизни». Oпыт войны представлял субстанциальную угрозу для режима и подлежал трансформации и замене. Это был сложный и многоступенчатый процесс, на каждом этапе которого происходила модификация опыта через его вытеснение и замену. Отсутствие верификации должно было компенсироваться подчеркнутым правдоподобием. Опыт соприкосновения с Западом трансформировался в симуляцию комплекса неполноценности («низкопоклонство»), который имел целью выработку советского национального нарциссизма через конструирование комплекса превосходства (выражавшегося в «чувстве советской национальной гордости», борьбы за «приоритеты русской науки», «первородство русской культуры» и т. п.) и формирование иммунитета против любых форм политической нелояльности, таких как «безродный космополитизм», который являлся не более чем проекцией и фигурой отторжения и завершал процесс перерождения нарциссизма в паранойю и последнюю стадию переработки опыта встречи с Западом – его алиенацию. Главное, что объединяло эти стадии, – принцип фабрикации: «низкопоклонство» и «космополитизм» явились симптомами не столько социальной, сколько сталинской травмы, и потому были сфальсифицированы при помощи культуры ресентимента. Перенос этой ложной симптоматики на все общество требовал глубокой деформации как актуальных политических событий, так и истории. Соцреалистическое «изображение жизни в формах самой жизни» оказывается адекватным стилистическим оформлением этой стратегии, по-разному реализуемой в разных жанрах. И если результат этих репрезентационных усилий выглядел неправдоподобно, то вовсе не потому, что здесь использовались какие-то элементы фантазии или формы условности, но потому что сталинизм основывался на теориях заговора, всякое отражение реальности в которых было заведомо искаженным безо всякой фантастики. Оно было вполне фантастическим, как фантастичен мир конспирологической паранойи, которым пронизан сталинизм. Лежащий в ее основе страх перед несуществующим заговором требовал подтверждения, находя его в рационализации и драматизации, в которых теория заговора как будто материализовывалась. Производимая в результате параллельная реальность представлялась искаженной, сдвинутой, искривленной. Ее «правдивое изображение» в формах «самой жизни» лишь усугубляло и эксплицировало эти деформации. Погруженный в конспирологические теории Сталин был одновременно манипулятором и жертвой собственных манипуляций. В рассматриваемых здесь случаях речь идет об использовании теории заговора как своего рода ширмы для реального заговора, начиная с «американского шпионажа» за советскими открытиями в самый разгар широчайших советских шпионских операций на Западе (1946–1948) и заканчивая сфабрикованным «делом врачей» – организованным Сталиным заговором, основанным на обвинениях в заговоре самих врачей (1953). Восьмая глава посвящена анализу того, как перерабатывался массовый и индивидуальный опыт, структурировался взгляд на мир в послевоенном советском искусстве (в патриотических пьесах, биографических фильмах, антисемитских памфлетах и др. жанрах) в тот самый период, когда шла окончательная настройка сложившейся после войны советской нации с ее комплексами и травмами, беспокойствами и фобиями, иллюзиями и представлениями о собственном величии и мессианстве.
И все же полностью дереализовать действительность сталинское искусство не могло. Реальность находила выход, парадоксальным образом, в советском искусстве холодной войны. Как в настоящем оксюморонном сцеплении, сверхдержавы потому и пребывали в состоянии холодной войны, что не хотели войны и одновременно работали на нее, «боролись за мир» – воюя. Это была воображаемая война par excellence. Уникальность холодной войны в ее оксюморонности: если традиционная война есть система действий, направленных на насильственный слом status quo (даже если одна из сторон борется за его сохранение, другая (или другие) борются за его изменение), то холодная война была войной, в которой обе стороны боролись за одно и то же – за сохранение status quo. Иначе говоря, целью холодной войны являлось сохранение мира. Но если целью войны является сохранение status quo, то «борьба за мир» является, по сути, формой пропаганды войны. Произведенное холодной войной искусство, будучи продуктом военной пропаганды, было заведомо лживо в одном отношении, и столь же поразительно правдиво в ином. Лживое на информационном уровне, оно было правдиво в том, что отражало лучше, чем что-либо: советские травмы, комплексы и фобии, реальные политические устремления режима и переработку им идеологических установок. Подобно тому как советское искусство было отражением и экстраполяцией идеологических фантазий на советскую повседневность, культура холодной войны была проекцией и вытеснением собственного образа в образ враждебного Запада. В этом смысле советское искусство было всецело правдиво. В нем мы имеем дело с соцреалистическим мимесисом. Обратившись в девятой главе к сталинским текстам внешнеполитического содержания и советской международной публицистике, поэзии и театру, кино и музыке, мы увидим, что, подобно тому как советское «лакировочное искусство» было отражением идеологических фантазий советской повседневности, позднесталинская культура холодной войны отражала Другого, который являлся, по сути, наиболее адекватным образом себя самого. И в этом смысле позднесталинская культура была всецело миметической. Этот непрекращающийся процесс моделирования себя через образ Другого позволял перерабатывать травматику холодной войны в анестезирующую культуру ресентимента через «материализацию» (вербальную, визуальную, музыкальную и т. д.) фантазий высокомерного величия и великодушного миролюбия.
Таким образом, придерживаясь хронологии, мы стремились опереть политические константы позднесталинской эпохи на категории соцреалистической эстетики, позволяющие создать концептуальную раму, в которой разрозненные исторические события, кажущиеся противоречивыми и разнонаправленными, находят свою логику и объяснение, приобретают взаимосвязь и внутренний смысл. Иначе говоря, превращаются в историю.
Эта книга – попытка создания такого историко-критического нарратива, который позволял бы хронологически проследить основные события культурной и интеллектуальной жизни позднего сталинизма в их связи с политической историей сквозь призму основных принципов эстетики соцреализма. Такое рассмотрение вскрывает пронизанность политической истории сталинизма эстетикой и специфику эстетизированной политики не на уровне поверхностных манифестаций (парады, театрализация, визуальные практики и т. п.), но на уровне смены модусов, тропов и фигур. Политика, идеология и искусство были здесь связаны в уникальном сплаве и в этой констелляции должны быть поняты. Подобный сплав (для эпохи нэпа и раннего сталинизма) Катерина Кларк описывала как «экосистему революции»[77]. Своей экосистемой обладала каждая эпоха.
Поздний сталинизм, многим казавшийся эпохой неподвижности и окаменения, оказал огромное влияние на формирование советской нации и держался на сложном балансе взаимозависимых и взаимоподдерживающих принципов – марксистской классовости и охотнорядного национализма, революционного титанизма и трезвого прагматизма, одна кампания сменяла другую, при том что, как казалось, каждая последующая противоречила предыдущей, но в действительности ни одна противоположность не отменяла другую, а, напротив, подпирала. Эта политически гибкая, диалектически подвижная система внутренних подпорок и противовесов и сделала созданную Сталиным к концу жизни систему столь прочной и столь эффективной.
Объяснение этому следует искать в том, что в позднем сталинизме – после полувека пароксизмов страшных войн, социальных катаклизмов, экономических провалов и взлетов – завершилась Русская революция, оплавились институции нового государства и советская нация с ее фантазиями собственного величия и «первородства», претензиями на мессианство и убежденностью в абсолютном моральном превосходстве, с ее агрессивным национализмом и имперскостью, непримиримым противостоянием высокомерному Западу, глубоко укорененным авторитаризмом, этатизмом, патернализмом, и антилиберализмом. С этим наследием страна вступила в период относительно мирного развития. Хотя наследие это не раз модифицировалось, отрицалось и вновь утверждалось, в основах своих оно сохранилось. Более того, как заметила Шейла Фицпатрик, именно позднесталинская эпоха «заложила фундамент» и «создала модель» для почти полувекового советского «развитого социализма», который «прошел через долгую брежневскую эпоху вплоть до 1991 года»[78].
В конечном счете поздний сталинизм лег в основание постсталинского, позднесоветского и постсоветского воображаемого. Именно в нем ищет современное российское общество «духовные скрепы» для создания нации, которая чем дальше, тем больше политически, идеологически, экономически, институционально напоминает все тот же поздний сталинизм в несколько облегченном и модернизированном виде.
Эпоха позднего сталинизма была не только точкой завершения, но и точкой отсчета, о чем свидетельствуют многочисленные попытки модернизации сталинизма. Проблема догоняющего развития страны после смерти Сталина состояла в том, что, как и прежде, всякий раз оказываясь на распутье – сохранить ли это наследие или решительно модернизироваться политически и социально, – делался выбор в пользу наследия и, погружаясь в комфортную ностальгию по советскости, меняя одну государственную религию/идеологию на другую, страна продолжает сохранять глубинные черты советской идентичности, дрейфуя в прошлое и производя все новые версии позднего, но никак не завершающегося сталинизма.
Глава первая
Победа над революцией: Преображенная война
О мире, преобразившем войну
Отправной точкой мифа творения политической нации обычно выступают сменяющие социально-политический строй события (революции, войны, политические потрясения), в результате которых не просто устанавливается новый режим, но берет начало новая нация. Таковы Петровские реформы 1696–1725 годов в России, Американская революция 1775–1783 годов, Великая французская революция 1789–1794 годов, создание в 1920–1924 годах Турецкой Республики, создание в 1949 году ФРГ и др.
Советская нация после революции формировалась вокруг Октябрьского мифа, ставшего центральным легитимирующим событием[79]. Однако со временем деформации прокламированных ею целей стали настолько очевидными, люди, ее сделавшие, настолько дискредитированными и неподходящими к новой политической реальности, культура, ею порожденная, настолько отличной, новый идеологический вектор настолько очевидным, а Большой возврат настолько явным, что чем дальше, тем больше в своих прежних политических коннотациях Революция становилась скорее обузой, чем основанием для «полезной истории» СССР.
Хотя в сталинском «Кратком курсе» истории ВКП(б) Революция была решительно «сталинизирована» и переписана таким образом, чтобы Сталин оказался в ее центре, событие это предшествовало сталинской эпохе, начавшейся в 1929 году. Тогда же началось и формирование собственно советской нации, принявшее целенаправленный характер в середине 1930‐х годов[80]. Сам факт переписывания Октябрьской революции в 1930‐е годы свидетельствовал о том, что она оказалась за пределами истории новой нации и задним числом должна была быть приспособлена под ее центральное событие.
Только в Победе в войне советская нация обрела, наконец, миф основания[81]. Поскольку сталинская революция кардинально изменила политико-идеологические и социально-культурные вехи Октября 1917 года, из главного «учредительного события» Советской России до войны он превратился, наконец, в центральное событие предыстории советской нации. Последняя, будучи продуктом сталинизма, приобретала теперь адекватную фокальную точку – миф основания соединился с основным легитимирующим событием сталинизма и кульминацией его торжества – Победой в войне. Более того, поскольку фашизм был абсолютным вселенским злом, его победитель оказывался полюсом абсолютного добра, что придавало советскому режиму не только внутреннюю легитимность, но и всемирное оправдание. Этого потенциала в Победе оказалось столько, что, став центральным событием, встроенным в систему производства памяти в СССР, она сохранила статус главного «учредительного события» и в новой российской истории.
Это основание советской нации на итогах войны особенно отчетливо видно в сопоставлении с немецкой послевоенной историей, пришедшей к своему Ground Zero в 1945 году. Новая немецкая нация формировалась через идентификацию с жертвами. Причем жертвами немецкой истории были не только Другие, но и сами немцы. Оказавшись жертвами своего прошлого, они мучительно учились дистанцироваться от собственной истории, преодолевая национализм. Жители же послевоенного СССР воспитывались на уверенности в том, что они прежде всего победители. Жертвами было мирное население городов и сел СССР и Европы, но «советский народ» в целом жертвой не был. Он был «народом-победителем». И послевоенная целенаправленная возгонка национальной спеси в ходе сменявших одна другую кампаний эпохи позднего сталинизма была направлена на культивирование национализма. Жителям СССР не с кем идентифицироваться, кроме как с собственным героическим прошлым, очищенным от страданий, не знавшим ни Холокоста, ни лагерей, ни массовых расстрелов, ни карательных батальонов, ни каннибализма. После войны, как замечает Лев Гудков, «практически выпал, вытеснен из (советской. – Е. Д.) коллективной памяти (массового сознания) пласт переживаний будничной, беспросветной войны и послевоенного существования, подневольной работы, хронического голода и нищеты, принудительной скученности жизни»[82]. Созданный после войны образ Народа был единственным в публичном пространстве сконструированным властью субъектом, обладавшим высшей легитимирующей силой.
Может показаться, что послевоенная судьба мифа Победы свидетельствовала об обратном: Сталин не любил вспоминать войну, а объявленный нерабочим днем «День всенародного торжества – Праздника Победы» 9 мая очень скоро потерял свой исключительный статус: уже в декабре 1947 года в постановлении Президиума Верховного Совета СССР сообщалось, что «день 9 мая – праздник победы над Германией считается рабочим днем» (характерно, что о «всенародном торжестве» больше не упоминалось). Наиболее распространенное объяснение причины такого отношения вождя к войне сформулировал Ричард Овери: Сталин «желал восстановить свою личную власть после войны, после нескольких лет своей зависимости от лояльности и компетентности других», а для этого ему надо было заставить замолчать тех, кто прямо или косвенно противоречил его излюбленному нарративу о себе как об «архитекторе победы»[83].
Но поскольку никто из сталинского окружения не ставил под сомнение его роль «архитектора победы», мы имеем дело с распространенной репрезентационной аберрацией, которая даже специалистам-историкам не всегда позволяет понять специфику происшедшего поворота. Ее мы обозначим условно как переход от Войны к Победе. Сталин действительно не любил вспоминать войну. Но Война и Победа в ней – отнюдь не одно и то же. Фокальной точкой и фундаментом мифа основания советской нации была не Война, но именно Победа. Когда исход войны стал определяться все яснее, советская идеологическая машина (печать, литература, кино, визуальные искусства) начала разводить реальный опыт войны (в который она была погружена до 1943 года) и грядущую Победу, а затем целенаправленно заменять Победой самую Войну. Соцреализм, в основе которого лежала функция «преобразования мира», был идеальным инструментом для дереализации Опыта Войны и превращения его в Историю Победы. Опыт начал на глазах заменяться протезирующей историзацией. В той мере, в какой Сталину не нужна была сама Война, ему нужна была Победа. В результате Война как трагический опыт потерь превратилась в героический путь обретений – путь к Победе.
Ключевой в этом смысле является интерпретация войны Сталиным в его фактически первом публичном выступлении после ее окончания – в речи на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа г. Москвы 9 февраля 1946 года. Сталин заявил: «Наша победа означает, прежде всего, что победил наш советский общественный строй, что советский общественный строй с успехом выдержал испытание в огне войны и доказал свою полную жизнеспособность»[84]. Сталин прямо говорил здесь о Победе, но даже говоря о войне, он имел в виду ее результат: «Война показала, что советский общественный строй является подлинно народным строем, выросшим из недр народа и пользующимся его могучей поддержкой, что советский общественный строй является вполне жизнеспособной и устойчивой формой организации общества» (7). Понятно, что все это показала не война с ее страданиями, жертвами, разрушениями, смершем, штрафбатами и неслыханными масштабами дезертирства, но именно победа в ней.
Но мало того что Победа интерпретируется исключительно как победа «советского строя», она объявляется главным доказательством его жизненности и, соответственно, легитимности:
Теперь речь идет уже не о том, жизнеспособен или нет советский общественный строй, ибо после наглядных уроков войны никто из скептиков не решается больше выступать с сомнениями насчет жизнеспособности советского общественного строя. Теперь речь идет о том, что советский общественный строй оказался более жизнеспособным и устойчивым, чем несоветский общественный строй, что советский общественный строй является лучшей формой организации общества, чем любой несоветский общественный строй (8).
Сталин указывает на второй важный аспект Победы – советскую исключительность:
Теперь речь идет уже не о жизнеспособности советского государственного строя, ибо его жизнеспособность не подлежит сомнению. Теперь речь идет о том, что советский государственный строй оказался образцом многонационального государства, что советский государственный строй представляет такую систему государственной организации, где национальный вопрос и проблема сотрудничества наций разрешены лучше, чем в любом другом многонациональном государстве (8).
И, наконец, в-третьих, Победа задним числом оказывается подтверждением правильности всего хода советской истории, оправданием всей предыдущей сталинской политики: победить в войне удалось благодаря имевшимся у страны «материальным возможностям»; а «при помощи какой политики удалось Коммунистической партии обеспечить эти материальные возможности в стране в такой короткий срок?» – задается вопросом Сталин. И отвечает: «Прежде всего, при помощи советской политики индустриализации страны» (11), «при помощи политики коллективизации сельского хозяйства» (12) и т. д.
Все это позволяет Сталину делать заявления, которые не могут вызвать у аудитории ничего, кроме смеха. И этот смех является кульминацией легитимации сталинского режима: ведь речь вождя предвыборная, и теперь народу предстоит самому решать, выбрать вновь прежнюю власть или нет. В преддверии выборов Сталин напоминает избирателям, что теперь их дело «судить, насколько правильно работала и работает партия (аплодисменты) и не могла ли она работать лучше (смех, аплодисменты)». Поняв, что ввел аудиторию в состояние ликования, он развивает тему «суда народа» и даже «приговора», чем вводит слушателей в экстаз:
Говорят, что победителей не судят (Смех, аплодисменты), что их не следует критиковать, не следует проверять. Это неверно. Победителей можно и нужно судить (Смех, аплодисменты), можно и нужно критиковать и проверять. Это полезно не только для дела, но и для самих победителей (Смех, аплодисменты): меньше будет зазнайства, больше будет скромности (Смех, аплодисменты). Я считаю, что избирательная кампания есть суд избирателей над Коммунистической партией как над партией правящей. Результаты же выборов будут означать приговор избирателей (Смех, аплодисменты). Немного стоила бы Коммунистическая партия нашей страны, если бы она боялась критики, проверки. Коммунистическая партия готова принять приговор избирателей (Бурные аплодисменты) (14–15).
Смех и аплодисменты аудитории указывают на те моменты, которые ложатся в основу новой советской идентичности: если раньше жизнеспособность советского строя могла кем-то ставиться под сомнение, если можно было сомневаться в целесообразности коллективизации, то теперь подобные предположения не могут вызывать ничего, кроме смеха, из‐за своей абсурдности. «Война (читай: Победа) показала», что режим достиг вершины легитимности. А для того чтобы не было сомнения в том, что это убеждение разделяют не одни коммунисты, но советская нация в целом, Сталин заявляет о фактическом слиянии партии и народа, то есть о рождении «новой исторической общности – советского народа».
В былые времена коммунисты относились к беспартийным и к беспартийности с некоторым недоверием. Объясняется это тем, что флагом беспартийности нередко прикрывались различные буржуазные группы, которым невыгодно было выступать перед избирателями без маски. Так было в прошлом. Но теперь у нас другие времена. Беспартийных отделяет теперь от буржуазии барьер, называемый советским общественным строем. Этот же барьер объединяет беспартийных с коммунистами в один общий коллектив советских людей. Живя в общем коллективе, они вместе боролись за укрепление могущества нашей страны, вместе воевали и проливали кровь на фронтах во имя свободы и величия нашей Родины, вместе ковали и выковали победу над врагами нашей страны. Разница между ними лишь в том, что одни состоят в партии, а другие – нет. Но эта разница формальна. Важно то, что и те и другие творят одно общее дело. Поэтому блок коммунистов и беспартийных является естественным делом (15).
Рождение нации не просто совпало с Победой, но стало возможным благодаря ей. Советский народ материализовался в противостоянии врагу, перед лицом смертельной опасности, грозящей Отечеству. В нем уже не было ни классов, ни наций. Он стал единым, и основная задача послевоенной переработки войны, превратившейся в один из ключевых элементов национального строительства, сводилась к созданию образа этого субъекта – единой советской нации.
Примечательно, что сама война как в советской, так и в постсоветской историографии приобрела уникальный статус, обретя два измерения (которыми обладала ранее только Революция): как факт «отечественной истории» (Великая Отечественная война) и как событие «мировой истории» (Вторая мировая война). События самой Отечественной войны, рассматриваясь преимущественно в категориях национальной истории, попадают в поле «мировой войны» сугубо селективно. При этом сам статус Отечественной войны в советской идеологии был куда выше статуса Второй мировой войны. И только в событии Победы оба они синхронизировались: Победа в Великой Отечественной войне и Победа во Второй мировой войне оказывались синонимичными. Более того, Победа в Отечественной войне определила победу в Мировой войне («Советский Союз спас человечество от фашизма»). Эта идеологическая синонимия зеркально отражала статус «отечественной» и «мировой» войн и основана на расподоблении: то, что не несет отблеска Победы и, соответственно, не обладает высоким потенциалом «патриотического воспитания», погружается во «внутреннюю историю», а то, что «победоносно», перетекает в мировую. Так, блокада Ленинграда – событие советской истории (культ жертвенности), «героическая оборона» Севастополя, Одессы, Брестской крепости и т. д. – события Отечественной войны (оборона была «героической», но города были сданы), тогда как Сталинградская битва и взятие Берлина – события мировой истории[85].
Характерно, что в те исторические периоды, когда начиналась либерализация и обществу вновь задавался модернизационный вектор развития, культ Победы резко ослабевал. Так было в хрущевскую эпоху, когда произошло не только развенчание многих сталинских мифов, но и в самом обществе культивировались другие ценности – «возврат к ленинским нормам» и к «идеалам Революции»), оптимизм достижимого «светлого будущего» (коммунизм, обещанный через двадцать лет), «мирное соревнование» с «капиталистическим миром», зримые успехи модернизации (спутник, полет человека в космос, первый советский атомоход, подъем целины и т. д.).
Когда же становится ясным, что грандиозные планы построения коммунизма «при жизни этого поколения» неосуществимы и на смену футуронаправленности эпохи хрущевской оттепели пришел брежневский «застой», культ Победы возвращается во все более институционализированном виде. И связано это не только со сменой поколений, но и с остранением идеологического приема: по сути, происходит возврат к сталинскому культу Победы – институционализированной памяти о войне, все меньше связанной с реальным опытом войны. Уже 26 апреля 1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР было объявлено, что «впредь» 9 мая будет праздничным днем в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это повлекло за собой создание множества новых ритуалов. Среди которых – парад Победы на Красной площади в Москве и оформление мест ритуализированной памяти о войне – возведение по всей стране монументальных мемориалов (достаточно упомянуть об открытии в 1967 году двух крупнейших из них, наделенных наибольшим символическим статусом: Могила неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве и циклопический комплекс на Мамаевом Кургане «Родина-мать зовет!» в Волгограде).
Однако с началом горбачевской перестройки (позиционировавшейся как «продолжение Революции») и «ускорения» культ Победы вновь сходит на нет, пока практически не исчезает в 1990‐е годы, когда государственная идеология находится в состоянии анабиоза. В этот период происходит окончательное развенчание мифов о войне, которые практически все были созданы именно в сталинскую эпоху. Так, была дана близкая к реальной цифра погибших в войне, раскрыта правда о тщательно скрывавшихся тайных статьях пакта Молотова – Риббентропа и гибели польского офицерства в Катыни, о множестве мифов, созданных в 1941–1945 годах военной журналистикой. Из самых известных – история Зои Космодемьянской (первоначально героини статьи Петра Лидова «Таня» в «Правде»); история «28 гвардейцев-панфиловцев» (возникшая благодаря журналисту «Красной звезды» Василию Коротееву и переработавшему его материалы о 8-й Панфиловской дивизии литературному секретарю той же газеты Александру Кривицкому); история подпольной молодежной организации «Молодая гвардия» из Краснодона (воспроизводившаяся по одноименному роману Александра Фадеева); обстоятельства уничтожения белорусского села Хатынь (как оказалось, сожженного не немцами, а коллаборационистами-карателями под руководством бывшего старшего лейтенанта Красной армии Григория Васюры) и мн. др. Это лишь самые яркие из фундирующих героических мифов периода войны, развенчанных в период второй оттепели (1985–2000).
В путинскую эпоху, когда сверхценностью вновь становится «стабильность», культ Победы возвращается в виде уже не просто одного из главных, но фактически важнейшего и единственного государственного культа (поскольку Революция теряет всякий фундирующий статус) и в еще более резкой форме – с агрессивной борьбой с «искажением истории». При том что массовые настроения в поздне- и постсоветской России – от Горбачева до Путина – претерпели огромные изменения, в отношении статуса Победы они остались почти неизменными. Многократно формулируемый вопрос о том, «что осталось от ХX века», давал оценки самые полярные: предреволюционная Россия, Николай II, Октябрьская революция, коллективизация, индустриализация, Большой террор, война, оттепель, «благополучие застоя» – все вызывало и продолжает вызывать самые противоположные оценки (не говоря уже о политических лидерах от Ленина и Сталина до Хрущева, Горбачева и Ельцина).
Оценки событий сильно изменились за истекшие три десятилетия (сильно упали ставки революции 1917 года и возросли – «застойного процветания» эпохи «развитого социализма»). И лишь одно событие осталось неподвластным сменам политических настроений: Победа, которая списывает цену бездарного руководства в начале войны, сталинскую веру в договор с Гитлером, гибель десятков миллионов людей, невиданные разрушения и т. д. От ХX века не осталось ничего «святого», «неприкасаемого» (тогда как раньше неприкасаемым и священным было едва ли не все – Октябрьская революция, Ленин, «первые пятилетки», коллективизация и т. д.), кроме Победы 1945 года. Подобно тому как социологические опросы, неизменно отводящие Победе первое место среди итогов ХX века, являются едва ли не единственной процедурой легитимации в современной России, сама Победа стала фундаментальным легитимирующим событием новой постсоветской России. Более того, через нее идет создание новой/старой нации: образ врага формируется через прежнего военного врага: страна вновь окружена все теми же «фашистами» – от Украины до стран Балтии, поддерживаемыми злобными западными плутократами – ненавистниками России.
Постсоветская ситуация, в которой Победа наконец превращена в единственное событие русской истории ХX века, цементирующее национальное единство, оказывается прямой проекцией послевоенной ситуации. Поэтому первая объясняет вторую и наоборот. Размышляя над природой новой постсоветской нормальности уже из перспективы путинских лет, Михаил Рыклин замечает, что «парадоксальным образом турбулентное ельцинское время post factum кажется более спокойным, чем последние годы, когда видимость спокойствия создается целенаправленно. За этой видимостью скрываются, возможно, тектонические сдвиги, смысл которых откроется значительно позже»[86].
Именно такой кажется эпоха позднего сталинизма, под спокойно-неподвижной поверхностью которой шли глубинные сдвиги – окончательное затвердевание советской нации. Так же как и после войны, в путинской России «эффект реальности обязан своим возникновением интенсивному коллективному галлюцинированию и сохраняет свой статус до тех пор, пока большое число людей удерживает совместность конкретной формы галлюцинирования. У нее нет авторов, но нет и тех, кто к ней непричастен» (9). Об этом говорит и поразительное сходство советской риторики начала холодной войны с пропагандистской риторикой эпохи путинского ресентимента, устремленной к пересмотру итогов холодной войны и реваншу.
Подобно тому как «российское общество последних лет устроено как машина, перерабатывающая возрастающую агрессивность в апатию и цинизм», которую «постоянно перенастраивают с одного образа врага на другой» (12), послевоенное советское общество работало в режиме, когда вчерашние союзники по антигитлеровской коалиции объявлялись нацистами, а практики вчерашних врагов применялись внутри страны (этнические чистки, государственный антисемитизм). И «если во времена Ельцина эксцессы были внешними и театрализованными, то теперь они становятся внутренними, менее заметными, но более надежно разрушающими и так слабую социальную ткань. Канализация энергии разочарования вырастает в полномасштабную политическую задачу» (10). То же можно сказать о послевоенной эпохе с ее «стабильностью», которая скрывала нарастающее разочарование от неспособности режима к реформам и либерализации.
Подобно тому как центральным событием в эпоху позднего сталинизма была война с нацизмом, центральным событием постсоветской эпохи стала чеченская война, которую Рыклин называет квинтэссенцией постсоветского времени, поскольку именно так она воспринимается массовым сознанием, обуянным страхом расползания войны и распада по территории всей страны. Эта война «как бы ушла в бессознательное людей, проводя там разрушительную работу. Чтобы ее не замечать, создается множество компенсаторных культурных конструкций, основанных не на невротическом механизме вытеснения, а на психотическом механизме отказа от реальности (Verwerfung). Этот механизм утверждает себя как норма. Будь фактор войны осознан, стань он предметом обсуждения, ничего подобного нельзя было бы себе вообразить» (19).
Подобные же практики в отношении только что пережитой обществом войны были характерны для позднего сталинизма, занятого созданием параллельной реальности, призванной заменить только что пережитый травматический опыт. Связь с реальностью и опытом здесь также была радикально подорвана и замещена «особыми речевыми образованиями (бредового типа), обрекающими субъекта симптома на неизбывный аутизм» (14). Именно эта «психотическая речь» соцреализма не только обеспечивала высокий уровень социальной адаптации, но и заполняла собой все анклавы автономности, вытесняя реальность. Национальное единство оказывается прямой проекцией послевоенной ситуации.
Институциализация культа Победы в сталинизме, его ритуализация в брежневскую эпоху и агрессивная защита «исторической правды» в путинской России[87] должны скрыть содержащуюся в нем замену Революции, а затем и самой Войны – Победой, а опыта войны – смоделированной памятью о ней. Эти модификации были заложены в последние годы войны и первые годы мира – в эпоху позднего сталинизма, определив всю последующую легитимационную матрицу, действующую в России более семи десятилетий, – столько же, сколько просуществовал сам Советский Союз. А потому они требуют пристального внимания к идеологическим и эстетическим практикам, использовавшимся в конце войны и сразу после нее. Память, замещающая Опыт, оказывается продуктом исторических манипуляций, оформляется в мифе и проходит через последующую музеализацию. Симуляция памяти связана с социальной анестезией и предполагает эстетизацию и нарративизацию прошлого, погружение его в чистую историю. Она основана на коллективизации опыта, его искусственной антиквизации. Покрытое искусственной патиной прошлое предстает полностью завершенным и в таком виде является идеальным материалом для «полезной истории». Соответственно, трагедия заменяется героикой, реализм – романтизмом, нарратив – символизацией. Все это (Опыт – Память – История – Миф – Музей) – ступени монументализации войны, редуцирования ее к Победе с последующим превращением Победы в символ национального величия, являющийся основанием величия Вождя.
Возвращение из Опыта в Историю: Поэзия первого послевоенного года
Центральной темой поэзии первого послевоенного года стала тема возвращения с фронта. Ей отдали дань поэты всех направлений, поколений и школ – Илья Сельвинский и Александр Прокофьев, Павел Антокольский и Михаил Светлов, Михаил Луконин и Александр Твардовский, Семен Гудзенко и Алексей Недогонов, Вера Инбер и Михаил Исаковский. Если остальные темы советской поэзии этого года – о «зверствах захватчиков», о «разрушенных городах и сожженных селах», о предстоящем «возрождении страны» и т. д. – отошли на задний план, будучи связанными еще с военным временем, то элементы послевоенного сознания аккумулировались именно в теме возвращения: интенсивное осмысление увиденного по ту сторону ранее наглухо закрытой границы, активное переживание своей «инаковости» в чужом и агрессивном пространстве, переработка пережитого в 1941–1945 годах – все это было реальностью, которая во многом определила строй художественного сознания в основном моменте – в напряженном поиске новой опоры для корректировки советской идентичности, которая могла бы вместить в себя опыт войны. Опыт, который никак не укладывался в идеологические рамки предвоенной советской идентичности. «Ночуем на старой границе, / которой не видно уже. / И нам почему-то не спится / в горах на былом рубеже. // Мы всю ощущаем планету / и каждый ее поворот. / Стирая границы по свету, / свобода на запад идет… // Еще нам на старых границах / придется не раз ночевать».
«Мы всю ощущаем планету» в «Закарпатских стихах» Гудзенко – не метафора, а новая реальность: на былом рубеже «не спится» из‐за осознания небывалого и резкого окончания прежней отгороженности, замкнутости, (от)граниченности внутри своего пространства, когда непроницаемые границы не только приходят в движение, но и оказываются проницаемыми. Так воспринимало реальность поколение, вернувшееся с войны, и поскольку оно оказалось в центре послевоенной поэзии, самоощущение этого поколения стало определяющим. Это поэтическое поколение было чрезвычайно пестрым. Главное, что определяло короткий период его единства в первый послевоенный год, – это обращенность к экзистенциальной проблематике, питаемой живым опытом войны: по сравнению с предвоенной поэзией, погруженной в стилевые конвенции героики, «романтики», народности или не вполне преодоленной еще авангардности; по сравнению с военной поэзией, нацеленной на мобилизацию и пропаганду в диапазоне от пронзительной интимности до почти истеричного натурализма; по сравнению с поэзией после ждановских постановлений 1946 года, застывшей в нормативной истории войны, поэзия первого послевоенного года была поэзией, выпавшей из сложившегося исторического нарратива. Она была обращена к темам, казалось бы, навсегда закрытым в советской поэзии – проблемам идентичности, экзистенциальным вопросам, осмыслению опыта, который пока не имел языка описания и не нашел еще своего выражения.
Разумеется, переплавка Опыта в Историю не была лишь частью некоего «политического задания», которому следовала советская поэзия. Ее причины – в сугубом травматизме опыта войны: процесс переработки личного опыта в коллективный, процесс перехода его в Память с одновременным сворачиванием Памяти в Историю был чаще всего способом снятия боли. Именно на такого рода терапевтическую процедуру был социальный заказ – как снизу, так и сверху. Поскольку же военное поколение поэтов было в массе своей уже собственно советским, конвенции мемориализации, впитанные им в 1930‐е годы, оказывались той колеей, в которую эта поэзия скатывалась естественно и почти бессознательно.
«Во всем, что мило в дольном мире, / есть о тебе, прекрасной, весть. / У нас, лесов иных пошире, / сады цвели и будут цвесть!» – обращался к русской земле Алексей Решетов. Этот мотив у других авторов сменялся активным непринятием чужого пространства: «На чужбине нет веселья… // Куст черемухи с тревогой / у бетона расцветает. / Не дома вокруг – остроги, / что пугают птичьи стаи. // И куда ни кинешь взглядом, / – каждый камень осторожен. / Я привык бродить по саду, / где ничто нас не тревожит. // Я привык к таким просторам, / где стремленьям нет границы, / потому здесь ночью черной / дом родимый часто снится. // Снится сад, где ты в тумане / песни мне о счастье пела, / где ни в мыслях, ни в желаньи / человеку нет предела». Это стихотворение Ивана Баукова характерно переведением границ и пространств в центр «поэтической медитации» (ср. его же стихотворение 1945 года «Говори о чем захочешь, / Лишь бы только о России»).
В этом же пределе – вообще полное выпадение чужого из авторского кругозора, как, например, в стихотворении Луконина «Пролог», где о себе заявляет сильное, на грани эротизма патриотическое чувство: «В семнадцать, слепое волненье осилив, / шептал я в холодное ушко подруги: / „Хорошо, что мы оба родились в России, / ведь мы же могли не увидеть друг друга?!“ / Я полюбил Россию, как маму, / полюбил, как любимую любят однажды… / как любят воду, умирая от жажды». Эта мысль утверждалась во всех регистрах – вплоть до детской литературы. Так, Инбер рассказывает о прилетевших на юг птицах – «наши скворцы», воробьи, «французские синицы, бельгийские щеглы, норвежские гагары, голландские нырки», но несмотря на тепло и краски юга, «по черепичной крыше тоскует воробей». Завершалась поэма песней молодого скворца, вернувшегося на Можайское шоссе, «о том, какие бы пути куда бы ни вели, / но в целом свете не найти милей родной земли». Речь здесь везде идет о «родной земле» и «родимой стороне» – России, реабилитация которой произошла во время войны.
В годы войны произошла также реабилитация «славянского братства». В стихотворении украинского поэта Леонида Вышеславского «Наздар!»[88] рисуется такая картина: «Нарядные толпы. Фанфары и флаги. / Мы едем под небом ликующей Праги… / Народного марша бравурные звуки / – Наздар! – и приветливо машут нам руки / – Наздар – это первое чешское слово, как эхо, во мне отзывается снова. / Оно, показавшись мне странным сначала, / девизом славянского братства звучало». «Славянское братство» служит здесь попытке адаптации в чужом пространстве, даже единения с ним. Но и в этом славянском мире адаптация имела свои пределы, точно обозначенные Исаковским в стихотворении «Где ж вы, где ж вы, очи карие», ставшем популярной песней: «Вспоминаем очи карие, / тихий говор, звонкий смех… / Хороша страна Болгария, / а Россия лучше всех».
О том, насколько тема возвращения с фронта оказалась неожиданно взрывной, свидетельствуют эксцессы, указывающие на ее границы и направление ее разработки. Поэзия войны была частью Опыта войны. Поэзия возвращения с фронта стала поэзией возвращения в Историю, поэзией преодоления Опыта и замены его Памятью. Опытом, поскольку он есть чистая травма, сложно манипулировать. Память о войне становится машиной стирания Опыта и замены его Историей. Хотя этот опыт неустраним (и он вернется в литературу в эпоху хрущевской оттепели), послевоенная литература будет целенаправленно заниматься анестезией пережитой травмы. Прежде всего, это означало отказ от изображения того, из чего состояли советская поэзия и проза, драматургия и журналистика, кино и документалистика периода войны: описание «зверств немецко-фашистских извергов» и страданий их жертв. В течение буквально одного года литература войны оказалась идеологически неприемлемой.
Тому были, разумеется, и политические причины. Так, необходимость выстраивания некоей конструктивной политики в отношении оккупируемой Германии требовала осадить мощный поток антинемецкой пропаганды, которым занималась в течение всей войны советская поэзия от Эренбурга и Симонова до Суркова и Исаковского. Подобно тому как в 1941 году следовало забыть о «пролетарском интернационализме» и руководствоваться лозунгом Эренбурга «Убей немца!», теперь необходимо было вновь отделить немцев от фашистов. Поэтому в ответ на опубликованную в «Красной звезде» 11 апреля 1945 года статью Эренбурга «Хватит!» в «Правде» появилась ответная статья заведующего Агитпропа ЦК ВКП(б) Георгия Александрова «Товарищ Эренбург упрощает», где разъяснялось, что нельзя изображать Германию как единую «колоссальную шайку». Это означало, что надо перейти к более «конструктивной» репрезентации войны. Иначе говоря, заняться корректировкой опыта. Война становилась прошлым, уделом Истории, а значит, полностью переходила в ведение руководимого Александровым ведомства.
До августа 1946 года опыт войны находил выход на страницы советской печати. Он уже назывался «памятью о войне», но это была еще память о войне, которая в поэзии возвращения интенсивно замещалась Победой. Вот почему таким диссонансом звучало на этом фоне стихотворение Антокольского «Не вечная память», посвященное самой теме памяти и опыта страдания. Тема страданий пока официально не была запрещена, а антисемитизм не стал еще публичным, поэтому Антокольский пишет о Холокосте, хотя и сугубо символически, прибегая к эвфемизмам. Обращаясь к современнику, он называет его «ровесником страшного столетья» – «ты, человек сороковых годов, исполосован памятью, как плетью». Эта память – не История и не ностальгия по России, но живой опыт боли. «Человек сороковых годов» Антокольского в мире «расправ и облав» оказался на руинах истории, за пределами гуманистической традиции и самой человечности, практически вернувшимся в эпоху варварства: «Ну так всмотрись же зорче напоследок, / Прислушайся к подземным голосам! / Ты сам дикарской трапезы объедок, / В лоскутьях кожи выдублен ты сам». Точкой отсчета становится трагедия европейского еврейства, которая выстраивается как тема памяти о бесконечной цепи тысячелетних страданий, уходящей все глубже в прошлое: «Теряются следы в тысячелетних / Скитаньях по сожженным городам. / В песках за Бабьим яром, в черных сплетнях, / На черных рынках, в рухляди, – а там // Прожектора вдоль горизонта шарят, / Ползут по рвам, елозят по мостам ‹…› А где-то жгут, дробят, кромсают, жарят, / Гноят за ржавой проволокой, – а там // Нет и следов, – ни в городах Европы, / Ни на одной из мыслимых планет, / Ни в черной толще земляной утробы, / Ни в небе, ни в аду их больше нет».
Повторяющиеся в финале строфы «а там» еще глубже погружают в прошлое, которое материализуется в страшном символе современности – Опыте, в 1946 году еще не успевшем стать не только историей, но даже памятью: «Лежит брусками данцигское мыло, / Что выварено из костей и жил. / Там чья-то жизнь двумя крылами взмыла / И кончилась, чтоб я на свете жил». Антокольский историзирует не только что отгремевшую войну и тем более не победу, но страшный опыт уничтожения, погружая его в тысячелетнюю историю еврейства: «Прости мне три столетья опозданья / И три тысячелетья немоты!» Однако это не эпически-безличный, но глубоко личный мир. А потому Антокольский говорит о себе самом и о своем деде, выдающемся скульпторе Марке Антокольском: «Мой дед-ваятель ждал тебя полвека, / Врубаясь в мрамор маленьким резцом…» Картины страданий буквально пронизывают все стихотворение: «тебя сквозь строй варшавских улиц… прогнала шпицрутенами мразь», «колкий гравий, прах костедробилок тебе окровавил нежные ноги», «злобная карга разрубила жизнь пополам, прокаркав „Варте нох!“», «подступили прямо к горлу комья сырой земли у страшных тех ворот…», «твой ребенок, впившийся навеки / Бессмертными губами в твой сосок, / Не видит сквозь засыпанные веки, / Как этот стебель зелен и высок. // Охрипли трубы. Струны отзвучали. / Смычки сломались в пальцах скрипачей… / Очнись, дитя сожженного народа! / Газ, или плетка, иль глоток свинца, – / Встань, юная!..»
Это стихотворение амплифицирует картины военной поэзии, ее мотивы, ее тропы и стилистику тогда, когда они вымываются из поэзии возвращения настойчиво и последовательно. Этот процесс – следствие изменения статуса войны, на глазах прорастающей лавром победы. То, что Антокольский называет здесь Памятью («Не вечная память»), было, по сути, языком военной поэзии, а значит, языком травмы, функция которого – напоминание о боли. Именно от этой памяти поэзия возвращения с фронта стремилась избавить читателя. Голос же Антокольского звучит «сквозь сотни лет, на сотни тысяч верст» прямым отказом забыть прошлое и боль. По сути, он сравнивает такое забвение с предательством. Однако ощущение непроговоренного, но мощного импульса таково, что превращает эти стихи в метапоэзию. Последняя часть этого трехчастного стихотворения – две строфы, как будто отвечающие на вопрос о том, зачем оно написано: почему необходима память и почему неизбежно забвение: «Как безнадежно, как жестоко / Несется время сквозь года. / Но слитный гул его потока / Звучит: ЗАПОМНИ НАВСЕГДА. // Он каждой каплей камень точит. / Но только ты выходишь в путь – / Все безнадежней, все жесточе / Звучит: ЗАБУДЬ, ЗАБУДЬ, ЗАБУДЬ».
Года здесь – Опыт, поток времени – История, которая в конце концов побеждает: ценой забвения человек спасается от боли опыта. Это стихотворение было опубликовано в седьмой книжке «Знамени» за 1946 год. Когда в августе 1946 года эта книжка пришла к читателю, на дворе была другая – ждановская – эпоха. Уже в десятом номере журнала перепечатывалась резолюция Президиума Правления ССП от 4 сентября 1946 года, в ответ на Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“», где говорилось, что в этом стихотворении Антокольского «проскальзывают надрывно пессимистические настроения».
Поэзия возвращения с фронта приближала наступление новой эпохи. Она несла не только забвение войны, но и забвение опыта пребывания за границей. Однако вместо «песни молодого скворца», радующегося возвращению на Можайское шоссе, в ней прорывались иногда совсем иные мотивы. Цитировавшийся выше Гудзенко выразил эти «чуждые настроения», против которых постановление о ленинградских журналах было прямо направлено, особенно откровенно. В стихотворении «Мы не от старости умрем, – от старых ран умрем…» он говорит о солдате, вернувшемся с войны: «он видел столько городов, старинных городов. / Он рассказать о них готов, и даже спеть готов… / Но у него желанье есть. Оно понятно вам? / Он хочет знать, что было здесь, когда мы были там». Сама постановка подобных вопросов была не менее вызывающей, чем готовность спеть об увиденных чужих городах. От лица этого солдата Гудзенко, который и умер в 1953 году от старых ран, пропел эту песню: «В каких я странах побывал! Считать – не сосчитать. / В каких я замках ночевал! Мечтать вам и мечтать. / С каким весельем я служил! Огонь был не огонь. / С какой свободой я дружил! Ты памяти не тронь». Спустя ровно год об этом воспоминании о былой свободе на Всесоюзном совещании молодых писателей говорилось буквально следующее: «Что, кроме эстетства, мелкой мысли, мещанского смакования „прелестей“ буржуазного Запада, можно обнаружить в этих строчках?»[89]
Становясь все менее пригодным для создания нового «полезного прошлого», опыт войны подлежал переработке и замене.
Блокада реальности: Ленинградская тема в соцреализме
То, что впоследствии станет известно как «ленинградская тема», возникло внутри советской военной поэзии первых месяцев войны и мало чем отличалось от основного ее потока. Большая часть этой поэтической продукции полностью выдержана в традициях соцреалистической героики. Примеры подобной поэтичной продукции многочисленны у мастера жанра Александра Прокофьева, в стихах которого 1941 – начала 1942 года доминировали раешник и песенные мотивы: «Умрем, но не допустим / (Нам воля дорога) / К Невы широкой устью / Проклятого врага», «Не встанет на колени он / Любою злой порой, / Великий город Ленина, / Наш доблестный герой», «От нас отчизна требует / Унять фашистов раж, / Еще такого не было, / Чтоб дрогнул город наш!», «От берегов до берегов / Пусть бьет фашистов дрожь / Уныл могильный путь врагов, / Так множь могилы, множь» (А. Прокофьев. «Умрем, но не допустим…», 1941). Это, по сути, довоенная поэзия о войне, стилистически и тематически близкая к поэтической продукции ЛОКАФа[90].
Пафосная героика перетекает здесь в плакатность: «Идут они, и словно бы с плаката / Правофланговый на землю сошел! ‹…› Мгновенье, стой! Он рушит все преграды, / Идет на танк со связкою гранат… / За ним сады и парки Ленинграда! / За ним в одном порыве Ленинград!» (А. Прокофьев. «Идут красноармейские колонны…», 1941). Это почти визуальная поэзия, рифмованный плакат. Патетическая картинность тяготеет к ритуальным сценам. Такова картина перед началом боя под Ленинградом: «Тишина перед боем. / Обернувшись на запад, к закату, / Встала гвардия наша в полукруг боевой. / Знамя принял полковник. / Снег на знамени – пеной. / Бахрому тронул иней. Даль застыла, строга. / И, охваченный трепетом, командир на колено / Опустился в глубокие наши снега. // И „Клянемся!“ – сказал он. И духом геройства / Вдруг пахнуло на рощи, поля и луга. / И тогда, как один, опустилося войско / Ha колени в глубокие наши снега. / Тишина. Всё в снегу, больше черном, чем белом, / И тогда над холмом, за который деремся, / Над снегами летящее ввысь прогремело. / Прогремело железное слово: „Клянемся!“» (А. Прокофьев. Клятва, 1942).
Эстетическое, стилистическое и идеологическое измерения этой поэзии сочетались настолько гармонично, что закладывались в структуры поэтических циклов. В 1942 году А. Прокофьев публикует цикл из трех стихотворений «За Ленинград» (1942). Первое, «Вступление», полностью посвящено тематизации героики: «Нам все должны поверить, ленинградцам, / И если надо, мир обшарив весь, / Узнать геройство, мужества набраться, / И доблести, и гордости, то – здесь! // Все здесь оно, их тлен никак не тронет, / Ничто не сокрушит, и потому / Вся Родина, все города-герои / Полны благоговения к нему!» Следующее стихотворение, «Обычный день», – воплощенная гармонизация реальностей войны (которая впоследствии будет называться на советском сленге «лакировкой»). Воздушный бой над городом изображен здесь в стиле победных реляций – зенитки бьют по вражеским самолетам над городом и те гибнут или в панике покидают бой: «…Был свет дневной – и он погас. / Его затмили сразу батареи, / И вдруг их всех перекрывает бас // Тяжелых, дальнобойных. / Слава, слава! / Лети снаряд, другой – во весь опор. / Громи орду, фашистскую ораву, / Сверхсрочной службы бравый комендор! // Затми им солнце, звезд прекрасных очи, / Чтоб только прах врагов летел, пыля, / Чтоб им была темнее темной ночи / Великая советская земля». Но «советскость» здесь – лишь рудимент довоенной риторики. Идеологический катарсис наступает в заключительном стихотворении цикла, «Не отдадим!», где «советская земля» превращается в «город русской славы». Горят пригороды Ленинграда, «и Ленинград пожары эти видел, / А враг, поживой жадною гоним, / Все наседал, смертельно ненавидя / Все русское, все связанное с ним! // Но мы стеною от земли до неба / Все поднялись и отстояли свет. / И Ладога и дальняя Онега / Услышали стоярусное: „Нет!“ // Нет, не сдадим мы город русской славы / И от земли до неба оградим, / Своих садов и парков величавых, / Своих святынь врагам не отдадим!» Но город расширяется до размеров всей страны: не отдадим «обычаи народа, свет его», «не отдадим березовые рощи, которые увидел Левитан», «не предадим могил отцов и дедов, / Курганов, где лежат богатыри!» И наконец, «не отдадим прекрасную Россию, / Не отдадим!»
Русификации советской доктрины способствовала частичная реабилитация русской православной церкви, а слияние религиозных мотивов с национальными сопровождалось той же выспренней картинностью и почти демонстративной мифологичностью. Так, в стихотворении Виссариона Саянова «Май, ночь блокады и беседа об А. Иванове» (май 1942) рассказывается о том, как ночью, «попивая чаек», художник и поэт ведут спор об искусстве – «о живописцах шла беседа». Сходятся они на том, что именно Иванов выбрал в русском искусстве «путь самобытный, гордый, свой» и «шел дорогой столбовой» и что его «Явление Христа народу» – «великий эпос давних лет»: «Вот почему мы в ночь блокады / Так пылко говорим о нем, / Пусть рядом падают снаряды – / Иванов жив, и мы живем». Блокада, национальное и христианское сливаются здесь в почти идиллической картине ночного чаепития и художественных споров под грохот снарядов в блокадную ночь.
Показательна здесь демонстративная эстетизация идеологического сообщения – отличительная черта именно ленинградских текстов периода войны. Обращение к темам искусства не способствовало приближению к массовому читателю. Но – и это тоже стало отличительной особенностью ленинградской темы – она не стеснялась прямой апелляции к интеллигентному читателю, что не только подчеркивало особенный, европейский статус Ленинграда как культурной столицы страны, но было ленинградской версией патриотизма. Культурность блокадных текстов была ленинградским вариантом русско-советского национализма советской военной литературы. Русское было здесь прежде всего культурно русским. В стихотворении Веры Инбер «Дневной концерт» из цикла «Душа Ленинграда» (октябрь 1941) говорится о воздушной тревоге во время концерта, о «мелодии могучих летных звеньев» советской авиации, о «басовом гудении зенитных, морских батарей». И когда все услышали «серебристое соло: / Пропели фанфары отбой», и вернулись в концертный зал, «снова из „Пиковой дамы“ / Любимый раздался дуэт, / Созданье родного поэта, / Сумевшее музыкой стать… / И только подумать, что это / Хотели фашисты отнять!» Бой идет за то, «чтоб русскую девушку Лизу / Спасти от фашистских солдат. / Советские танки и пушки – / Грядущей победы залог, / Чтоб жили Чайковский и Пушкин. / И Глинка, и Гоголь, и Блок».
Историзация ленинградской обороны в первый период войны стала одной из первых попыток решения темы в рамках традиционных соцреалистических конвенций. Она вписывалась в общую тенденцию историзирующего дискурса, который воскрешал тени великих героев прошлого, вставших на защиту Отечества. Но специфика ленинградского историзирующего дискурса состояла в том, что он апеллировал не к Кутузову или Суворову, но к советской истории, поскольку в советском идеологическом пространстве Ленинград был «колыбелью революции», а его дореволюционное «полезное прошлое» связано почти исключительно с культурой (в отличие от Москвы, которая связывалась не с царизмом, как Петербург, но с патриотизмом – Минин и Пожарский, Отечественная война 1812 года и т. д.).
В одном из первых произведений, обозначивших рождение ленинградской темы, – канонизированной в этом качестве Сталинской премией первой степени за 1942 год поэме Николая Тихонова «Киров с нами» (1941) – историческая глубина совсем невелика: рубеж 1920–1930‐х годов, символом которых является Киров, любивший «любовью последней, большою – / Большой трудовой Ленинград». И когда «черные дни набежали, / Ударили свистом свинца, / Здесь люди его провожали, / Как друга, вождя и отца». Однако Киров «остался меж ними, / Сражаясь, в работе спеша, / Лишь вспомнят могучее имя – / И мужеством крепнет душа». Киров, подобно призраку, идет по ночному городу. Этот новый «медный всадник» с «грозным именем Кирова», над которым красное знамя «как знамя победы встает», «полки ленинградцев ведет». В ноябре 1941 года, когда писалась поэма Тихонова, было уже ясно, что подобная риторика не обладает требуемой суггестивной силой. А тема призрака, как будто пришедшего из «петербургского текста», продолжала оставаться в литературе о ленинградской блокаде. Теперь историзация пошла несколько глубже и коснулась дней революции – в роли призрака на этот раз был Ленин на броневике. В стихотворении Бориса Лихарева «Ленинский броневик» рассказывается о некоей «легенде», что «в ночь блокадную / К фронту, / К Пулкову напрямик, / Там, где стыли дороги рокадные, / Прогремел Ильича броневик». Над ним развевалось знамя: «„Ленин жив!“ – / Прочитали на знамени / На развернутом стяге бойцы. / Это было всего на мгновение / До начала грозы боевой, / До сигнальных ракет к наступлению, / Озаривших снега над Невой». И с тех пор, когда бойцы уходили в бой, им «Возле Марьина, Ропши и Пулкова – / Всюду виделся тот броневик».
Историзирующие конвенции, как и остальные конвенции соцреалистической героики, в условиях войны продемонстрировали полную неэффективность и потому подлежали замене через своего рода обнажение приема. В литературе о ленинградской блокаде уже начального периода войны происходит тематизация героизма: сама тема героики и героизма превращается в центральную. Эта литература занята снижением конвенциальной соцреалистической героики (которое не имело ничего общего с «дегероизацией»). Характерны в этом смысле «Ленинградские рассказы» Николая Тихонова, написанные в первую военную зиму[91]. Вышедший в марте 1942 года отдельным изданием сборник назывался «Черты советского человека». Каждый из десяти рассказов раскрывал новую «черту». Но истории были намеренно будничными. И чем тривиальнее они казались, тем более возвышенным должно было восприниматься читателем изображаемое.
Тонет разбомбленный немцами пароход. В холодных осенних водах Финского залива гибнут женщины и дети. Среди гибнущих – фотограф с неразлучной тяжелой лейкой. Но вот его выносит к небольшому плоту, на котором он видит двух осунувшихся угрюмых мужчин и обезумевшую, мечущуюся и рвущую на себе одежду женщину, кричащую истошным криком. Держащийся из последних сил одной рукой за доску фотограф обращается к мужчинам со словами: «Что вы, не можете успокоить эту женщину?» Он кричит им: «Кто здесь коммунист?» Когда ближайший к нему человек посмотрел на него в упор сверху вниз и сказал «Я…», он ответил: «Так что же вы, товарищ… Женщина так кричит, надо же ее успокоить – вы, товарищ…» И тут его снесло огромной волной. Выживший на плоту узнал фотокорреспондента, и пошел в редакцию рассказать, что тот погиб смертью героя – «в эту последнюю страшную минуту он вел себя отлично». Но оказалось, что фотограф не погиб. И встретившись с ним в редакции, он со смущением рассказал о том, что именно тот помог им взять себя в руки и спас их: «Ваш оклик вернул нас к жизни». Поэтому первым делом он решил рассказать о его героической гибели и героическом поведении. Это только смутило фотографа, произнесшего в финале: «Ну какое там поведение… Вот лейка пошла ко дну, какая, если бы вы знали… Эх!»
Здесь характерна не только «негероичность» фотографа, но намеренная негероичность поступка: поведение фотографа не героично, но естественно – он ведет себя так, как вел бы в мирное время. Героизм не есть нечто экстраординарное. Он – лишь продолжение естественного для советского человека поведения. Именно будничность происходящего делает эти истории похожими скорее на очерки. Что делает их рассказами, так это перевод повествования каждый раз в новый регистр. Например, символизация. Так, в рассказе «Новый человек» речь идет о том, как женщина рожает на улице, прямо на снегу «в черную зимнюю ночь, освещенная вспышками рвущихся снарядов». После родов они направились в больницу – женщина, поддерживающий ее санитар, принимавшая роды сестра с ребенком: «Они шли, как победители ночи, холода, канонады. Если бы нужно, это шествие прошло бы через весь город и пронесло бы маленькую новую жизнь, маленького нового человека, явившегося в наш город в такой удивительный час». Рисуя страшную картину родов, где «все походило на угрюмый вымысел», Тихонов концентрируется на принимающей роды совсем юной девушке-медсестре, которая сама в состоянии шока от происходящего. В финале рассказа роженица спрашивает, как ее зовут, и говорит, что назовет дочку ее именем: «Пусть тебя помнит. Ты ее спасла».
В другом рассказе доминирует нарративно-фабульный модус. Мать с дочерью отправляется на передовую на поиски сына. Он близорук и слаб здоровьем, но ушел добровольцем. Поиски длятся, кажется, бесконечно. Сына нигде нет. Чем ближе они подходят к передовой, тем опаснее становится дальнейшее продвижение. Но цель его дочери не ясна. Она не понимает, зачем идти дальше, ведь на линию огня им все равно выйти не удастся. А мать не дает никаких разъяснений. И только уже дойдя до самой передовой, мать узнает, что ее сын Борис в этот момент участвует в бою. И на слова дочери: «Я боюсь, как мы доберемся. Я чего-то стала трусихой», она отвечает: «Ничего с нами не будет, Оля, теперь я спокойна. Душа моя спокойна. Я боялась, что он не сможет пойти в бой, что он слаб, что он плохо видит, – я решилась проверить. Я проверила. Мой сын сражается, как все. Больше мне ничего не надо. Пойдем домой».
В рассказе «Семья» этот нарративный сдвиг еще более усилен эффектом фабульной матрешки. Муж говорит жене, что уходит на фронт: он не может оставаться дома после смерти сына. Жена должна остаться смотреть за двумя младшими детьми, потому что без нее «завалится дом». Жена не только не стала отговаривать мужа, но сообщает ему, что сама уходит работать на завод, а детей отправит к родственнице: «Не те времена, чтобы думать о семейной жизни». Но когда она сообщает об этом двенадцатилетней дочери, та заявляет, что останется с братом дома – воду носить и стоять в очереди за хлебом она умеет, где дрова брать, знает, печку растапливать и кормить младшего брата может: «Не думай, что я маленькая. Теперь маленьких нет. Все мы большие. Идите оба, раз нужно, – идите… А трудно мне будет – подумаешь, всем трудно». Взросление означает для каждого выход из свой социальной роли – отца/мужа – в солдаты, матери/жены – в работницы, дочери – в хозяйки. Основа описываемого – будничность этого, по сути, героического поведения.
Еще один модус – сентиментализация. Рассказ «Львиная лапа» ведется от имени ребенка, живущего возле зоопарка и влюбленного в гипсового льва, который «охраняет сад, чтобы зверям не сделали худа разбойники». Увидев разбомбленный зоосад, «Юра, плача, кричал одно: „Мама, лев!“» – «его прекрасный белый кумир» был разрушен. И вот теперь он везде носит с собой подобранный с земли обломок лапы льва: «Я отомщу за него… этим разбойникам».
Несмотря на то что рассказы эти написаны в «суровом стиле» военного натурализма, иногда сдвиг носит неожиданно условный характер. В замыкающем цикл рассказе «Яблоня» повествование ведется от лица старого художника, проведшего много часов во время непрерывной бомбежки в кромешной тьме бомбоубежища. Не зная времени суток, он, выходя из убежища, ожидал увидеть вокруг руины, но увидел чарующую картину – он «увидел город, залитый фиолетовой колдовской луной. Прекрасный город вставал вокруг него в неизмеримой, в неповторимой красоте. Художник смотрел на него, как будто родился заново. Все его мрачные мысли, раздиравшие его там, в подвале, исчезли. Как? Уехать из этого изумительного мира красоты, героизма, труда, великолепия! Разве отсюда уедешь? Никогда и никуда. Этот город надо защищать до последнего вздоха, до последней капли крови, надо отбросить от его стен врага, надо истребить его без остатка, а уехать – нет, никогда! И художник все стоял и смотрел и не мог насмотреться и надивиться, полный великой радости и гордости». Эта патетика должна была сопровождать неконвенциальную, мужественную героику ленинградской литературы.
О том, насколько глубок был этот «дегероизирующий» импульс, можно судить по рассказу Веры Кетлинской «Белые ночи» (1944). Хотя рассказ написан в конце войны и весь пронизан победно-праздничным настроением, он эксплицитно направлен на снятие «ложной героики». Размолвка влюбленных молодых людей накануне войны случается из‐за того, что романтической и импульсивной Жене наскучил упорный и правильный Федя: «У тебя не хватает размаха и устремленности. – говорит она ему. – Ты вот будешь инженером и даже учишься на „отлично“. А можешь ты создать что-нибудь небывалое? Перевернуть мир каким-нибудь изобретением, как Уатт или Стефенсон? Не можешь! Ты даже не задаешься этой целью». Федя в гневе отвечает, что тот, «кто задается целью создать небывалое, тот просто мыльный пузырь! Создают небывалое те, кто трудится всю жизнь, как ломовая лошадь». Жене же нужен «мыльный пузырь»: «Мне нужен человек, который меня скрутит, обломает, докажет мне свое превосходство и потом будет покорен мне, как ягненок, не потому, что не умеет совладать со мной, а потому, что ему так хочется».
Проходит год, и Федя приезжает в Ленинград с фронта героем. Он намерен разыскать Женю, работающую на строительстве защитных сооружений: «Ей нужен герой, так она сказала на этом самом месте, положив недоступные, похолодевшие руки на раскинутый пиджак. И вот он вернулся к ней героем. Три ордена, два ранения. Две вырезки из армейской газеты с непохожей фотографией и непохожим описанием его геройских подвигов. Он разыщет ее, даст ей все это и скажет: „Я приехал к тебе…“» Хотя про себя он знает, что война – «это труд, подвиг – это умение выполнить свою задачу любой ценой, при любом перенапряжении сил – вот так он понимал войну и геройство, приписанное ему. Но разве Женя это имела в виду? И разве сейчас, пробыв всю блокаду в рядах защитников города, прославленного небывалым героизмом, она не стала еще более требовательна?» Но Женя осталась верна себе: сказав первые слова любви после долгой разлуки, она начала укорять Федю за то, что тот покинул ее. И в ответ на его слова: «Тогда ты хотела героя. Вот видишь, теперь я герой» она
вырвалась, оглядела его грудь, и он невольно приосанился, щеголяя орденами и нашивками, но она капризно усмехнулась, сощурила потемневшие глаза и воскликнула: «Ах, вот что! Так вот что тебе нужно! Значит, ты думаешь, что вот теперь ты герой и победитель и где-то там высоко-высоко надо мной? И я сразу сдалась и растворилась в твоем невыразимом блеске и стала послушна, как овечка? Ну нет, милый! Я, знаешь, вот как сыта героизмом!.. Ты думаешь, нам всем только покажи ордена, и мы уже без памяти? Человек мне нужен, понимаешь? Мой простой и застенчивый и неуклюжий выправкой! Ты думаешь, я не знаю, что такое героизм? Это вот то самое, от чего пот и ломота в пояснице, – кирпичи таскать, долбить землю, мокнуть и мерзнуть, и не иметь дома, и не иметь хлеба, и не знать отдыха, и не иметь кому пожаловаться… Подумаешь, удивил орденами!»
На это Федя иронически отвечает: «Да, создают небывалое те, кто трудится, как ломовая лошадь». Так закончился их спор, а рассказ – свадьбой. Как можно видеть, речь идет о снятии «ложной героики», стереотипы которой обнажаются в этих текстах. Героические конвенции соцреализма подвергаются здесь риторическому остранению.
Отсутствие «внешней героики» (то есть конвенциального героизма 1930‐х годов) должно было приближать описываемое к читателю, интимизировать общий опыт войны, делать его персональным. Казалось бы, эта «лиризация» должна была усиливать ощущение трагизма. Вместе с тем картина блокадной реальности должна была предстать суровой, а не трагичной. Поэтому в установке на снижение героики легко прочитываются стратегии не столько дегероизации, сколько снятия трагизма.
Героика была результатом распада мифологической модели мира, которую объединяло с мифом и ритуалом наличие бессмертных богов и смертных полубогов – героев, в лице которых «искусство утверждает бессмертие смертного – новую, немифологическую, личную форму бессмертия: чтобы достичь бессмертия, нужно не родиться бессмертным, а стать героической личностью, совершив – хотя бы и ценой собственной гибели – подвиг как акт свободного приятия необходимости»[92]. В этом акте происходит полное слияние личности с социальной ролью. Трагизм исторически являлся продуктом кризиса и разложения героики. В нем личность оказывалась шире социальной роли. В трагизме, говоря словами Бахтина, «подлинная жизнь личности совершается как бы в точке этого несовпадения человека с самим собою, в точке выхода его за пределы всего, что он есть как вещное бытие»[93]. Если «в героической архаике (дорефлексивной героике) самоопределение героя изнутри и завершение его извне практически неразличимы», а самое это «самоопределение целиком сводится к приятию внешнего завершения (судьбы) и не предполагает выбора»[94], то трагическая личность находится в дисгармонии с предопределенным выбором и социальной ролью, совершает акт самоопределения.
Так дело обстоит в традиционной эстетике. Для соцреализма уступка трагизму была вынужденной, вызванной требованиями мобилизации, а потому тщательно дозировалась. В соцреалистической эстетике трагическое находится в полной зависимости от героического: «В искусстве и эстетике социалистического реализма трагическое выступает как один из частных случаев, как одно из проявлений героического»[95]. Из постулатов, что «гибель героического не есть необходимость, внутренне заложенная в самом героизме» и что «героизм чаще всего венчается победой, торжеством героя», делался вывод о том, что «героизм связан с определенным риском, с преодолением трудностей и опасностей, трагическое есть частный случай и одна из конкретных форм проявления героического»[96]. Соответственно,
в эстетике социалистического реализма трагическое становится одним из частных проявлений непримиримой борьбы нарождающегося, нового с отживающим, старым. В нашем искусстве трагическое отражает героическую гибель отдельных носителей нового, прогрессивного в их непримиримой борьбе со старым, отживающим, с обреченным, но еще сильным противником, отражает гибель, утверждающую неодолимость нового, его конечную победу, его неминуемое торжество[97].
Трагическое не просто есть героическое. Оно, по сути, служит ему:
В литературе и искусстве социалистического реализма трагическое не только по-новому оптимистично, не только полно высокого пролетарского гуманизма, неодолимости нового и один из частных случаев героического, наряду с этим оно является одним из духовных источников победы нового, одним из способов воспитания героических черт характера[98].
Разрешенная трагедия стала чем-то новым для советской литературы. А ленинградская тема стала первой разрешенной трагедийной темой в ней. Эстетически, стилистически, идеологически трагедия была чужда соцреализму с его «историческим оптимизмом», практиками гармонизации и конвенциями массовой культуры. Соцреализм последовательно утверждал героику и вытеснял трагедию. Найденная в нем взвесь трагедийности – т. наз. «оптимистическая трагедия» – была не столько оксюмороном, сколько эвфемизмом: трагический антураж действительно служил здесь утверждению героического идеала.
