Безмолвие девушек
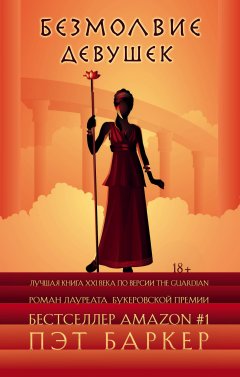
© Прокуров Р.Н., перевод на русский язык, 2019
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020
Часть I
1
Ахилл великий, Ахилл сиятельный, Ахилл богоравный… Нет числа хвалебным эпитетам. Мы к подобным словам никогда не обращались. Мы просто звали его «жнецом».
Ахилл быстроногий. Это уже интереснее. Не благородство и величие – имя ему, прежде всего, создало его проворство. Существует легенда, будто он преследовал Аполлона по долине Троады. Загнанный в угол, тот в конце концов сказал: «Ты не можешь убить меня, я бессмертен». «Да, – ответил Ахилл. – Но мы оба знаем, что, если б не твое бессмертие, ты был бы мертв».
Последнее слово всегда оставалось за ним, даже перед лицом бога.
Я услышала его задолго до того, как увидела. Его боевой клич разносился под стенами Лирнесса.
Женщинам – и детям, само собой, – повелели укрыться в башне, взять с собой сменную одежду и столько еды и питья, сколько получится унести. Как приличествует благородной замужней женщине, я редко покидала дом – впрочем, чтобы не лукавить, домом я называю дворец, – и пройти по улицам вот так, среди бела дня, было для нас сродни празднику. Почти. За всеобщим смехом, радостными возгласами и шутками, думаю, мы все были напуганы. Я, во всяком случае, была. Все мы знали, что наших мужей оттесняли. Если вначале бой кипел на берегу и вокруг гавани, то теперь они сражались у самых ворот. Мы слышали крики, звон мечей о щиты – и знали, что ждало нас, если город падет. И все же мы не ощущали опасности. Мне она казалась словно нереальной, и сомневаюсь, что другие осознавали ее. Разве могут пасть эти высокие стены, защищавшие нас все эти годы?
Отовсюду, по узким улочкам, женщины сходились на главной площади, несли детей на руках. Безжалостное солнце, иссушающий ветер – и вот длинная тень башни протянулась к нам, чтобы принять внутрь. Я шагнула с яркого света в полумрак и, на мгновение ослепленная, споткнулась. Простые женщины и рабыни собирались внизу; те же, кто происходил из знатных домов и царской семьи, занимали верхний уровень. Бесконечно долго поднимались мы по спиральной лестнице, с трудом находя опору на узких ступенях, и так один виток следовал за другим, пока в конце концов перед нами вдруг не открылось широкое, голое пространство. Пол был исчерчен стрелками света, падающего сквозь узкие окна, но по углам лежали тени. Оглядываясь, мы стали неспешно выбирать места, чтобы устроиться и разложить вещи, пытаясь создать какое-то подобие уюта.
Поначалу было прохладно, но, по мере того как поднималось солнце, становилось жарко и душно. Нечем было дышать. За пару часов запах потных тел, молока, детских экскрементов и менструальной крови стал просто невыносим. Дети начинали капризничать из-за жары. Матери укладывали младенцев на простыни и обмахивали, в то время как старшие носились вокруг, перевозбужденные, не вполне осознавая происходящее. Несколько мальчишек, десяти или одиннадцати лет – еще слишком юные, чтобы сражаться, – заняли верхние ступени и воображали, будто отбрасывают захватчиков. Женщины, измученные жаждой, то и дело переглядывались, но разговаривали мало. Между тем крики снаружи становились громче; последовали гулкие удары по воротам. Снова и снова разносился этот боевой клич, и человеческого в нем было не больше, чем в волчьем вое. Наверное, впервые матери сыновей позавидовали тем, у кого рождались дочери, ибо девочкам сохраняли жизнь. Мальчиков, по возрасту способных взяться за оружие, обычно убивали. Иногда убивали даже беременных женщин – пронзали живот копьем, дабы исключить возможность рождения мальчика. Я заметила, как Исмена, четвертый месяц беременная от моего мужа, обхватила руками живот и убеждала себя, что беременность останется незамеченной.
В последние дни я часто ловила на себе ее взгляд – Исмены, которая вообще-то не решалась смотреть мне в глаза, – и его выражение говорило красноречивее любых слов. Теперь твой черед. Посмотрим, как это тебе понравится. Меня мучил этот дерзкий, немигающий взгляд. Я выросла в семье, где к рабам относились с добротой, и когда отец выдал меня за царя Минеса, я продолжила эту традицию в собственном доме. Я была добра к Исмене или, по крайней мере, думала так. Но, быть может, между хозяевами и рабами и не бывает теплых чувств, а есть лишь градация грубости? Я взглянула на Исмену и подумала: «Да, ты права. Настал мой черед».
Никто не заговаривал о поражении, но иного исхода мы не ждали. Разве что одна старуха, двоюродная бабка моего мужа, уверяла, что это отступление к воротам – лишь тактическое ухищрение. Минес, по ее словам, просто поддавался им, чтобы запутать и заманить в ловушку. Наши мужи одержат верх и оттеснят алчных греков в море. И, думаю, некоторые из молодых женщин даже поверили ей. Но этот боевой клич раздавался снова и снова, и с каждым разом все ближе. И все мы знали, кто это, хотя никто не произносил его имени.
Тяжелое предчувствие разливалось в воздухе. Матери обнимали дочерей, почти взрослых, но еще не зрелых для брака, – ведь девочек младше десяти лет не щадили. Ко мне наклонилась Рица.
– Что ж, по крайней мере, мы уже не девственницы.
Она осклабилась, так что стали видны прорехи в зубах. Рица выносила столько детей – и ни одного не произвела на свет живым. Я кивнула и заставила себя улыбнуться, но ничего не сказала.
Я беспокоилась о свекрови – она предпочла остаться во дворце, иначе пришлось бы переносить ее в паланкине. Я беспокоилась, и это раздражало меня больше всего. Будь она на моем месте, то даже не вспомнила бы обо мне. Вот уже год, как ее терзала эта болезнь: живот у нее распух, и плоть сходила с костей. В конце концов я решила сходить к ней, хотя бы убедиться, что у нее достаточно питья и пищи. Рица хотела пойти со мной – уже поднялась на ноги, – но я покачала головой:
– Я ненадолго.
На улице я вдохнула полной грудью. Даже в этот миг, когда мир готов был треснуть и обрушиться на меня, я чувствовала облегчение, вдыхая чистый воздух. Пыльный и раскаленный, он обжигал мне горло, но я ощущала его свежесть после спертой атмосферы на верхнем уровне башни. Кратчайший путь ко дворцу пролегал через главную площадь, но я видела стрелы, разбросанные в пыли, и прямо на моих глазах одна стрела перелетела через стену и вонзилась в кучу грязи. Нет, лучше не рисковать. Я побежала по проулку, настолько тесному, что дома почти заслоняли свет. Достигнув стен дворца, вошла через боковые ворота. Должно быть, слуги оставили их незапертыми, когда бежали. Справа в стойлах фыркали лошади. Я пересекла внутренний двор и поспешила по коридору в главный зал.
Просторный, с высокими сводами зал царя Минеса казался мне чужим. Впервые я вошла сюда в день свадьбы, уже с наступлением темноты, в окружении мужчин с факелами. Меня доставили из отцовского дома в паланкине. Минес с матерью, царицей Мэрой, ждали, чтобы принять меня. Его отец умер годом раньше, у него не было братьев, и ему необходимы были наследники. Поэтому он брал жену, будучи намного раньше того возраста, когда мужчины вступают в брак. Впрочем, я не сомневалась, что он уже опробовал кое-кого из женщин во дворце – и, возможно ради забавы, пару юношей из конюшен. Могу представить его разочарование, когда я наконец сошла с паланкина и прислужницы сняли с меня вуаль: маленькая и худая, с большими глазами, гривой пышных волос – и ни единого заметного глазу изгиба. Несчастный Минес… Для него идеал девичьей красоты воплощала женщина до того полная, что если шлепнуть ее по ягодице утром, то рябь не стихала бы до полудня. Но он старался как мог – каждую ночь на протяжении долгих месяцев тужился между моих тонких ног с усердием ломовой лошади в упряжке. Однако, так и не сумев зачать ребенка, потерял ко мне интерес и вернулся к своей первой любви, женщине с кухни. С присущей рабам помесью мягкости и дерзости она приняла его в свою постель, когда ему было всего двенадцать.
Еще в тот первый день, едва взглянув на царицу Мэру, я поняла, что противостояние неизбежно. И оно вылилось в настоящую войну. К восемнадцати годам я уже была ветераном затяжных и тяжелых кампаний. Минес, казалось, совершенно не ощущал напряженности, но я давно подметила, что мужчины на удивление слепы к женской агрессии. Они – воины, в шлемах и доспехах, сражаются копьями и мечами; и им неведомы наши битвы. Или они предпочитают не замечать их. Быть может, они позабудут душевный покой, если осознают, что мы – не те кроткие создания, каковыми нас привыкли считать?
Все изменилось бы, если б я только родила – сына, конечно же. Но за первый год я так и не ослабила пояса, и в конце концов Мэра, отчаявшись дождаться наследника, стала показывать на мои узкие бедра и открыто насмехаться. Уж не знаю, чем бы все закончилось, если б не эта болезнь. Возможно, она выбрала бы наложницу из какой-нибудь правящей семьи. И эта женщина, не будучи даже законной супругой, стала бы царицей во всем, за исключением титула. Но в конечном итоге живот начал расти у самой Мэры. Она была еще достаточно молода, чтобы породить повод для сплетен. От кого он? Этот вопрос занимал всех. Ведь она покидала дворец лишь ради того, чтобы вознести молитвы у гробницы мужа! Но потом у нее пожелтела кожа, она стала терять в весе и почти не выходила из своих покоев. Без ее участия переговоры о шестнадцатилетней наложнице зашли в тупик и оказались забыты. Я увидела в этом свой шанс и ухватилась за него. Вскоре все придворные, преданные Мэре, склонились передо мной. И дела во дворце шли ничуть не хуже, чем при ней. Во всяком случае, более упорядоченно…
Я так и стояла там, вспоминая все это, представляла себе зал, обычно полный шума: голоса, звон посуды, топот ног. Сейчас же он простирался вокруг меня, глухой как гробница. Конечно, от крепостных стен по-прежнему долетал грохот битвы, но этот шум походил скорее на жужжание редких пчел теплым вечером и лишь усиливал тишину.
Мне хотелось остаться в этом зале, а еще лучше – пройти во внутренний двор и сесть под любимым деревом. Но я понимала, что Рица будет тревожиться, и потому медленно поднялась по ступеням и прошла по главному коридору к покоям Мэры. Я приоткрыла дверь, послышался скрип. Комната была погружена в полумрак. Мэра наглухо завесила окна: возможно, свет резал ей глаза, а может, она хотела скрыть свою наружность от глаз, я не знаю. Прежде она была очень красивой – и еще пару недель назад я заметила, что превосходное бронзовое зеркало, составлявшее часть ее приданого, пропало из виду.
Мэра шевельнулась в постели и повернула ко мне свое бледное лицо.
– Кто там?
– Брисеида.
Лицо мгновенно отвернулось. Не это имя она надеялась услышать. Теперь Мэра прониклась любовью к Исмене, которая, возможно, носила ребенка от Минеса. Может, так оно и было. Впрочем, при той жизни, какую ведут рабы, зачастую сложно определить, кто настоящий отец. Но в последние месяцы отчаяния этот ребенок вселял в Мэру надежду. Да, Исмена была рабыней, но рабам можно даровать свободу, и если б у нее родился мальчик…
Я шагнула в комнату.
– У тебя есть все что нужно?
– Да. – Она ответила без раздумий, лишь бы я поскорее удалилась.
– Достаточно питья?
Мэра бросила взгляд на небольшой стол. Я обошла кровать и взяла кувшин, почти полный. Налила ей большую чашу, после чего направилась с кувшином к большому сосуду в дальнем углу. Теплая, стоялая вода с пленкой пыли на поверхности. Я погрузила кувшин в сосуд и вернулась к кровати. Четыре узкие полоски света пересекали пурпурный ковер у меня под ногами, довольно яркие, чтобы резало глаза. Но над постелью нависала густая тень.
Мэра с трудом приподнялась, и я поднесла чашу к ее губам. Она стала жадно пить, и горло ее вздрагивало при каждом глотке. В какой-то момент она откинула голову, и я попыталась забрать чашу, но услышала слабый протестующий стон. Когда Мэра наконец-то напилась, она изящно вытерла губы уголком вуали. Я чувствовала, что рассердила ее, потому что увидела, насколько же она беспомощна.
Я стала поправлять подушки под ее головой. Когда Мэра наклонялась вперед, позвоночник прямо-таки просвечивал сквозь восковую кожу; казалось, можно вынуть из нее хребет, как из вареной рыбины. Я осторожно уложила Мэру на подушки, и она удовлетворенно вздохнула. Пока я расправляла простыни, каждая складка источала запах старости и болезни. И, как мне показалось, запах мочи. Я рассердилась. Меня переполняла ненависть к этой женщине, и не без причины. Я вошла в ее дом четырнадцатилетней девочкой, лишенной материнских наставлений. Она могла принять меня с теплом, но не приняла. Могла помочь мне освоиться, но не стала этого делать. Я не имела причин любить ее, но в тот миг меня злило, что, превращаясь в ссохшийся, морщинистый мешок с костями, Мэра лишала меня повода для ненависти. Да, я победила, но это была пустая победа – и не только потому, что Ахилл громил ворота Лирнесса.
– Хочу, чтобы ты сделала кое-что для меня. – Ее голос звучал высоко, ясно и холодно. – Видишь тот сундук?
Я видела его очертания. Продолговатый дубовый короб грузной тенью занимал дальний угол комнаты.
– Ты должна достать кое-что.
Я подняла крышку и почувствовала затхлый запах перьев и лежалых трав.
– Что же я должна найти?
– Нож. Нет, он не наверху, поглубже… Видишь его?
Я обернулась. Мэра устремила на меня твердый, немигающий взгляд.
Нож лежал среди белья, между третьим и четвертым пластами. Я вынула его из ножен, и острое лезвие блеснуло в моей руке. Я ожидала увидеть небольшой, богато украшенный клинок, какими вельможные женщины обычно нарезают себе мясо. Но это оказался скорее церемониальный кинжал – принадлежавший, вероятно, супругу Мэры. Я вернулась к постели и вложила его Мэре в ладонь. Она взглянула на клинок, провела рукой по инкрустированной камнями рукояти. Я задумалась на мгновение, как бы отреагировала, если б она вдруг попросила убить ее. Но нет, Мэра лишь вздохнула и положила нож рядом с собой. Затем устроилась поудобнее на подушках и спросила:
– Ты что-нибудь слышала? Знаешь, что там сейчас происходит?
– Нет. Знаю только, что они у самых ворот.
Жалко было смотреть на нее, старую женщину – а болезнь превратила ее в старуху, – в страхе ожидавшую вести о гибели ее сына.
– Если я что-то услышу, то обязательно дам знать…
Она кивнула, отпуская меня. В дверях я помедлила и оглянулась, но Мэра уже отвернулась.
2
Когда я вернулась, Рица купала больного ребенка. Чтобы добраться до нее, мне пришлось перешагнуть несколько спящих женщин.
Она заметила мою тень и обернулась.
– Как она?
– Плохо. Ей недолго осталось.
– Может, оно и к лучшему…
Рица смотрела на меня пытливым взглядом. Наша с Мэрой вражда была общеизвестна. Я сказала, словно в оправдание:
– Она могла пойти с нами. Мы могли перенести ее. Она сама не захотела.
Ребенок захныкал, и Рица убрала волосы с его потного лба. Его мать находилась рядом, но была занята капризным младенцем. Малютка хотел есть, но отказывался брать грудь. Я задумалась, насколько тяжелее смотреть в будущее, если нести ответственность еще и за других. Я несла груз лишь собственной жизни и, глядя на эту измученную женщину, чувствовала себя свободной – и одинокой. Потом мне пришло в голову, что между людьми может быть и иная связь. Да, я была бездетна – однако чувствовала себя ответственной за всех женщин и детей в этом зале, не говоря уже о рабах, теснящихся на нижнем уровне.
Становилось все жарче, и многие из женщин улеглись и пытались уснуть. Кое-кому и в самом деле удалось задремать, и на какое-то время зал наполнился храпом и сиплым дыханием. Но в большинстве своем женщины лежали, безучастно глядя в потолок. Я закрыла глаза и слушала, как кровь стучит в висках. Затем снова раздался боевой клич Ахилла, на этот раз так близко, что некоторые из женщин резко сели и теперь испуганно оглядывались. Мы все знали, что близится наш конец.
Спустя час, услышав грохот и треск ломаемого дерева, я взбежала по лестнице на крышу и перегнулась через парапет. Греки уже лезли через пролом в воротах. Я видела переплетение рук и плеч, но наши воины еще пытались оттеснить врага обратно за стены. Вскоре площадь, на которой в иные дни мирно торговали земледельцы, оказалась вытоптанной и обагрилась кровью. По не ясной мне причине в рядах сражающихся то и дело возникала брешь, и в один из таких моментов я увидела Ахилла в шлеме, увенчанном гребнем. Он устремил взгляд к лестнице дворца, где стояли Минес и мои старшие братья. Затем я увидела, что Ахилл пробивается к ним. Когда он добрался до лестницы, стражники сбежали вниз и попытались преградить ему путь. Ахилл вонзил одному из них клинок в низ живота. Кровь вперемешку с мочой хлынула на ступени, но на лице стражника не отразилось и тени страдания. Он лишь мягко, как мать новорожденного младенца, держал свои внутренности. Я видела рты, раскрытые, как алые цветы, но не слышала криков. Шум битвы накатывал и снова отдалялся, по временам совершенно затихая. Я впилась пальцами в парапет, так что ногти обломились о камни. В некоторые мгновения казалось, что время замерло. Мой младший брат, четырнадцати лет, едва ли в силах поднять меч своего отца, – я видела, как он умер. Видела, как блеснуло копье и как мой брат скорчился на камнях, будто заколотый поросенок. В этот миг Ахилл, словно все время мира было в его распоряжении, повернул голову и взглянул на башню. Он смотрел прямо на меня, или так мне показалось – помню, я даже отступила на шаг, – но солнце светило ему в глаза, и он не мог меня видеть. Затем Ахилл наступил моему брату на шею и с изяществом выдернул копье. Кровь ручьем потекла из раны. Долгую минуту мой брат пытался вдохнуть, после чего затих, и отцовский меч выпал из ослабевшей руки.
Ахилл между тем двинулся дальше, за следующей жертвой, и следующей. В тот день он убил шестьдесят человек.
Самая ожесточенная схватка развернулась на ступенях дворца. Мой супруг, бедный, неразумный Минес, отважно защищал свой город. А ведь до того дня это был слабый, бесхребетный и неотесанный мальчишка. Он умер, пронзенный копьем Ахилла, вцепившись обеими руками в древко, как будто его пытались отнять у него; на лице застыло искреннее удивление. Два моих старших брата погибли рядом с ним. Не знаю, как умер третий из моих братьев, но так или иначе, у ворот либо на ступенях, его настигла смерть. В первый и последний раз я возрадовалась, что моей матери нет в живых.
Все мужчины погибли в тот день, сражаясь у ворот или на ступенях дворца. Тех, кто был слишком стар, чтобы держать оружие, вытаскивали из домов и резали. Я видела, как Ахилл, забрызганный кровью с головы до пят, положил руку на плечо молодому мужчине и ликующе смеялся. Его копье волочилось за ним, оставляя борозду на обагренной земле.
Все произошло в считаные часы. К тому времени, когда тени пролегли над площадью, на ступенях перед дворцом высились кучи тел. Еще примерно час греки были заняты тем, что преследовали уцелевших воинов и обыскивали дома и сады, где могли укрыться раненые. Когда убивать стало некого, они принялись грабить. Подобно колоннам муравьев, мужчины по цепочке передавали трофеи и складывали у ворот, чтобы затем погрузить на корабли. Чтобы хватило места, они оттащили мертвых в сторону, под стены башни. Возле тел, принюхиваясь и истекая слюной, уже собирались собаки; их узкие нескладные тени черными контурами ложились на белые камни. Налетели вороны. Подобно черному снегу, они устилали крыши домов и стены, рассаживались по дверным и оконным проемам. Крикливые поначалу, птицы вскоре притихли. И стали ждать.
Греки разбились на группы, и теперь расхищение пошло более слаженно. Они тащили резную мебель, свертки дорогой материи, гобелены, доспехи, треноги, утварь, бочки с вином и зерном. То и дело мужчины садились передохнуть, кто-то на земле, а другие – на креслах или кроватях, которые несли. Они пили вино прямо из кувшинов, утирали рты окровавленными руками и неизбежно пьянели. И все чаще, по мере того как садилось солнце, поглядывали на узкие окна башни, где, как они знали, прятались женщины. Командиры обходили воинов, поднимали их на ноги, подгоняли, и те допивали вино и один за другим возвращались к делу.
Четыре часа я смотрела, как греки обчищали дома и храмы, забирая все то, что мой народ копил поколениями. И при этом они действовали так обстоятельно, так умело… Так, если стая саранчи налетит на поле, можно и не надеяться, что они оставят после себя хотя бы один колосок. Я беспомощно наблюдала, как враги дочиста разграбили дворец, мой дом. К тому времени многие женщины присоединились ко мне у парапета, но мы были слишком напуганы и охвачены горем, чтобы говорить. Когда брать стало уже нечего, пришел черед пьянства. На площадь выкатили несколько громадных бочек, и кувшины пошли из рук в руки…
А после они обратили взоры к нам.
Рабынь первыми выволокли из башни. По-прежнему стоя у парапета, я видела, как несколько мужчин насиловали женщину и, дожидаясь своей очереди, беззаботно разделяли кувшин вина. Два ее сына – лет по двенадцать-тринадцать – умирали от ран в нескольких шагах от нее, но были при этом недосягаемы. Несчастная тянула к ним руки и звала по именам, пока оба не испустили дух. Я отвернулась, не в силах смотреть дальше.
Между тем все женщины поднялись на крышу и сбились в кучу; девочки жались к своим матерям. С лестницы уже доносился смех греческих воинов. Арианна, моя двоюродная сестра по материнской линии, взяла меня за руку, и взгляд ее говорил: «Идем». После чего она взобралась на парапет и в тот самый момент, когда греки высыпали на крышу, бросилась вниз. В белой развевающейся тунике, она летела как опаленный мотылек. Казалось, минула целая вечность, прежде чем Арианна ударилась о камни, хотя все произошло в считаные секунды. Ее крик резко оборвался, и в гнетущей тишине я медленно выступила вперед и встала перед захватчиками. Они уставились на меня, внезапно оробев, словно щенята, не знающие, что делать с пойманным кроликом.
Затем появился седовласый мужчина и представился Нестором, царем Пилоса. Он церемонно поклонился, и я поняла, что в последний раз кто-то смотрит на меня и видит во мне царицу Брисеиду.
– Тебе нечего бояться, – сказал он. – Никто тебя не тронет.
Я была готова рассмеяться. Мальчиков, которые играли в защитников лестницы, давно оттащили прочь. Другой мальчишка, на год или два старше, но неразвитый для своих лет, жался к материнской юбке, пока кто-то из воинов не наклонился и не разжал его пухлые пальцы. Мы слышали его вопли «Мамочка, мамочка!» все время, пока его стаскивали по лестнице. После чего голос его смолк.
Я бесстрастно смотрела на Нестора и думала: «Я возненавижу тебя до своего последнего вздоха».
Все последующее словно подернуто пеленой. Но кое-что еще пробуждается в памяти и по-прежнему ранит подобно кинжалам. Нас согнали в кучу и при свете факелов повели узкими проулками нашего города. Наши слитые тени резко вырастали по белым стенам и растворялись в темноте. Мы миновали обнесенный оградой сад, и в теплом ночном воздухе витал аромат мимоз. Позднее, когда другие воспоминания изгладились, я еще чувствовала этот запах, и он терзал мне душу, напоминая обо всем том, что у меня отняли. Затем аромат рассеялся, и мы снова держались друг за дружку, молча скользя по аллеям, усеянным телами наших братьев.
И так до самого побережья. Перед нами раскинулось темное неспокойное море, и волны творожно-белыми брызгами разбивались о греческие корабли. Пуская в ход древки копий, нас загнали по приставным лестницам на борт, и мы сбились в кучу на палубе. Трюмы были набиты более уязвимым грузом. Мы в последний раз посмотрели на Лирнесс. Многие дома и храмы были объяты пламенем, пылало одно крыло дворца. Оставалось надеяться, что Мэра все же нашла в себе силы, чтобы убить себя прежде, чем до нее добрался огонь.
Загремели якорные цепи; корабли один за другим выходили в море. Едва мы вышли из гавани, предательский ветер наполнил паруса и понес нас прочь от дома. Мы столпились у борта и пожирали глазами пылающий город. Уже за то время, что мы пробыли на кораблях, пожар заметно разросся. Я думала о кучах трупов, сваленных на рыночной площади, и надеялась, что пламя пожрет их прежде собак. Но, о чем бы я ни думала, мне неизменно представлялись тела моих братьев, разорванные и растасканные по улицам. Какое-то время собаки будут еще огрызаться на ворон, что кружат над ними, и крупных, нескладных стервятников, ожидающих своей очереди. То и дело птицы будут разом вспархивать в воздух и медленно опускаться, как обугленные клочья материи и останки гобеленов, что украшали стены дворца. Потом собаки нажрутся до колик и улизнут из города, прочь от бушующего пожара, – и тогда уж наступит черед птиц.
Плавание было недолгим. Палуба качалась под ногами, и мы жались друг к другу, ища утешения. Многих женщин и почти всех детей тошнило – от качки и, полагаю, от ужаса. Но очень скоро мы повернули, и корабль вошел, рыская против течения, под защиту необъятной гавани.
Неожиданно последовали выкрики, команды, и вот мужчины уже швартовались – один из канатов скользнул поперек палубы и стеганул меня по ногам – или спрыгивали в море и по пояс в воде, преодолевая пенистые волны, шли к берегу. Мы так и держались друг за друга, в страхе перед тем, что нас ожидало. Когда корабль поворачивал, волна перехлестнула через борт, и мы вымокли и дрожали от холода. Корабль направили на отмель, и воины целыми группами спрыгивали в воду, чтобы вместе оттащить его от линии прилива. Затем нас по очереди переправили на сушу. Я обвела взглядом гавань и увидела сотни черных кораблей с хищно загнутыми носами. Больше, чем я когда-либо видела в своей жизни, – больше, чем могла вообразить. Когда все оказались на суше, нас погнали по берегу, через открытое пространство к рядам хижин. Рядом со мной шла юная девушка с черными волосами. Она была очень красива – если б только лицо ее не отекло от слез. Я прихватила ее за голое плечо и сжала. Девушка повернулась и уставилась на меня в изумлении. Я сказала:
– Не плачь.
Она продолжала таращиться на меня, и я повторила:
– Не плачь.
Нас построили перед хижинами и осмотрели. Двое мужчин обходили ряды женщин, приподнимали кому-то губу или оттягивали веки; другим давили на живот, сжимали грудь, запускали руку в промежность. При этом они переговаривались лишь между собой. Я поняла, что нас оценивали ради справедливого дележа. Некоторых оттирали и толкали в одну из хижин, а других уводили. Рица была в числе последних. Я попыталась удержать ее, но нас растащили. В хижине нам дали воды и хлеба, оставили бадью для отправления нужд и закрыли дверь на засов.
В хижине не было окон, но скоро глаза привыкли к темноте, и сквозь щели между досками проникало достаточно света от луны, так что мы могли видеть лица друг друга. Нас осталось совсем немного, лишь молодые женщины и девочки, красивые и здоровые на вид; некоторые держали у груди младенцев. Я огляделась в поисках Исмены, однако ее среди нас не оказалось. Нагретый спертый воздух, плач младенцев и, с течением времени, вонь из бадьи, которую нам пришлось использовать. Кажется, я вообще не сомкнула глаз той ночью.
Утром те же двое мужчин просунули в дверь охапку туник и велели нам одеться. Наша одежда, вымокшая после плавания, была перепачкана и измята, и мы стали послушно переодеваться. Пальцы не слушались, и приходилось возиться с каждой застежкой. Одна девочка, лет двенадцати или тринадцати, не больше, заплакала. Как мы могли утешить ее? Я погладила ее по спине и прижала к себе мокрое, разгоряченное лицо.
– Все будет хорошо, – сказала я, хоть и знала, что хорошо не будет.
Меня вывели первой. С четырнадцати лет я не выходила из дому без вуали и свиты, так что опустила глаза и уставилась на пряжки сандалий, отливающих на солнце. Последовали крики одобрения. Эй, вы только посмотрите на эти грудки! В основном добродушные замечания, но кое-кто кричал, в жутких красках расписывая, что сделал бы со мной и всеми троянскими потаскухами.
Появился Нестор. Это был старец семидесяти лет, не меньше. Он приблизился и заговорил чванливо, но без злобы:
– Не вспоминай о прежней жизни, это все в прошлом. Будет только хуже, если ты станешь раздумывать о ней. Забудь! Теперь это – твоя жизнь.
Забудь. И это было моим первым долгом, просто и ясно, как небо над головой. Помни.
Я закрыла глаза. Яркий свет окрасил мои веки оранжевым с пурпурными линиями. Крики вдруг стали громче: «Ахилл! Ахилл!» Затем поднялся гул, и я поняла, что он рядом. Вой, хохот, шутки, которые звучали как угрозы, да и были таковыми. Я была коровой, приведенной на заклание, – и поверьте, в тот миг смерть казалась мне желанной. Я закрыла уши руками и, собрав остатки сил, вернулась мысленно в Лирнесс. Прошла в неразрушенные ворота, вновь увидела дворцы и храмы, оживленные улицы, женщин, стирающих белье у колодца, крестьян, раскладывающих на рынке овощи и фрукты… Я заново отстраивала сожженный город, заселяла улицы; вернула к жизни моих братьев и супруга – и улыбнулась той изнасилованной женщине, идущей через площадь с невредимыми сыновьями… Это сделала я. Стоя посреди орущей толпы, я оттеснила их прочь с арены, к берегу и на корабли. Я, в одиночку. Отправила хищные корабли обратно домой…
И еще громче: «Ахилл! Ахилл!» Самое ненавистное из всех греческих имен. И вновь я увидела, как он остановился, пригвоздив моего брата к земле, и посмотрел на башню – как будто прямо на меня, – после чего вновь повернулся к нему и неторопливо и хладнокровно, даже с изяществом, выдернул копье из его шеи.
«Нет», – подумала я. И тихими, тенистыми улицами направилась с площади к дворцу, миновала ворота и шагнула в полумрак тронного зала – зала, в который я впервые вошла в день свадьбы. Оттуда сразу двинулась к своему любимому месту. Во внутреннем дворе росло дерево с раскидистыми ветвями, и даже самым знойным днем оно давало тень. Я любила сидеть там вечерами, слушать музыку, доносящуюся из зала. Звуки лиры и флейт разливались в ночном воздухе и смывали с меня все заботы прожитого дня. Вот и теперь я была там, смотрела, запрокинув голову, на дерево и луну, пойманную, как блестящая серебристая рыба, в сети чернеющих ветвей…
Чья-то рука, с пальцами, шершавыми от песка, взяла меня за подбородок и повернула в одну сторону, потом в другую. Я попыталась открыть глаза, но солнце жгло так сильно, и когда я наконец заставила себя разжать веки, он уже отошел. Встал посреди арены, поднял руки над головой, дождался, пока смолкнут крики, и произнес:
– Молодцы. Сойдет.
И все, каждый мужчина, что стоял на той выжженной площадке, все рассмеялись.
3
Неожиданно появились два стража и повели меня к хижине Ахилла. Слово «хижина», вероятно, дает неверное представление. Это было основательное строение, можно сказать, небольшой дом, с верандой по двум сторонам и лестницей, ведущей к главному входу. Меня провели по широкому коридору в крошечную комнатку без окон и просто оставили там сидеть. Я опустилась на кровать; меня трясло от холода и шока. Через какое-то время я осознала, что глажу рукой по шерстяному покрывалу, и заставила себя изучить его. Затейливый узор из листьев и цветов, очень тонкая работа, скорее всего, троянских мастериц – греческие ткани не шли ни в какое сравнение с нашими. Я задумалась, в каком из городов его добыли.
Где-то рядом гремели тарелки и подносы. В комнату тянуло запахом жареного мяса. У меня свело желудок, я ощутила привкус желчи и заставила себя сглотнуть, потом несколько раз глубоко вздохнула. На глазах выступили слезы, горло саднило. Вдох-выдох, вдох-выдох, ровно и глубоко…
Послышались тяжелые шаги, и дверь начала открываться. У меня пересохло во рту.
Вошел высокий мужчина. Не Ахилл. В руках у него был поднос с едой и вином.
– Брисеида? – спросил он.
Я кивнула. Хотя в тот миг ощущала себя вещью, у которой не может быть имени.
– Патрокл.
При этом он указал на себя, как будто я не вполне понимала его. Впрочем, я не могла винить его, потому как сидела с видом тупого мула. Но имя это было мне знакомо. Война тянулась довольно долго, и мы немало узнали о вражеских полководцах. Это был ближайший соратник Ахилла, второй после него человек. Хотя это вовсе не объясняло, с чего бы столь могущественному господину прислуживать рабыне.
– Выпей, – сказал Патрокл. – Тебе станет лучше.
Он щедро налил вина и протянул мне кубок. Я приняла его и для вида поднесла к губам.
– Здесь тебя никто не тронет.
Я уставилась на него, подмечая каждую деталь в его внешности – высокий рост, распущенные волосы, перебитый нос, – но не смогла выдавить ни слова. В конце концов он криво улыбнулся, поставил поднос на стол и вышел.
Поесть мне не удалось. Я долго пережевывала кусочек мяса, после чего сплюнула его на ладонь и спрятала под ободом тарелки. Сначала я решила, что с вином тоже не справлюсь, но сделала над собой усилие и все выпила. Уж не знаю, помогло ли оно, – может, и помогло. Вино оказалось крепким, и от такого количества, выпитого на пустой желудок, во рту и в носу все онемело – а тело я и так не чувствовала.
Из-за двери доносился гул мужских голосов, перекрывая все прочие звуки. Аромат жареной телятины стал ощутимее. Нашей телятины. Они угнали скот за три дня до того, как пал город. Так протянулся час. Все громче становились крики, чаще раздавался смех, звучали песни. Пение всегда оканчивалось грохотом по столу и взрывом одобрения. Где-то снаружи, кажется, в ночи заплакал ребенок.
В конце концов я встала и шагнула к двери. Она была незаперта. Впрочем, чего я ждала? С чего им утруждать себя? Все знали, что мне некуда идти. Я осторожно приоткрыла дверь, и шум сразу стал громче. Страшно было даже высунуться, но я чувствовала, что должна это увидеть. Узнать, что там происходит. Эта комнатка все больше напоминала склеп. Так что я прошла на цыпочках по короткому переходу, что вел в чертог, и заглянула в полумрак.
Моему взору открылась узкая, вытянутая комната с низкими потолками. Вдоль стен чадили закрепленные в скобах лампы. Воздух был напоен запахом хвои и смолы. Два стола, установленные на козлах, тянулись по всей длине комнаты. Пирующие теснились на скамьях и толкались, подхватывая кинжалами куски красного мяса. Лица блестели в свете ламп, кровь и жир стекали по их подбородкам. По потолку метались, ложась одна на другую, искаженные тени. Даже там, стоя в дверях, я чувствовала запах пота, пролитого за день, еще свежего, но за этим духом угадывался смрад старого пота прошедших дней и ночей, уводящий в глубокое прошлое, к первым дням этой нескончаемой войны. Я была маленькой девочкой и еще играла в куклы, когда прибыли черные корабли.
Ахилл и Патрокл сидели за небольшим столом, лицом к наружной двери, ко мне спиной. Но я видела, как часто они смотрели друг на друга. Все были в прекрасном настроении, похваляясь своими подвигами в Лирнессе. Песни звучали одна за другой, в том числе песня про Елену, в которой каждый куплет был похабнее предыдущего. Когда ее допели, последовал взрыв хохота – и пауза. Тут Ахилл отодвинул тарелку и поднялся. Пирующие не сразу это заметили, но вскоре голоса стали затихать. Ахилл поднял руки и заговорил на их невнятном северном диалекте. Обычно я без труда воспринимала греческий, но поначалу его акцент казался мне совершенно неразборчивым. Кажется, он говорил нечто в том духе, что не хочет прерывать пир, НО…
Он шутил над собой и сам при этом смеялся. Мужчины улюлюкали и свистели. Потом кто-то выкрикнул за дальним концом стола:
– Мы-то знаем, почему тебе хочется пораньше в кровать!
Они принялись колотить по столам. Кто-то затянул песню, и все заревели в такт ударам:
- Зачем родился он красавцем?
- На что родился он вообще?
- Никто не видит пользы в нем!
- Он бестолковый сукин сын!
- Пусть он для матери отрада,
- Но язва в жопе для меня!
И всё в таком духе. Я забилась обратно в свою каморку и затворила дверь. Но пение продолжалось, и я снова приоткрыла ее, оставив маленькую щель, так что было видно другую комнату. Я туда пока не входила, но заметила пышные гобелены, бронзовое зеркало и, у дальней стены, кровать.
Через минуту или около того в коридоре послышались тяжелые шаги. Я подалась назад, хоть и сознавала, что меня не видно. Патрокл прошел в комнату, и сразу за ним – Ахилл, закинув руку на плечо другу. Во всем его облике виделись ликование и расслабленность. Еще один удачный набег, еще один город разрушен, мужчины и мальчики убиты, женщины и девочки угнаны в рабство – в общем и целом отличный день. А впереди еще и ночь.
Они собирались еще немного выпить – Патрокл уже взял кувшин в руки, – но затем Ахилл кивнул в сторону двери, у которой я стояла, и глаза его сверкнули.
Патрокл рассмеялся.
– О да, она там.
Я отступила назад и села на узкую кровать, стиснув кулаки, чтобы пальцы перестали дрожать. Попыталась сглотнуть, но во рту все пересохло. Еще через несколько секунд дверь распахнулась, и гигантская тень Ахилла заслонила свет.
4
Что я могу сказать? Он не был ни груб, ни жесток. Я ждала, даже рассчитывала на это – но ничего подобного. В постели Ахилл был столь же стремителен, как и в битве. Я не видела разницы – в ту ночь во мне что-то умерло.
Я ненавидела его, хотя Ахилл имел на меня полное право. Если б ему досталось в награду оружие великого правителя, он не успокоился бы, пока не опробовал его – подняв щит, взвесив в руке меч, несколько раз рубанув им воздух… Так он поступил и со мной. Опробовал меня.
Я твердо решила, что не усну. Я была измотана, но в то же время так напряжена и напугана, что не могла пошевелиться. Поэтому, когда Ахилл закончил и слез с меня, я просто лежала, глядя в темноту, неподвижная, как бревно. Когда я моргала, веки болезненно скребли по пересохшим глазам. Наверное, в какой-то момент я все-таки уснула, потому что не заметила, как догорела лампа. Ахилл лежал лицом почти вплотную ко мне и тихо сопел. Его верхняя губа морщилась при каждом вдохе. Его тело дышало даром, и я отодвинулась к стене и повернула голову так, чтобы не смотреть на него.
Прошло несколько минут, и только тогда я обратила внимание на звук. Он присутствовал постоянно, я слышала его даже в полудреме. Возможно, дыхание Ахилла, но потом я поняла: нет, это море. Должно быть, от береговой линии нас отделяли несколько сотен шагов. Я слушала, как волны с шумом накатывают и, разбиваясь, с шелестом стекают назад. Эта бесконечная череда приливов и отливов укачивала меня, я словно лежала на груди кого-то любящего, того, кому могла довериться. Однако море не любит никого, и доверяться ему не следует. Внезапно я ощутила новое желание – стать его частью, раствориться в нем, стать морем, которое ничего не чувствует и не ведает боли.
Потом я, должно быть, снова заснула, поскольку, когда открыла глаза, Ахилла уже не было.
Мне стало тревожно. Может, следовало подняться раньше него, приготовить завтрак? Я понятия не имела, как на этом унылом клочке суши готовят пищу и входит ли это вообще в мои обязанности. Потом я задумалась: ведь у Ахилла множество рабов и все выполняют свою работу – ткут, готовят пищу, наливают ванну, стирают белье… Наверное, скоро мне скажут, чем я должна заниматься. Возможно, дел будет не так много – сверх того, что я уже делала. Я вспомнила: когда умерла мама и отец взял себе наложницу, ее освободили от всех прочих обязанностей…
Постель стала холодной. Я села и заметила, что он оставил одну из дверей открытой. В спальне было две двери, одна вела через комнатку – я уже не могла называть ее иначе как кладовой – и дальше по коридору в зал. Вторая выходила прямо на веранду, и оттуда открывался вид на побережье. Скорее всего, Ахилл вышел через нее, потому что дверь была распахнута настежь и скрипела на петлях.
Я завернулась в накидку и встала у порога. С моря тянул бриз, ветер разметал мои волосы и холодил потную кожу. Было по-прежнему темно, но полумесяц узким серпом сиял на небосводе, освещая хижины. Казалось, сотни их разбросаны по побережью. Между темными скученными силуэтами я видела манящие блики моря. Посмотрела вглубь суши и увидела слабое зарево над горизонтом, которое поначалу привело меня в замешательство. Но потом я поняла, что это, должно быть, огни Трои. Города, где дворцы, храмы и даже улицы освещаются по ночам. В лагере тропы между хижинами были узкие и утопали во мраке. Я думала, что попала в ужасное место, совершенно противоположное великому городу, в место, где правили тьма и жестокость.
Оттуда, где я стояла, шум разбивающихся волн напоминал звуки битвы, грохот мечей по щитам. Впрочем, в моем воспаленном сознании все звучало подобно битве, как будто не было в мире иного цвета, кроме красного. Я осторожно прошла по грубым доскам веранды и спрыгнула на землю. Постояла немного, перебирая ногами по сырому песку и испытывая облегчение оттого, что ощущаю хоть что-то после прошедшей ночи. Затем, босиком и в одной лишь накидке, отправилась искать проход к морю.
Полагаясь во многом на чутье, я отыскала тропу, которая уводила в сторону от хижин, вилась между дюнами, а затем резко спускалась к береговой линии. Под конец тропа напоминала скорее туннель – по обе стороны от меня высились поросшие тростником холмы. У меня перехватило дыхание в тесном пространстве, и я остановилась. Где-то в глубинах сознания теплился страх: что, если он вернется, захочет меня еще раз и не обнаружит в постели? В свете луны волны бежали по травам, шелестевшим на ветру. Я вышла к пляжу возле протока, что сочился среди камней и гальки и расширялся, подбираясь к кромке воды.
Теперь шуму волн вторил другой, более громкий звук: хлесткая дробь, раздражающая слух. Я не сразу догадалась, что это корабельные снасти хлопали по мачтам. Суда, в большинстве своем вытащенные за линию прилива и установленные на подмостках, черной массой громоздились слева от меня. В море на якоре стояли другие корабли, но то были небольшие грузовые посудины и имели столько же общего с хищными боевыми кораблями, как утки – с орланами. Я знала, что корабли охраняют на случай вылазки со стороны троянцев, и потому вернулась к дюнам, пересекла поросшую вереском пустошь и вышла к открытому морю.
И снова слышны были только волны, тот шум, подобный ударам мечей о щиты. Я стала спускаться по берегу в надежде разглядеть Лирнесс – скорее всего, пожар уничтожил город, но еще не потух. Однако, чем ближе я подходила к воде, тем плотнее становился туман. Густой морок растекался словно из ниоткуда, холодный и липкий, точно пальцы мертвого; он окутывал корабли, и их призрачные силуэты казались уже не вполне реальными. Странно, что такой туман появился и застаивался при столь сильном ветре, но он дарил ощущение свободы, и я чувствовала себя невидимой.
Где-то там, за хаосом кипящих волн, над тихой гладью, где суша терялась из виду, метались души моих убитых братьев. Без погребальных обрядов для них закрыты врата в подземное царство, и они обречены до скончания веков скитаться среди живых. Стоило мне закрыть глаза, и я снова видела смерть моего младшего брата. Я оплакивала их всех, но его особенно. Когда умерла мама, он искал утешения, но при свете дня стыдился этого и потому каждую ночь забирался ко мне в постель. И стоя там, на продуваемом берегу, я слышала, как он зовет меня, растерянный и неприкаянный, как и я сама.
В слепом стремлении дотянуться до них я вошла в море: щиколотки, колени, бедра – и внезапно пенистая волна хлестнула мне в промежность. Меня пробрал холод. Прямо там, расставив ноги и утопая стопами в песке, я погрузила руку под воду и вымыла его из себя. Я очистилась, насколько могла стать чистой после той ночи, и стояла по пояс в воде. Волны приподнимали меня на носки и вновь опускали, так что я качалась вместе с морем. Огромная волна неожиданно подхватила меня и едва не унесла за собой в пучину, и я подумала: «Почему нет?» Я чувствовала, что братья ждут меня.
Но потом мне послышался голос. В первый миг мне даже показалось, что это голос моего младшего брата. Я напрягла слух, вслушиваясь в грохот волн, и вот он донесся снова. Это определенно был мужской голос, но я не могла разобрать слов. И тогда я испугалась. Я жила в страхе все предыдущие дни – просто забыла, что значит жизнь без страха, – но то был ужас иного порядка. По коже побежали мурашки, и волосы зашевелились на затылке. Я убеждала себя, что голос доносится из лагеря, каким-то образом отражается стеной тумана, и кажется, что отзвук его долетает со стороны моря. Но потом я снова услышала этот голос и уже не сомневалась, что он разносится там, в море. Кто-то или что-то, резвилось среди кипящих волн. Какое-то морское существо – иначе и быть не могло – дельфин или касатка. Порой они подплывали очень близко к суше, даже выбрасывались на берег, чтобы схватить тюленя на скале. Затем мгла на миг расступилась, и я увидела человеческие плечи и руки, лунные блики на мокрой коже. Он взбивал воду, разбрасывая тучи брызг, и – внезапно затих и перевернулся вниз лицом, мягко качаясь на волнах.
Мужчины на этом побережье не учатся плавать. Они – мореходы и знают, что это умение лишь продлит страдания, тогда как смерть могла быть скорой и легкой. Но этот человек играл с морем подобно дельфину, словно оказался в родной стихии. И сейчас он лежал на поверхности, раскинув руки, и тянулось это так долго, что, казалось, он способен дышать под водой. Но вот он резко поднял голову и поплыл к берегу, вытянувшись, словно нерпа. Стоило лишь увидеть его лицо, и меня вновь сковал ужас, хоть я уже догадывалась, кто был в море.
Я развернулась и, загребая руками, быстро двинулась к берегу с одним желанием – поскорее вернуться и обсохнуть. Иначе как я собиралась объяснять все это? Но на мелководье заставила себя сбавить шаг, потому как брызги могли привлечь его внимание. Едва я ступила на берег, как ощутила резкую боль в правой стопе: острая галька вонзилась в ее свод, и мне пришлось наклониться, чтобы вытащить ее. Когда я подняла голову и увидела Ахилла, он уже не плыл, а медленно шел к пляжу по колено в воде. Я резко присела и затаила дыхание, но Ахилл прошел и не заметил меня, отирая глаза от соленых брызг. Я выдохнула и уже решила, что все позади и Ахилл вернется в лагерь. Однако он все стоял у кромки воды, глядя в морскую даль.
Когда Ахилл заговорил, я подумала, он обращается ко мне, и даже раскрыла рот, хоть и понятия не имела, что ему сказать. Однако тут он заговорил снова, но так, словно набрал в рот воды или захлебнулся, и я поняла, что не могу разобрать ни единого слога. Он как будто спорил с морем или оправдывался перед ним… Кажется, я смогла уловить лишь одно слово: мама. И это еще больше сбило меня с толку. Мама? Нет, должно быть, я ошиблась. И вот снова: мама, мама… Как если бы малолетнее дитя просилось на руки. Пусть оно значило нечто иное, и все-таки во многих столь разных языках это слово звучит так сходно… Что бы это ни означало, я сознавала, что не должна слышать этого, но боялась пошевелиться, поэтому припала к земле и ждала. Казалось, этому не будет конца. Но вот вязкой массой упали последние слова.
Солнце показалось над горизонтом, и туман стал редеть. Ахилл развернулся и пошел по берегу. Я смотрела, как рассветные лучи играют на его мокрых плечах, пока он не скрылся в тени своих черных кораблей.
Едва уверившись, что он ушел, я опрометью бросилась через дюны. Однако заблудилась, как только оказалась в лагере. Я стояла мокрая, перепачканная и напуганная и не знала, куда идти. Но потом в дверях одной из хижин показалась девушка и знаком велела войти. Ее звали Ифис. В то утро она выходила меня, даже наполнила ванну, чтобы вымыть соль из моих волос. Когда я скинула накидку и уже собиралась влезть в ванну, что-то стукнулось об пол, и я поняла, что принесла ту самую гальку с пляжа. Из ранки в стопе еще текла кровь. Камешек лежал у меня в ладони, и я поминутно разглядывала его, как другие в минуты потрясений, бывает, все свое внимание направляют на какую-нибудь безделицу. Он был зеленого цвета, ядовито-зеленого, как море в шторм, но с белой прожилкой. Ничего примечательного, обыкновенный камешек – разве что острый. Невероятно острый. Я поднесла его к лицу и потянула носом – морская вода и песок. Облизнула – шершавый и солоноватый. Затем коснулась пальцем острой грани: неудивительно, что порез оказался таким глубоким. Почти не прилагая усилий, я провела им по запястью – осталась тонкая царапина, и на ней красными точками выступала кровь. Было какое-то странное удовлетворение в этом истязании собственной окоченелой плоти, и мне стало любопытно, как далеко это может зайти. Я попыталась порезать себя еще раз, но что-то остановило меня. Я не знала, почему море послало мне этот дар, но была уверена, что у него иное предназначение. Если бы мне захотелось ранить себя, в лагере кругом были клинки. Поэтому я снова положила камешек на ладонь и просто смотрела на него, ни о чем не думая. На берегу столько камней, миллионы, и все отшлифованы, скруглены неустанным движением волн – но только не этот. Он остался острым.
Этот камешек стал для меня чем-то особенным. Я и сейчас держу его в руке.
Ифис принесла чистую сухую одежду, и я стала одеваться. Вернее сказать, Ифис одевала меня, а я просто стояла как деревянная. Когда и с этим было покончено, я спрятала камешек под пояс, и он вреза´лся в кожу при малейшем движении. Это причиняло неудобство, но в то же время успокаивало, напоминало о море и побережье – и той девочке, какой я была когда-то и какой уже не стану.
5
Что мне лучше всего запомнилось – если отбросить тот ужас первых дней, – так это невероятный контраст богатства и убожества. Ахилл ел с золотых блюд, вечерами клал ноги на скамейку со вставками из слоновой кости и спал на простынях, затканных золотыми и серебряными нитями. Каждое утро, расчесывая и заплетая волосы – даже девушка перед собственной свадьбой не наряжалась с таким тщанием, как Ахилл перед битвой, – он смотрелся в бронзовое зеркало, которое вполне могло бы составить царский выкуп. Насколько я знаю, оно и досталось ему от царя. И вместе с тем, когда приходила нужда, Ахилл брал лоскут грубой материи из кучи в углу и отправлялся в отхожее место, где стояла тошнотворная вонь и тучами кружили мухи. И по пути он миновал кучи отбросов, которые следовало регулярно сжигать, но никто этого не делал, и в конечном счете они стали настоящей житницей для крыс.
Это второе, что я хорошо помню: крысы. Они были повсюду. Бывало, если случалось идти по тропе между рядами хижин, земля под ногами вдруг приходила в движение – настолько все было ужасно! Их численность могли бы сдерживать тощие полудикие собаки, что бродили по лагерю, но по каким-то причинам этого не происходило. Мирон следил за порядком в стане Ахилла и часто устраивал состязания в ловле крыс. Победитель получал в награду кувшин крепкого вина. И молодые воины расхаживали с черными тушками, наколотыми на копья: крысиный кебаб. Но, сколько бы они ни убивали их, крыс становилось еще больше.
Я пытаюсь – возможно, несколько сумбурно – передать первые впечатления от лагеря, хотя была не в состоянии что-либо воспринимать. В каком-то смысле все было просто: море, пляж, песчаные дюны, клочок вересковой пустоши и поле битвы, протянувшееся до самых стен Трои. Это из того, что я видела, но мы, пленные женщины, конечно, не покидали пределов лагеря. Пятьдесят тысяч воинов и их слуги теснились на узкой полосе суши. Хижины были маленькие, тропы между ними – узкие, и все казалось каким-то стиснутым. И в то же время – беспредельным, потому что лагерь составлял весь наш мир.
Со временем тоже творилось что-то странное: оно растекалось, стягивалось и оборачивалось вспять, принимая форму воспоминаний, более реальных, чем повседневность. Какие-то мгновения – вроде тех, когда я рассматривала камешек – растягивались на целые годы, но затем целые дни проносились в пелене ужаса и скорби. Ничего не помню из того, что происходило в те дни.
Впрочем, рутина понемногу брала свое. Я должна была лишь прислуживать Ахиллу и его приближенным во время ужина. Таким образом, я каждую ночь была на виду – и без вуали, – и поначалу это ввергало меня в ужас, потому что я привыкла вести замкнутую жизнь, скрытую от мужских взглядов. Я не сразу поняла, зачем Ахиллу это нужно. Но потом вспомнила, что я досталась ему в награду, в воздаяние за убийство шестидесяти человек. Конечно, ему хотелось похвастаться мною перед гостями. Было бы глупо заполучить трофей и прятать его где-то в кладовой. Хочется держать его у всех на виду, чтобы другие завидовали.
Я ненавидела разносить питье во время трапезы, но Ахиллу, конечно же, не было до этого дела. И, что странно, вскоре это перестало волновать и меня. Свободному человеку этого не понять. С рабом не обращаются как с вещью. Раб и есть вещь, как в собственном видении, так и в глазах окружающих.
Так или иначе, я расхаживала вдоль столов, наполняла кубки вином и улыбалась – постоянно улыбалась. Все взоры были обращены ко мне, и тем не менее, когда я склонялась над их плечами, никто не пытался облапать меня и не отпускал похабных шуток. Я была под защитой, как во дворце моего супруга, – возможно, даже лучшей, поскольку каждый понимал, что стоит переступить черту, и придется отвечать перед Ахиллом. Иными словами, расстаться с жизнью.
Ахилл и Патрокл сидели за отдельным столом. Они поднимали тосты и смеялись вместе со всеми, пока разговоры не перерастали в размеренный гул. И тогда они разговаривали преимущественно друг с другом. Если вспыхивала ссора – а они вспыхивали, и довольно часто, ведь эти люди с детских лет приучены отвечать на малейшие уязвления собственной чести, – так вот, Патрокл немедленно вставал, успокаивал и примирял воинов, призывал пожать руки, обменяться шутками и, наконец, сесть за стол друзьями. После он возвращался к Ахиллу, и их беседа тотчас возобновлялась. Нельзя сказать, что это были отношения равных, пусть Ахилл и был неизменно обходителен и всегда – по крайней мере, на глазах у других – называл Патрокла «благородным» или «сиятельным». Однако тот явно находился в подчинении, на вторых ролях. Впрочем, это не вся истина. Однажды я увидела, как они вместе шли по пляжу, и Патрокл положил руку Ахиллу на шею. Такой жест, возможно, подобал в отношении сына или младшего брата, но вряд ли кто-то еще в лагере, позволив себе подобное, остался бы при этом в живых.
Похоже, что ты подолгу за ним наблюдала.
Да, я наблюдала за ним. Каждую сознательную минуту – а я редко позволяла себе засыпать в его присутствии. Странно – я сказала, что «наблюдала за ним», и сразу захотелось добавить «словно коршун». Ведь именно так говорят люди? Так обычно описывают пристальный, немигающий взгляд. В моем случае все обстояло иначе. Ахилл был коршуном, я же – его пленницей, с которой он мог делать все что вздумается. Я была целиком в его власти. Если однажды утром он проснулся бы и решил забить меня до смерти, никто не помешал бы ему. О да, я смотрела на него, смотрела как мышь.
После ужина я проводила остаток вечера с Ифис, наложницей Патрокла, доставшейся ему от Ахилла. Обычно мы сидели на кровати в кладовой и ждали, когда нас призовут. Патрокл посылал за ней почти каждую ночь, что неудивительно при ее нежности и красоте. Она была подобна ветренице, дрожащей на своем тонком стебельке, такая хрупкая, что, кажется, не выдержит и легкого дуновения, и все же никакой ветер ее не сломит. Мы много разговаривали, однако не касались прошлого и не рассказывали, какую жизнь вели, прежде чем оказались здесь. Так что в каком-то смысле я знала о ней очень мало. Именно так, мы все заново рождались в свой первый день в лагере. Ифис понимала, как ей повезло, что она досталась Патроклу, неизменно доброму. Я заметила, как тот внимателен к ней и ласков, но подозревала, что он предпочитал Ифис другим девушкам только потому, что получил ее от Ахилла.
Поначалу Патрокл не внушал мне доверия своей добротой, потому что я не могла постичь этого. В грубом безразличии Ахилла было куда больше смысла. Едва ли он удостоил меня парой слов. Но когда моя настороженность стала слабеть, я помногу разговаривала с Патроклом. Помню, как однажды он застал меня плачущей и сказал, чтобы я не терзалась – что он может подтолкнуть Ахилла взять меня в жены. Это было так неожиданно, что я не знала даже, как ответить, и поэтому просто помотала головой и отвернулась.
Моим утешением стали предрассветные вылазки к морю. Я заходила по пояс в воду и, стоя на носках, чувствовала, как волны, откатываясь, тянут меня за собой. Нередко с моря наползал туман, иногда такой плотный, что я не видела ничего вокруг. Окутанная этим саваном и будто невидимая, я ощущала умиротворение или была к этому очень близка. Мои братья, чьи непогребенные тела, должно быть, лежали теперь кучей обглоданных костей, словно слетались ко мне. Эта полоса гальки, у самой кромки воды, принадлежавшая попеременно то морю, то суше, стала естественным местом наших встреч. Эфемерные в своей сути, их души не принадлежали ни к живым, ни к мертвым. Что можно было сказать и обо мне.
Окутанная туманом и невидимая, я все же была не одна. Ахилл плавал каждое утро перед рассветом, хоть наши пути никогда не пересекались. Он или не замечал меня, или просто не обращал внимания. Я не представляла для него интерес, и он вообще не воспринимал меня как личность. Когда за ужином я ставила перед ним блюдо или кубок, он не удостаивал меня даже взглядом. Я существовала для него лишь в постели. Да и тогда была скорее предметом, составленным из частей тела. В частях тела Ахилл разбирался превосходно, в этом состояло его ремесло. Лишь однажды я действительно почувствовала на себе его взгляд – в тот краткий миг, когда он рассматривал меня перед войском. Да, Ахилл смотрел на меня, но только затем, чтобы убедиться, что вознаграждение соразмерно его заслугам.
Он не говорил со мной, не смотрел на меня – но посылал за мной каждую ночь. Я успокаивала себя тем, что однажды – и возможно, уже скоро – все переменится. Ахилл вспомнит Диомеду, девушку, которая была его любимицей, пока не появилась я. Или, что лучше, разграбит еще один город – видят боги, его жажда к разорению городов не знает границ, – и войско преподнесет ему в награду очередную напуганную, дрожащую пленницу. И тогда уже она будет прислуживать гостям, ее Ахилл захочет выставить напоказ. А я смогу наконец-то укрыться в безвестности женских хижин.
Перемены все же были – все так или иначе меняется, – но иного характера, вопреки моим надеждам. Не знаю, как долго я пробыла в лагере. Думаю, недели три. Как я уже говорила, ход времени отследить было невозможно. Мы жили словно в пузыре, без прошлого и без будущего – лишь в бесконечно повторяющемся сейчас. Но, полагаю, сначала изменения стали происходить во мне. Оцепенение начало спадать, и ему на смену пришла боль, до того глубокая, что я уже не знала покоя. До того момента я пребывала в полной апатии, едва могла сомкнуть глаза и в то же время была совершенно безучастна к происходящему. Теперь же мною постоянно овладевало отчаяние, даже чувство безнадежности. Тогда, у парапета башни, когда Арианна протянула мне руку, прежде чем принять смерть, я предпочла жизнь. Но если б я вновь оказалась перед выбором, уже зная то, что знала теперь… Какое решение приняла бы я в таком случае?
Однажды вечером, сразу после ужина, вместо того чтобы остаться с Ифис в крошечной комнате и дожидаться, когда нас позовут, я отправилась к морю. Обычно, когда мужчины заканчивали трапезу, женщинам позволялось быстро перекусить, но меня тошнило, и сама мысль о еде была непереносима. Я шла по тропе между дюнами, и ноги зарывались в мягкий песок. Мысли о братьях дарили мне ощущение, близкое к радости. Пока я была жива и помнила о них, они тоже в каком-то смысле жили. И мне хотелось дожить до того момента, когда я увижу Ахилла на погребальном костре. Но такие мгновения были мимолетны, и за ними неизменно следовало осознание реальности. Я буду делить постель с Ахиллом, пока он не устанет от меня, и тогда мне останется лишь таскать воду или нарезать и разбрасывать тростник по полу. А когда закончится война, меня увезут во Фтию – потому что греки победят, я знала это, я видела Ахилла в бою. Троя будет разрушена, как Лирнесс. Еще больше вдов, больше напуганных, забитых девочек. Мне не хотелось доживать до этого мига.
Я вошла в море, как делала это и прежде, но в этот раз не останавливалась, пока вода не сомкнулась у меня над головой. Лунные отсветы играли по белому песку у меня под ногами. Я попыталась сделать вдох, но удивительно, как упорно старается выжить тело, когда дух уже готов сдаться. Я не смогла заставить себя вдохнуть, и вскоре грудь словно стянуло железными цепями. Против своей воли я оттолкнулась, вынырнула и стала судорожно глотать воздух.
Когда я вернулась, перепачканная и удрученная, Ифис еще ждала меня. Она надела на меня чистую сухую тунику и завернула намокшие волосы в узел на затылке, чтобы было не так заметно. Все это время она что-то озабоченно приговаривала, гладила меня по плечам и по лицу и вообще делала все, что могла, только бы вернуть мне пристойный вид. Но потом ее призвал Патрокл, и ей пришлось уйти.
Я осталась одна. Ахилл в соседней комнате играл на лире, как и всегда в это время. Ту мелодию, которую он играл, завершали несколько переливчатых нот, как последние капли дождя после шторма. Мелодия казалась мне знакомой, я как будто не раз слышала ее прежде, но никак не могла вспомнить. Я слушала, пока музыка не смолкла – этого мига я всегда ждала с ужасом. Слышно было, как Ахилл отложил лиру на стол возле своего кресла, а через минуту дверь распахнулась, и он знаком велел мне входить.
Я скинула с себя тунику и постояла несколько мгновений, растирая мокрые руки, после чего скользнула под простыни. Ахилл не спешил. Он допил вино, взял в руки лиру и еще раз сыграл окончание той мелодии. Я лежала и слушала, с затаенной ненавистью глядя на пальцы, перебирающие струны. Я заучила каждое движение этих ухоженных рук – впрочем, под ногтями еще видны были багровые крапинки, кровь не отмывалась даже после ароматных ванн. Я пристально за ним наблюдала (единственная причина тому – страх) и чувствовала, что знаю о нем всё; больше, чем его воины, больше, чем кто-либо другой, за исключением Патрокла. Всё – и ничего. Потому что не могла представить, каково это – быть таким, как он. И со своей стороны Ахилл обо мне не знал ничего. Что меня вполне устраивало – уж я-то точно не искала его понимания.
Через некоторое время Ахилл забрался в постель. Я закрыла глаза. Хотелось, чтобы он притушил лампу, хоть я и знала, что он не станет этого делать. Ахилл лег на бок, и я почувствовала, как он обхватил мои груди этими ужасающими руками. Я поборола в себе желание отпрянуть…
Внезапно Ахилл замер.
– Что это за запах?
Это были едва ли не первые его слова, обращенные ко мне. Я чуть отстранилась от него. Хоть и понимала, что совершаю ошибку, но ничего не могла с собой поделать. Ахилл подался вперед, вдыхая запах с моей кожи и волос. Я догадывалась, как он воспримет все это – соль на моих скулах, запах водорослей в волосах. И уже приготовилась, что он столкнет меня с кровати или ударит – что в конце концов выплеснет на меня злобу, кипящую внутри…
Но я глубоко заблуждалась.
Ахилл зарычал и зарылся лицом в мои волосы, затем принялся кусать и облизывать кожу, пока не добрался до грудей. Когда же он взял в рот мой сосок, я даже выгнула спину от неожиданности. Это даже отдаленно не походило на страстные ласки – так голодный ребенок сосал материнскую грудь, с таким рвением, что не мог ухватить сосок и приходил в неистовство. Ахилл стукнул меня кулаком в грудину, потом опомнился и стал набивать в рот мои просоленные локоны. Затем опять вернулся к грудям, обхватывая целиком соски и крепко сжимая их зубами. Возможно, вы спросите: «Почему тебя это так потрясло?» Могу сказать одно: это был не мужчина, это был ребенок. Когда Ахилл наконец отпустил меня, на его лице застыл тот опьяненный, остекленелый взгляд объевшегося младенца. Ничего подобного я не видела на лице мужчины прежде – да и впредь.
Под конец Ахилл посмотрел на меня – он выглядел озадаченным, даже смущенным. Я ждала, что он ударит меня, и не потому, что я сказала что-то или сделала – или не сказала чего-то и не сделала, – просто потому, что я стала этому свидетелем. Я узнала его нужду. Однако Ахилл лишь отвернулся на бок и притворился, что засыпает.
6
Все переменилось, и не в лучшую сторону. Грубое, прозаическое использование моего тела ради облегчения осталось в прошлом. На смену ему пришла страсть – страсть, но без намека на нежность. Ахилл любил меня – да уж! – так, словно надеялся, что очередной акт убьет меня. Однажды он буквально растолок меня в порошок, в другой раз стиснул так, будто боялся, что я могу внезапно исчезнуть. Порой мне казалось, что он просто-напросто задушит меня.
Ифис то и дело спрашивала, в порядке ли я. А я лишь кивала и продолжала заниматься своими делами. Все чаще я выбиралась за пределы женских жилищ, но поначалу ходила только к ближайшим огням, где встречала хотя бы пару женщин, которых знала в Лирнессе. Я видела мир вокруг, ощущала тепло солнечных лучей… Я выжила. Ну если можно так выразиться. В лагере хватало женщин, чьих сыновей убивали у них на глазах, которые до сих пор не разговаривали и лишь таращились в пустоту. В буквальном смысле, можно хлопнуть в ладоши у них перед самым носом, и они даже не моргнут.
Впрочем, не все так просто. Как ни странно, были и такие женщины, чья жизнь изменилась к лучшему. Одна девушка, которая в Лирнессе была рабыней – рабыня на кухне, низшая из низших, – теперь стала наложницей великого правителя, в то время как ее госпожа, плоская женщина с обвислым животом и уже на склоне детородного возраста, побиралась у костров в поисках еды. Отныне значение имели лишь юность, красота и плодовитость.
Все осваивались на свой лад. Две женщины мне особенно запомнились – сестры, я полагаю. Они весь день проводили у ткацких станков, никогда не выходили, если не считать короткой прогулки поздним вечером. Шагали вместе, рука об руку, закутанные в вуали, так что оставалось лишь гадать, как они не спотыкались. Они как будто надеялись, что, соблюдая ограничения, принятые в жизни уважаемой женщины, им удастся вернуться к прежней жизни и изменить свое нынешнее положение. Я смотрела на них и думала: «Они безумны».
Во всяком случае, я выбрала иной путь. Я выходила на прогулку каждое утро, одна и без вуали. Порой удалялась вдоль береговой линии до самого мыса, где сжигали мертвых. Оттуда открывался вид на многие мили вокруг. Ясным днем можно было разглядеть разрушенные башни Лирнесса. Можно было пойти в другом направлении, вглубь суши, по грязным, истоптанным тропам через дюны и вересковые пустоши, к полю битвы. Оттуда, через долину, была видна Троя. Порой можно было даже увидеть отблеск солнца на золотой короне Приама. Он почти всегда стоял у парапета, глядя на поле боя, а рядом с ним, перегнувшись насколько можно, белым пятном стояла Елена.
С трудом верилось, что война длится так долго. Девять лет они сражались за долину Трои; линия постоянно сдвигалась, но незначительно – никакой из сторон не удавалось переломить ход. На месте плодоносной некогда равнины теперь простиралась вытоптанная пустыня, отчего осенью и зимой две реки, пересекающие долину, постоянно разливались. Деревья были вырублены еще первой зимой на постройку хижин и починку кораблей. Птицы исчезли. Просто удивительно, как редко они попадались там – разве что одинокий ястреб кружил над разоренной землей.
Я нечасто ходила в ту сторону. Больно было смотреть на Трою, где я провела когда-то два счастливых года.
Понемногу я познакомилась с другими «наградами» – женщинами, преподнесенными войском своим царям. Мы встречались в стане Нестора, потому что он располагался ближе всего к главной арене, и это было удобно для всех. Гекамеда, отведенная Нестору, когда Ахилл разорил Тенедос, наполняла чаши крепким вином и ставила блюда с хлебом, сыром и оливками. Она была примерно одного со мной возраста – около девятнадцати лет, с гладкими волосами и бронзовой кожей. Сноровистая и проворная в движениях, она напоминала мне юркого королька. Ее преподнесли Нестору в награду за «стратегические думы», поскольку он был слишком стар, чтобы участвовать в рейдах.
– Слишком стар и для?.. – рискнула я спросить.
Юза фыркнула.
– Если бы! Эти старики хуже всех. Думают, если что-то сделать – что-нибудь еще, такое, что ты и не сделаешь даже, – тогда у них встанет крепче скалы… Нет уж, лучше с молодыми.
Юза была наградой Одиссея, и похоже, что ее это вполне устраивало. Для нее все было предельно просто. По окончании Одиссей лежал, глядя в потолок, и предавался долгим, бессвязным воспоминаниям о Пенелопе, своей супруге, которой был предан до слез.
– Все они говорят о своих женах, – сказала Юза, сдерживая зевок.
Сложно было сказать, кем была Юза, пока не пал Тенедос, хоть я и рискнула бы предположить.
Рица повернулась ко мне.
– А что с Ахиллом? Каков он?
– Быстрый, – ответила я, ничего не добавив.
Я рада была вновь увидеть Рицу. Она досталась Махаону, главному лекарю войска. И дело не столько в ее наружности – ну, скажем откровенно, дело вовсе не в наружности, – сколько в ее умениях в медицине. Рица вдова и старше нас всех. В обычных обстоятельствах ей не пристало бы вести подобные разговоры в присутствии юных девушек.
Самой младшей из нас, Хрисеиде, было всего пятнадцать. Ее отец был жрецом, и в то время, когда пал Тенедос, она еще жила в его доме. Агамемнон выбрал ее из пленных девушек, выстроенных перед ним для осмотра. Как предводитель войска он всегда выбирал первым, хотя все тяготы сражений брал на себя Ахилл. Хрисеида оказалась такой милой – как это часто бывает в этом цветущем возрасте. Поначалу она выглядела очень застенчивой, но со временем я поняла, что дело вовсе не в робости. Хрисеида была невероятно сдержанна. Когда умерла ее мать, она была еще совсем ребенком, и потому с ранних лет стала госпожой в доме отца и, помимо прочего, прислуживала ему в храме. Взвалив на себя эту двойную ношу, Хрисеида повзрослела не по годам. Когда мы только встретились, она говорила очень мало – из робости, сдержанности или ханжества, не могу сказать, – но все наше внимание было приковано к ней. Когда она уходила слишком рано, мы тотчас принимались это обсуждать. Но не предавались злостным сплетням – мы все за нее переживали. Хотя, с другой стороны, как отметила Юза, по сравнению с нами Хрисеида все же оказалась в завидном положении: Агамемнон просто не мог ею насытиться.
– Никого не желает, кроме нее, – сообщила Юза. – Удивительно, как она еще не забеременела.
– Он предпочитает задний проход, – отметила Рица.
Уж она-то знала, о чем говорит. Она приготовила мазь из гусиного жира с растертыми травами и кореньями, и женщины в лагере приходили к ней, если ночь выдавалась особенно тяжелой. Рица была слишком осмотрительна, чтобы рассказывать о визитах Хрисеиды, но все и так было очевидно.
– В самом деле? – спросила Юза. – Ну да, она же такая худенькая…
И она откинулась, заложив руки за голову, демонстрируя собственные округлые формы.
– Он ее любит, – заметила Гекамеда.
Юза фыркнула.
– Ага, пока она не наскучит ему. Помнишь, как там ее звали… ах, чтоб ее, начинается на «вэ»… Ну все думали, что у них любовь, но это не помешало ему отдать ее воинам. А потом была…
– Они так делают? – спросила я.
– Что?
– Отдают своих женщин воинам?
Юза пожала плечами.
– Это все знают.
– С Хрисеидой этого не случится, – возразила Гекамеда. – Он одержим ею.
– Ну, надеюсь, ты права.
Рица потянулась и зевнула.
– Все, что ей нужно, – это родить ему сына.
– Как ты себе это представляешь? – спросила я. – Через задний проход?
Взрыв хохота. Сейчас кажется невероятным, что мы тогда смеялись. Но смеялись мы помногу. Наверное, важно учесть, что ни одна из нас не теряла детей.
Приходила еще одна женщина, хоть и реже других, – Текмесса, награда Аякса. Она провела в лагере четыре года и родила сына, в котором Аякс души не чаял. Поскольку его стан располагался рядом со станом Ахилла, мы часто возвращались вместе. Это была крупная женщина, и прогулки в жару давались ей тяжело. Так что мы шли очень медленно, и у нас была масса времени на разговоры. Но я не ощущала симпатии к Текмессе или иного чувства, кроме раздражения и жалости. Аякс убил ее отца и братьев и овладел ею той же ночью. А она умудрилась полюбить его – ну или так утверждала. Я не вполне ей верила. Впрочем, мне и не хотелось верить. Ее смирение казалось мне пугающим – и постыдным. Но у нее был сын, и вся ее жизнь вращалась вокруг ребенка.
Другой ее страстью была еда. Гекамеда часто выставляла лакомство из сушеных фруктов и орехов в меду – до того сладкое, что после трапезы больше одного-двух кусочков в рот не лезло. Текмесса же могла съесть целое блюдо. Мы потрясенно наблюдали за ней, то и дело переглядываясь, но ничего не говорили.
Пару раз Текмесса принималась советовать мне, как примириться с новой жизнью. Хоть она и делала это из добрых побуждений, я ощущала лишь досаду. Она говорила, что мне следовало пробудить любовь в сердце Ахилла.
– Ты же знаешь, у него нет жены и всего один сын. Это ничто для такого человека, как он. Он мог бы взять ее в жены, но не сделал этого.
Сына назвали Пирром, и Ахилл видел его лишь младенцем. Мальчика воспитывали в семье матери.
– Это совсем не то, – настаивала Текмесса. – Быть рядом со своим ребенком и видеть, как он растет, – это другое.
Посыл очевиден: имелось свободное место, и я буду дурой, если не попытаюсь его занять.
– Посмотри на меня. Аякс готов целовать землю, по которой я хожу.
«Ну да, – подумала я, – посмотри на себя. Если твоя жизнь такая сказочная, почему ты не перестаешь набивать рот?»
Как-то раз Текмесса явилась закутанная в плотную накидку, несмотря на зной. Когда она наклонилась за игрушечным корабликом, складки расправились, обнажив шею – и темные синяки от пальцев. Текмесса понимала, что мы всё видели. Повисло долгое молчание. И вот:
– Не такая уж идиллия? – спросила Юза, как будто в пустоту.
Рица покачала головой, но было уже поздно. Лицо Текмессы покрылось уродливыми красными пятнами.
– Это не его вина, – сказала она. – Его мучают ночные кошмары, иногда он просыпается и видит во мне троянца.
– Ты и есть троянка, – заметила я.
– Нет, я имею в виду троянского воина, – возразила Текмесса.
По дороге домой – это она так выразилась, – Текмесса рассказала о событиях прошедшей ночи, как ей пришлось молотить Аякса кулаками, чтобы тот пришел в себя.
– Он ничего не может с собой поделать.
Бедной женщине, наверное, хотелось излить кому-нибудь душу, но я меньше всего годилась на эту роль…
– У Ахилла бывают кошмары?
Я молча помотала головой.
– Будут. Рано или поздно это у всех начинается. Однажды ночью он проснется и увидит в тебе врага.
– И будет недалек от истины.
– Ты не будешь так говорить, когда родишь ему.
Так и сказала: когда. Не если.
К тому времени я уже уверилась, что не смогу забеременеть. За четыре года в браке я так и не родила столь долгожданного сына. Но известно, что холостая кобыла иногда может и понести, если ее покрывает другой жеребец. Я задумалась. У Текмессы был маленький сын, и по всему лагерю попадались женщины с раздутыми животами или с орущими младенцами на руках. У тех, кто пробыл в лагере дольше всего, дети уже болтались без присмотра вокруг костров. И все-таки я была уверена, что со мной этого не случится. Впрочем, я не полагалась лишь на свою убежденность и по-прежнему каждое утро вымывала его из себя – вопреки собственным интересам, как сказала бы Рица. И часть меня прекрасно понимала, что Нестор был прав: прежняя жизнь осталась в прошлом. Нет смысла цепляться за прошлое, к которому уже нет возврата. Но я продолжала цепляться, потому что в том утраченном мире хоть кого-то собой представляла, играла какую-то роль в жизни. И я чувствовала, что если отпущу прошлое, то окончательно потеряю себя.
Мы с Текмессой распрощались у стана Аякса, и последнюю сотню шагов я прошла в одиночестве. Я смотрела, как женщины вокруг возятся у костров, носят котлы и готовятся к возвращению воинов. Из всех женщин в лагере этим приходилось тяжелее всего. У многих были округлые синяки от ударов тупым концом копья. Они обитали возле костров и спали под хижинами, самым младшим из них было не больше девяти или десяти лет. Я считала, что их жизнь никак не пересекается с моей, но теперь узнала, что Агамемнон, по крайней мере, отдавал воинам одну из своих наложниц для общего пользования. Когда она ему надоедала, или чем-то вызывала его недовольство, или же он просто решал, что его люди заслужили награду. Поступал ли так Ахилл? Я понятия не имела – только почувствовала, что лагерь стал вдруг еще более враждебным местом.
Когда я миновала ворота – днем они всегда были открыты, – меня уже переполнял ужас перед грядущей ночью. Каждый день после сражений Ахилл и Патрокл принимали ароматные ванны. На меня не возлагалось никаких дел – другие женщины грели воду и таскали тяжелые ведра, – но я всегда следила, чтобы ванну подготавливали вовремя и напитки были под рукой, поскольку от этого зависело настроение Ахилла, а его настроением определялось все.
Когда появлялась его колесница, мы все притихали. Первым делом, не сняв даже шлема, Ахилл отправлялся в конюшни проведать лошадей и убедиться, что их как следует вычистили и напоили. Только потом он снимал доспехи и швырял их своим слугам. Зачастую, вместо того чтобы погрузиться в горячую ванну, подготовленную с таким старанием, купался в море. За линией прибоя переворачивался на спину и качался на волнах, в то время как вода в ванне неизбежно остывала. Обычно Патрокл отправлялся с ним и, стоя на берегу, наблюдал. В такие мгновения он всегда выглядел встревоженным, хоть я не видела никакого повода для беспокойства – просто невозможно, чтобы человек, который вот так плавает, мог утонуть.
Проходило какое-то время, и Ахилл медленно, переваливаясь в волнах, шел к суше. На берегу он встряхивал головой, так что с волос, еще окропленных алым, летели брызги, орошая песок вокруг него. Так, омывшись от крови, он вытирал глаза от соли и несколько мгновений стоял, щурясь от света. Казалось, в эти минуты Ахилл заново рождался. Затем он клал руку Патроклу на плечо, и они вместе возвращались по песчаному склону. В лагере им преподносили кубки с вином, и они уходили готовиться к трапезе.
7
Я молила богов о переменах – о чем-то, что изменило бы мою жизнь. В то время дни и ночи сменяли друг друга, и все оставалось по-прежнему. И все же теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что перемены происходили, но тогда они казались чем-то обыденным. К примеру, как-то вечером, когда мы с Ифис ждали в кладовой, Патрокл вошел за вином и, увидев нас, спросил:
– Почему вы не входите?
Мы с Ифис переглянулись. Это было так внезапно, а любая внезапная перемена вызывала тревогу. Но от нас во всем ждали послушания, и потому мы встали и последовали за Патроклом в соседнюю комнату. Я села в кресло, как можно дальше от Ахилла, и пригубила сладкого вина из кубка, который подал мне Патрокл. Я едва осмеливалась дышать. В первый миг на лице Ахилла отразилось недоумение, но впредь он уже не обращал на нас внимания.
Когда Патрокл увел Ифис, я по обыкновению отправилась в постель. К тому времени я поняла, что перемену в поведении Ахилла вызвал запах соли в моих волосах. Я старалась держаться подальше от пляжа, но не могла. Хотелось погрузиться в холодную, безучастную пучину, и с течением времени это желание становилось только сильнее. Поэтому я и впредь возвращалась с запахом водорослей в волосах и солью на коже, чтобы стать свидетельницей его вожделения, злости и нужды – и боялась кому-нибудь об этом говорить. И была не в силах это осмыслить.
С тех пор вечера проходили примерно одинаково. Иногда Ахилл и Патрокл продолжали разговор, начатый за едой, обсуждали прошедшее сражение и решали, на чем стоило бы заострить внимание на утреннем совете. Если день выдавался хороший, то и разговор этот не затягивался. Если что-то не задавалось, Ахилл метался по комнате, задыхаясь от презрения к Агамемнону. Не было человека более бездарного, – он в грош не ставил собственных воинов, и ничто его не заботило, кроме собственной выгоды. И что хуже всего – он был трусом и всегда отсиживался в тылу, «охраняя корабли», в то время как другие выносили все тяготы битвы.
– И, – в этот миг Ахилл поднял кубок, требуя еще вина, – он пьет.
– Мы все пьем.
– Не как он. – Ахилл поднял взгляд на Патрокла. – Да брось, когда ты видел меня пьяным?
В конце концов Патроклу удавалось его успокоить, и тогда Ахилл брал лиру и принимался играть.
Когда он погружался в музыку, я могла наконец оглядеться. Роскошные гобелены, золотые блюда, резной сундук со вставками из слоновой кости… Оставалось только гадать, откуда все это. Полагаю, кое-что Ахилл привез с собой из дома, но все остальное, конечно, было награблено в горящих дворцах. Бронзовое зеркало в полный рост – я задумалась, где бы оно могло стоять прежде. Насчет лиры гадать не приходилось, потому что я знала. Ахилл добыл ее во дворце Ээтиона, когда разграбил Фивы. Ээтион и восемь его сыновей убиты, все мужчины и мальчики тоже, женщины угнаны в рабство – и только лира уцелела. Наверное, это самая красивая вещь из всех, что я видела.
Когда Ахилл играл, свет падал ему на лицо, и я видела странные отметины на его коже. Участки на лбу и на щеках, закрытые шлемом, были чуть светлее открытых участков вокруг глаз и рта, как будто шлем стал частью его и сросся с кожей. Быть может, я преувеличиваю… Я как-то поделилась наблюдением с Ифис, и хоть она сразу догадалась, что я имела в виду, но сказала, что сама не обращала на это внимания. Мне же эти полосы на лице Ахилла казались наиболее примечательной его чертой. Мне однажды заметили: «Ты никогда не упоминаешь о его внешности». Так оно и есть – мне непросто это дается. Возможно, в то время он был самым красивым из живых людей – и определенно самым жестоким. В этом и была трудность. Как провести грань между красотой тигра и его свирепостью? Или между грацией гепарда и стремительностью его атаки? Вот так же и с Ахиллом – красота и ужас были двумя сторонами одной монеты.
Пока он играл, Патрокл сплетал кисти у подбородка и молча слушал или рассеянно гладил за ухом любимого пса, что сидел, глядя на хозяина, или лежал у его ног. Время от времени пес взвизгивал во сне, как будто гнался за воображаемым кроликом, и Патрокл улыбался. Ахилл поднимал глаза и смеялся, а затем вновь погружался в игру.
Все песни были о бессмертной славе, о героях, погибших на поле брани или (куда как реже) вернувшихся домой с триумфом. Многие из этих песен я помнила с детства. Еще маленькой девочкой пряталась во дворе, хотя давно должна была спать, и слушала, как во дворце поют и играют на лирах. Примерно в том возрасте я думала, что эти волнующие сказания о доблести и приключениях открывали мне двери в мое будущее. Но я стала немного старше – в десять или одиннадцать лет, – и мир стал смыкаться вокруг меня, и я поняла, что песни предназначены моим братьям, а не мне.
Пленные женщины обычно выходили из хижин и садились у ступеней веранды послушать пение Ахилла. Его голос завораживал, и отзвуки песен разносились по всему лагерю. Но в конце концов песня затихала, и несколько мгновений никто не двигался с места и не прерывал молчания. Затем бревно в очаге выбрасывало сноп искр, Ахилл устремлял взор на Патрокла и улыбался.
Это был знак. Мы все поднимались. Патрокл с Ифис уходили. Я слышала, как они шепчутся в коридоре, и гадала, каково это все для нее. У нее отняли близких, отняли дом, и Патрокл был частью этого. Как она смогла полюбить его?
Ахилл принимался сбрасывать с себя одежду, но не спешил и то и дело возвращался к лире. Я лежала с закрытыми глазами и слушала, вдыхая запах смолы. Затем под веками темнело, и я уже знала, что он посыпал огонь пеплом. Еще через мгновение кровать прогибалась под его весом.
Не знаю, если бы я сумела сблизиться с ним, заговорить, быть может, у нас бы что-то и получилось. Но возможно – и даже более вероятно, – что любой отклик с моей стороны мог вызвать вспышку гнева. Это был тайный ритуал, который совершался в молчании и под покровом темноты. И вот я каждую ночь лежала под этим человеком – не вполне мужчиной, скорее капризным ребенком, – и молилась, чтобы все поскорее закончилось. А после, окоченелая, словно труп на погребальном костре, ждала, пока он не уснет, чтобы самой отвернуться к стене. И молилась о переменах. Каждое утро и каждую ночь я молила богов, чтобы моя жизнь изменилась.
8
Кажется, я первой в лагере увидела жреца.
Я вышла к морю и брела вдоль берега, пока не оказалась у кораблей Одиссея, выставленных на подмостках сразу за ареной. Остановилась, чтобы оценить пройденный путь, – и тогда увидела его, жреца. Он направлялся прямо ко мне, и по раскаленному песку за ним тянулся след валких шагов. Седовласый, покрытый пылью, он выглядел измотанным, словно провел в пути несколько дней, а то и недель. Его шатало из стороны в сторону, и ветер трепал складки его робы. В первый миг я приняла его за морехода, но затем увидела, что его посох увит красными лентами Аполлона, и одежды, пусть грязные и измятые, сработаны из лучшей шерсти.
Когда между нами оставалось всего несколько шагов, он замешкался, словно не знал, как обратиться ко мне. Его можно было понять: молодая девушка, в богатых одеждах, одна и без вуали… Если б он увидел меня в городе, то знал бы наверняка, кто я такая. В ту же секунду я прониклась к нему злобой. Да, старик, я из тех самых, хоть и не по своей воле.
– Дщерь, – начал он неуверенно. – Ты укажешь мне на стан Агамемнона?
Я повернулась и показала налево, но в этот момент между кораблями показался кто-то из воинов Одиссея и спросил старика, что ему нужно. Жрец ответил, что явился просить владыку Агамемнона принять выкуп и вернуть ему дочь. Я поняла, что он, должно быть, отец Хрисеиды. Воин отправился к жилищу Одиссея, чтобы доложить обо всем, и вскоре появился сам Одиссей.
Я со всех ног бросилась в стан Нестора и застала Гекамеду в ткацкой хижине. Пока я рассказывала об увиденном, станки один за другим замирали, и женщины собирались вокруг нас, чтобы обсудить появление жреца.
– Ему придется отпустить ее, – сказала Гекамеда.
– Едва ли, – возразила я. – Это Агамемнон – он никому и ничего не должен.
Весть о появлении жреца переходила из уст в уста. К тому времени, когда я пришла на площадь, она облетела весь лагерь. На арене уже толкались, возбужденно переговаривались мужчины.
Я оказалась на арене впервые с того раза, как войско преподнесло меня Ахиллу. Воспоминания о том дне были так ужасны, что я с трудом подавила в себе желание развернуться и уйти. Я была не единственной женщиной: Рица стояла под статуей Зевса, скрестив руки на груди. Я помахала ей, но мы стояли слишком далеко друг от друга, чтобы заговорить. Воины все прибывали, вытягивали шеи, пытаясь разглядеть, что происходит. Когда появился сам Агамемнон, поднялся одобрительный гул. Арену окружали статуи богов, и их обветренные, облупившиеся лики безучастно взирали на происходящее.
Я огляделась в поисках удобного места, откуда смогла бы смотреть поверх толпы. Краем глаза уловила движение. Это была Хрисеида; она стояла на вершине дюны, под искривленным деревом. Я поспешила к ней. Когда подошла ближе, то увидела, что одна сторона ее лица пылает красным, и глаз обильно слезится. Хрисеида прикладывала к этому месту краешек вуали, но ничего не сказала об увечье, поэтому я тоже промолчала. Просто обняла ее, и мы стояли, глядя поверх голов на арену. Хрисеида взяла мою руку, и по телу ее пробежала легкая дрожь, когда она увидела отца стоящим у портала.
Хрисеида впилась пальцами в мою руку. Ее седовласый отец, жрец Аполлона, вышел в центр арены, держа перед собой посох, увитый алыми лентами. Толпа мгновенно притихла. Налетел ветер, поднял столб пыли, но уже через пару мгновений пыль осела. Когда жрец заговорил, новый порыв ветра растрепал его седые волосы. Сначала он торжественно приветствовал Агамемнона, выразил надежду, что Аполлон и остальные боги даруют ему победу, что он разграбит город Приама и вернется домой с богатствами Трои…
– Только верни мне мою дочь.
После всех приветственных речей эта просьба повергла всех в смятение. Внезапно мы оказались в ином мире, где отеческая любовь к дочери значила больше, чем все награбленные сокровища. Но Агамемнон принес в жертву собственную дочь ради попутного ветра на Трою. Мною овладела тревога за старика и за Хрисеиду. Мгновение казалось, что горе окончательно сломило жреца, но затем он нашел в себе силы продолжить. Он привез с собой богатый выкуп в трюме корабля, стоящего на якоре в гавани. Со слезами на глазах жрец молил Агамемнона принять дар.
– Прошу, владыка Агамемнон, позволь забрать ее домой.
Слезы старика всем запали в душу – равно как и размер выкупа. Сентиментальность и алчность – греки любили слезливые истории почти так же, как золото.
– Прими выкуп! – кричали они. – Верни несчастному дочь!
И затем, несколько запоздало:
– Почти богов!
Толпа пришла в возбуждение, заколыхалась, и воины гудели в унисон:
– Верни ее! Верни ее!
Агамемнон переговорил со своими советниками и поднялся. Гомон не стихал еще пару мгновений, но затем люди по краям толпы поняли, что царь собирается держать речь. Послышалось еще несколько разрозненных выкриков, и наступила тишина.
– Старик, – начал Агамемнон, не выказав ни капли уважения. – Забирай свой выкуп и убирайся. В этот раз я сохраню тебе жизнь, но если вновь увижу в стане, тебя не спасет твой посох. – Он оглядел своих притихших воинов. – Я не намерен возвращать тебе дочь. Остаток ее жизни пройдет в моем дворце, вдали от родины; она будет проводить дни за ткацким станком, а ночи – в моей постели, рожая мне детей, пока не станет беззубой старухой. А теперь уходи. Ни слова больше, просто уходи. И благодари, что остался цел.
В полной тишине жрец развернулся и пошел прочь. Посох волочился за ним, оставляя узкую борозду на песке. У портала он вновь оглянулся на Агамемнона, и его губы беззвучно шевелились. Однако старик был слишком напуган, чтобы произнести хоть слово. Агамемнон уже не смотрел на него. Он говорил с людьми, что стояли подле него, улыбался и даже смеялся, довольный кратким мигом триумфа над слабым, несчастным старцем. Толпа стала неохотно расходиться, люди шли группами по несколько человек и тихо ворчали. Никому это не понравилось. Кажется, кое-кто даже творил знаки от дурного глаза.
Я боялась просто смотреть на Хрисеиду, но понимала, что должна.
– Беги.
Она уставилась на меня, еще не в состоянии понять.
– Ступай, беги. Наверное, он пошлет за тобой.
Я в этом не сомневалась. Он просто не сможет отказаться от триумфального соития. Ее скорбь из-за разлуки с отцом ничего для него не значила.
Хрисеида развернулась и припустила, словно молодая лань, между хижинами. Я же направилась к стану Ахилла. Воины всё разбредались по лагерю, толпились в проходах, так что я решила пройти вдоль берега. И там снова увидела старца: он тяжело ступал по засохшим водорослям, с трудом волоча ноги по песку, и вокруг него поднималась пыль. Несчастный стенал на ходу, вознося молитвы Аполлону. Я двинулась за ним – не намеренно, просто мой путь лежал в ту же сторону. Когда арена осталась позади и Агамемнон уже не мог его услышать, жрец возвысил голос и воздел над головой посох и алые ленты, как если бы вновь оказался в своем храме и стоял на ступенях алтаря.
- Владыка света, услышь меня!
- О сребролукий, услышь меня!
Голос его нарастал и креп, и вот старик уже кричал в небеса.
Мне было жаль несчастного, и вместе с тем внутри меня росло раздражение. Если бы боги вняли нашим мольбам, то Лирнесс устоял бы. А мы молились истово, со всем отчаянием…
Но я продолжала наблюдать за ним, как он спотыкается и нараспев произносит молитвы.
- Владыка Тенедоса, услышь меня!
- Повелитель Сциллы, внемли мне!
- Если приносил я тебе в жертву коз и тельцов,
- Отмсти своего служителя!
Я уже и не надеялась, что мои собственные молитвы будут услышаны – не было такого бога, который внимал бы просьбам рабов. И все же старик поразил меня. Море и небо вокруг него потемнели, а он все продолжал распевать гимны, именуя Феба совсем уж не знакомыми мне эпитетами.
- О Сминфей, услышь меня!
- Дидимей, издалека разящий, внемли мне!
- Повелитель мышей, отмсти меня!
Повелитель мышей? Я и позабыла – если вообще знала, – что Аполлон повелевал мышами, этими маленькими пушистыми созданиями – но не потому, что любил их. Внезапно я догадалась, чего добивается старец своими мольбами. Мыши, подобно крысам, разносили мор, и Аполлон, повелитель света, покровитель муз, бог-целитель – был также богом поветрий.
Мольбы об отмщении возносились к небесам, и я, сама того не сознавая, стала повторять за жрецом:
- Повелитель мышей, отмсти за меня!
- О сребролукий, внемли мне!
- Стреловержец, услышь меня!
И, наконец, запретные слова, подобно желчи, изверглись из моих уст:
- Повелитель поветрий, услышь меня!
9
Ничего не произошло. Ну разумеется! Разве происходит что-то иное, когда мы возносим молитвы богам?
Следующим утром воины, как обычно, собрались еще до рассвета. Под грохот мечей о щиты Ахилл впрыгнул в колесницу и дал сигнал выдвигаться. Когда они ушли, когда стук щитов и крики стихли, лагерь показался брошенным, предоставленным на попечение женщин и детей да горстки седовласых мужчин, оставленных стеречь корабли.
Я застала Хрисеиду за ткацким станком, но, когда она увидела меня, то бросила свое занятие и предложила мне чашу вина. Глядя на нее, я заметила, что движения ее более скованны, чем накануне. Несчастная Хрисеида, она не знала ни одного приема, к каким прибегали женщины вроде Юзы, чтобы умерить аппетит мужчины. Я сама познала не так много хитростей, но Хрисеида не знала ничего, принужденная лечь с Агамемноном девственницей, почти еще ребенком. Впрочем, стоит отметить, что она стойко держалась, искала утешения в служении Аполлону и по временам обращалась к горшку с гусиным жиром.
Помню, когда Рица выразила свое сострадание к Хрисеиде, Юза насмешливо фыркнула.
– А мне не жаль ее, – сказала она. – Если женщина знает, что к чему, то все закончится прежде, чем он приблизит к тебе член.
– Что значит «знает, что к чему»? – возмутилась Рица. – Ей пятнадцать!
– Мне было двенадцать.
Бедная Хрисеида… Агамемнон просто не мог ею насытиться. А какая девушка не зарделась бы от гордости, узнай она, что ее любит или хотя бы желает один из самых могущественных людей Греции? Но только не Хрисеида – она была безутешна и думала лишь о возвращении к отцу. Она говорила мне, что хотела стать жрицей Аполлона, что отец готовил ее, и ей все давалось. Фанатично преданная, она возносила молитвы четыре раза на дню: с восходом, в полдень, на закате и перед рассветом, моля бога о возвращении. Аполлон светоносный, Аполлон, бог врачевания, был одновременно и богом поветрия. Хрисеида как-то предложила мне присоединиться к ее полуденным молитвам, но я отказалась под благовидным предлогом. Хоть я и молилась Аполлону – и молилась истово, – все же мои молитвы требовали уединенности.
Повелитель мышей, услышь меня…
Я возвращалась в стан Ахилла по твердой песчаной полосе между морем и кораблями.
- Владыка света, услышь меня!
Слова беззвучно слетали с моих уст. Я медленно опускалась во тьму, и это зашло слишком далеко, чтобы позволить себе величать Аполлона повелителем света. Вместо этого я отбивала себе ладонь кулаком.
- Повелитель мышей, услышь меня…
- О сребролукий, внемли мне!
- Дидимей, издалека разящий, внемли мне!
Море в те дни было непривычно спокойным, с белесым отливом на поверхности. Волны накатывали на берег и желтоватой пеной вскипали среди мусора, а затем впитывались в песок. Нечто зловещее крылось в этом спокойствии – так бывает за пару минут перед штормом. Я оглядывалась на корабли, на хижины и тлеющие костры, и меня охватывало тяжелое предчувствие.
Под безучастным взором богов я пересекла арену и пошла по тропе через дюны. Эта тропа пролегала через весь лагерь, огибая внушительную кучу отбросов. Не лучшее место, особенно знойным днем. И хотя небо было затянуто облаками, жара стояла невыносимая. Зловоние, мириады черных мух, пот, стекающий по телу, – все это вместе вызывало во мне приступы омерзения. И вместе с тем часть меня тянуло соприкоснуться с этой гнилью, с разложением. Я словно чувствовала, что мое место здесь, среди этих отбросов. В тот миг я не винила в том, что стало со мной, ни Ахилла, ни греков, ни даже войну. Я винила себя.
Когда я проходила мимо помойки, то заметила крысу, копошащуюся в куче отбросов. В этом лагере еда потреблялась в немыслимых количествах, ведь никому не приходило в голову растить пшеницу или пасти скот. Этим объяснялись и размеры местных крыс – я нигде не видела таких холеных и упитанных, как там. Они то и дело попадались на глаза, но обычно прятались при появлении людей. Только не эта. И вообще она вела себя как-то странно, бегала кругами… Я подошла ближе. Шерстка у крысы, обычно черная и лоснящаяся, была встрепана и торчала клоками. Я пошла дальше, но что-то заставило меня обернуться, и в этот миг крыса завизжала. Кровь хлынула из ее рта, она завалилась набок и с минуту каталась в агонии, потом снова заверещала и издохла.
Эта крыса оказалась не единственной, были еще: все на открытом пространстве, и ни одна не пыталась убежать. И чем внимательнее я присматривалась, тем больше их замечала. Маленькие вздутые тушки лежали повсюду среди отбросов. Я даже чуть не наступила на одну, а когда взглянула на нее, то увидела личинок под шкурой. По всей видимости, это происходило уже какое-то время. Я развернулась и побежала прочь. Задыхаясь, преодолела последнюю сотню шагов до ворот. Ввалилась в женскую хижину, еще потрясенная увиденным, но никому не стала говорить об этом. В самом деле, о чем там было рассказывать? Несколько дохлых крыс… Разве это стоит упоминания?
Но я думала о них, пока приготавливалась к ужину, как всегда, уделяя пристальное внимание своей наружности. Одержимость Ахилла моим запахом не дарила мне спокойствия, скорее наоборот. Это произошло так внезапно, и я чувствовала, что все может перемениться так же стремительно. Поэтому старалась хотя бы на людях являть собою то, что Ахилл желал видеть, – живое свидетельство его заслуг как величайшего из греков.
Во время трапезы в зале было знойно, воздух даже обжигал при вдохе. Разгоряченные тела, пламя факелов и даже запах жареного мяса как будто сгущали воздух. Разговоры по-прежнему крутились вокруг Агамемнона и жреца. Никому это не понравилось. Никто этого не понимал. Выкуп, подобный этому, за девчонку – он отказался от него? Он выжил из ума? Даже Ахилл, когда я наклонилась налить ему вина, говорил об отказе Агамемнона.
– Почему он не принял выкуп? Он, самый алчный из живущих…
– Может, он любит ее, – предположил Патрокл.
– Любит… Старый кобель не знает, что такое любовь.
«А ты знаешь?» – подумала я.
Понемногу я научилась видеть в мужчинах личные черты – в большинстве своем они оказывались вполне сносными, но были исключения. Мирон, тучный мужчина средних лет, с копной вьющихся черных с проседью волос. Полагаю, когда-то он бывал в сражениях, но это осталось в прошлом. Теперь Мирон надзирал за состоянием кораблей. И дело это требовало большой ответственности: Ахилл часто совершал набеги на прибрежные города, и флот следовало содержать в полной готовности. Я замечала подгнившие снасти на других кораблях, а как-то раз даже увидела незаделанную пробоину в корпусе. Но в стане Ахилла вы не увидели бы ничего подобного. Его корабли в считаные часы могли выйти в море. Мирон скрупулезно исполнял свои обязанности. И он был из тех, к кому я испытывала неприязнь – личную неприязнь, – и только потому, что он чаще других бросал на меня грязный, похотливый взгляд. Конечно, он ничего не говорил – просто не осмелился бы, – но, когда я наклонялась к нему, таращился на мои груди и тихо причмокивал, так, словно предвкушал сладкий вкус вина.
В ту ночь я наполнила кубок Мирона – торопливо, как обычно, потому что не могла находиться рядом с ним, – и, когда отступила, обратила внимание на его тунику. Ту самую, что я соткала для отца. Я закончила ее за пару дней до того, как меня доставили в паланкине во дворец моего будущего супруга. Вышивка на спине была не так искусна – я никогда не отличалась особыми умениями в рукоделии, – но в каждый стежок я вложила всю свою любовь. Конечно, такое происходило и прежде: в первый же день я заметила на столе золотое блюдо из дворца. Но на сей раз это задело лично меня. Я посмотрела на мясистую шею Мирона, и вновь слова молитвы сорвались с моих уст:
- Повелитель мышей, услышь меня!
- О сребролукий, внемли мне!
- Дидимей, издалека разящий, внемли мне!
- Повелитель поветрий, услышь меня!
10
Жара донимала всех. Во время трапезы то и дело вспыхивали ссоры, одна и вовсе переросла в драку. Даже Патрокл, обычно такой сдержанный, растаскивая дерущихся, ударил одного по лицу, а второго швырнул в стену. После этого повисло тяжелое молчание, и трапеза окончилась без привычного пения.
Даже с наступлением ночи небо мерцало желтым и словно довлело над лагерем, удерживая зной, подобно крышке на котле. После того как убрали блюда, я сидела в кладовой и ждала. Ифис уже с утра страдала животом, как и многие в лагере. Было непривычно тихо – ни звуков музыки, ни голосов в соседней комнате. Спустя некоторое время, озадаченная затянувшимся молчанием и утомленная от духоты и зноя, я вышла наружу и застала Патрокла, одиноко сидящего на веранде.
Я сразу подалась назад, однако Патрокл жестом предложил мне сесть рядом. «Ахилл пошел искупаться», – сказал он. Что-то в его голосе заставило меня повернуться к нему. Я видела белки его глаз и слабые отблески на зубах, когда он улыбался. Тьма укрывала лагерь – ни луны, ни звезд не горело в небе. Кое-где догорали костры, но никто не хотел сидеть у огня в такую жару. В отдалении, подобно сиянию иного мира, мерцали огни Трои.
Казалось бы, приятно сидеть вот так теплым вечером на веранде, но пот скапливался в каждой складке на коже, и не было прохладного бриза, который избавил бы от этой муки. Перед лицом кружили громадные черные насекомые – не мотыльки, не знаю, что это было, – и приходилось постоянно отмахиваться. Запах гнили с помойки забирался в каждый угол и ощущался даже на языке. Я завидовала Ахиллу, но не могла на глазах у Патрокла отправиться вслед за ним к морю. Хоть меня и несколько озадачило, почему он не пошел с Ахиллом. Возможно, тот пожелал побыть один… За трапезой он был на редкость молчалив и лишь раз язвительно отозвался об Агамемноне.
Мы сидели бок о бок и молчали – в самом деле, о чем нам вообще говорить, сиятельному Патроклу и подстилке Ахилла? И это еще самое лестное прозвание тому, чем я была. Но жара, тишина и ночная тьма как будто стирали эти преграды. Я услышала собственный голос:
– Почему ты всегда так добр ко мне?
Поначалу я решила, что он не собирается отвечать, что я преступила черту дозволенного. Но затем Патрокл произнес:
– Потому что я знаю, каково это – потерять все и оказаться игрушкой в руках Ахилла.
Его честность огорошила меня. И в то же время я подумала: «Откуда тебе знать? При всех твоих привилегиях и могуществе как ты можешь ставить себя на мое место?» Я спросила об этом вслух? Сомневаюсь. Но, возможно, вопрос сам собой возник в пространстве между нами. Или так, или же Патроклу нужно было выговориться.
– В десять лет я убил мальчика, – начал он. – Я не хотел этого делать, он был моим лучшим другом. Но мы повздорили, когда играли в кости. Он сказал, что я жульничаю, я сказал, что нет; слово за слово, и я ударил его. Он упал, и я решил, что на этом всё, и пошел было прочь. А он вскочил и ударил меня головой – сломал мне нос, – тут Патрокл коснулся приплюснутой переносицы. – Мне было так больно, что я потерял рассудок. Я просто схватил камень с земли и ударил его. Я думал, что ударил лишь раз, – помню только один удар. Но все было не так: нас видели другие мальчишки, и они говорили, что я бил его непрестанно. Наверное, так оно и было, потому что его лицо превратилось в месиво. Когда меня оттащили, он был уже мертв. Само собой, это было убийство. Его отец был могущественным человеком. Поэтому меня изгнали, увезли к Пелею, отцу Ахилла. И не просто на несколько месяцев – меня изгнали навсегда. И там я встретился с Ахиллом. – Он безучастно смотрел прямо перед собой. – Сомневаюсь, что видел кого-то более жалкого – ну когда не смотрел в зеркало. Его как раз покинула мать… – Он помедлил. – Ты знаешь, что она морская богиня?
Я кивнула.
– Она была несчастна в браке. И в один из дней просто ушла в море. Она и раньше уходила, постоянно так делала, но в этот раз не вернулась. Ахилл отказывался есть, не играл с другими детьми. Кажется, он даже расти перестал. Сложно поверить, но когда я впервые увидел его, он был маленьким заморышем. Пелей уже не знал, что делать, и я пришелся очень кстати, поскольку должен был стать Ахиллу другом. – Он рассмеялся. – Но это и мне пошло в прок.
– Каким образом?
– Он утешил меня.
– Пелей?
– Нет, Ахилл. Понимаю, в это трудно поверить…
Где-то в отдалении послышалось пение, но быстро смолкло. Я почувствовала, что Патрокл смотрит на меня в темноте.
– Ты за всеми наблюдаешь, верно?
Я покачала головой.
– Я вижу.
Мне стало не по себе от осознания, что мой взгляд не укрылся от других.
– И я иногда слышу, как ты плачешь…
– Иногда трудно сдержаться. Женщинам. Уверена, ты никогда не плакал.
– Каждую ночь в течение года.
Патрокл произнес это так легко, что сложно было понять, говорил он серьезно или нет. Я кивнула в сторону пляжа.
– А он долго…
– Возможно, она там.
Я не сразу поняла.
– Ты про его мать? Она по-прежнему приходит к нему?
– О да.
И снова эта странная интонация. Что это, горечь в его голосе? Я представила Ахилла стоящим на берегу, вспомнила его дикую, нечленораздельную речь, из которой я поняла – или думала, что поняла – лишь одно слово: мама, мама. Каково же это – любить человека, подобного ему?
– Ты сожалеешь?
– Что рос сводным братом Ахилла? Вовсе нет. Я раскаиваюсь в убийстве своего друга, но… Нет, они были очень добры ко мне.
Патрокл погрузился в молчание и просидел так пару минут, после чего хлопнул себя по коленям.
– Пожалуй, надо сходить к пляжу, посмотреть, что он там творит.
– Почему ты так о нем тревожишься?
– Привычка, – ответил он, поднимаясь. – Ты ведь знаешь, что Ахилл…
Я ждала, что Патрокл продолжит, однако он лишь улыбнулся и ушел.
Теперь я могла вернуться к женским хижинам, но после этого разговора вряд ли смогла бы усидеть на месте. Поэтому решила пройтись немного по тропе, ведущей к морю. Сердце по-прежнему учащенно билось, и я не знала, почему. Я вышла на пляж в том месте, где ручей струился сквозь гальку и впадал в море. Ахилл и Патрокл стояли в отдалении, у самой линии прилива. Я была слишком далеко, чтобы слышать их разговор, но по жестам казалось, будто они спорили. Вот Ахилл отвернулся, и Патрокл схватил его за руку и вновь развернул к себе. Мгновение они стояли, глядя друг на друга, затем Ахилл подступил ближе и уперся лбом в голову Патрокла. Долгое время они стояли так, неподвижно, не произнося ни слова.
Я отступила в тень, понимая, что увидела нечто сугубо личное, чему не должна быть свидетелем. Многие считали Ахилла и Патрокла любовниками. Об их отношениях всегда ходили сплетни: Агамемнон, в частности, не мог оставить их в покое, и Одиссей был ненамного лучше. Но то, что я видела в ту ночь на берегу, было выше плотской близости и, возможно, даже выше любви. Я не могла постичь этого тогда – и не уверена, что постигла теперь, – но осознала его силу.
11
Следующим утром, когда я шла через дюны увидеться с Гекамедой, среди отбросов лежали сорок семь дохлых крыс. Я сосчитала всех.
По-прежнему стоял безжалостный зной. Воины возвращались с поля битвы бледные, изможденные, готовые броситься друг на друга или, что вероятнее, выместить злобу на рабах. Следовало незамедлительно подавать еду и питье, наполнять горячие ванны. Я опускала глаза, пока прислуживала за трапезой, и чувствовала отвращение ко всем. Я даже избегала смотреть на Патрокла, потому что стыдилась своей симпатии к нему. Вместо этого направляла внимание на воинов, склонившихся над своими тарелками, как свиньи над корытом. Мирон снова надел тунику моего отца, он как будто влюбился в нее. Когда я склонилась через его плечо наполнить ему кубок, он провел мясистым языком по губам, и кровь застучала у меня в висках. Слова эхом разнеслись в сознании: «Повелитель мышей, услышь меня, о сребролукий, услышь меня…» Не знаю, как я пережила тот вечер, но я пережила.
Следующим утром, когда я проходила помойку, дохлых крыс оказалось слишком много, чтобы сосчитать их.
Мы знали, что они наводнили лагерь. А как иначе, если изводилось столько мяса и пшеницы и кругом валялось столько объедков? По ночам слышно было, как крысы копошатся и пищат под полом. Обычно днем их распугивали бродячие собаки, но не в этот раз. Казалось, они потеряли всякий страх и выползали из-под хижин, чтобы издохнуть на открытом пространстве, и всякий раз в жуткой агонии, с дикими воплями и фонтаном крови. Собаки не могли поверить своему счастью: столько крыс и даже не нужно их ловить… Но их было слишком много, и вскоре черные тушки усеивали все тропы. Воины отбрасывали их ногами под хижины, где они раздувались и испускали зловоние.
Мирон был в бешенстве. Он отвечал не только за состояние кораблей, но также и за порядок в лагере. Каждая крыса, что выбиралась на открытое пространство, подыхала на его тропах или – что еще хуже – на его верандах. Конечно, у него хватало людей, чтобы убирать их, но занятно было видеть, как он сам подбирает черные тушки, словно не мог вынести одного их вида. И всякий раз, отправив крысу в мешок, который всегда носил при себе, брезгливо отирал руки о тунику моего отца, а затем проводил по губам тыльной стороной ладони.
В скором времени стали подыхать собаки и мулы. В отличие от крыс, их недостаточно было бросить в кучу подальше от глаз и оставить гнить. Их следовало сжигать. И вот заполыхали костры. К этому времени мужчины начали переглядываться, но ничего не говорили. За вечерней трапезой смех звучал несколько принужденно, но затем, когда разносили чаши с вином, напряжение спадало. И, о боги, как они пили! Каждый вечер, вставая из-за стола, шатались, раскрасневшиеся, самодовольные, чванливые, напуганные… И Ахилл, пивший меньше других, переводил взгляд с одного лица на другое и внимательно следил за настроениями людей.
В тот вечер я как раз наполнила кубок Мирона. Я терпеть не могла, как он причмокивает и словно случайно задевает мою грудь, и потому старалась налить ему вина как можно скорее – и не становиться слишком близко. В этот раз я не рассчитала дистанцию, и немного вина выплеснулось на стол. В общем-то, пустяк, всюду по столам блестели лужи пролитого вина. Но Мирон пришел в ярость, так что вены вздулись у него на лбу. Любая мелочь приводила его в бешенство. Он тотчас вскочил и принялся оттирать пятно тряпкой, бормоча себе под нос. А когда уже садился, то краем глаза уловил какое-то движение. Я стояла прямо позади него и проследила за его взглядом. По полу между двумя столами бежала крыса.
Пока никто больше ее не видел. Но затем крыса принялась метаться кругами, издавая жуткие вопли, и в конце концов завалилась набок, и из ее пасти хлынула кровь. Вот несколько человек повернули головы. Тишина волной прокатилась над столами, один за другим воины прекращали жевать и вытягивали шеи, чтобы посмотреть. Дохлая крыса? Что ж, вряд ли одна крыса могла испортить удовольствие от еды и питья. Они уже отворачивались к своим тарелкам, но Мирон вновь вскочил на ноги. Он уставился на меня.
– Ты, – произнес он. – Ты.
Очевидно, я была виновата и в появлении крысы. Мирон просто не мог вынести ее вида. Крыса наполовину зарылась в тростник на полу, но это не имело значения: он знал, что она там, и то и дело бросал взгляд в сторону небольшого стола, где сидели Ахилл с Патроклом. Ахилл не видел крысу, но в любую минуту мог заметить ее, и эта мысль была невыносима для Мирона. С гримасой отвращения он подошел к тому месту, взял крысу за хвост и выбросил за дверь. Поднялся гул, воины стали издевательски его подзадоривать, кто-то забарабанил по столу, пока Мирон возвращался на свое место. Зачем родился он красавцем… Мирон залился потом, вытер ладонь о тунику моего отца. Воины между тем продолжали реветь куплеты и, когда он вернулся наконец за стол, встретили его ироничными возгласами.
Я двинулась дальше, стараясь поскорее удалиться от него. И тот день окончился, как и многие другие прежде: Ахилл играл на лире, затем я лежала под ним в его постели, сжимая зубы, пока он кусал мои груди и лобызал волосы. После я лежала в темноте с закрытыми глазами и молилась: О сребролукий, Дидимей, разящий издалека, отомсти за своих мышей…
Следующим утром я вышла на веранду и наступила на что-то мягкое. Я уже поняла, что это крыса. Их оказалось там не меньше дюжины. Оставалось лишь гадать, что за сила гнала их прочь из своих темных укрытий, чтобы издохнуть у всех на виду.
В тот день я видела еще множество крыс. Наблюдала, как несколько человек из прислуги Мирона пинали крупную крысу на пляже. Узкие проходы между кораблями чернели от их тушек. Мирон весь день напролет обходил лагерь, ворошил копьем под хижинами, насколько мог дотянуться. Женщины старались не попадаться ему на глаза. Несмотря на крысиное нашествие, лагерь, и в особенности жилище Ахилла, следовало содержать в чистоте, вычищать столы, расстилать на полу свежий тростник, затем приготавливать ванны и готовить пищу – и все это под надзором человека, чей рассудок был явно расстроен. Я никогда прежде не видела, чтобы кто-то трудился с таким усердием и отчаянием. Но, вопреки всем усилиям, крысы его одолели. Расхаживая по веранде и затягивая ремни нагрудника, Ахилл наступил на дохлую крысу и с возгласом отвращения отшвырнул ее ногой. В тот миг выражение на лице Мирона растопило бы самое жестокое сердце. Но не мое.
За трапезой, когда все расселись, Мирон поднялся и закрыл двери. В такую жару это было невообразимо, но никто не возражал. Полагаю, все видели, что он не в себе. Я стала разливать вино, как обычно, но попросила Ифис прислуживать у той части стола, где сидел Мирон. Наполнив все кубки, выпрямилась и посмотрела на него. Его взгляд метался по сторонам: очевидно, он думал, что поздно затворил двери, что крысы уже пробрались внутрь и теперь бегали по комнате. В самом деле? Кажется, я что-то слышала, но возможно, что это тростник шуршал от моих собственных шагов. Мирон всматривался в тени, и временами взор его замирал в одной точке. Я думала: «Он видит их». Но, когда смотрела в направлении его взгляда, там ничего не было.
Спустя примерно десять минут Мирон принялся расчесывать кадык и под мышками. Остальные поддразнивали его: «Блохи завелись, Мирон?» Они, конечно, шутили – у всех были блохи, лагерь кишел ими. Но Мирону в тот вечер было не до шуток. Он поднялся и направился к двери. Кто-то из воинов, решив, что он обиделся, крикнул ему вслед:
– Будет тебе, Мирон, сядь же, выпей.
Сомневаюсь, что Мирон его слышал. Он все чесал горло и под мышками, даже запустил руку под тунику и принялся чесать в паху. Воины стали переглядываться, что-то явно было не так.
– С тобой все хорошо? – спросил кто-то.
Мирон вдруг привалился к стене.
– Смотрите на этих мелких, нахальных гадов, – забормотал он. – Вы посмотрите на них.
Воины за дальней частью стола замолчали и подались вперед, посмотреть, что происходит.
– Смотрите на них, смотрите!
Кое-кто стал озираться, очевидно, ожидая увидеть троянских воинов, рвущихся в двери. Я знала, что он имеет в виду крыс, но их не было в комнате.
Ахилл поднялся на ноги. Мирон оттолкнулся от стены в попытке догнать что-то, видимое ему одному. Однако не прошел он и полудюжины шагов, как растянулся на полу. Не припал на колени и не осел медленно на пол – рухнул, как срубленное дерево.
На мгновение воцарилась тишина. Затем Патрокл подскочил к Мирону, перевернул его на спину и велел остальным расступиться.
– Дайте ему воздуха.
Воины расступились, чтобы пропустить Ахилла. Он опустился рядом на колени и надавил пальцами под мясистой челюстью Мирона.
– Потрогай, – сказал он шепотом Патроклу.
Тот ощупал шею Мирона и кивнул.
– Твердо.
Ахилл запустил руку под тунику Мирона и потрогал под мышками, после чего взглянул на Патрокла и едва заметно покачал головой.
– Лучше перенести его.
Четверо мужчин подняли Мирона, а пятый придерживал его голову. Когда они проходили мимо меня, я почувствовала запах, как от воды в вазе с забытыми лилиями. Ахилл стоял у двери и смотрел, как маленькая процессия пересекает двор. Патрокл между тем обходил столы и успокаивал людей, заверяя всех, что Мирон хоть и болен, но о нем хорошо позаботятся… Беспокоиться не о чем, ведь все знают, что Мирон крепок, как бык, и ему эта ерунда нипочем. Совсем скоро он встанет на ноги и всем задаст взбучку.
Патрокл даже забрал кувшин у одной из девушек и принялся сам разливать вино по кубкам, чтобы все выпили за здоровье Мирона. Взгляды людей были устремлены на него. Вскоре разговоры ожили, и снова звучал смех.
12
Ранним утром я отнесла Мирону болеутоляющий отвар, приготовленный лично Ахиллом. Я наблюдала, как тот прошлой ночью растирал травы и крошил коренья. По одной из легенд, Ахилл обладал удивительными способностями в искусстве врачевания. Не знаю, как оно было на самом деле, – отвар уж точно не исцелил Мирона. Впрочем, нужно отметить, что он действительно облегчал боль.
Мирон полулежал на подушках, растрепанный и потный, и по-прежнему расчесывал себе шею, под мышками и в паху. Его кожа дышала жаром, а язвы начали источать зловоние. Когда я, стиснув зубы, заставила себя ощупать его шею, он ухватил меня за талию и попытался повалить в постель. В тот миг я поняла, что рассудок покинул Мирона. Он все еще всматривался в тени и что-то бормотал о крысах, хотя ни одной не было видно. В редкие минуты его разум все же прояснялся, и в один из таких моментов я спросила его, как он себя чувствует.
– Я не болен, – раздраженно заявил он. – Это всё проклятые крысы, довели меня…
– Сегодня утром их было меньше.
Это было сказано лишь ему в утешение. Только потом я осознала, что это действительно так. Мирон чуть оживился и осушил чашу с темным горьким отваром. Я пообещала принести еще и ушла. Похоже, отвар и в самом деле пошел ему на пользу, но, вероятнее всего, потому что приготовил его сам Ахилл. Уже в дверях я обернулась. Мирон почувствовал себя гораздо лучше. Он даже сполз с подушек и подтянул простыню, чтобы прикрыть волосатую грудь.
Спустя пару часов я пришла в лазарет с новой порцией отвара. Каково же было мое потрясение от увиденного: Мирон скинул простыни и наполовину свесился с постели. Туника задралась, так что стали видны волдыри в паху; они выглядывали из-под черных волос, как жуткие, перезрелые фиги. Вся грудь и шея были покрыты рвотными массами, вязкой смесью слизи и желчи без твердых остатков; но он ничего и не съел в тот день, и почти не ел накануне. Мирон чесал одной рукой шею, другой – в паху. И кожа оказалась такой горячей, что едва я коснулась его, как тут же отдернула руку. Он что-то бормотал. Я решила, что он опять бредит о крысах, но затем услышала слово «огонь». Кажется, он говорил «в огне», но его глотка была так забита, что Мирон едва мог что-то произнести. Я предложила ему питье, но, очевидно, он был не в состоянии взять чашу. Я наклонилась и пролила немного темного отвара ему в рот. Его мгновенно вырвало. Я попробовала дать ему воды, но Мирон исторгнул и ее. По крайней мере, он смог прополоскать рот и смочить губы. Его тело буквально горело.
Когда появился Ахилл, даже в таком состоянии Мирон порывался сесть в попытке проявить должное уважение. При этом он вытягивал шею, словно хотел отстраниться от своей потной, зловонной плоти.
– Прости, – повторял он. – Я виноват.
– Не вини себя, – сказал Ахилл. – Крысы ушли.
Он пробыл несколько минут и ушел – само собой, чтобы омыться в море перед трапезой. Захлопнул за собой дверь, и на краткий миг я ощутила дуновение прохладного воздуха. Я задержалась ненадолго и сумела дать Мирону немного отвара. Его глаза начали закрываться. Вскоре он погрузился в глубокий сон, и я смогла вернуться в зал, где уже собирались командиры. Я взяла кувшин со стола и принялась было разливать вино по кубкам, начиная, как всегда, с Ахилла, но Патрокл забрал у меня кувшин и велел идти в спальню и передохнуть.
Ночью, когда я ходила проведать Мирона, мне показалось, что ему стало лучше. Он пребывал в ясном уме и говорил вполне связно. Но утром все стало только хуже, намного хуже. Мирон метался на пропитанных потом простынях и бормотал что-то невразумительное. Я позвала кое-кого из женщин, и мы вместе омыли его. Одна из них, не в силах стерпеть зловония, отвернулась, и ее вырвало.
Ахилл, едва вернулся с поля битвы, пришел в лазарет, еще в доспехах. Он замер в дверях, очевидно потрясенный. Губы Мирона были покрыты белой коркой, как поваленное дерево иногда покрывается грибками, и когда он пытался заговорить, кожа в уголках рта трескалась. Патрокл явился через пару минут и взглянул на Ахилла поверх кровати. Тот покачал головой.
– Я побуду с ним, – сказал Патрокл.
– Нет, тебе нужно поесть.
– Как и тебе… Ну же, ступай. Я останусь.
Однако Ахилл сел в изножье кровати и положил руки на стопы Мирона. Мне показалось странным подобное проявление заботы к человеку, который того не заслуживал, но Ахилл, очевидно, знал иную его сторону. В конце концов, они были друзьями.
– Принесешь немного воды? – произнес Ахилл.
Вероятно, он обращался ко мне, поэтому я взяла кувшин и набрала чистой воды из кадки у двери. Ахилл принял кувшин из моих рук и попытался влить немного воды Мирону в рот. Тот между тем бормотал:
– Крысы, крысы…
И затем, когда на краткий миг узнал Ахилла:
– Прости.
– Здесь нет твоей вины.
Но Мирону было уже все равно, чья это вина. Конец наступил так быстро, что, полагаю, всех нас застиг врасплох. Мы ждали очередного вдоха; когда же его не последовало, Ахилл коснулся шеи Мирона, надавил пальцем…
– Нет, все кончено. – Он закрыл Мирону глаза, глубоко вздохнул и повернулся к Патроклу. – Чем скорее его сожгут, тем лучше. Сожгите все, что ему принадлежало.
– Несколько запоздало.
– Знаю. Но что еще нам остается?
По давнему обычаю, обряжать мертвых должны женщины – как в Греции, так и в Трое. Мужчины перенесли тело Мирона в прачечную и положили на стол, но затем удалились, предоставив остальное нам.
Поскольку Мирон приходился Ахиллу родичем, я знала, что должна присутствовать. Поэтому зачерпнула ведро воды из бочки в углу, рассыпала по поверхности смесь трав – розмарин, шалфей, душица и тимьян – и взялась за дело. Еще три женщины, которые трудились в прачечной, наполнили ведра и, шлепая босыми ногами по дощатому полу, поднесли к столу. В большинстве своем прачками были грузные женщины, медлительные, с широкими и бесформенными ступнями, бледными лицами и пористой кожей, со сморщенными пальцами. Я видела, как они стоят в кадках у хижины, по колено в урине, и, задрав юбки до пояса, часами напролет топчут белье. Присохшую кровь очень непросто отмыть, и моча – одно из немногих средств, которое удаляет пятна. Порой кто-нибудь из мужчин, проходя мимо, задирал тунику и вносил свой вклад в стирку. В итоге ноги у женщин постоянно воняли. Я чувствовала этот запах, но подозреваю, что сами они давно перестали принюхиваться друг к другу.
Эти женщины не питали любви к Мирону – он никогда не давал им спуску и порой сношал их. Однако выбора у них не было. Мы сняли с него пропитанные потом одежды, и одна из женщин с возгласом отвращения посмотрела на волдыри в его промежности.
– Несчастный пес, – произнесла она и отступила на шаг.
Но другая женщина проворчала:
– Проявите почтение к ублюдку.
Я отжала тряпку и собралась отереть тело, но в этот миг дверь отворилась и вошел Ахилл, а следом за ним – Патрокл. Позади них топтались Алким и Автомедон, ближайшие сподвижники Ахилла. Женщины замерли, и мгновение мы так и стояли: Ахилл со своими людьми по одну сторону стола, и безмолвные босые женщины – по другую.
Я шагнула вперед и взглянула на Ахилла поверх тела.
– Мы не станем тянуть.
Я даже представить не могла, что ему здесь понадобилось.
Он кивнул, но уходить явно не собирался. Патрокл откашлялся.
– Мы принесли кое-что из одежды. – Он пододвинул ко мне сверток. – Да, и монеты, положить на глаза.
Ахилл смотрел прямо на меня. Никто не двигался, все хранили молчание. Думаю, в тот момент он видел в нас тех, кем мы и являлись, – не только женщин, не только рабынь, но и троянок. Врагов. И это доставляло мне необъяснимое удовлетворение. Он видел во мне врага. В конце концов, еще раз пронзив меня взглядом, Ахилл развернулся и вышел. Остальные последовали за ним.
Я знала, о чем он думал: что Мирону ничто не угрожает. Если не страх перед земным возмездием заставит нас отнестись к телу с должным почтением, то смирение перед волей богов – уж точно. В конце концов, женщины известны своей преданностью богам.
Мы дождались, пока за ними закроется дверь. Затем одна из женщин взяла пальцами вялый пенис Мирона и потрясла. Остальные прыснули и в тот же миг зажали рты ладонями. Но ничто не могло сдержать наш истерический смех, звуки которого наверняка пробивались за дверь. Женщина, что трясла причиндалы Мирона, с шумом ловила воздух ртом. Не сомневаюсь, что Ахилл нас слышал, однако никто не вернулся и не потребовал объяснений. И мы остались одни с мертвым.
13
Будучи родичем Ахилла, Мирон заслуживал достойного погребения. Его гниющее тело, окропленное маслами и благовониями, одетое в тунику моего отца, предали огню с подобающими жертвоприношениями, гимнами и обрядами. Прежде чем разожгли хворост, жрец совершил возлияние в честь богов. Но когда воины расходились, все говорили об этой хвори – в день, когда умер Мирон, заболели еще пять человек.
Стрелы Аполлона разили точно и часто. Скоро в лазарете уже не осталось свободного места; воины бредили и метались на пропитанных потом простынях. Те немногие, достаточно смелые, чтобы навещать друзей, носили с собой лимоны с веточками розмарина и лавра, но ничто не могло выветрить тлетворные испарения из их легких. Это была не чума, так что кое-кто все же выздоравливал, но лишь немногие. К концу первой недели число умирающих стало таково, что не было возможности воздавать им честь погребальными обрядами. Вместо этого тела переносили под покровом темноты на пустынную часть побережья, чтобы предать огню тайно и как можно скорее. Огни были видны со стен Трои, и никто не хотел, чтобы троянцы знали, сколько умерло греков, поэтому зачастую на один костер возлагали пять или шесть тел. К утру оставались лишь кучи обугленных останков, не поддающихся опознанию. Иногда мужчины, сопровождая мертвого товарища к погребальному костру, громко пели и стучали мечами по щитам, словно шли на пир. Несколько раз доходило до того, что группы плакальщиков дрались за место на костре для своего мертвого друга.
Во время трапезы воины по-прежнему пели и колотили по столам, однако на скамьях стало заметно просторнее, и даже обилие крепкого вина не могло отвлечь от этого внимание. Ахилл лично обходил столы, смеялся и шутил. При этом он неизменно держал в руке кубок, но лишь подносил его к губам и почти не пил. А я делала то, что всегда: улыбалась и разливала, разливала и улыбалась. Меня от этого уже тошнило. И я заметила едва уловимую перемену в настроении: мужчины как-то иначе стали смотреть на подавальщиц. Ифис догадалась, в чем дело.
– Это потому, что мы не умираем, – говорила она.
Это было не совсем так. Кое-кого из простых женщин мор все же не обошел стороной, и они гибли под хижинами, рядом с собаками. Но в одном Ифис была права: из числа умерших женщины составляли лишь ничтожную часть. Едва ли кто-то обращал на них внимание, когда умирало столько греческих воинов. В конце концов, кто приметит пару мертвых мышей среди бьющихся в агонии крыс?
На девятый день Ахилл и Патрокл вернулись после тягостных обрядов сожжения, подавленные, пропахшие дымом и жженым жиром. Ахилл потребовал крепкого вина, и побольше, и я кинулась исполнять приказание. Когда же вернулась, Патрокл сидел, ссутулившись, в своем кресле и свесил руки между коленей. Я наполнила кубки, и напряжение начало спадать. Но затем Ахилл вскочил и принялся расхаживать из угла в угол.
– Почему он не созывает совет? Что он творит?
Патрокл пожал плечами.
– Может, считает, что все не настолько серьезно…
– А что еще должно произойти? Или, может, его воины не мрут?
– Мрут, в лазарете нет свободного места, я спрашивал.
– Мы можем с тем же успехом погрузиться на корабли и отплыть домой. – Ахилл упал в кресло, но в следующий миг снова вскочил. – Что ж, если он не созывает совет, это сделаю я.
Патрокл поболтал вино в кубке, поднес ко рту и отпил. Ахилл смотрел на него.
– Что? Что?
– Он не созывал совет.
– Нет, и все мы знаем почему. Ему скажут, что девчонку придется вернуть. А он этого не хочет.
– Может, он не видит связи?
– Тогда он такой единственный. Оскорбить жреца Аполлона значит оскорбить самого Аполлона.
– Придется убедить его.
– Что ж, я уверен, найдется прорицатель, который скажет ему то, что давно известно всем.
Решение принято. Любой другой на этом и успокоился бы, но только не Ахилл. Он бранился и кричал, брызгая слюной, и сам себя доводил до неистовства. Агамемнон – мерзкий ублюдок, царь, которому плевать на собственных людей, алчный и ненасытный трус, не способный оторваться от девчонки… Пес, что лезет мордой под хвост, и тот благоразумнее… Так иногда вопит ребенок, пока не начнет задыхаться, красный от бешенства – и только затрещина приводит его в чувство. Но кто же посмеет поднять руку на Ахилла?
В конце концов он выдохся. Когда стало ясно, что новых тирад не последует, Патрокл подвинулся в своем кресле. До этой минуты он ни разу не шевельнулся и не произнес ни слова, только смотрел в огонь. Со стороны могло показаться, что он спокоен, однако, если присмотреться, было видно, как сильно сжаты его челюсти.
Несколько минут прошли в молчании. Затем Ахилл потянулся за своим плащом.
– Пожалуй, надо пройтись… – Казалось, он только теперь заметил мое присутствие. – Сегодня ты мне не нужна.
Ахилл мимоходом тронул Патрокла за плечо, и в следующую секунду за ним уже захлопнулась дверь.
Я собралась уйти. Патрокл уловил мое движение.
– Сядь, во имя богов! Допей вино, у тебя такой изможденный вид…
– Спасибо.
Нам было легко вдвоем. Мы сблизились за те долгие часы, что провели вместе за растиранием трав – и наблюдая за Ахиллом, внимательные к малейшим переменам в его настроении. Я стала доверять Патроклу, хоть и неустанно напоминала себе, что он тоже принимал участие в набеге на Лирнесс.
Патрокл поднялся и наполнил кубки.
– Будешь ждать? – спросила я.
– Так уж повелось.
Не могу сказать, отчего Патрокла пугали ночи, когда Ахилл виделся со своей матерью, – знаю только, что было так.
Огонь медленно догорал. Патрокл подбросил новое полено, и оно дымилось какое-то время, пока не занялось пламенем. Воцарилась тишина, и только собака по временам чесала шею. С моря доносился едва уловимый рокот волн. Но море по-прежнему оставалось непривычно спокойным. Даже в моменты прилива волны едва накатывали на берег. Я смотрела на стены и чувствовала, как невообразимо громадны и море, и небо. Ощущала, как давит на нас эта разогретая тьма, и представляла, с какой легкостью она может смыть все это – хижину, с виду такую добротную, мужчин и женщин, сидящих у костров…
– Я как-то раз слышала его, – сказала я. – Как он говорит с матерью. Правда, ни слова не поняла. – Помолчала, глядя на Патрокла. – А она отвечает?
– О да.
– Они близки?
– Сложно сказать. Она ушла, когда ему было семь. – Пауза. – И, кажется, сейчас она выглядит моложе, чем он.
Я осторожно нащупывала почву.
– Должно быть, тяжело оставить ребенка в таком возрасте…
– Не знаю, возможно. Дело в том, что она ненавидела этот брак, вступив в него не по своей воле. Никто ее не спрашивал… Думаю, у нее все это вызывало отвращение. И Ахилл перенял эту черту. – Он взглянул на меня. – Ты, наверное, заметила? Некоторое… пренебрежение?
Да, я заметила, ощутила в полной мере. Однако мне не хотелось углубляться в это. Я чувствовала, что Патрокл наговорил слишком много и позже мог пожалеть об этом.
Он улыбался.
– Ты напоминаешь ему ее.
– Его мать?
– Это должно польстить тебе. Она – богиня.
– Должно.
Патрокл по-прежнему улыбался. Когда он это делал, становилось еще заметнее, что нос его сломан. Всякий раз, когда он смотрел в зеркало, собственное отражение напоминало ему о худшем дне в его жизни.
– Ты ведь знаешь, я могу убедить его взять тебя в жены…
Я покачала головой.
– Кто возьмет в жены рабыню…
– И такое бывает.
– Он мог бы жениться на царской дочери.
– Мог бы – но ему нет в том нужды. Его мать – богиня, отец – царь. Он может позволить себе прихоти. – Патрокл с трудом сдержал вздох. – Мы все могли бы вместе вернуться домой.
Я чуть не сказала: «Вы сожгли мой дом».
В ту ночь, лежа рядом с Ифис на соломенной постели, я обдумывала слова Патрокла. Кто возьмет в жены рабыню… Полагаю, временами такое случалось, если она рожала сына и у мужчины не было наследников. Но как часто такое происходило? Нет, это было нелепо. Но потом мне вспомнилось, как Ахилл прильнул к Патроклу на берегу. Я понимала, что тот не преувеличивал свое влияние на него.
И ты действительно вышла бы за человека, который убил твоих братьев?
Ну, прежде всего, никто не давал мне выбор. Но – да, возможно. Я была рабыней, а рабы готовы на все, лишь бы снова стать человеком.
Не представляю, как ты могла думать о таком.
Конечно, не представляешь. Ты не была рабыней.
14
Вскоре после заката Ахилл разослал своих глашатаев. Конечно, он мог забраться на мачту своего корабля и оповестить всех разом. Ему достаточно было один раз крикнуть, и его зов услышала бы вся армия. Но, как и все предводители, Ахилл был щепетилен в соблюдении форм. Все они болезненно воспринимали всякое пренебрежение к своему возвышенному положению, и любая их встреча сопровождалась изощренными церемониями.
Я провела первую половину дня в лазарете, поила болеутоляющим отваром умирающих воинов. Пока я находилась там, привели еще троих – один из них оказался до того слаб, что товарищи внесли его на носилках. Они свалили его на пол и поспешили прочь, натянув туники на рты, чтобы не дышать гибельными испарениями. Я устроила его как могла, после чего прошла в комнату, где Алким и Автомедон сидели за кувшином вина с ближайшими соратниками Ахилла. Они говорили о предстоящем совете, на котором Ахилл потребует – не попросит, потребует – возвратить Хрисеиду отцу.
– И на сей раз он не получит за нее выкуп, – произнес кто-то с нескрываемым удовлетворением.
Ему отвечали одобрительными возгласами.
– И пусть радуется, если ему самому не придется приплатить, чтобы отделаться от нее.
После полудня люди стали стекаться к арене. Я уже собиралась идти, когда примчалась маленькая девочка. Задыхаясь от важности возложенного на нее поручения, она выпалила:
– Гекамеда спрашивает, не придешь ли ты в стан владыки Нестора.
Не дожидаясь ответа, девочка схватила меня за руку и потащила по тропе, ведущей к лагерю Нестора.
Когда мы пришли, Нестор со своим сыном и их сподвижники уже отправились на совет. Гекамеда встретила меня с кувшином вина в руках. Я переступила порог и увидела Хрисеиду – дрожащую и белее извести. Юза как раз пыталась заставить ее съесть что-нибудь. Когда я вошла, она подняла на меня глаза и покачала головой. Я направилась прямиком к Хрисеиде и тронула ее лоб – в те дни, если у кого-то был болезненный вид, первое, что приходило в голову: мор. Однако лоб оказался холодным, хоть Хрисеида и обливалась по`том. И, к своему удовлетворению, я не заметила свежих синяков.
Жилище Нестора находилось очень близко от арены. Стоя на веранде, мы хорошо видели статуи богов и кресла предводителей. Над толпой возносился гул голосов, но разговоры стихали всякий раз, когда под громогласные выкрики глашатаев появлялся кто-то из царей и в сопровождении советников занимал свое место. Кресла располагались громадным полукругом, обращенным к пустому креслу Агамемнона, помещенному под статуей Зевса, от которого царь Микен и черпал свою силу. Солнце скрывалось за сизой дымкой, как и во все дни, пока бушевал мор. Статуи богов отбрасывали на песок скудные тени.
Под звуки труб и барабанов, последним из царей, на арене появился Агамемнон и опустился в свое кресло, подобное трону. Ахилл сидел прямо напротив, внешне спокойный – руки покоятся на коленях, – но даже на расстоянии я чувствовала, какая в нем бушует энергия. Он что-то говорил Патроклу, смеялся – или делал вид, что смеется, – но затем резко замолчал и стал смотреть, как последние из воинов занимают задние ряды арены. Внешне безмятежный, Ахилл был вне себя от ярости, и когда он поднялся, напряжение его проявилось. Он встал всем весом на носки, как бывает, если человек готов броситься в бой или спасаться бегством. Впрочем, сомневаюсь, что мысли о бегстве когда-нибудь его посещали. Все взоры были устремлены на него, но сам Ахилл видел перед собой только Агамемнона.
– Что ж, – начал он. – Троянцы с одной стороны и поветрие – с другой. И мы не можем бороться с ними одновременно. – Язвительная ухмылка. – Это так, верно?
Агамемнон хранил молчание.
– Или… – Ахилл вскинул руку, призывая к тишине. – Мы можем разобраться, что привело к этому. Разве прорицатель не объяснит нам, чем мы прогневали Аполлона? Ведь очевидно, что мор наслал на нас Аполлон. И если мы выясним, что сделали – и чего не сделали, – то сможем все исправить.
Когда он сел, толпа пришла в движение. Затем первые ряды расступились, и вперед шагнул Калхас, провидец. Вид у него был явно напуганный. Сложно было назвать его привлекательным человеком: бледный и тощий, с удивительно длинной шеей. Он попытался заговорить, и его кадык – такой острый, что сам по себе отбрасывал тень, – судорожно задергался. Но в конце концов он совладал с собой, и прорезался его сиплый голос. Кажется, Калхас спрашивал, если его пророчество вовлечет в себя человека беспредельно могущественного, встанет ли Ахилл на его защиту?
Тот приподнялся.
– Давай же, скажи нам. Никто не причинит тебе вреда, пока я жив. – Он помедлил, но не сумел сдержаться. – Даже если ты говоришь об Агамемноне, мнящем себя величайшим из греков.
Вот он и прозвучал, вызов Агамемнону, перед лицом богов и на глазах у тысяч его собственных воинов.
И Калхас в пространных выражениях возвестил то, о чем уже знали все собравшиеся: что Аполлон наслал мор, чтобы покарать Агамемнона за оскорбление своего жреца. И что единственный способ умилостивить бога – возвратить девушку отцу и принести в жертву сотню тельцов. И, само собой, отказаться от выкупа…
Калхас еще не окончил речь, а Агамемнон указывал на него перстом. Убогий, жалкий недомерок, когда он пророчил что-то хорошее? И вот он кричит – едва ли подходящее определение заплетающейся речи Калхаса, – что Агамемнон виноват в поветрии, потому что отказался вернуть девчонку отцу…
– И это истинно так, – заявил царь Микен. – Я не желаю отпускать ее.
Я услышала у себя за спиной слабый голос Хрисеиды:
– Что я говорила?
– Скажу откровенно, я предпочел ее своей супруге. Она не менее искусна за ткацким станком и куда лучше в остальном: рост, красота, тело. – Тут по толпе пробежал одобрительный ропот. – Но, будучи предводителем войска, я не могу видеть, как умирают мои собственные воины… Поэтому – да, я верну ее отцу.
У Гекамеды вырвался радостный возглас. Я обернулась, чтобы узреть радость в глазах Хрисеиды, но та побледнела еще сильнее.
– Это неправда! – Ее кулаки стиснуты, в тонком голосе злоба. – Это уловка.
– Думаю, он говорит правду, – возразила Гекамеда.
Юза всплеснула руками, глядя на нас.
– Неужели я одна здесь еще соображаю? Он предпочитает ее своей супруге! Да ей бы умолять его, чтобы позволил остаться…
– Заткнись, Юза, – сказала я. – Ради богов.
– О, простите язык мой…
Я вновь повернулась к арене. Агамемнон еще говорил, но его слова тонули в одобрительных криках толпы. Наконец, когда гомон утих, он произнес:
– Но боюсь, что тут есть загвоздка. Я остаюсь без награды. У всех что-то есть, я же остаюсь ни с чем. Я требую возмещения.
Ахилл вновь поднялся.
– И где мы найдем тебе замену? Может, где-то есть неразграбленная сокровищница? Я такой не знаю. Все добытое в Лирнессе мы давно поделили. Придется тебе дожидаться, пока мы не возьмем Трою.
– Нет, Ахилл, не тебе обращаться ко мне в таком тоне. Я не собираюсь оставаться ни с чем. И если ты не дашь мне награды, что ж, я возьму ее сам. Быть может, твою, Одиссей?
Юза вскинула руки.
– Да!
И она не прикидывалась. Юза нравилась мне, но ей было плевать, кто ее сношает, лишь бы жить в довольстве. Но стать наградой Агамемнона… Вряд ли ее жизнь изменилась бы к лучшему.
Агамемнон там временем продолжал, указывая поочередно на царей, сидящих перед ним.
– Или твою, – говорил он. – Или твою.
Но это, конечно же, была игра. Его взгляд уже был устремлен на конкретного человека, а скоро последовал и указующий перст.
– Или твою, Ахилл?
В первый миг я решила, что неправильно поняла. Я была трофеем Ахилла, Агамемнон не мог иметь в виду меня. Я боялась оглядываться на других женщин, поэтому просто стояла и смотрела на арену.
– Но все это позже, – продолжал Агамемнон. – Первым делом необходимо вернуть девчонку отцу и убедить его вознести молитвы Аполлону и снять проклятие. Ну и кому я могу довериться в этой деликатной миссии? Идоменей, критский царь, почитаемый всюду, куда бы ни явился? Или владыка Нестор, прославленный своей мудростью? Или же Одиссей, умный, красноречивый и искусный в интригах? Или ты, Ахилл, самый вспыльчивый из живущих?
Меня не интересовали их взаимные оскорбления и вечная толкотня за власть. Я хотела лишь знать, что будет со мной.
Гекамеда подошла ко мне и обняла.
– Не тревожься, – прошептала она. – Он этого не сделает.
Я покачала головой. Я не плакала, но кусала пальцы – и даже спустя несколько дней на них были видны следы зубов.
Ахилл между тем сделал несколько шагов к Агамемнону – всего пара шагов, но пространство между ними сжалось до предела.
– Я бился за эту девушку, – произнес он. – Это моя награда, преподнесенная мне войском в признание моих заслуг. Ты не вправе забирать ее. Но так всегда: я выношу бремя битв, а ты забираешь львиную долю награбленного. Я же получаю отбросы, ничтожные объедки. Я возвращаюсь, измотанный после сражений, в мое жилище, ты же отсиживаешь свой жирный зад и стережешь корабли.
Юза позади меня прыснула.
– Отбросы, – повторила она, – ничтожные объедки…
Даже Гекамеда улыбнулась, но ее улыбка померкла, стоило ей увидеть мое лицо. Хрисеида пересекла комнату и заключила меня в объятия.
– Этого не будет, – заверила она. – Он вечно строит козни, но этого не будет.
Агамемнон возвысил голос.
– Я уведу девчонку, и не стану никого посылать за ней, а пойду сам. И тогда все увидят, что бывает, если кто-то возомнит себя равным мне.
– Я не собираюсь драться из-за нее, – ответил Ахилл. – Войско отдало ее мне, и войско же ее забирает, потому что ни один из вас, – тут он оглядел сидящих полукругом царей, – не нашел в себе мужества подняться и сказать, что он не прав… Что ж, так тому и быть: он забирает девчонку, но пусть не ждет, что я и впредь буду сражаться. С чего я должен рисковать жизнью – и жизнями воинов – ради кучи собачьего дерьма, сидящей на троне?
После этого даже видимость уважения была отброшена. В какой-то момент они едва не сцепились: Ахилл наполовину извлек меч из ножен, но опомнился в последний миг. После поднялся Нестор и пытался примирить их, но я уже не слушала. Мне не было до них дела. Я растирала руками жесткое, онемевшее лицо, пытаясь придать ему более подобающее выражение. Впрочем, ни к чему было утруждать себя. Гекамеда тихо обняла меня. Помню, она всегда плакала за меня, когда сама я плакать не могла.
И только Юза пыталась приободрить меня.
– Все будет в порядке, – говорила она. – Я знаю, что ему по душе. В крайнем случае всегда можешь рассчитывать на гусиный жир.
Все слова были сказаны. Воины расходились в подавленном настроении: озабоченно переглядывались, ворчали себе под нос или – что чаще – просто молчали. Ахилл отказался сражаться, союз распадался – а избавления от бед так пока и не найдено. В лазаретах воины по-прежнему умирают от язв.
Глашатаи стали прокладывать дорогу для Агамемнона. Но сам он еще разговаривал с Одиссеем, который должен был возглавить посольство и доставить Хрисеиду домой.
Гекамеда схватила Хрисеиду за руку.
– Ступай, беги. Они явятся за тобой.
Хрисеида еще пребывала в оцепенении. Словно не верила в происходящее и боялась, даже теперь, что снова всего лишится. Она бросилась к двери, затем развернулась и вернулась ко мне.
– Брисеида, мне так жаль…
– Не печалься, со мной все будет хорошо. Ну, ступай же.
Я возвращалась в стан Ахилла. Он не станет драться из-за меня и ясно дал это понять. Он готов сражаться до смерти – смерти Агамемнона – за все свое имущество, но только не за меня. По пути через лагерь я оглядывалась на простых женщин и подмечала у кого-то разбитые губы, у других синяки. У одной девушки, юной и довольно милой, был округлый шрам на лбу, куда пришелся удар тупым концом копья. Быть может, прежде она тоже принадлежала Агамемнону, пока не наскучила ему и не оказалась на улице?..
Ни Патрокл, ни Ахилл еще не вернулись. Кто-то сказал, что они отправились к морю. Наверняка обсуждали, что им делать – или не делать, – когда явится Агамемнон. Я прошлась по комнатам, без слез – я не могла плакать, – просто брала вещи и возвращала на место. Подошла к зеркалу и прильнула к своему отражению. Полированная медь запотела от моего дыхания, и в следующий миг пятно растаяло – вот и мое существование в этих стенах было столь же мимолетным. Я прошла в кладовую и опустилась на кровать. Через некоторое время вошла Ифис и взяла меня за руку. Никто не проронил ни слова. Наконец в коридоре послышались шаги: Ахилл и Патрокл вернулись с прогулки.
Ахилл еще горел пылом битвы, развернувшейся на арене.
– Значит, так и поступим? Когда он явится, ты не впустишь его. Остановишь у ворот. Можешь отвести к нему Брисеиду. Я не желаю видеть его – если я его увижу, то убью.
– Он не придет.
– Сказал, что придет.
– Я слышал, что он сказал.
– Я убью его.
– Да, я знаю. И он тоже знает. И поэтому не придет.
В голосе Патрокла сквозила усталость. Полагаю, этот их разговор повторялся по кругу. Я представляла их так ясно, как если бы стена между нами стала прозрачной. Ахилл расхаживает из угла в угол, и Патрокл сидит, сложив руки на коленях, внешне спокойный, но челюсти стиснуты.
– Ты можешь присесть, – произнес Патрокл. – Их придется ждать не один час.
– Ха! Он не вытерпит.
– Первым делом ему придется возвратить Хрисеиду отцу. И найти сотню тельцов – сомневаюсь, что они пасутся под боком. А затем – дожидаться возвращения корабля. Так ему следует поступить.
В моей душе затеплилась надежда. Они не смогут тем же днем тронуться в обратный путь. Принесение в жертву сотни тельцов тоже займет немало времени, затем последуют гимны и молитвы Аполлону и пир. Это растянется на целую ночь, и только утром все соберутся обратно. Мучимые похмельем, они не смогут рано отплыть… Учитывая, сколько времени будет у Агамемнона на размышления, не переменит ли он своего решения? Неужели он готов порвать с Ахиллом и проиграть войну – из-за девчонки?
Вновь шаги в соседней комнате. Наконец я услышала скрип – Ахилл опустился в свое кресло.
Патрокл откашлялся.
– Мне послать за Брисеидой?
– Зачем? Для прощального соития? Нет, спасибо.
Молчание. Мне представилось легкое смущение на лице Ахилла.
– Нет, не стоит, – произнес он затем. – Она сама скоро узнает.
15
Поскольку необходимость сидеть в ожидании отпала, я воспользовалась возможностью ускользнуть. Мне хотелось попрощаться с Хрисеидой и пожелать ей доброго пути. Я чувствовала, что хорошие для нее новости несправедливо омрачало мое собственное безрадостное будущее.
Начало смеркаться. Я побежала к гавани, где корабли Агамемнона подготавливали к отплытию. Женщины небольшими группами уже собрались на берегу и смотрели, как тельцов грузят на корабли. Животные, чувствуя под копытами шаткую палубу, ревели от страха. Доски стали скользкими от их зеленоватых экскрементов. Воины, что загоняли их на палубу, распевали гимны во славу Аполлону, но я слышала нотки отчаяния в их голосах. Может, они полагали, что даже этого недостаточно?
В последний момент, когда все было готово, Хрисеиду вывели из жилища Агамемнона. На ней была простая белая накидка, без украшений, волосы заплетены в косы. Она выглядела как царица – бледная, сдержанная и внезапно повзрослевшая. Агамемнон не появлялся. Одиссей взял ее за руку и помог подняться по сходням на палубу. Хрисеида встала на корме и оглядела стан Агамемнона, затем полчища черных кораблей в гавани. Я видела, как широко раскрыты ее глаза. Сдержанная внешне, Хрисеида полна ужаса и со страхом ждет, что в любую секунду Агамемнон передумает и сон оборвется.
Мы подпрыгивали и кричали:
– Доброго пути! Счастливо!
Поначалу я думала, что Хрисеида не ответит, так она была напряжена в своем намерении сохранить спокойствие. Потом она все же вытянула руку и в неуловимом движении помахала нам.
Я огляделась вокруг и исполнилась теплого чувства – даже любви – ко всем женщинам, что пришли проводить Хрисеиду. Они не завидовали ее удаче, хотя любая из нас отдала бы правую руку за возможность вернуться домой – и чтобы было куда вернуться.
Внезапно на корме рядом с Хрисеидой появился Одиссей. Все засуетились, стали поднимать паруса, вытаскивать якорь – и корабль медленно тронулся с мелководья, взрывая ил и оставляя за собой широкую борозду. Сначала воины работали веслами под ритм барабанов, но скоро ветер наполнил паруса и понес корабль прочь, словно внял стремлениям Хрисеиды. Мы смотрели, как корабль удаляется и тает, и над нами воцарилась гнетущая тишина. Не могу говорить о других, но в тот миг я чувствовала себя как никогда обездоленной.
Когда все начали расходиться, я заметила, как некоторые из женщин поглядывают на меня краем глаза. К тому времени весть о моей участи разошлась по лагерю. Одна из них – я не особенно ее запомнила – взглянула на меня и ухмыльнулась.
– Так значит, ты теперь наполовину царица?
Сомневаюсь, что кто-нибудь завидовал моему возвышению – если можно так это назвать.
Я поплелась обратно, понурив голову и глядя, как влага сочится сквозь песок под моими стопами. Я так погрузилась в собственные мысли, что раз или два чуть не врезалась в кого-то, но затем чутье заставило меня поднять взгляд – и как раз вовремя. Меньше чем в сотне шагов от меня стоял Агамемнон, глядя на свой корабль с Хрисеидой на борту – черную точку на фоне багрового закатного неба.
Я спряталась между кораблями и стала ждать. По всему берегу мужчины входили в море, смывали масло и грязь с кожи, окунали головы в волны – и все без исключения распевали гимны во славу Аполлона. Славится Аполлон, разящий издалека, и даже боги трепещут, когда он натягивает свой серебряный лук… И бесчисленные жрецы молят Феба избавить их от поветрия. Скоро побережье обезлюдело, и линия прилива чернела от людей. На моих глазах происходило нечто поразительное: все войско вошло в море.
Некоторых воинов, слишком слабых и неспособных идти, приходилось нести к воде. Резкое погружение разгоряченного тела в холодные волны было способно убить их. Но, насколько я знаю, никто из них не умер. Я видела даже, как один воин, ослабленный болезнью, после погружения самостоятельно вышел на берег.
Звезды проглядывали на зеленоватом небе. По всему побережью загорались костры, и когда мужчины возвращались, вымокшие, с моря, им давали чаши с горячим пряным вином, и каждый, прежде чем выпить, совершал возлияние во славу Аполлона. Затем они собирались у костров, грелись и пускали по кругу кувшины крепкого вина. По приказанию Агамемнона забили коз и овец, и вскоре перед воинами выстроились блюда с жареным мясом. Но не было слышно шуток и смеха, привычных для любого пира. Пока Аполлон не принял жертву, лагерь пребывал под его проклятием, и осознание этого угнетало всех тяжелым бременем.
Из своего укрытия я видела, что Агамемнон по-прежнему стоит на берегу – одинокая, неподвижная фигура. Разве мог он вспомнить обо мне после всего этого? И не поступить ли ему по примеру остальных: напиться и постараться обо всем забыть? Я продолжала убеждать себя и в то же время понимала, что он не забудет. Хоть мне – как и многим другим – казалось непостижимым, что два самых могущественных человека в греческом войске готовы сцепиться из-за девчонки.
По возвращении в стан Ахилла я тотчас направилась в чулан и стала ждать, пока меня позовут. Ифис не появлялась. Возможно, Патрокл запретил ей показываться.
Время тянулось мучительно долго. Я складывала подол туники и снова разглаживала. Если так делает престарелая женщина – помню, моя бабка делала, – это значит, что разум ее дряхлеет. Мне было всего лишь девятнадцать, и я занималась тем же… Я заставила себя прекратить.
На столе справа от двери стоял кувшин с вином. Я знала, что никто не стал бы возражать, и потому наполнила себе чашу. Руки у меня дрожали, несколько капель пролилось на стол, и пришлось искать тряпку. Я еще вытирала пролитое вино, когда послышались голоса. В первый миг я решила, что это Агамемнон явился за мной, и почувствовала себя преданной. Я рассчитывала на проволочку, но ее не последовало. Ахилл был прав: Агамемнону не терпелось завладеть мною.
Я встала, разгладила тунику и отерла губы, хотя так и не притронулась к вину. Я не собиралась упираться, чтобы меня тащили силой, и твердила себе, что пойду, вскинув голову, и не стану оглядываться. Не покажу страха, не доставлю Агамемнону удовольствия.
Но затем Патрокл возвестил приход Нестора и его сына Антилоха. Нестор… Я тотчас решила, что это своего рода посольство мира и что Агамемнон, должно быть, смягчился, поскольку для такой миссии он избрал бы именно Нестора. Я чуть приоткрыла дверь, чтобы лучше слышать и хоть отчасти видеть происходящее.
Нестор вошел в комнату, высокий, с посеребренными сединой волосами и в богатых одеждах – и позади него, неуклюжий и робкий, его младший сын Антилох. Мальчик до того был очарован Ахиллом, что боялся дышать в его присутствии. Оба стояли в накидках: хоть ночь и была теплой, с моря тянуло сыростью. Капли крошечными бисеринками поблескивали на их плечах. Ахилл встал поприветствовать гостей. Нестор снял накидку и передал Патроклу, после чего пригладил встрепанные волосы. Ахилл предложил ему сесть, и когда Нестор устроился, я отметила, что у него начали выпадать волосы – стали видны розовые проплешины под седыми прядями. Ахилл попросил Патрокла принести вина получше.
– Не этой девчачьей мочи, – добавил он и натянуто рассмеялся.
Антилох между тем оглядывался в поисках места, чтобы сесть. Увидел кровать и двинулся к ней неловким шагом. Ему представлялось, что Ахилл наблюдает за ним, поэтому он споткнулся о ковер и едва не растянулся.
Патрокл размешивал в золотой чаше вино для Нестора. Когда все было готово, он подошел к очагу и щедро плеснул вина в огонь во славу Аполлона. Капли зашипели на железной решетке. Нестор поднял чашу и выпил. Затем смерил Ахилла долгим, суровым взглядом.
– Вижу, ты пока не собираешься грузиться на корабли?
– Он не явился за девчонкой. Пока.
Нестор улыбнулся и покачал головой.
– Ты не отплывешь. Можно назвать тебя кем угодно, но только не предателем.
– Я не вижу в этом предательства. Это не моя война.
– Но охотно в нее вступил.
– Мне было семнадцать. – Ахилл подался вперед. – Он поступил сегодня оскорбительно, и каждый понимал это, но никто не осудил его.
– Я осудил. И осуждаю теперь.
– Нет уж, теперь все псу под хвост. Ему нужна Троя, так пусть берет – но без меня. Да только мы оба знаем, что он не сможет.
Нестор помолчал мгновение. Затем произнес:
– Я привык, что меня слушают, Ахилл…
– Продолжай. Я слушаю.
– Ты не можешь позволить другим сражаться, пока сам сидишь здесь и дуешься. – Нестор вскинул руку. – Да, дуешься.
Ахилл принял это на удивление сдержанно.
– Сегодня он пренебрег всякими правилами. Я сражался за эту девушку. Войско преподнесло ее мне – он не вправе забирать ее. Для меня все кончено. Я не собираюсь рисковать жизнью – и жизнями моих воинов – ради слабого, алчного, неумелого и трусливого царя.
Я ожидала, что Нестор вступится за Агамемнона, однако он лишь улыбнулся.
– Может, оно и так – это не имеет значения. И не важно, что ты лучший, чем он, воин, храбрее его и сильнее, – речь не об этом. У него больше воинов, чем у тебя, больше кораблей и больше земель – потому он возглавляет войско, а не ты.
– Но это не дает ему права забирать у других трофеи. Это мое, он этого не заслужил.
Было сказано еще много слов – об отваге, мужестве, верности, чести, – но я уже не слушала. Для меня имело значение лишь одно короткое слово: это. Это мое, он этого не заслужил.
Когда я вновь смогла сосредоточиться на их разговоре, Нестор говорил:
– Что ж, я лишь надеюсь…
Но никто так и не узнал, на что надеялся Нестор. Из коридора послышались торопливые шаги, и через мгновение в комнату ввалился Алким. Лицо его блестело от пота.
– Там глашатаи Агамемнона.
Чаша выскользнула из моих рук, и красное вино обрызгало тунику.
– Агамемнон с ними? – спросил Ахилл.
Алким помотал головой. Я заметила, как Ахилл покосился на Нестора, и глаза его вспыхнули. Но, когда он заговорил, слова его были обращены к Патроклу:
– Узнай, готова ли она, хорошо?
Нестор выглядел растерянным.
– Я не знал, что они явятся.
Ахилл тронул его руку в знак доверия.
Глашатаи Агамемнона явились в черных с алым одеяниях, с посохами, увитыми золотыми лентами. Им надлежало встать с внушительным видом и громкими, чистыми голосами возвестить послание Агамемнона. Вместо этого старший из них шагнул вперед и упал на колени. Ахилл подскочил и помог старцу подняться.
– Не тревожься, – сказал он. – Я не собираюсь вымещать на вас злобу. В этом нет вашей вины.
Дверь в чулан отворилась. Патрокл вошел и положил руки мне на плечи, но я стряхнула их.
– Ты по-прежнему думаешь, что он взял бы меня в жены?
Тот не успел ответить – его окликнул Ахилл:
– Патрокл, она готова?
Патрокл протянул мне руку. Я повиновалась, и он провел меня в комнату. Глашатаи уже вышли. Я осмелилась взглянуть на Ахилла и, к своему изумлению, увидела слезы на его щеках. Не было ни всхлипов, ни чего-то подобного; слезы просто катились по его лицу, и он даже не счел нужным смахнуть их.
Ахилл плакал, когда меня уводили. Я не плакала. Даже теперь, спустя годы, когда все это уже не имеет значения, я по-прежнему горжусь собой.
Но в ту ночь я заплакала.
Часть II
16
С первого дня, когда они высадились у стен Трои, он знал, что не вернется домой. Не уготовано ему радостных встреч, объятий и пиров в его честь. Не познать ему долгой и унылой жизни, рождения детей от надоедливой жены. Не проводить долгих часов, выслушивая жалобы земледельцев на соседей, верша суд в мелочных тяжбах, пока с течением лет не придут старость, немощность и смерть. Смерть в теплой постели, у очага, в окружении детей и внуков. И после, еще несколько лет, его имя будет звучать на устах людей, тех, кто знал его всю жизнь и сражался с ним бок о бок под стенами Трои. Но память людская коротка. Сменятся поколения, пройдут века, его гробница зарастет травой – и люди, проезжая на колесницах, каких он и представить не может, остановятся и скажут: «Как, по-твоему, что это? Похоже, дело человеческих рук…»
Ничего из этого ему не суждено. И он не возражает. Куда проще сознавать, что скоро придет время, что на рассвете, в сумерках или в знойный полдень меч или копье сразит его, и он умрет, как и жил, в неугасающих лучах славы. И на этом его история не прервется, ибо так посулили ему вероломные боги: вечная слава в обмен на раннюю смерть под стенами Трои.
Он знает нрав этого моря во всех проявлениях. Во всяком случае, мог утверждать это до недавних пор. Но в последние две недели движение волн было столь необычно – прежде он не видел ничего подобного. Небо хмурилось изо дня в день, и волны без единого клочка пены накатывали сплошным грозным валом. И он почувствовал недовольство богов еще прежде, чем первые воины пали жертвами моровых стрел.
Пока бушевал мор, вода ни разу не поднималась, но теперь море словно наверстывает упущенное. Волны гонят к берегу хлопья грязной пены, которая вскипает на мгновение и впитывается в песок. И каждая новая волна выше предыдущей. Вода подбирается к той части берега, которая годами оставалась сухой, волны выносят на сушу переплетенные водоросли, обломки раковин и выбеленные кости чаек.
В ночь, когда увели Брисеиду, один из кораблей сорвало с якорей. Патрокл растолкал его, и они вместе бросились на пляж, выкрикивая приказы и созывая людей. К рассвету корабль уже громоздился на мелководье, завалившись на бок, и ракушки, облепившие днище, придавали ему сходство с древним бородавчатым чудищем. С тех пор таких высоких волн больше не наблюдалось, но это послужило предостережением. Теперь они проверяли крепления всех кораблей, а некоторые подтащили еще дальше на сушу.
Глубина моря и неба потрясает. Дюны возвышаются за его спиной, и тень от волнующихся трав частоколом ложится на песок. Но вот с моря веет туман, как часто бывает в этот час. В считаные минуты дымка окутывает его, и теперь нет нужды куда-то всматриваться; он лишь слушает рокот волн и чувствует, как вода обтекает его стопы. Ребенком он спал с матерью в спальне, обращенной окнами к морю. Когда она ушла, он просыпался посреди ночи и представлял, что волны шепчут ее голосом и баюкают его.
Память порой творит странные вещи. В одном из самых ярких воспоминаний он стоит в спальне у окна и смотрит, как мама входит в море. Длинные черные волосы качаются на воде, как пряди водорослей, пока следующая волна не поглощает ее. И в то же время он понимает, что не мог этого видеть: из комнаты, где он спал ребенком, не видно моря. Но и более поздние образы не в силах исказить воспоминания об одинокой спальне и о мучительной разлуке. Отец все перепробовал – уговаривал его поесть, покупал лучшие игрушки и каждую ночь приходил утешить его перед сном. Однако он лишь отворачивался или, что хуже, терпел его объятия и, подобно матери, оставался безучастным и лежал словно в оцепенении. Жрецы, прорицатели, родственницы и няньки – у всех отец спрашивал совета, и никто не знал, что ему делать. К нему приводили сыновей из богатых домов, чтобы они стали его «друзьями», – но дети, как это бывает, сразу догадывались, что он «не такой», предпринимали несколько вялых попыток и после играли только друг с другом. Он перестал расти. И вот однажды, когда он превратился в бледного заморыша с блеклыми волосами и все ребра стали видны под кожей, – появился Патрокл. Патрокл, убивший в ссоре друга, мальчишку на два года старше его самого.
В тот день Ахилл услышал шум и в надежде, что это мать явилась в один из своих редких визитов, бросился в зал. И резко замер, завидев отца, говорящего с незнакомцем. Рядом стоял крупный неуклюжий мальчик с разбитым лицом и сломанным носом. Но побои выглядели давними, синяки были желтого окраса, лиловые по краям. Еще один «друг»?
Мальчишки смотрели друг на друга, Патрокл выглядывал из-за своего отца. В тот миг Ахилл не ощутил привычной неловкости при встрече с очередным «другом», то чувство оказалось несравнимо сильнее. По телу пробежала холодная дрожь: они словно знали друг друга с младенчества. Но ему слишком часто причиняли боль, чтобы так просто заводить друзей, поэтому, когда Патрокл, с подсказки отца, протянул ему руку, Ахилл лишь повел плечами и отвернулся.
Когда стало известно, что Патрокл убил человека – совершил то, чему их всех обучали, – остальные мальчишки выстраивались в очередь, чтобы подраться с ним. Его колотили изо дня в день. И он постоянно дрался, как медведь на цепи, который не может избежать травли и вынужден вечно отбиваться, завывать и зализывать раны по ночам, а днем вновь становиться перед псами. Когда Ахилл наконец-то собрался с духом, чтобы подступиться к нему, Патрокл был близок к тому, чтобы превратиться в маленького и жестокого головореза, каким его все считали.
Как они сблизились? Ахилл не помнит – впрочем, он почти ничего не помнит из того, что происходило в те два года после ухода матери. Он знает только, что они дрались, играли, спорили, смеялись, ловили кроликов, рвали ежевику, возвращались домой с перепачканными ртами, изучали царапины друг на друге, валились в кровать и засыпали – обнаженные и бесполые, как горошины в стручке. Патрокл спас ему жизнь еще задолго до того, как они оказались на поле битвы. Но Ахилл отвечал ему тем же и дрался рядом с ним, кто бы из других мальчишек ни нападал, пока те не перестали преследовать их и не признали истинного предводителя. Когда Ахиллу стукнуло семнадцать, они с Патроклом были готовы не только к войне, но могли бы бросить вызов и целому миру.
Братья по оружию, достойные мужи.
На самом же деле Патрокл занял место его матери.
Сейчас он сидит в своем кресле и ждет его. По неясной причине Патрокл ненавидит эти его ночные вылазки к морю. Возможно, он опасается, что однажды Ахилл просто исчезнет под водой, как и его мать, когда вязкий воздух станет ему ненавистен.
Что ж, обеспокоен Патрокл или нет, ему придется еще подождать. Он пока не готов возвращаться и видеть пустую постель. Но с чего бы ей пустовать: видят боги, у него уйма девушек. Однако беда не в этом. Беда в том, что он не желает других девушек, он хочет эту – и не может ее заполучить. И предается размышлениям о горечи своей утраты, в попытках загладить острые грани. Он тоскует по ней. Ему бы не следовало, но он ничего не может с собой поделать. А все почему? Потому что однажды ночью она явилась к нему в постель, пропахшая морем? Потому что на ее коже остается вкус соли? Что ж, если оно так, он мог бы любую из них окунуть в море, и от всех будет пахнуть солью и водорослями…
Это его трофей, вот в чем все дело. Его награда – ни больше ни меньше. Дело не в самой девчонке. И боль эта порождена скорее унижением: ведь его награда украдена – да, украдена – человеком, которого он, Ахилл, превосходит во всем. Он разорял города, убивал врагов, выносил на себе в полной мере жестокое бремя войны… А тот просто берет и уводит ее. Дело не в девчонке – его ранит оскорбление, удар по его гордости. Что ж, пусть так. Он умывает руки. Пусть Агамемнон берет Трою без него – скоро они приползут на коленях, моля о помощи. Он пытается ощутить удовлетворение от этой мысли, но не выходит. Быть может, последовать первому своему порыву и отплыть домой? Патрокл поддержал эту мысль, а он, как ни тяжело это признавать, почти во всем прав.
Здесь, посреди тумана, ему не найти ответа. Мама не явится этой ночью. Поэтому он плотнее закутывается в плащ и направляется обратно к хижине, где его дожидается Патрокл.
Он проходит между кораблями, перебирая в уме каждую мелочь, все необходимые меры. Если весенний разлив будет так же высок, как и в том году, следовало бы переместить хранилища глубже на сушу. Они были выстроены восемь-девять лет назад, после той жуткой зимы, проведенной под навесами. Дерево теперь серебристо-серое от неустанных ветров и дождей, и если присмотреться, то понизу наверняка найдется немало гнилых досок. Так значит, перестройка? Дать людям какое-то занятие и в то же время показать свою готовность дождаться конца – каким бы он ни был… «Да, занять их чем-нибудь», – думает он, тенью скользя между своими призрачными кораблями, расчетливый, прагматичный, снова готовый к бою. Нечего предаваться унынию и незачем жалеть себя.
17
Но в ту ночь я заплакала.
Так что же такого ужасного совершил Агамемнон? Полагаю, ничего особенного. Ничего такого, чего я не ожидала бы от него. Но под конец, когда я решила, что теперь-то свободна и могу удалиться, он взял меня за подбородок и привлек вплотную к себе. В первый миг я подумала, что он хотел поцеловать меня, но затем Агамемнон вставил мне палец между зубами и разжал челюсти, отхаркнулся – неторопливо и тщательно – и сплюнул мне в рот сгусток мокроты.
– Вот, – произнес он, – теперь можешь идти.
Эта часть лагеря была мне незнакома, и я блуждала в темноте, пока в конце концов не набрела на женские жилища. Все это время я неистово пыталась очистить глотку подолом туники, так что в итоге меня вырвало на песок. Я еще отирала язык, когда дверь отворилась и показалось лицо Рицы. Я рухнула в ее объятия и еще долго не могла говорить. Она баюкала меня и утешала – так утешают ребенка, если ему приснится плохой сон; вокруг нас собрались другие женщины и гладили меня по спине. Я не могла рассказать им, что произошло, но, возможно, этого и не требовалось. Вероятно, они и так всё знали или догадывались. Многие из них в свое время спали с Агамемноном, прежде чем одержимость Хрисеидой не освободила их от этой обязанности. Рица была очень ласкова, но все равно прошло немало времени, прежде чем я успокоилась и смогла заснуть.
Я проснулась еще до рассвета и лежала в оцепенении, глядя в полумрак. Я знала, когда Агамемнон пресытится мною – а это произойдет довольно скоро; он уже сказал, что я жалкая замена Хрисеиде, – он отдаст меня своим воинам на общее пользование. Но утром, когда я поделилась своими страхами с Рицей, она заверила меня:
– Нет, он не станет; ты – награда Ахилла.
Я лишь покачала головой. Мне казалось, что именно поэтому он так и поступит: наивысшее оскорбление человеку, который осмелился оспорить его власть. Нет, еще несколько ночей изощренных унижений, и после я буду ползать у хижин в поисках места для ночлега.
Мои опасения не оправдались. После той ночи Агамемнон не желал больше видеть меня. Но каждый вечер я по-прежнему разливала вино его гостям. Возможно, вы спросите, почему он требовал этого, если не выносил моего облика? Полагаю, я служила некоей его цели. В стане Ахилла посыл был таков: «Посмотрите на нее. Вот моя награда, преподнесенная мне войском в подтверждение того, что я – величайший из греков». Во владениях Агамемнона это звучало иначе: «Взгляните на нее, награду Ахилла. Я забрал ее у него, как могу забрать и ваши награды. Я могу забрать у вас всё».
И потому я улыбалась и разливала, разливала и улыбалась, пока не сводило скулы. А после, когда все расходились, забивалась в женскую хижину, заворачивалась с головой в простыню и пыталась уснуть. Женщины спали повсюду, и воздух был пропитан запахом пота. Я подыскивала место у стены, где сквозь зазор между досками задувал свежий бриз с моря, лежала, прижавшись ртом к этой щели, и втягивала прохладный соленый воздух.
Мы спали на соломенных матрасах, разложенных между ткацкими станками. Днем постели хранились под полом, и их доставали с наступлением вечера, когда становилось слишком темно, чтобы работать. Повсюду висели полотна, которые мы ткали, полные насыщенных красных, зеленых и синих тонов, но даже самые яркие цвета казались темными в узких полосах света, что пробивались сквозь щели. Лица женщин, сидящих у ламп, отливали белым, как крылья мотыльков. Даже на ярком солнце они выглядели бледными, и многие постоянно кашляли оттого, что вдыхали частички шерсти. Иногда в воздухе висела такая плотная взвесь из крошечных нитей, что казалось, будто сидишь в тумане. Во дворце моего супруга ткацкие мастерские выходили прямо во внутренний двор, так что туда всегда задувал свежий воздух и было видно проходящих людей. Эти же хижины были закрыты, мы трудились долгими часами и редко выходили наружу. За работой мы обычно пели песни, которые знали еще с детства, но уже к полудню были так измотаны, что пение постепенно замирало. Затем следовала быстрая трапеза из хлеба с сыром и вина, разбавленного до того, что едва отливало розовым. А после, если повезет, можно было на миг выглянуть во внешний мир, прежде чем опускались сумерки.
И так день за днем. Обычно я возвращалась поздно, иногда – очень поздно. Пересказывала Рице те обрывки сведений, какие удавалось выхватить из разговоров, стягивала свой наряд и ложилась на жесткую постель. Лампы гасли одна за другой, но даже в полумраке ощущалось присутствие ткацких станков. Когда глаза привыкали к темноте, можно было разглядеть причудливые узоры, что мы соткали за день. Так и спали, свернувшись, как пауки в середине своей паутины. Только мы не были пауками – мы были мухами.
Иногда перед вечерней трапезой я улучала момент и шла на пляж, взглянуть на море. Но не успевала добраться до берега, как приходилось уже мчаться обратно и одеваться, чтобы прислуживать за ужином. В одну из таких вылазок я увидела Ахилла, бегущего по пляжу в доспехах. Его босые ноги шлепали по мелководью. Сначала он меня не заметил. Через какое-то время остановился и оперся о колени, хватая ртом воздух. Потом поднял голову и увидел меня. Он ничего не сказал, не помахал мне и вообще никак не отреагировал. Просто развернулся и побежал обратно, маленькая фигурка на фоне необъятного неба и моря.
Первые несколько дней после ссоры с Ахиллом Агамемнон торжествовал. Мор действительно прекратился. С тех пор как Хрисеида вернулась к отцу, никто больше не заболел. Впрочем, на рассвете и на закате жрецы по-прежнему возносили молитвы Аполлону и совершали жертвоприношения. Но что приятнее всего – войско Агамемнона сумело отвоевать несколько сотен шагов вытоптанной равнины, так что этот вероломный ублюдок Ахилл ошибался: конечно, они могут взять Трою без него. Смогут и возьмут. Во время трапезы Агамемнон то и дело вскакивал и произносил тосты и под конец вечера едва мог стоять на ногах.
Позднее, у себя в покоях, в окружении тех немногих, кому он еще доверял, Агамемнон заводил речи более грязные. И что теперь остается делать Ахиллу? Сидеть и дуться в своих стенах и, конечно, изводить себя тем, что он не может сражаться. И чья это вина? И вот он напивается, как бурдюк, затем исторгает из себя все, чтобы освободить место для новых возлияний, – а после ложится с Патроклом, и они нежатся до полудня. Несколько недель такой жизни – и оба обрюзгнут, как евнухи. Его гости угодливо смеялись, но все знали, что это неправда. Каждый, так или иначе, видел Ахилла бегущим вдоль гавани в полном облачении. Или слышал, как Патрокл созывает мирмидонян на тренировочные площадки к очередным изнурительным маневрам. И все равно никто не перечил Агамемнону. Единственным другом, кого оставил Ахилл, был Аякс – и его не было среди гостей.
Но шло время, и настроение постепенно менялось. Позиции, отбитые в ожесточенных битвах, вскоре были потеряны, и число убитых стало расти. По-прежнему звучали тосты и песни, но шуток об Ахилле заметно поубавилось. Как-то вечером Агамемнон заметил, что доспехи Ахилла достались его отцу, Пелею, от богов – в подарок на свадьбу.
– Доспехи богов, – промолвил он. – И отсюда закономерный вопрос: это в самом деле его заслуги или же дело в доспехах?
– Ну, – невозмутимо произнес Одиссей, – ты всегда можешь вызвать его на кулачный поединок и все выяснить…
Повисло неловкое молчание. Сам факт, что кто-то посмел перечить Агамемнону, показывал, в какой мере переменилось всеобщее настроение.
Я стала побаиваться этих ночных попоек. Обходила столы, разливая вино по кубкам, и чувствовала, что мое присутствие пробуждает иной отклик. Если прежде я была олицетворением власти Агамемнона и унижения Ахилла, то теперь превратилась в нечто более гнусное – в девку, из-за которой случилась ссора. Именно так, я была во всем виновата – примерно так же, как кость виновата в драке между собаками. И из-за этой ссоры, из-за меня, души многих молодых греков отправились в царство теней – оборванная юность, и зрелость не наступит. Или за всем этим стояли боги? Не знаю, мне тяжело судить. Я знаю одно: когда они не винили богов, то винили меня.
Я подмечала устремленные не меня взгляды, и в них не было прежнего восхищения. Мне вспомнился случай, когда, еще девочкой, я была в Трое. Мужчина вышел вперед и со всем почтением приветствовал Елену, улыбался и непринужденно говорил с ней, а после распрощался с поклонами. Но стоило мне обернуться, когда мы уходили, и я увидела, как он оплевал ее тень.
Я ощущала на себе ту же враждебность, то же презрение. Я стала для них Еленой.
18
Еще девочкой – в том возрасте, когда я прекратила играться с куклами, но еще не созрела для брака, – меня отослали к замужней сестре в Трою. Моя мать умерла, и я возненавидела молодую наложницу которая заняла ее место. Отца раздражала наша нескончаемая ругань, и все решили, что мне лучше удалиться.
Мы с сестрой Иантой никогда не были близки. К тому времени, когда я родилась, она уже готовилась к замужеству: ее взял в жены Леандр, один из сыновей Приама. Брак не принес ей счастья. Леандр вскоре устал от супруги и взял наложницу, которая подарила ему трех сыновей, так что Ианта была свободна от исполнения супружеского долга. Она превратилась в некрасивую низкорослую женщину, неприметную и вечно недовольную, отчего казалась много старше своих лет. Как подобная женщина умудрилась подружиться с Еленой, для всех оставалось тайной, – и все же они стали близкими подругами. Могли болтать часами за чашей-другой вина, и, полагаю, обе были очень одиноки.
Ианта обычно брала меня на эти встречи. Я сидела и слушала, но редко вступала в разговоры. Но вот однажды сестру отозвали по каким-то семейным передрягам, и я осталась наедине с Еленой. Она говорила какое-то время – смущенно, как взрослые люди иногда робеют с детьми, – а потом предложила прогуляться. Мне было двенадцать, и цепи уже замыкались вокруг меня: с приближением брачного возраста девочки уже не показывались на людях – разве что навестить родственниц, и тогда полагалось покрывать лицо вуалью и выходить только с сопровождением. Но Елена, похоже, не видела ничего необычного в прогулке к крепостным стенам. С беззаботным видом она заколола вуаль и взяла меня за руку так, словно мы отправлялись навстречу великому приключению. Мы прошли прямо по рыночной площади в сопровождении одной лишь служанки. Должно быть, на моем лице читалось удивление, потому что Елена сказала:
– Ну а почему нет?
Кажется, ее совершенно не волновало, как посмотрят на нее люди. Троянские женщины – она звала их «высокородными» – уже не могли подумать о ней хуже, а что до мужчин… Ну у Елены имелись свои соображения о том, что думали мужчины: она знала об этом с десяти лет. Да, я уже слышала эту историю. Несчастная Елена, поруганная на берегу реки в возрасте десяти лет. Само собой, я верила ей. И позднее была потрясена, когда осознала, что никто другой ей не верил.
С крепостных стен открывался вид на поле битвы. Плодородная некогда долина, вытоптанная лошадьми и изрытая колесницами, превратилась в бесплодную пустыню. Над нами кружили несколько ворон – помню, я подумала, что перья на их крыльях похожи на торчащие пальцы. Елена подошла к самому парапету. У меня не было выбора, так что я последовала за ней, хоть и не решалась смотреть вниз. Вместо этого подняла глаза к небу и затем устремила взор к горизонту, где солнечные блики скользили по морской глади.
Внизу разразился хаос. Я слышала визг лошадей, крики раненых, но по-прежнему не смотрела вниз. Елена перегнулась через парапет, и я заметила, как участилось ее дыхание. Она старалась – нет, жаждала – увидеть как можно больше. Я не знала – и теперь не представляю, – о чем Елена думала в тот момент. По ее собственным словам, она впадала в отчаяние при одной только мысли, что стала причиной этой резни. Но что Елена чувствовала на самом деле? Неужели при виде баталии ее ни разу не посещала мысль: это из-за меня?
Мы простояли там примерно полчаса, и тут появился Приам. Кто-то поставил для него кресло, и он предложил Елене присесть рядом. Приам обращался к ней с неизменной учтивостью, хотя наверняка знал, что троянцы – и в особенности женщины в его собственном дворце – ненавидели ее.
– Кто это? – спросил Приам, глядя на меня.
Елена объяснила ему, и я залилась краской. Но Приам словно отринул все заботы и позабыл, что война складывается не в его пользу, что Гектор прилюдно обвиняет своего брата Париса в трусости, а казна пуста. Он достал серебряную монету и положил на ладонь, затем провел над ней другой рукой, произнес какие-то магические слова, и монета исчезла. Я сознавала, что это трюк, но не увидела, как он это сделал. Приам сделал вид, будто ищет монету в складках мантии, всюду охлопывая себя.
– Куда она подевалась? Только не говори, что я ее потерял… Она не у тебя?
Я помотала головой. Приам протянул руку, тронул меня за левым ухом и выудил монету. Я держалась со всем достоинством, присущим девочке двенадцати лет. В моем возрасте уже не подобало радоваться фокусам, и все же я пришла в восторг, потому что так и не поняла, как он это делал. Приам отдал мне монету и стал наблюдать за сражением; и на лице его мгновенно отразилась глубокая печаль.
После мы вернулись в дом Елены. Она скинула вуаль и велела подать вино и пирог – лимонный, какие делали только в Трое. Прилюдно Елена каялась и винила себя в том, какую роль сыграла в этой кровопролитной войне. Быть может, она думала, что если сама станет чаще называть себя потаскухой, то другим уже не захочется повторять это за ней. Если так, то она ошибалась. В узком кругу все обстояло иначе. Елена высмеивала троянских – «вельможных» – женщин, и, видят боги, для этого возникала масса предлогов. Смешно было видеть, как они подражали ей в косметике, прическах и одежде… Поразительно, как благоразумные с виду женщины верили, что стоит им подвести глаза в той же манере, с тонкими стрелками в уголках век, и они обретут красоту Елены. Или заполучат ее грудь, если подвязать пояс тем же образом, что и она. Это бездумное подражание женщине, к которой относились с таким презрением… Неудивительно, что Елена их высмеивала.
И вот мы непринужденно разговаривали, пили вино – чересчур много вина, – и я чувствовала себя такой взрослой… Меня прямо переполняла гордость. Когда сестра пришла за мной, то ужаснулась, но это лишь раззадорило меня еще больше.
После того дня я часто приходила к Елене одна – но, разумеется, в сопровождении одной из прислужниц сестры. Елена постоянно водила меня с собой на крепостные стены. Пока она перегибалась за парапет и с упоением следила за битвой, Приам выуживал сладости и монеты у меня из-за уха. Гекуба, его супруга, тоже иногда приходила, всякий раз с младшей дочерью Поликсеной. Девочка цеплялась за ее подол и прямо пыжилась от гордости за свою мать. Елена пробовала подружиться с ней, но Поликсена не купилась на это – она, по примеру матери, питала к Елене ненависть. Я нередко видела ее во дворце, как она догоняла старших сестер с криками: «Подождите меня! Подождите!». Детские вопли доносились отовсюду.
Гекуба и Елена держались с натянутой любезностью, но при ней мы никогда не задерживались. Елена предпочитала видеть Приама одного. Она в последний раз бросала взгляд через парапет, и мы возвращались в ее покои, где нас ждали вино и лимонный пирог. Все визиты оканчивались одинаково. В какой-то момент улыбка на ее лице меркла, и она произносила:
– Что ж, пора браться за работу.
Это служило мне сигналом: я надевала мантию, прятала лицо под вуалью и ждала служанку, которая отводила меня обратно.
Случалось так, что я не успевала еще уйти, а Елена уже удалялась в дальние комнаты, и я слышала стук ткацкого станка. По легенде – и это о многом говорит, – всякий раз, когда Елена обрезала нить, на поле битвы умирал воин. Она была повинна в каждой смерти.
И вот однажды Елена показала мне свою работу. Я встречала в своей жизни немало превосходных ткачих. Когда Ахилл разорил Лесбос, он увел в плен семерых девушек – их работы были восхитительны, блистательны. Но даже они не могли сравниться с творениями Елены. Я ходила по комнате и разглядывала гобелены, в то время как Елена сидела за станком и потягивала вино. Полдюжины огромных полотен украшали стены, расшитые батальными сценами. Эти полотна повествовали историю всей войны. Ожесточенные схватки, воины, пронзенные копьями, обезглавленные, с распоротыми животами и отрубленными конечностями, и парящие над этой резней в своих сияющих колесницах цари: Менелай, Агамемнон, Одиссей, Диомед, Идоменей, Аякс, Нестор. Я знала, что Менелай был супругом Елены, пока она не сбежала с Парисом. Но когда она назвала его имя, ее голос ничуть не переменился. Указывала ли она на Ахилла? Полагаю, что да, но я не могу этого вспомнить.
Троянцы, разумеется, тоже были на этих полотнах: Приам с высоты крепостных стен взирал на поле битвы, и внизу, в гуще сражения – Гектор, его старший сын, обороняет ворота. Однако среди них не было Париса. Тот, должно быть, храбро воевал только в постели. Я несколько раз видела их вместе, и даже ребенку было очевидно, что Елена предпочла бы Парису его брата Гектора, а к нему, похоже, прониклась презрением. Его нежелание вступать в битву стало притчей во языцех, как и презрение к нему Гектора.
Я все осмотрела и после обошла гобелены еще раз, потому что одна деталь осталась для меня неясной.
– Ее нигде нет, – сказала тем вечером я сестре. – Ее нет на гобеленах. Приам стоит на стенах, а ее там нет.
– Конечно, ее нет. Пока не станет ясно, кто победил, она не узнает, где изобразить себя.
Сестра произнесла это с горечью, без привычного злорадства, присущего троянским женщинам. В этом голосе крылись чувства куда более глубокие. Теперь, вспоминая эту хмурую, неприметную женщину, я думаю, не была ли она влюблена в Елену. Возможно, в какой-то мере Елена очаровала и меня.
В ту ночь, лежа в постели, я сожалела, что не сказала ей больше, не попыталась по крайней мере выразить свое восхищение ее работой. Почему я этого не сделала? Наверное, лишилась дара речи. Но дело было не только в этом… Полагаю, я ощутила нечто такое, чего не могла постичь в силу возраста. Я уходила с чувством, что Елена цеплялась за собственную историю. Она была так одинока, так беспомощна в этом городе – я понимала это уже тогда, – и словно говорила посредством этих гобеленов: я здесь. Я, личность – не только предмет восхищения и повод для войны.
Еще одна история восходит к первому году войны. Менелай и Парис условились сойтись в поединке, который и решил бы, кому достанется Елена. Собрались оба войска, на крепостных стенах толпились люди, все жаждали увидеть этот бой. Но Елены среди них не было. Никто не счел нужным сообщать ей о происходящем. Так что судьба Елены решалась без нее. Думаю, в своих гобеленах она искала возможность исправить это. Да, ее не было на полотнах, и я понимаю, что она исключила себя намеренно. Но в то же время присутствие Елены ощущалось в каждом стежке. И, возможно, только это и имеет значение.
Не знаю, почему я цеплялась за воспоминания о Трое. В самом деле, какая польза рабыне вспоминать, лежа на жесткой постели в душной хижине, как однажды царь Приам развлекал ее фокусами? Не проще ли смириться со своей нынешней безрадостной участью?
Но в следующую секунду я думаю: «Нет, не проще». В ту ночь я вспоминала враждебные взгляды, устремленные на меня в покоях Агамемнона, ощущала на языке слизистый ком его мокроты, и меня, словно одеялом, окутывала доброта царя Приама.
19
Вечером, после трапезы, они отправились посмотреть на укрепления, которые Агамемнон начал возводить между лагерем и полем битвы. Стоя на мачте своего корабля, Ахилл радовался успешной атаке троянцев, и его, по всей видимости, ничуть не тревожили потери среди греков. Теперь же ему стало любопытно взглянуть на попытки Агамемнона защитить лагерь.
Когда они пришли к месту будущих укреплений, начало смеркаться, но это не помешало им все разглядеть. На пустоши, что отделяла песчаные дюны от поля битвы, воины рыли огромную траншею. Сотни людей, с головы до пят перемазанных грязью, катили тележки с землей, в то время как другие вгрызались лопатами в жидкую глину. Эти земли лежали в пойме двух могучих рек, что разливались каждую осень в период штормов, и вряд ли существовал более изощренный способ напомнить об этом. Вода заливала ров, едва воины успевали отрыть его. Другие укладывали мешки с песком в попытках сдержать поток. По дну траншеи были проложены доски, и все равно местами вода поднималась выше колен. Надо рвом вздымался мощный вал, вдоль которого через равные промежутки расположились караульные посты; часовые устало наблюдали за творящимся под ногами хаосом.
– Что ж, – произнес Ахилл, – очевидно, он опасается, что они могут прорваться.
Патрокл посмотрел в сторону берега, на длинные ряды кораблей, вытащенных на сушу. Черные, с хищно изогнутыми носами, они наводили ужас всюду, где бы ни появлялись, – но в нынешнем положении представляли собой лишь кучи сухих дров. Несколько горящих стрел, хороший ветер, чтобы разнести пламя, и весь их флот будет объят огнем – в считаные минуты.
Было невыносимо просто стоять и ничего не делать.
– Мы могли бы помочь. Ты сказал, что не станешь сражаться, но не говорил, что ничего не будешь делать.
– Может, и не говорил, но имел это в виду. Кто виноват в его неудачах? Только он сам.
– Но другие ни в чем не виноваты. – Патрокл указал пальцем на измотанных воинов. – Это не их вина.
– И не моя.
Напряженное молчание. Глядя в траншею, Патрокл вспомнил, как мальчишкой наблюдал за муравьями: те тащили кусочки листьев, похожие на крошечные корабли. Он попытался отогнать воспоминания, но не смог. Медленно, по-прежнему в молчании, они с Ахиллом двинулись дальше. Патрокл почувствовал, что напряжение спало, и спросил:
– Думаешь, это сдержит их?
Ахилл покачал головой.
– Нет, только замедлит его отступление. – Он указал на участок земли по другую сторону рва. – Там будет бойня.
Патрокл сделал глубокий вдох.
– Значит, это всё?
– Смотря что ты имеешь в виду. Я не желаю сейчас слышать о нем.
Речь не о тебе.
Они так хорошо знали друг друга, что несказанные слова повисли в воздухе между ними. Молчание. Затем Патрокл произнес:
– Ты ведь знаешь: если они прорвутся, тебе придется вступить в бой. Они не пощадят твои корабли только потому, что ты не сражаешься.
Ахилл пожал плечами.
– Если на нас нападут, я буду сражаться. – Он отвернулся. – Идем, я достаточно насмотрелся.
20
Мы понимали, что война складывалась для греков не лучшим образом. Если прежде до нас долетал лишь отдаленный рокот битвы, и при желании можно было не обращать на это внимание, то теперь приглушенный грохот был слышен даже сквозь стук ткацких станков. По шуму все догадывались, что троянцы подбираются все ближе, но будь мы даже глухими, хмурые лица греков говорили о том же. Воины были взвинчены, готовые пнуть всякого, кто окажется на пути. Мы все держались так, словно нам безразличен исход сражений. Впрочем, вряд ли их волновало, о чем мы думали. Некоторые из нас, в особенности те, которые и прежде жили в неволе, смотрели на это с неподдельным равнодушием. При любом исходе их участь не изменилась бы ни в худшую, ни в лучшую сторону. Но женщины, которые в прошлой жизни были свободными, имели какое-то положение, – те пребывали между страхом и надеждой. Одни убеждали себя, что если – если – троянцы прорвутся, то примут нас как долгожданных сестер. Но так ли будет на самом деле? Или они увидят в нас вражеских наложниц, с которыми можно делать все, что душе угодно? Я догадывалась, какой исход наиболее правдоподобен. Но только при условии, что мы переживем битву. Скорее всего, они атаковали бы ночью, осыпав лагерь горящими стрелами, чтобы посеять в панику и неразбериху. Пламя в считаные минуты охватило бы хижины, а женщин на ночь запирали.
Поэтому мы следили, раздираемые надеждой и отчаянием, как троянцы приближаются день за днем. С утра в лагере словно вымирали все мужчины – каждый, кто мог стоять на ногах, должен был сражаться, – и мы были, по крайней мере, избавлены от неусыпного надзора, который, как ничто другое, отравлял жизнь в стане Агамемнона. Мы по-прежнему работали с утра до вечера, но теперь постоянно прерывались, выходили на солнце поесть маслин с хлебом и, прислушиваясь к звукам битвы, гадали, становились они ближе или отдалялись.
Как-то утром мы сидели на ступенях, и я увидела Рицу. Мы не встречались несколько дней; она трудилась не покладая рук в лазарете и ночевала там же. У нее был изнуренный вид, и меня охватил страх – я не могла позволить себе потерять Рицу.
– Я в порядке, – сказала она. – Последние дни выдались непростыми… Собственно, затем я и пришла. Спросила Махаона, нельзя ли взять тебя в помощницы. Он дал согласие.
Я пришла в восторг, но в следующий миг подумала: «Нет, не дождешься».
– Он ни за что не отпустит меня.
– Отпустит, Махаон уже спрашивал.
Главный лазарет располагался рядом с ареной, в двадцати минутах ходьбы от стана Агамемнона. Я не смела оглянуться или выдохнуть, пока мы не оказались за воротами, но затем замедлила шаг и огляделась так, как если бы видела все впервые: воздух дрожал над костром, радужный петушок искал зерно в песке, из прачечных тянуло резким запахом мочи… Все казалось мне новым, волшебным и словно другим.
Когда мы пришли в стан Нестора, я с удивлением обнаружила, что перед лазаретом установлены несколько шатров. Полотно было покрыто пятнами и пропахло за долгие годы в трюмах кораблей. Я поняла, что в этих самых шатрах греки жили в первую зиму, когда самонадеянно полагали, что проведут здесь несколько месяцев, а то и недель. И вот, спустя девять лет, шатры снова понадобились, чтобы разместить раненых. Пригнув голову, я вошла вслед за Рицей в ближайший из шатров. Да, я подслушивала разговоры во время вечерней трапезы, и до нас долетали звуки битвы. Но до той минуты я не представляла, насколько плохи были дела у греков. Воздух был пропитан запахом крови.
Я проследовала за Рицей по узкому проходу между рядами матрасов. Махаон сидел на куче соломы и зашивал кому-то рану. Поднял голову.
– А ты не спешила, – сказал он Рице, затем взглянул на меня. – Добро пожаловать.
Мне нравился Махаон. Впервые я увидела его в стане Ахилла, во время мора, когда он давал нам советы по лечению. Я позабыла многих мужчин, которых встречала в лагере, но прекрасно помню Махаона. Это был дородный мужчина, уже немолодой – хотя возможно, что он выглядел старше своих лет. Убеленные сединой волосы, высокий лоб, зеленые глаза в переплетении морщин, язвительное чувство юмора и глубокий скептицизм в отношении медицины, способной попрать законы природы, – скептицизм, по моему опыту, разделяемый всеми выдающимися целителями. Стоя там, я наблюдала за его действиями и впервые, с тех пор как попала в этот лагерь, почувствовала себя в безопасности. Не знаю почему. Махаон затянул узел, похвалил обливающегося по`том воина за стойкость и направился к следующему раненому. Рица дала воину воды – вино ему запретили – и уложила поудобнее. Он осторожно повернулся на бок, закрыл глаза и почти мгновенно погрузился в сон. Я не понимала, как вообще можно уснуть в подобном месте. В сумраке гудели трупные мухи, то и дело раздавались крики и вопли раненых: люди в лихорадочном бреду пытались сорвать с себя повязки, и приходилось удерживать их силой.
Рица отвела меня в дальнюю часть шатра и усадила за длинный стол. Приятно было сидеть рядом с ней на скамье. Перед нами лежали ступки и пестики и несколько горшков с растертыми травами. Над головой висела, покачиваясь на сквозняке, перекладина с пучками высушенных трав. На столе были сложены свежие травы, какие можно было собрать в округе, и через открытый полог в шатер залетали пчелы, привлеченные пряным ароматом. Многие из трав – тех, которые я могла опознать – должны были унимать боль, но другие применялись для очистки ран. Рица объясняла, что люди чаще погибали от заражения, чем от потери крови.
– Посмотри на Махаона, когда он осматривает раненого. Он как будто и не глядит на рану, а только прислушивается.
Позднее днем я увидела, как Махаон склонился над раненым, которого принесли в то утро. Сначала он просто смотрел на рану, долго и внимательно, а потом стал ощупывать, осторожно надавливая пальцами. Рица оказалась права: по его лицу было видно, что он вслушивается. И тогда я тоже услышала – звук был едва уловимый, но я бы вряд ли спутала его с чем-то другим: хруст под кожей. Махаон улыбнулся, произнес что-то в утешение, но не прошло и часа, как раненого перенесли в барак у мыса, где сжигали мертвых. Мы называли это место «смрадным», потому что от зловония даже при открытых дверях перехватывало горло. Из тех, кого туда уносили, никто не возвращался.
– Это земля, – сказала Рица. – Она попадает в рану, и если слышишь этот хруст… – Она покачала головой.
Должна признать, я ощутила странное удовлетворение от мысли, что плодородная троянская земля убивала захватчиков. И в то же время душа моя была исполнена скорби, как во время мора, потому что многие из этих воинов были так молоды, некоторые еще совсем мальчишки… И если одни по своей наивности рвались в бой, то другие не желали даже находиться здесь. Но хоть я невольно и прониклась состраданием к этим израненным, бьющимся в лихорадке мужчинам, я по-прежнему питала к ним ненависть и неприязнь.
Я сказала об этом Рице. Она лишь пожала плечами и продолжала накладывать мазь на припарки.
Я чувствовала ее раздражение, но вместе с тем считала, что важно прояснить некоторые моменты. Было бы проще во многих отношениях убедить себя, что мы едины во всем этом, зажатые на узкой полосе между песчаными дюнами и морем. Просто, но неправильно. Они мужчины и свободны, я – женщина и подневольна. И никакая сентиментальная болтовня о единении в этом плену не скрыла бы пропасти между нами.
Каждый вечер перед трапезой цари и командиры навещали раненых, обходили ряды матрасов и подбадривали воинов: «Не тревожься, скоро мы вытащим тебя отсюда». Воины встречали их ликованием и смеялись, но стоило вельможным особам уйти, и снова поднимался ропот. Насколько я знаю, никто из царей не ходил к смрадному бараку, и даже в главном лазарете почти все внимание уделяли легкораненым.
Несмотря на все это, время, которое я провела в лазарете, работая бок о бок с Рицей, кажется мне счастливым. Счастливым? Мне и самой не верится. Но это так, мне полюбилось мое новое занятие. Говорят: «Если любишь орудия своего труда, значит, сами боги вложили их в твои руки». Что ж, я полюбила этот пестик и ступку, мне нравилось отполированное углубление в чаше, нравилось, как пестик лежал у меня в руке, словно я держала его всю жизнь. Мне нравились горшки и блюдца на столе и аромат свежих трав, нравилось, как покачивалась над головой перекладина с пучками высушенных трав. Я не замечала, как пролетали часы, обо всем забывала за работой. Я уже обладала кое-какими знаниями и умениями, но еще многому научилась у Рицы и Махаона. Когда он заметил мою увлеченность, то не жалел на меня времени. И тогда я действительно подумала: «У меня получится». И уже не чувствовала себя лишь подстилкой Ахилла – или плевательницей Агамемнона.
Пришел тот день, когда битва грянула так близко, что все мы замерли с одной мыслью: в следующий миг троянцы ворвутся в шатер. Наплыв раненых не спадал ни на минуту. Я разносила чаши с болеутоляющим отваром, а затем, когда остальные уже не справлялись, помогала промывать и перевязывать раны. Махаон велел нам использовать соленую воду – не брать морскую, а добавлять соль в свежую воду из колодцев. Эта процедура причиняла неимоверные страдания, но воины всегда шутили и смеялись. У них это считалось проявлением мужества. Конечно, у них были легкие ранения. Тех, кого приносили в полусознательном состоянии или уже при смерти, не волновало, что мы там делали.
Воины, которые могли стоять на ногах, выходили наружу и садились на свежем воздухе. Я передавала им кувшины с разбавленным вином и разносила блюда с холодным мясом и хлебом. Все разговоры были о разгроме. Они злились на Ахилла за его отказ сражаться, но винили в этом Агамемнона.
– Надо было сразу вернуть проклятую девку, – сказал один из воинов, когда я помогала ему налить вино в чашу. – С этого все и началось.
– Им-то какое дело, – отозвался другой. – Кто видел здесь хоть одного командира?
Одобрительный ропот.
– Нет, они все слишком заняты, командуя в тылу.
Но скоро все изменилось. Первым появился Одиссей, за ним почти сразу явился Аякс, а спустя еще пару часов – сам Агамемнон. Быть может, он избегал участвовать в рейдах, но теперь уже не мог отсиживаться в стороне. Слишком много было поставлено на карту. Его собственная жизнь оказалась под угрозой. Махаон лично промыл и перевязал его рану, и это была вовсе не царапина. Странно было видеть Агамемнона сидящим там, бледного и изнуренного. Однако со стороны он по-прежнему являл собою внушительную фигуру. Я вдруг поняла, кого он напоминал мне: статую Зевса на арене. Впрочем, впоследствии я выяснила, что статую изготовили по его образу, и сходство уже так не удивляло.
Его встречали с притворным ликованием, но стоило ему удалиться – по проходу между рядами матрасов, освобожденному специально для него, – и люди снова зароптали. Недовольны были даже те воины, которые пришли навестить друзей, но больше других жаловались раненые, вынужденные часы напролет лежать в духоте и ворочаться в поту, стараясь не чесать зудящие раны под повязками. И все чаще я слышала одно и то же имя. Оно звучало отовсюду, в устах простых воинов, командиров и даже кое-кого из подручных Агамемнона: предложи ему выкуп, умоляй его, целуй ему задницу, если потребуется, но, ради богов, заставь ублюдка сражаться!
Я держалась поблизости и слушала, но потом пришлось вернуться за стол и подготовить побольше примочек перед очередным наплывом раненых. Однако даже в дальней части шатра я слышала имя, произносимое сначала шепотом, но потом уже в голос. Снова и снова, на протяжении дня, пока раненые набивались в переполненный уже лазарет, звучало это имя: Ахилл, Ахилл. И снова: Ахилл!
21
– Нет, нет и еще раз нет!
Агамемнон вскинулся, зацепив рукавом кубок: тот опрокинулся, и вино растеклась по столу. Я бросилась вытирать, но в тот же миг меня нетерпеливо отпихнули. Вино капало со стола, и на полу образовалась багровая лужа. Молчание повисло в воздухе, стало буквально осязаемым.
Затем Агамемнон произнес, подчеркивая каждое слово:
– Я не собираюсь ползать перед этим засранцем.
– Тогда пошли кого-нибудь другого, – предложил Нестор. – Пусть другие ползают. Он и не ждет, что ты явишься сам.
– О, думаю, ты недооцениваешь его спесь.
С веранды послышались тяжелые шаги, и мгновением позже в покои, хватая ртом воздух, ввалился Одиссей. Одна его рука была перехвачена окровавленной повязкой.
– Если он с дурными вестями… – промолвил Агамемнон.
– Во имя богов, перестань. – Нестор повернулся ко мне. – Дай ему вина.
Я наполнила кубок и передала Одиссею. Тот осушил его в несколько глотков. Это было крепкое вино, самое крепкое, какое имелось в запасах Агамемнона, и оно могло усилить кровотечение, но мне слова никто не давал. Я видела, что повязка уже пропитана кровью.
Нестор склонился над Одиссеем.
– Не спеши, переведи дух.
– Некогда переводить дух, – процедил Агамемнон.
Одиссей вытер губы тыльной стороной ладони.
– Боюсь, новости и в самом деле дурные. Они встали лагерем по другую сторону рва; даже их разговоры слышны, так что можно слова разобрать, – вот до чего они близко. В десятке шагов, в десятке, будь я проклят, шагов. Это конец.
Нестор выпрямился.
– Еще нет.
– Более чем.
– Завтра я пойду в бой.
– Нестор, при всем почтении, но ты стар. Прости, но это так.
Нестор выглядел оскорбленным.
– Каждый человек на счету.
– Нет, достаточно одного человека.
– Ни к чему сотрясать воздух, – произнес Агамемнон. – Нестор уже все сказал. – Он тяжело сел. – Итак… перейдем к главному. Много ли, по-вашему, он запросит?
Одиссей скривился – от боли или неприязни, сложно было сказать.
– Уговорить его будет непросто.
– Если вообще возможно, – добавил Нестор.
Агамемнон лишь отмахнулся.
– Вот на что я готов. – Он принялся перечислять, загибая пальцы. – Семь треножников, десять золотых слитков, двадцать медных котлов, дюжину жеребцов – один лучше другого – и семь девушек, которые достались мне, когда мы взяли Лесбос. – Он указал пальцем на Одиссея. – Мой залог…
Нестор сидел возле огня и крутил перстень на большом пальце. Помню, перстень был с рубином, таким крупным, что рука переливалась в алых отсветах. Наконец он поднял голову.
– А девушка?
– Да, само собой… девушка.
Все взоры устремились на меня, и я отступила в тень.
– Если она еще нужна ему, – заметил Одиссей. Он оглядел всех по очереди. – Полагаю, теперь она несколько подпорчена?
– Она уже досталась мне такой, – сухо ответил Агамемнон. – Я и пальцем ее не коснулся.
Нестор и Одиссей смерили меня взглядами. Я чувствовала, как кровь прихлынула к лицу, но продолжала смотреть себе под ноги.
– И ты готов поклясться в этом? – бесстрастно спросил Нестор.
– Разумеется.
Повисло молчание. В очаге треснуло полено, взметнув в воздух сноп искр.
– Хорошо, – произнес наконец Нестор.
– Нет, постой, – это еще не всё. Если… нет, не если – когда мы возьмем Трою, он сможет выбрать любую из моих дочерей. Я сделаю его своим зятем, во всем равным моему сыну. Теперь никто не скажет, что мне неведомо великодушие. Но, разумеется, это имеет свою цену. Взамен он признает мою власть и мое предводительство. Он должен подчиняться моим приказам.
– Это справедливо, – осторожно промолвил Одиссей. – Ты пойдешь сам?
– Нет, конечно, я не собираюсь ползать на коленях перед ублюдком. Отправлю… Ох, даже не знаю… Быть может, тебя.
– Ему необходимо осмотреть рану, – заметил Нестор.
– Брось, это просто царапина. Конечно, я пойду.
– Кто еще? – спросил Агамемнон. – Ты, Нестор?
– Нет, это не лучшая мысль. При мне ему придется держаться смиренно – сомневаюсь, что нам это нужно. Думаю, ему нужно немного повыступать, прежде чем он уступит. Если он уступит… Как насчет Аякса?
– Аякс? – переспросил Одиссей. – Он и трех слов вместе не свяжет.
– Это да, но Ахилл его уважает. Как воина. И они родичи.
– Это верно.
Агамемнон терял терпение.
– Значит, решено? – Он обвел всех взглядом.
– Необходимо осмотреть рану, – настаивал Нестор. – Кровь еще идет.
– Отлично, – сказал Агамемнон. – Может, если немного крови накапает на его ковры, он поймет, насколько все плохо.
– Он и так это понимает.
Я догадывалась, почему Нестор не хочет участвовать в посольстве. Он был слишком изворотлив и тщеславен, чтобы возглавлять миссию, обреченную на провал. Я даже не надеялась на иной исход. Возможность вернуться к Ахиллу казалась… Не знаю. Сказочной. Думаю, до того момента я не сознавала, как мне не хватало доброты Патрокла.
– Да, и девчонку, – сказал Агамемнон. – Возьмите ее с собой. – Он сложил ладони чашей и приложил к груди. – Пусть видит, чего он лишается.
Одиссей выдавил улыбку.
– Верно. Возможно, это переменит его решение.
– И скажи, что я ни разу… Ну ты знаешь.
– Не сношал ее?
– Но ничего сверх этого. Никаких извинений. – Агамемнон поднял палец. – Никаких извинений.
Нестор повернулся ко мне.
– Ступай, возьми накидку.
Я бросилась к женским хижинам в поисках Рицы. Она сидела на полу, набросив одеяло на плечи. Я встала у двери, до того переполошенная, что не могла вспомнить, зачем прибежала, и тупо озиралась. Пламя в лампе затрепетало на сквозняке, и по полу извивались блеклые тени.
Рица подняла на меня взгляд: в полумраке зрачки были большими и черными.
– Что случилось?
– Он отсылает меня обратно.
Едва я это произнесла, как принялась приглаживать волосы, покусывать губы и растирать щеки. Надела крепкие сандалии, более пригодные для прогулок вдоль пляжа, затем на четвереньках подобралась к сундуку в углу и на удачу достала лучшую свою накидку.
– Что происходит? – шепотом спросила Рица.
Я ответила также вполголоса:
– Они пытаются выкупить у Ахилла прощение, чтобы он снова сражался. Девушки с Лесбоса, – я кивнула на дальний угол, – это тоже часть выкупа. Только не говори им. Может, ничего и не выйдет.
Я завернулась в накидку так плотно, как матери пеленают младенцев, чтобы те перестали плакать. Снаружи послышались мужские голоса. Рица подтолкнула меня к двери.
– Иди, ступай.
Одиссей и Аякс стояли в десяти или пятнадцати шагах от нас. Одиссей, худой и темный, напоминал хорька; над ним, словно башня, возвышался крупный, светловолосый Аякс. С ними были глашатаи Агамемнона в церемониальных плащах цвета бычьей крови. Одиссей потешался над предположением, что Агамемнон не притрагивался ко мне.
– Я же не о пальцах его спрашивал, – посмеивался он. Затем, завидев меня, спросил отрывисто: – Где твоя вуаль?
Рица бросилась внутрь. Через минуту вернулась с длинной белой вуалью и набросила ее мне на голову и плечи. Я вспомнила Елену и содрогнулась. В окружении мужчин с факелами я, должно быть, выглядела как юная девушка, навсегда покидающая отчий дом. Но чувствовала себя покойницей, ведомой к погребальному костру. Я по-прежнему ни на что не надеялась. Огляделась, но ничего не видела из-за вуали, если только не смотрела себе под ноги.
Одиссей что-то достал из-под плаща.
– Вот, надень.
Я приподняла вуаль и увидела в его руках ожерелье из опалов: пять крупных камней, мутных на первый взгляд, но стоило Одиссею шевельнуть рукой, и в глубине их начало переливаться пламя. Сердце едва не выскочило у меня из груди. Это ожерелье принадлежало моей матери, отец подарил его ей в день свадьбы. Должно быть, Агамемнон взял его в свою долю из награбленного, когда пал Лирнесс. Я взяла ожерелье дрожащими пальцами и надела на шею. Рица подскочила, чтобы помочь с застежкой. Поначалу меня одолела слабость от потрясения – это было хуже, чем вид Мирона в тунике моего отца, – но потом я ощутила тепло камней на коже и почувствовала себя лучше. Как будто мама коснулась меня ладонью.
Мы двинулись в путь. Глашатаи со своими позолоченными посохами возглавляли шествие. Я шла позади, приподняв край вуали, чтобы видеть, куда ступаю. Оглянулась через плечо и увидела, что Рица стоит на ступенях и машет мне вслед. Но скоро она растворилась во мраке, и я больше не оглядывалась.
В стане Агамемнона песок, утоптанный множеством ног, стал черным, но вдоль берега он был чистый, плотный и сырой. Я смотрела вслед Одиссею и Аяксу, их следы сочились водой. Никто не оборачивался на меня, поэтому через какое-то время я подняла вуаль и окинула взглядом море. Выглянула луна, и на краткий миг, пока не набежали гонимые ветром облака, на водной глади проявилась дорожка света.
Глашатаи вышагивали величаво и статно. Я чувствовала нетерпение Одиссея: ему хотелось, чтобы это все поскорее осталось позади, чем бы «это все» ни обернулось. Сомневаюсь, что он верил в успех своей миссии. Он говорил с Аяксом, но я не разобрала о чем, – ветер срывал слова с его уст и уносил прочь. Слева гигантские волны разбивались о скалы, и белые брызги вздымались в воздух. Справа над крышами хижин разносилось пение троянцев. На удивление близко: казалось, они были в самом лагере. Я видела, как Одиссей и Аякс поворачивали головы в ту сторону, и их лица были остро очерчены и бледны в свете луны.
Стены вокруг стана Ахилла стали выше, и земля перед ними была утыкана острыми кольями. Если прежде стены служили только для разграничения территории мирмидонян на побережье, то теперь это были полноценные укрепления – и направленные не в сторону троянцев. Одиссей бросил взгляд на Аякса, словно говорил: «Вот видишь?» У ворот стояла стража, но это не стало препятствием: Одиссея и Аякса сразу узнали и пропустили.
Мы прошли внутрь. Этот миг был крайне волнителен для меня. В ночном воздухе разносилась музыка, Ахилл пел и играл на лире. И, как обычно, многие пленные женщины собрались на верандах и слушали. Я огляделась в поисках Ифис, но не увидела ее.
Когда мы подошли к жилищу Ахилла, Одиссей велел мне дожидаться снаружи. Они заспорили, как им следует войти. Глашатаи хотели церемонно пройти через главный вход, но Одиссей с ними не соглашался. Он хотел, чтобы это выглядело дружеским визитом, без условностей: как будто два друга решили заглянуть к нему… Глашатаи были возмущены, но Одиссей превосходил их по положению, и им пришлось уступить. Решение было принято: они пройдут к личному входу Ахилла, который вел прямо в его покои, а глашатаи останутся снаружи.
– Можете ждать у ворот или дожидаться, – сказал Одиссей. – Мне все равно. Но вы туда не войдете.
Я не знала, куда себя деть, и просто сидела на ступенях, спрятав от холода руки в складках туники. Слышала голос Ахилла, удивленный, но при этом учтивый и доброжелательный – быть может, немного настороженный, но, возможно, я все это надумала. Я надеялась услышать голос Патрокла, но знала, что он, как и всегда, предпочтет хранить молчание. Холодный ветер гулял между хижинами. Мне так хотелось разыскать Ифис, но я боялась, что в какой-то момент меня позовут. Я даже не сомневалась в этом.
Я огляделась. На веранде догорали несколько факелов, в воздухе витал запах говяжьего сала. Голоса за дверью нарастали. Мне хотелось спуститься к морю и, быть может, войти в воду, как я привыкла делать, пока жила здесь, но, конечно, я не осмелилась бы делать это теперь. Я просто сидела, как овца на привязи, с осознанием, что в этих стенах решалась моя судьба. Коснулась ожерелья на шее, один за другим перебирая камни, еще теплые, как яйца из-под несушки. Мысли унесли меня обратно в Лирнесс: я сидела на кровати в покоях матери и смотрела, как она наряжается к пиру. Наверное, повод был особенный – может, свадьба старшего брата, – потому что мама надела это ожерелье из опалов. Иногда, если она не спешила, то разрешала расчесать ей волосы…
Согревая себя теплом воспоминаний, я позабыла о своей участи. Потом дверь резко распахнулась, и Одиссей знаком велел мне войти.
22
Долгими часами Ахилл стоял на мачте своего корабля и следил за ходом битвы, исполненный одновременно раздражения и ликования. Как он и предполагал, ров стал для них настоящим бедствием: бой в буквальном смысле завяз, и воины скорее копошились в грязи. С тем же успехом можно было послать к Приаму гонца с вестью – не тревожься, старик, мы знаем, что нам не победить.
Что же, значит, – еда, вино, празднества?.. Еще чего. Вечерние трапезы походили скорее на тризны. Оказалось, что он не единственный наблюдал за битвами, но далеко не всех радовал возможный разгром греческого войска. Патрокл не произносил за вечер и двух слов. Вообще-то он никогда много не говорил, и могло показаться, что все оставалось по-прежнему… Но это было не так. Его молчание говорило громче любых слов.
После ужина Ахилл пытался завязать разговор, но, не дождавшись отклика, взялся за лиру. Как и всегда, с первых же нот он забылся в музыке. В очаге потрескивали поленья, мирно вздыхал пес, спящий возле ног Патрокла. Отзвучали последние ноты песни… Ахилл открыл было рот, но Патрокл вскинул руку. С веранды послышались шаги, шелест сандалий по доскам. Друзья переглянулись. Никто не заходил к ним в этот час – к ним вообще никто не приходил. Ахилл отложил лиру, и в следующий миг дверь распахнулась. Пламя факелов дрогнуло под порывом холодного воздуха, и тени заплясали по стенам. Собаки обнажили зубы и зарычали, но Патрокл узнал гостей, в нерешительности стоящих у порога, и произнес: «Свои!», и собаки неохотно, с утробным рычанием снова улеглись на пол.
Одиссей шагнул в свет факелов; следом за ним вошел Аякс. Одиссей – низкий и жилистый, Аякс – непомерно высокий, с веснушками вокруг носа, словно искусанный комарами. Он ухмыльнулся, обнажив неровные ряды крупных белых зубов.
– Проходите же. – Ахилл вскочил и стал пододвигать кресла поближе к очагу. – Садись, Аякс, а то голову расшибешь.
Патрокл захлопнул за ними дверь. Факелы снова разгорелись, перестали трепетать гобелены, и после приветственных слов Ахилла повисло неловкое молчание.
– Что-нибудь из еды? – спросил Ахилл, по-прежнему с улыбкой, но настороженно, словно мгновением раньше это был вовсе не он.
– Нет, благодарю, – ответил Аякс, потирая колени.
– Мне тоже ничего не нужно, – сказал Одиссей и осторожно опустился в кресло.
– Ты ранен, – заметил Ахилл.
– Царапина.
Ахилл взглянул на его руку, затем на лицо.
– Я бы так не сказал…
Он протянул руку, желая снять повязку, но Одиссей отмахнулся.
– Да это и в самом деле пустяки. – Он прикрыл раненую руку плащом. – Ты наблюдал за битвой?
– Время от времени.
– Они встали лагерем по другую сторону рва.
– В самом деле? Так близко?..
– Да их же слышно!
– Вот теперь, когда ты сказал, кажется, я действительно услышал голоса.
Патрокл разлил вино по чашам. Ахилл поднял свою, Одиссей и Аякс подняли свои… И никто не мог произнести тост.
Когда молчание стало затягиваться, Одиссей поставил чашу на стол.
– Брось, Ахилл, ты знаешь, зачем мы здесь.
– Боюсь, что нет. Ты умен, Одиссей, а мы с Аяксом всегда действуем наобум.
Услышав свое имя, Аякс вскинул голову, но так и не придумал, что сказать. Одиссей откинулся на спинку кресла – рана причиняла ему куда больше страданий, чем он пытался показать, – и натянуто рассмеялся.
– Ты, кажется, растолстел?
Ахилл пожал плечами.
– Это вряд ли.
– Уверен? – Одиссей ткнул себя в бок. – А по-моему, набрал полмеры, не меньше.
– Доспехи еще впору.
– Так ты их надеваешь? – Он бросил взгляд на Патрокла. – Что ж, вам, видно, по нраву тихая жизнь… Вид у вас очень довольный.
– А у тебя вид паршивый. Почему бы не перейти к сути?
– Я здесь по просьбе Агамемнона.
– Он ранен в обе ноги и не может ходить?
– А ты и вправду ждешь, что он явится сам?
– Да.
Одиссей покачал головой.
– Как ты можешь сидеть сложа руки, когда в нескольких сотнях шагов троянское войско готовится атаковать, – вот чего я не в силах понять. Хорошо, предположим, что ты не наблюдаешь за битвой – допустим, совесть тебе не позволяет, – но не говори мне, что не знаешь, каковы наши дела.
– Моя совесть в порядке, спасибо.
Патрокл подался вперед.
– Надеюсь…
Ахилл отмахнулся.
– Не тревожься, мы не ссоримся. Мы с Одиссеем через многое прошли и прекрасно понимаем друг друга. – Он перевел взгляд на Одиссея. – Ведь правда?
– Похоже на то.
Ахилл потянулся к чаше с вином.
– Продолжай, не держи в себе.
– Я пришел к тебе с предложением. В обмен на которое ты поведешь мирмидонян в бой завтра утром…
– Завтра утром?
– В полдень, возможно, будет поздно! Так ты хочешь выслушать, что тебе предлагают?
Прерываясь, чтобы перевести дух, Одиссей стал перечислять все дары, которые Агамемнон готов был преподнести: треножники, шелка, золото, коней, девушек… Ахилл внимательно слушал, но когда Одиссей закончил, он сидел с таким видом, словно ждал чего-то еще. Чего-то большего.
– Ну так что? – спросил Одиссей.
– Это всё?
– По-моему, это немало.
– Ничто из этого не стоит моей жизни.
Одиссей выглядел озадаченным.
– Да, я знаю… Но когда ты сражался ради вещей? Ты сражался ради славы, почестей…
– Только не теперь. У меня было время, чтобы поразмыслить, Одиссей. Это не моя война, я не хочу быть ее частью. Что сделали мне троянцы? Они не угоняли мой скот, не жгли моих полей, не забирали моих наград… Нет. Ничего – вот ответ. Они ничего мне не сделали.
– Брось, тебе же самому не терпится.
– Что? Прости, не понял – что мне не терпится?
– Вступить в бой. Ты сам знаешь, что жить без этого не можешь. Ты живешь войной.
– Люди меняются, Одиссей.
– Сомневаюсь. – Царь Итаки откинулся в кресле. На его верхней губе блестели капельки пота, он с трудом сдерживал гнев. – Ты согласился сражаться, ты вступил в войну… Ты дождаться не мог начала.
– Мне было семнадцать.
– Неважно. Ты согласился в этом участвовать – и не можешь теперь отступить просто потому, что переменил свое мнение. В этом нет благородства, Ахилл.
– Я отступил не потому, что переменил свое мнение. Он оскорбил меня. И не говори мне о благородстве, явившись сюда холуем Агамемнона.
Повисло молчание. Затем Патрокл прокашлялся.
– А Брисеида?
– Ах да!
Одиссей стал подниматься. Ахилл хотел помочь ему, но тот лишь отмахнулся. Шаткой поступью Одиссей подошел к двери, привалился к ней всем весом, чтобы открыть. И вновь заколыхалось пламя факелов, и тени заплясали по стенам. Несколько сказанных вполголоса слов, и вот он уже вернулся, а следом за ним – женщина, закутанная в вуаль, точно ожившая покойница. Одиссей ввел ее в круг света у очага и с изяществом фокусника сдернул с нее вуаль.
– Вот она!
Оторопелая, точно застигнутый врасплох кролик, Брисеида переводила взгляд с одного лица на другое. Ахилл стиснул чашу в руке, но ничего не сказал. Одиссей выглядел сбитым с толку – очевидно, он ожидал иной реакции, ведь этот миг был во всех смыслах переломным: награда Ахилла, девушка, проклятая девчонка, из-за которой все и началось, возвращена. С царским выкупом в придачу. Что еще ему нужно? И все-таки он сидит и ни слова не произносит.
Одиссей, сделав над собой усилие, продолжил:
– И он готов поклясться перед всем войском, что не притронулся к ней. Она жила нетронутой вместе с другими женщинами.
– Не притронулся к ней?
– Именно. И он готов поклясться в этом.
Ахилл поднялся и шагнул к Брисеиде. Они стояли так близко, что он чувствовал ее дыхание на своем лице, но она не смотрела на него. Ахилл тронул один из опалов – согретых ее теплом, – взвесил в ладони и стал поворачивать, пока в мутной глубине его не всколыхнулось пламя. Внезапно он выпустил камень, указательным пальцем коснулся ее подбородка и приподнял. Их взгляды встретились…
В следующий миг Ахилл повернулся к Одиссею.
– Скажи ему, что может трахать ее, пока не переломит ей хребет. Какое мне дело?
Брисеида зажала рот ладонью. Патрокл мгновенно оказался рядом, обнял ее за плечи и вывел из комнаты.
– Что ж, – произнес Одиссей с глубоким вздохом. – Возможно, идея была не из лучших, но хотя бы выслушай меня.
– Хочешь сказать, он обещает еще что-то?
– Когда мы возьмем Трою…
– Когда?
– Ты получишь двадцать девушек по своему выбору – за исключением Елены, конечно же, – семь укрепленных городов, золота и бронзы, сколько сможешь увезти на своих кораблях, и – нет, подожди – дочь Агамемнона в жены. Он сделает тебя своим зятем, во всем равным его собственному сыну…
– Постой. Чтобы я все правильно понял: я стану равным во всем его собственному сыну?
– Так он сказал.
– Равным во всем мальчишке пятнадцати лет, который и меча никогда не поднимал? – Ахилл подался вперед; теперь они с Одиссеем стояли почти вплотную. – Какая честь…
– И его дочь принесет немало приданого – а это превосходит все прочее. И не говори, что это не великодушно.
– Откуда же он все это возьмет?
– Полагаю, из своих сокровищниц.
– Да, но сколько из этого добыто в городах, которые я брал? В то время как он просиживал жирный зад и ничего не делал…
Одиссей опустился в кресло и потер глаза.
– Чего ты хочешь, Ахилл?
– Чтобы он явился. Сам.
– Этого не будет.
– Я хочу извинений. Чтобы он признал, что был не прав.
Одиссей повернулся к Аяксу.
– Пойдем, мы зря тратим время.
Он взял свой плащ и направился к двери. Но затем, словно мысль только теперь пришла ему в голову, развернулся и спросил:
– Это твой окончательный ответ? Или ты просто выжидаешь ради чего-то большего? Потому что если это так, то выкладывай, во имя богов, – у нас нет времени на эти игры.
– Я хочу извинений. Все предельно просто. И не так растратно.
– Значит, я могу вернуться и так ему передать?
– Думаю, можно передать вот еще что. Скажи ему: будь у меня выбор, жениться на его дочери или дохлой свинье, я выбрал бы свинью при любом раскладе. Вот, так уже лучше.
Одиссей уже открывал дверь, когда, вопреки всем ожиданиям, заговорил Аякс.
– Там погибают воины. Не враги, не троянцы, а твои соратники. Люди, которые смотрели на тебя, которые почитали тебя, – но тебе нет до них дела, ведь так? Тебе ни до чего нет дела, кроме собственной чести – и дурацких извинений. Они погибают, и ты, Ахилл, можешь помочь им, но не делаешь этого. Разве это достойно? – Он едва сдерживал слезы. – Я стыжусь такого родича. И мне стыдно, что я называл тебя своим другом.
Аякс схватил свой плащ и, утирая слезы и сопли, вышел во мрак ночи.
23
– Думаю, мне лучше вернуться, – сказал Патрокл.
Я молча кивнула. Он усадил меня за небольшой стол, и спустя пару минут я оправилась настолько, что смогла оглядеться. Тарелки после трапезы уже убрали и по полу разостлали свежий тростник, на столике в дальнем углу осталось несколько подносов и кувшинов с вином. Я обошла два длинных стола, заглянула в кувшины: в одном из них еще оставалось вино. Я наполнила себе чашу. Вино простояло слишком долго и было кисловатым, но еще годилось. Я пила долго и жадно, вытерла губы и снова наполнила чашу.
Все произошло так быстро… Введенная из полумрака в освещенную комнату, с сорванной вуалью, я стояла, неприкрытая, точно потаскуха на рыночной площади. Я как будто во второй раз оказалась на арене. И под конец этот пугающий миг близости, когда Ахилл заглянул мне в глаза, мы вдвоем остались в целом мире, и я поняла, что не смогу солгать ему.
Скажи ему, что может трахать ее, пока не переломит ей хребет.
Еще вина. Я отыскала еще один кувшин и вылила остатки себе в чашу. Хлопнула дверь, и я так и замерла с поднесенной ко рту чашей. Я ждала, что Одиссей сейчас придет за мной, но когда подошла к окну, то увидела Аякса – он расхаживал из стороны в сторону и молотил кулаком себе по ладони. Вышел Патрокл и пытался поговорить с ним, но тот лишь мотал головой и продолжал расхаживать. Через некоторое время Патрокл сдался и направился обратно. Он увидел меня стоящей у окна, взял чашу из моих рук и понюхал.
– Ух, боги… Тут есть кое-что получше.
Патрокл подошел к шкафчику и вернулся с кувшином вина – лучшего, какое у них было; я подавала его Ахиллу за ужином. Он наполнил две чаши и протянул одну мне. Мы сидели за маленьким столом, и наши взгляды блуждали по залу.
– Ты наливал мне вино в первую ночь, – промолвила я. – Я сидела в задней комнате, совсем перепуганная… – Я следила за ним краем глаза. – И понять не могла, почему ты делаешь это для рабыни.
– Ты знаешь, почему.
Должно быть, Патрокл имел в виду то время, когда он жил во дворце Пелея, без будущего, без друзей, без надежды. Я надеялась, что он имел в виду это – что-то иное оказалось бы слишком сложным для меня.
– Прости, – произнес Патрокл.
– За что? Ты ничего не сделал.
– Одиссею не следовало приводить тебя.
Да, все это могло бы разрешиться и без меня. Стало бы от этого лучше? Не исключено. Если б я не выдала себя взглядом, то, быть может, Ахилл поверил бы Агамемнону. Ведь он так много на себя брал: клятва перед лицом богов… Возможно, Ахилл решил бы, что Агамемнон не осмелится солгать.
Из комнаты по-прежнему доносились голоса.
– Что там происходит?
– Ну они еще разговаривают… Кажется, Одиссей собирался уходить, но так и не вышел.
Голоса стали приближаться. Появился Одиссей – он как будто постарел на многие годы.
– Я провожу вас до ворот, – сказал Патрокл.
– Не нужно, – отозвался Одиссей, отрывисто, пренебрежительно.
– Нет, Ахилл попросил бы меня об этом.
Одиссей шагнул ближе и, не скрывая презрения, спросил:
– Ты делаешь все, о чем просит Ахилл?
Не дожидаясь ответа, он развернулся и пошел прочь по коридору. Я последовала за ним.
Начал накрапывать дождь, мелкий, как будто туман, но одежда вымокла под ним в считаные секунды. Одиссей и Аякс с факелами в руках шагали к воротам – глашатаи Агамемнона давно ушли, – и мы с Патроклом едва поспевали за ними. Патрокл взял факел возле одной из хижин и держал высоко над нашими головами. Время от времени его плащ задевал мою накидку, но мы не соприкасались. И почти не разговаривали. Впрочем, я даже не уверена, что кто-то из нас проронил хоть слово. Наверное, кто-то другой прибег бы к утешениям: «Не переживай, это ненадолго, мы что-нибудь придумаем…» И все в таком же духе. Но Патрокл молчал, и я была благодарна ему.
Мы расстались возле ворот. Я обернулась и увидела его высокую фигуру в свете факела, но Одиссей окликнул меня, резко, как собаку, и я больше не оглядывалась. Наверное, со стороны наша группка представляла жалкое зрелище. Мы шли вдоль берега, волны разбивались пенистыми брызгами у наших ног, и мелкий дождь все не прекращался. Ноги вязли в мокром песке, и в конце концов я сняла сандалии и пошла босиком. Теперь не имело значения, как я выгляжу. Ни Одиссей, ни Аякс не обращали на меня внимания. Я просто перестала существовать.
Я была напугана. Была напугана с того дня, как пал Лирнесс. Нет, еще дольше – я жила в страхе годами. С тех самых пор, как первые города Троады пали под мечом Ахилла и с каждым сожженным и разграбленным городом война приближалась к нам. Но в ту ночь мной овладел ужас иного рода, сконцентрированный, как никогда прежде. Я знала, что мое присутствие в покоях Агамемнона выставляло его не в лучшем свете. Я служила постоянным напоминанием о ссоре, после которой греческое войско оказалось на грани поражения. Он более не желал меня в постели, и я была для него лишь разменной монетой в переговорах с Ахиллом Теперь же от меня и вовсе не было никакого проку.
Скажи ему, что может трахать ее, пока не переломит ей хребет…
Теперь ничто не мешало Агамемнону отдать меня воинам для общего пользования. Я знала, как живут эти женщины. Однажды видела, как две престарелые женщины копались среди крыс в отбросах в поисках еды. Собаки Патрокла жили лучше.
Я не знала, что мне делать дальше. Мне хотелось удалиться в женские хижины, но я не решалась уходить, пока Одиссей не отпустит меня. Кроме того, на мне по-прежнему было ожерелье из опалов. Одиссей избавил меня от раздумий, повелев принести болеутоляющего отвара из запасов Махаона. Я побежала к лазарету, смешала нужные травы в кувшине с крепким вином и помчалась обратно.
Одиссей сидел у огня в покоях Агамемнона. Он выхватил кувшин из моих рук и одним глотком опорожнил его наполовину. Аякс сидел на коленях подле него и снимал повязку с раны. Агамемнон молча расхаживал из угла в угол. Очевидно, Нестор призвал подождать с расспросами, пока Одиссею обработают рану. Я хотела помочь, но Агамемнон велел мне наполнить его кубок. Он раскраснелся и хмурил брови так, словно не мог поверить в происходящее.
Аякс наконец наложил на рану чистую повязку и поднялся. Агамемнон тотчас спросил:
– Он точно понимает, что я ему предлагаю?
– Да, – ответил Одиссей усталым голосом.
– Одну из моих дочерей в жены?
– Да. – Неловкая пауза. – Конечно, он заверил, что это честь для него…
Нестор бросил взгляд на Аякса, но тот лишь пожал плечами.
– И все равно отказал? Он удосужился объяснить, почему?
– Это не его война, он ничего не имеет против троянцев, они не угоняли его скот, не жгли его полей и никогда… не уводили его жен.
– У него и жены-то нет!
Одиссей кивнул в мою сторону.
– Так он говорил о ней.
– Вот как? – удивился Нестор. – Хм…
– И если прежде он гнался за почестями и славой, то теперь это в прошлом. Ничто не стоит его жизни.
– На него это совсем не похоже, – заметил Нестор. – Ты уверен, что говорил с Ахиллом?
– И он отплывает домой.
– Опять? – Нестор фыркнул.
– Он не отплывет, – сказал Агамемнон. – Пока не увидит меня на коленях перед Приамом.
Одиссей хмыкнул.
– На коленях перед ним, я полагаю.
– И ему нет дела, что гибнут греки?
– Никакого.
– Он не человек, – выпалил Аякс.
– Какой из него человек, – согласился Агамемнон. – Его мать – рыба.
Нестор тонко улыбнулся.
– Я бы сказал, морская богиня.
– Неважно. – Агамемнон забрал у меня кувшин и налил себе еще вина. – Что он вообще имел в виду? Ничто не стоит его жизни… Вот что бывает, когда головорез вроде Ахилла пытается думать.
– Нет смысла теперь рассуждать об этом, – сказал Нестор. – Он дал ответ и не собирается менять своего решения. Вопрос в другом: что нам делать?
– Мы сможем к вечеру спустить корабли на воду? – спросил Агамемнон.
– Что, бежать? – вскинулся Аякс.
Нестор не обратил на него внимания.
– Они нападут. Разве что попытаться спустить корабли на воду и отбиваться… Нет, нам остается только одно.
– Драться, – сказал Аякс.
– Да, – произнес утомленно Нестор. – Драться.
Повисло долгое молчание. Агамемнон переводил взгляд с одного на другого, словно ждал, что кто-то найдет выход.
– Мирмидоняне еще с нами, – промолвил Нестор.
Агамемнон взглянул на него так, словно старик окончательно выжил из ума.
– Полагаю, они поддержат Ахилла.
– Ну не знаю… Происходящее им не по нраву. Когда Ахилл сказал: «Меня оскорбили, мы отплываем домой», – их это устроило. Но этого они не понимают. Сидеть в сотнях миль от дома и ничего не делать?
– Они почитают Ахилла, – сказал Аякс. – Они никуда не пойдут без него.
– Он прав, – согласился Одиссей. – Ахилл ведет их в бой.
– Нет, – возразил Нестор. – Ахилл воодушевляет их.
Агамемнон задумался.
– А за Патроклом они последуют?
– Сомневаюсь, – сказал Одиссей.
– А я уверен, – сказал Нестор. – Он неплохой воин – и превосходный возничий. Мирмидоняне уважают его.
– Да, только есть один изъян, – заметил Одиссей. – Он даже подтереться не может, не спросив позволения у Ахилла.
– Откуда тебе знать? Мы не знаем, что происходит между ними за закрытыми дверьми. Никто не знает.
Одиссей ухмыльнулся.
– Думаю, все знают, что между ними происходит.
– В любом случае, – произнес Агамемнон, – это может сыграть нам на руку. Патрокл – сын царя. Неужели он хочет войти в историю как катамит[1] Ахилла? Потому что к этому все идет…
Аякс залился краской.
– Я ни о чем таком не знаю. Но уверен, что Патрокл не сделает ничего, что обидело бы Ахилла.
– Да, но пойми же, – объяснил Нестор, – Патрокл его не обидит. Он может помочь ему, ибо я сомневаюсь, что Ахилл в восторге от происходящего, – он сам загнал себя в угол. И я не думаю, что он рад этому.
– Пожалуй, ты прав, – сказал Одиссей. – И, должен признать, эта мысль нравится мне все больше. Стоит попробовать.
– Возможно, – нехотя промолвил Агамемнон. – Нестор, почему бы тебе не выведать у него все?
– Если б можно было поговорить с ним наедине… – проворчал Одиссей. – Они повсюду вместе.
– Ну, – произнес Нестор, – я попытаюсь.
Агамемнон хлопнул его по спине.
– Славный муж… Что ж, – он огляделся, – думаю, сегодня мы ничего уже не придумаем, а завтра нас ждет тяжелый день.
Я стояла за его креслом и ждала возможности улизнуть. Еще прежде я сняла ожерелье и положила на резном сундуке у его кровати. Без него я чувствовала себя обнаженной и уязвимой. Когда все стали расходиться, я подобралась поближе к выходу. Но в последний момент, когда дверь захлопнулась за Одиссеем, Агамемнон произнес:
– Нет. Останься.
Я приняла безучастный вид и вернулась в комнату.
24
Патрокл долго не возвращался. Чтобы проводить Одиссея и Аякса до ворот, ушло бы не так много времени.
Ахилл взял лиру, снова отложил, налил себе вина, но не стал пить. Собаки прислушивались к звукам в коридоре и тихо скулили. Ахилл нагнулся и погладил их.
Да, не вы одни.
Когда же Патрокл наконец вернулся, вымокший и растрепанный, вид у него был как у дикого животного, чьи глаза порой сверкали в темноте среди дюн. Комната словно сомкнулась вокруг него. Он приблизился к очагу, притворно потирая руки, будто замерз сильнее, чем это было на самом деле, – чтобы сесть поближе к огню и не смотреть на Ахилла.
– А ты не спешил.
Патрокл тщетно пытался скрыть раздражение.
– Это было грубо, – произнес он наконец.
– Насчет дохлой свиньи? Не тревожься, Одиссей не передаст этого.
– Нет, Ахилл. Брисеида. Это было грубо.
Ахилл поерзал в кресле.
– По крайней мере она не солгала.
– Она ни слова не проронила! – Патрокл отогнал собак. – Чего ты хочешь, Ахилл?
– Пусть признает, что был не прав.
– Но он не может. Одиссей знал, что ты ждешь извинений, он просто не мог выразить их.
– В таком случае он зря потратил время.
Патрокл сел в кресло, и собаки устроились у его ног.
– А это было занятно в каком-то смысле.
– В самом деле? Значит, я что-то упустил.
– Да. Одиссей, такой умный, такой красноречивый, такой…
– Лицемерный.
– Но в конце концов пронял тебя Аякс.
– Нет. Не пронял.
Патрокл взглянул на него.
– Признай это.
Ахилл взял полено и без всякой надобности подбросил в огонь.
– Как она?
– А ты как думаешь?
– Я не мог поступить иначе.
Патрокл упрямо молчал.
– Ладно, выкладывай уже.
– Нам следовало отплыть домой. Нет, послушай. Послушай. Ты осуждал Агамемнона, когда тот сказал своим воинам, что война окончена и они отправляются домой…
– Конечно, осуждал. Я в жизни не слышал ничего глупее.
– Но как ты не понимаешь, что поступаешь точно так же? Меня оскорбили, здесь нам больше нечего делать, мы отплываем домой. И все это приняли. Но почему-то мы все еще здесь. Они уже представляли, как вернутся к женам и детям. Это непросто. Непросто созывать людей каждое утро и упражняться без всякого толку.
– Я знаю, как это непросто, – и ты блестяще справляешься. Думаешь, мне это неведомо? – Ахилл протянул руку и распустил его волосы. – Ладно тебе, что они говорят?
– Всё как обычно. Что ты невыносим, что мать вскормила тебя желчью.
– Ну это правда.
– Нет, послушай. Они не понимают, что им здесь делать. Сидеть подобно горстке престарелых женщин, в то время как мужчины идут сражаться…
– В конце концов он приползет на коленях.
– Нет, Ахилл, этого не будет.
– Приползет, когда окажется на волоске от поражения.
Патрокл с шумом выпустил воздух.
– Я сдаюсь.
– Еще вина?
– Нет, благодарю. – Он поднялся и взял плащ.
– Что теперь?
– В каком смысле? Я хочу выйти…
– Ты только что выходил. – Ахилл следил, как Патрокл надевает вымокший плащ. – Нужна компания?
Сомнение в его глазах?
– Нет, но если хочешь, возражать не стану.
«Интересно, кто из нас больше рад, – подумал Ахилл, – я или собаки».
Ахилл смотрел на воинов, сидящих у костров: они словно оттягивали тот миг, когда будут вынуждены разойтись по хижинам и пытаться заснуть. Агамемнону следовало бы обходить костры, стараясь хоть немного воодушевить своих людей, но он не появлялся. Нет, лежал в своих покоях и напивался – или в постели с Брисеидой… Лживый, вероломный ублюдок.
С тех пор как они вышли, Патрокл не проронил ни слова. Ахилл покосился на него и, в неловкой попытке примириться, положил руку ему на плечо. Патрокл не возражал, но Ахилл почувствовал, как он вздрогнул.
Они покинули лагерь и двинулись по тропе между дюнами. Их вытянутые тени ползли впереди них по белому песку. Слышно было, как троянцы поют вокруг костров, но только когда дюны остались позади и взорам их открылась вересковая пустошь, они увидели весь размах троянского лагеря. Привалившись к искривленной оливе, Ахилл взирал на разоренную троянскую долину и думал: «О боги… Они разместились так близко, гораздо ближе, чем казалось с мачты корабля». Было слышно даже, как лошади пережевывают свой корм. А сколько костров! Как звезды в безлунную ночь, если лежать на траве и смотреть в небо, пока голова не пойдет кругом. Вглядываясь в темноту, Ахилл видел отблески пламени на потных лицах и зрачках. То и дело где-то вспыхивала бликами бронза, а потом – так близко, что ощущался запах дыма, – в воздух взметались снопы искр, когда кто-нибудь из троянцев ворошил огонь.
– Достаточно насмотрелся? – мрачно спросил Патрокл.
Ахилл кивнул, но не нашелся, что ответить.
Они пошли обратно, миновали ворота и пересекли двор. Патрокл продолжал молчать. Когда Ахилл предложил выпить перед сном, он помотал головой:
– Нет, я лучше пойду. Возможно, завтра нам предстоит бой.
– Нет, мы не будем сражаться завтра.
– Придется, если твои корабли подожгут.
Оскорбленный его неповиновением, Ахилл раскрыл было рот, чтобы упрекнуть Патрокла, но тот уже закрыл за собой дверь.
25
Патрокл знал, что ничего не добьется от мирмидонян на тренировочных площадках, и потому следующим утром позволил им наблюдать за битвой. Они облепили мачты кораблей и, вытягивая головы, в напряженном молчании ждали начала сражения. Когда же грянула битва, принялись скакать и подбадривать греческих воинов, подобно зрителям на гонке колесниц. Патрокл отвернулся с отвращением. С каких пор война стала лишь зрелищем для сильных и молодых мужчин?
Не в силах больше выносить это, он спрыгнул с мачты, вернулся в хижину и окунул голову в кадку с холодной водой. После стоял, уставившись на свое отражение в бронзовом зеркале, стараясь усмотреть в нем истинного себя – пусть это и был лишь вид его собственного лица. Хотя бы теперь, пока никто не видел его, не было нужды сдерживать себя.
Патрокл лег на кровать Ахилла – он не проспал и двух часов за прошедшую ночь, – но едва положил голову на подушку, как ощутил запах его тела – резкий, но не отталкивающий. Рокот голосов снаружи все не стихал. Патрокл закрыл глаза, почувствовал, как погружается в сон, скользит у самой поверхности, и пятна света и тени поплыли по морской глади…
– Патрокл!
Словно пришибленный резким пробуждением, он свесил ноги с кровати. Ахилл позвал еще раз. Первым его желанием было проигнорировать зов. Но Патрокл, конечно, не мог себе этого позволить. Поэтому он тяжело поднялся и поплелся к двери. За то недолгое время, что он проспал, тени кораблей на песке вытянулись. Он прикрыл глаза от солнца и взглянул на Ахилла – темную фигуру в ослепляющем свете.
– Что тебе нужно? – спросил Патрокл – слишком резко, но он ничего не смог с собой поделать.
– Кажется, Махаон ранен. Я только что видел его в колеснице Нестора – так мне показалось, во всяком случае. Не мог бы ты пойти и проверить?
Не мог бы ты… Всякий раз, если их видели другие, он облекал свои приказы в форму просьбы и часто присовокуплял титул. Сиятельный Патрокл… Любезный Патрокл… Не мог бы ты?.. Ничто из этого не могло скрыть того факта, что Ахилл обращался с царским сыном как с мальчиком-посыльным. Но это продолжалось так долго, что Патрокл давно разучился возмущаться.
И вот он уже мчался, лавируя между группами раненых, ковыляющих в сторону лазарета. Воинов с тяжелыми ранами везли на тележках, и всякий раз, когда колесо попадало в ямы, раздавались стоны и вопли. Патрокл видел это и прежде, уже не раз. Но сегодня в воздухе царил пораженческий дух. Обреченность ощущалась в поникших плечах и валкой походке воинов. Но хуже всего – безысходность читалась в их глазах, в любопытных взглядах, которыми провожали его люди.
Так быстро, как только мог, Патрокл свернул с тропы и побежал по узким проходам между хижинами к жилищу Нестора. У ступеней он остановился, чтобы отдышаться, и лишь затем вошел внутрь. Махаон лежал на подушках в дальнем углу, и Гекамеда прижимала белую тряпку к его плечу. Тучному, убеленному сединой, с циничным и самовлюбленным лицом, Махаону было не место на поле битвы. И все-таки он взялся за оружие. Патрокл опустился на колени рядом с ним.
– Как ты?
Махаон отмахнулся.
– Жить буду. Выглядит хуже, чем есть на самом деле… – Он взглянул на Гекамеду. – Сильнее, придави как следует, женщина.
– Может, я помогу?
– Да не нужно, я же не руку потерял. Вот, можешь ту чашу мне передать…
Патрокл потянул носом.
– Крепкое. Ты уверен, что это хорошая мысль?
– Нет, конечно. Хорошая мысль… Мне нужно как-то унять боль. – Он поднял чашу, и глаза его блеснули. – Твое здоровье.
Патрокл бегло взглянул на его рану – довольно глубокая, но с виду чистая – и прошел в жилые покои. Он застал Нестора сидящим возле очага в окружении снятых доспехов. Боги, сколько же ему лет? Семьдесят? Наверное, чуть больше. Патрокл, молодой, сильный и ловкий, готов был провалиться сквозь землю.
– Патрокл! Заходи! – Нестор приподнялся, взял его за руку и попытался усадить в кресло.
– Нет-нет, я могу и постоять. Меня прислал Ахилл, проведать Махаона, но, как я вижу, он под хорошим присмотром, – Патрокл понизил голос. – С ним все будет хорошо?
– Можешь не сомневаться, при нем ведь лучший лекарь в мире – он сам. Мы просто делаем, как он говорит… Ну же, садись.
– Нет, он будет ждать меня.
Нестор улыбнулся.
– Ну не такой уж он тиран…
– Ты думаешь?
– Ты же только пришел.
Патрокл колебался.
– Ну так и быть.
Он принял из рук Нестора чашу с вином. Нестор же поднес свою чашу к губам и сделал несколько больших глотков. Патрокл заметил, как обострились его черты и прожилки на щеках стали темнее. Старик выглядел таким… потасканным.
– Итак, – произнес Нестор, – Ахилл тревожится за Махаона?
– Ну само собой, он…
– Один человек. И Ахилл вдруг встревожился? Знаешь, сколько воинов сегодня погибло? Пока он стоял на мачте и смотрел…
Патрокл раскрыл рот.
– И не говори, что тебе это по душе, потому что это не так.
– Наверное, мне лучше уйти.
– Нет, прошу, – Нестор похлопал по креслу, – уважь старого человека.
Патрокл нехотя сел.
– Ты ведь мог бы и сам…
– Что я мог бы?
– Повести в бой мирмидонян.
– Без Ахилла?
– А почему нет?
Патрокл покачал головой.
– Этого не будет.
– Не будет, если ты этого не предложишь.
– Не в том дело. Он не согласится.
– Откуда ты знаешь? Ты его не спрашивал. Я давно знаю Ахилла – не так долго, как ты, но достаточно. Не думаю, что ему по душе все это, сомневаюсь, что он спит по ночам…
– Еще как спит.
– Мне кажется, он сам загнал себя в угол и не видит выхода.
– Хочешь сказать, это его ошибка, и…
– Я хочу сказать, что не имеет значения, чья это ошибка. Все зашло слишком далеко. Думаю, Ахилл и сам рад бы найти выход. Как знать, может, он еще спасибо тебе скажет…
– Или всадит мне кинжал в живот.
Нестор улыбнулся.
– Только не тебе.
– Хотел бы я разделить твою уверенность… Но я знаю, каково это – убить друга и жалеть об этом всю оставшуюся жизнь.
– Я знаю, я помню. Но пока для тебя все сходится к лучшему.
Махаон вскрикнул в соседней комнате. Оба повернули головы, и Нестор чуть приподнялся в кресле.
В следующий миг донесся голос Махаона:
– Простите. Она наложила припарку.
– Теперь ты знаешь, что чувствуют твои подопечные. – Нестор покривился и снова сел. – Старость, – промолвил он, потирая колени.
– Не знаю, что и сказать.
– Достаточно лишь отбросить их. Не ведаю, что еще заставило бы их отступить… Ты слышал, что они уже подожгли один из кораблей Агамемнона?
– Нет, не слышал.
– Вот… – Нестор поднял большой и указательный пальцы, оставив между ними едва заметный зазор. – Вот настолько они близко. – Он выдержал паузу, но затем потерял терпение. – Что они должны сделать, чтобы он вступил в бой?
– Поджечь его корабли.
– Ну ждать осталось недолго. Только вот после его предательства вам придется в конце концов сражаться в одиночку.
– Он все равно рассчитывает на себя.
– Знаю. – Нестор улыбнулся.
Патрокл растер лицо и, когда вновь поднял глаза, заметил, что старик смотрит на него с интересом, без прежней расчетливости во взгляде.
– Тебе ни разу не хотелось выйти из его тени?
– Я вырос в его тени, я привык.
– Но это не ответ, верно?
Патрокл пожал плечами.
– Возможно, это твой шанс…
– Нет. Нет, прекрати. Если я сделаю это, то сделаю для него.
Повисло долгое молчание. Лишь сплетенные пальцы Нестора выдавали его напряжение. Наконец Патрокл произнес:
– Хорошо, твоя взяла, я предложу ему. Но ничего не могу обещать. А теперь мне действительно пора.
С трудом скрывая свой триумф, Нестор проводил его до двери.
– Да, и вот еще что, – сказал он. – Пусть он позволит тебе надеть свои доспехи.
– Что? Ты точно не в своем уме.
– Если они увидят его на поле боя – или решат, что видят его, – это будет стоить тысячи воинов.
Нестор отступил на шаг и следил, как мысли, точно пчелы в улье, роились в голове Патрокла. Сказано достаточно.
– Что ж, попытайся. – Он положил руку Патроклу на плечо. – Никто другой не сможет.
26
На обратном пути Патрокл услышал свое имя и обернулся. Это был его старый друг, Эврипил, – он шел к нему, прихрамывая, со стрелой в бедре. Патрокл бросился к нему, и они неловко обнялись. Эврипил с трудом держался на ногах.
– Выглядит мерзко, – сказал Патрокл, отступив на шаг.
– Не то слово.
– Идем, надо осмотреть рану… – Патрокл взял Эврипила под руку, и они двинулись к лазарету. – Чем скорее ее промоют, тем лучше.
Быстро идти не получалось. Когда же они добрались до лазарета, Патрокл подыскал для друга место у самого края и осторожно опустил на матрас. Затем огляделся в поисках жгута и подобрал окровавленный лоскут, после чего опустился на колени, взялся за древко стрелы и стал тянуть. Эврипил неистово кричал. Патрокл не обращал на это внимания – жалость теперь не к месту. Медленно, с усилием он вытянул стрелу, убедился, что внутри ничего не осталось, и затянул лоскут чуть выше раны. Эврипил повернул голову, и его вырвало. Кто-то из воинов, легко раненный, подошел посмотреть. Он был низок, с копной рыжих вьющихся волос, зачесанных назад, – вероятно, чтобы придать еще немного роста. Патрокл узнал его, но никак не мог вспомнить имени.
– Можешь подержать пока? – попросил он.
Воин взялся за концы жгута.
– Ты как, приятель? – спросил он раненого.
Эврипил попытался ответить, но зубы его были так плотно стиснуты, что он не смог выговорить ни слова.
– Я принесу воды, – сказал Патрокл.
Он поднялся, прикрыв рот и нос от скверного запаха, и огляделся. Многие из раненых просили воды, другие спали или лежали без сознания. Чуть дальше по левую руку явно лежал мертвый. Патрокл увидел женщину среднего возраста: она поила воина, потерявшего глаз.
– Вода? – спросил он, помогая себе жестами. Не все рабы понимали греческий.
Женщина показала в дальний угол, где стоял стол.
Раненых было столько, что приходилось перешагивать через них. Когда Патрокл подошел ближе, то увидел кадку с водой и полдюжины кувшинов рядом. Там же лежали мешки с кореньями, источая запах земли, а над головой покачивалась перекладина с пучками высушенных трав. С десяток женщин сидели за длинным столом; одни растирали травы, другие наносили густую буро-зеленую мазь на отрезки материи. Это был островок деятельной безмятежности посреди моря боли и крови. Патрокл прошел вдоль перекладины и набрал высушенных трав, взял свежих побегов кориандра и тмина, после чего сел за стол и принялся растирать все это в ступке. По столу были расставлены чаши с водой, медом и молоком, все находилось под рукой. Нужно было промыть и перевязать рану, дать Эврипилу болеутоляющего отвара, а после возвращаться к Ахиллу, и желательно прежде, чем тот закипит от злости. Сейчас не было времени раздумывать над предложением Нестора, но, может, оно и к лучшему. Будь у него время на раздумья, возможно, в этот раз выдержка его подвела бы.
Патрокл так спешил закончить с травами, что поначалу и не обратил внимания на девушку, сидящую напротив. Но вот он потянулся за кувшином молока и наконец-то увидел ее: Брисеиду.
– А ты что здесь делаешь?
– Помогаю раненым.
Она подняла голову, и Патрокл увидел, что у нее рассечена губа, а лицо и шея покрыты синяками. В ночь, когда Одиссей сорвал с нее вуаль, ничего этого не было.
– Как ты?
– Все хорошо, жива.
– Я только что был у Махаона.
– Мы слышали, что его ранили. Как он?
– Неплохо. Кости не задеты, рана чистая, насколько я разглядел, – Патрокл старался не таращиться на синяки. – Он несносный пациент…
Брисеида улыбнулась.
– Могу себе представить… – Она подняла руку и тронула губу.
После они работали в молчании. Патрокл закончил растирать травы и попросил:
– Не подашь мне уксус?
Он аккуратно пересыпал травы в чашу, смешал с медом и молоком, размельчил в руках несколько кореньев, положил все в смесь, после чего добавил вина и соли. Он чувствовал, что Брисеида наблюдает за ним. Даже не глядя, видел красные прожилки в белках глаз, следы пальцев на шее.
– Для кого это?
– Для друга… Случайно встретил его. Хотя, кажется, он приходится мне родичем. Не знаю точно, сложно проследить.
– Я принесу припарку, если нужно.
Патрокл направился обратно – оказалось, что пройти по краю шатра легче, хоть и пришлось обтирать спиной жесткую перепачканную холстину. Эврипил лежал бледный и изнуренный, но жгут, по всей видимости, помог: кровь теперь едва сочилась из раны. Воин, что помогал ему, был рад заняться собственными ранами. Патрокл поблагодарил его и стал поить Эврипила болеутоляющим настоем. Рана почти не кровоточила. Не хотелось вновь причинять другу боль, но рану все же следовало промыть… Жаль, что рядом не было Махаона, он бы дал совет. В конце концов Патрокл решил, что чистота раны имеет первостепенное значение. Столько воинов умирало на его глазах от гангрены – хуже нее была только моровая язва…
Подошла Брисеида.
– Значит, вот он…
– Поможешь промыть рану?
Патрокл снова взял чашу и влил еще болеутоляющего настоя в рот Эврипилу. Это требовало немало усердия и терпения: Эврипил постоянно кашлял и должен был отдыхать между глотками. Брисеида начала омывать ногу мягкими, но уверенными движениями. Время от времени она наклонялась, чтобы взглянуть на рану. Затем осторожно сдавила пальцами по краям, прислушалась. Патрокл посмотрел на нее с недоумением. Брисеида сообщила:
– Кажется, все хорошо, рана чистая.
Ее слова как будто придали Эврипилу свежих сил, и он допил остатки настоя. Патрокл вытер ему подбородок и осторожно уложил его голову на матрас.
– Вот так, тебе станет лучше.
У Эврипила закатились глаза, и через пару минут он уже крепко спал. Патрокл тотчас взглянул на Брисеиду.
– Ты уверена, что рана чистая?
– Насколько я могу судить, да.
Она проводила его до выхода. В какой-то момент им пришлось пропустить четверых воинов с носилками. Несколько секунд они стояли лицом к лицу, но так и не нашлись, что сказать. Или что стоило бы говорить. Патрокл протянул руку и осторожно тронул ее лицо.
– За что это все?
– Наверное, недостаточно постаралась перед Ахиллом. И то правда, надо было солгать.
Он покачал головой.
– Это не навсегда.
– Как знать…
– Нет, поверь мне. Все меняется. А если нет, то нужно брать и менять самому.
– Твоими бы устами…
– Тебе выпадет шанс. Однажды. И тогда хватайся за него обеими руками.
– Одиссей говорил, что Ахилл звал меня женой.
– Да, я был при этом.
Брисеида пожала плечами.
– Похоже, нашлась еще причина.
На этом они и расстались. Патрокл прошел сотню шагов и обернулся. Брисеида стояла у шатра и смотрела ему вслед.
27
Ахилл ждал на ступенях веранды.
– Где ты был? – спросил он отрывисто.
Нет ни времени, ни желания объяснять. Патрокл прошел мимо и бросил через плечо:
– Да, Махаон ранен.
– Сильно?
– Нет. Нестор присмотрит за ним.
Ахилл вошел вслед за ним.
– И понадобилось столько времени, чтобы выяснить это?
Патрокл подтянул кресло и сел, закрыв лицо руками.
– Что произошло?
– Ничего. Что еще должно произойти?
– Что-то не так. Обычно ты не возвращаешься зареванный, как маленькая девочка.
Патрокл провел ладонью по щеке.
– Я не плакал.
– Мог бы и прикинуться. Ой, мамочка, мне больно, поцелуй меня, мамочка…
Довольно. Патрокл вскочил и обеими руками схватил Ахилла за шею, сдавив кадык большими пальцами. Ахилл побагровел, глаза стали выкатываться… Он ухватил Патрокла за предплечья – но затем, вопреки ожиданиям, медленно опустил руки и просто смотрел, невозмутимо и без страха, как Патрокл пытается совладать с собой. В конце концов он содрогнулся и оттолкнул Ахилла. Повисло молчание. Ахилл схватился за горло и закашлялся, после чего тяжело сглотнул и наконец сумел выдавить:
– Я и забыл, какой у тебя нрав.
Слова прозвучали в привычном тоне, однако голос был хриплый и на белках глаз проступили красные крапинки.
Патрокл опустился в кресло.
– Махаон в порядке.
– Хорошо.
Снова молчание.
– И это возвращает нас к предыдущему вопросу. Почему ты плакал?
– Потому что я не каменный – чего не скажешь о тебе.
Ахилл с шумом втянул воздух.
– Что…
– Нет, Ахилл, нет. Хотя бы раз выслушай меня. Я был в лазарете; там столько раненых, что и ступить негде. И они ставят еще один шатер, потому что люди по-прежнему прибывают. На обратном пути я слышал, как ликуют троянцы. И вечером, в то время как они станут жарить мясо на кострах, мы будем сжигать мертвых. И ты знаешь, что можешь положить этому конец.
– Чего ты хочешь от меня?
– Сражайся!
– Ты знаешь, я не могу.
– И как ты уживаешься с самим собой? Как ты спишь?
– Не я это начал, Агам…
– Ох, только не начинай…
– Я знаю, тебе надоело выслушивать все это. Но от этого оно не перестанет быть правдой.
– Значит, ты хочешь, чтобы тебя таким запомнили? Человеком, который сидел и дулся, в то время как его товарищи сражались и погибали? Ты уверен?
– Я не могу.
– Тогда позволь мне.
– Тебе?
– Что? Так сложно представить?
Ахилл помотал головой.
– Нет, не в том дело…
– Или ты думаешь, воины не пойдут за мной?
– Пойдут, я это знаю.
– Так что же?
Ахилл молчал и напряженно думал.
– Если я облачусь в твои доспехи, они решат, что это ты. Я имею в виду, троянцы. – Патрокл выдержал паузу. – Они мне впору – ну почти.
Этот оценивающий взгляд. Если прежде Патрокл видел в нем лишь любовь и привязанность, то теперь он пробирал до дрожи. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы продолжить:
– Этого хватит, чтобы отбросить их.
– Да, и ты станешь мной.
– Знаю, но…
– И не для кого-нибудь – для лучшего из них. Гектора.
– По твоим словам, я ничего не стою.
– Нет, это не так. Но ты – не я.
Неловкое молчание.
– Мне все равно, что со мной будет.
– А мне – нет!
Не в силах устоять на месте, Ахилл пересек комнату, прошел обратно, встал прямо перед Патроклом и произнес:
– Может, это и сработает…
– Конечно, сработает, я и не сомневаюсь. Стоит им увидеть эти доспехи, и они не смогут думать ни о чем другом.
– Верно. – Ахилл опустился в кресло. Он тяжело дышал, как если бы кто-то ударил его в живот. – Но как только они отступят, ты вернешься. Мне все равно, как хорошо все пойдет, – ты вернешься. И второе: ты не вступишь в бой с Гектором.
– Я не намерен удирать от него…
– Ты не вступишь в бой с Гектором. Понятно?
Молчание.
– Это мое условие.
– Хорошо, согласен.
Патрокл встал и глубоко вздохнул. Комната как будто сжалась вокруг него. Ему хотелось выйти, заняться чем-нибудь, двигаться… Но он знал, что должен остаться.
– Когда сообщим воинам?
– Перед ужином. Прежде, чем все напьются до потери чувств. Хочешь обсудить тактику?
– Тактика простая: выйти за траншею и биться как демоны. – Патрокл неожиданно рассмеялся. – Не терпится сказать им. Их ничто уже не сдержит, они неделями рыли землю копытами.
Ахилл смотрел на него с грустью.
– А ты знаешь, я когда-то мечтал, что мы вместе возьмем Трою…
– Только ты и я?
– А почему нет?
– Кажется, ответ вполне очевиден.
– Только не мне.
В этот раз Ахилл рассмеялся, но только на миг.
– Значит, в твоих мечтах все другие мертвы?
– Полагаю, что так.
– Твои собственные воины? Все?
Ахилл повел плечами.
– Ты знаешь, что ты чудовище?
– Как ни странно, да. – Ахилл положил руку ему на плечо. – Ладно, пойдем есть.
28
Правила изменились. До недавних пор женщинам в стане Агамемнона настрого запрещалось покидать хижины – теперь от нас требовали, чтобы мы вышли ободрить воинов, когда они отправятся на поле битвы.
За час до рассвета в ткацких мастерских не осталось ни души. Даже женщинам из лазарета пришлось идти. Я дотянула до последнего и поплелась к месту сбора. Оставалось только гадать, зачем Агамемнон требовал нашего присутствия: в лучшем случае от нас удавалось добиться лишь вялых выкриков. Но затем воины с копьями стали обходить наши ряды, требуя от нас более воодушевленной поддержки.
Все в тот день было по-другому. По всему лагерю разнеслась весть, что Ахилл смягчился и наконец-то вступит в бой. Я не верила в это. Я слышала, как он безоговорочно отверг дары Агамемнона. Что должно было произойти за это время, чтобы он переменил свое решение? Разве что имело место еще одно предложение, тайное… Сделка. А если так, то была ли я ее частью? Никто не удосужился сказать мне об этом.
Я огляделась, стараясь прочувствовать общее настроение. В лазарете слухи о том, что Ахилл позабыл обиды и снова готов сражаться, не вызвали особого подъема. Слишком поздно, говорили раненые, слишком мало сил. Но то были раненые. Когда же я покинула лазарет, то видела вокруг лишь радость и воодушевление.
Но нигде не царило такого ликования, как в стане Ахилла. Не в силах удержаться, я накинула на лицо и плечи вуаль и прошла через ворота. Я знала, что Рица по возможности прикроет меня. Облаченные в доспехи, мирмидоняне кружили по площадке, нетерпеливые, точно волки, почуявшие кровь. Позади них, в конюшнях, вычищали лошадей Ахилла, так что шкура отливала на солнце. Когда же появился сам Ахилл и взобрался на мачту своего корабля, чтобы держать слово, поднялся одобрительный рев. Только странно было видеть его одного и без доспехов. Почему он был без доспехов, тогда как все остальные облачились? И я нигде не видела Патрокла, хотя ему следовало бы ждать в колеснице, с поводьями, накрученными на пояс.
Когда Ахилл закончил говорить, дверь хижины распахнулась – и вышел Ахилл. Повисла мертвая тишина. Вместо приветственного гула – гробовое молчание. Не думаю, что воины были удивлены, они явно понимали, что происходит, – но в тот миг, когда две копии Ахилла сошлись и встали лицом к лицу, мороз пробежал по коже. Как будто тень легла поверх солнца. Мгновением позже воины искупили свое молчание криками, топотом, ударами мечей по щитам, барабанами и трубами… Но первой их реакцией был ужас, тот особенный страх, который люди испытывают перед чем-то необъяснимым. Во всем равный Ахиллу, Патрокл стал его двойником, призраком, что возвещает человеку скорую смерть. Я знаю, Ахилл почувствовал это, видела, как переменилось его лицо. Однако он быстро оправился. В действительности он и прервал молчание, поднявшись по ступеням и заключив Патрокла в объятия.
Они вместе пересекли двор, и воины расступались, чтобы дать им дорогу. Патрокл даже перенял походку Ахилла. Возможно, причиной тому были доспехи, подогнанные под Ахилла. Или Патрокл намеренно старался подражать его манере двигаться. Но я знала, что все намного глубже. Он стал Ахиллом. И не в этом ли высшая цель любви? Не единство отдельных сознаний, но одна слитая личность? Я вспомнила ту ночь, когда видела их вместе на берегу. Именно этому я и стала тогда свидетельницей.
Автомедон занял место возничего и придержал коней, чтобы Патрокл запрыгнул в колесницу. Они с Ахиллом перекинулись еще парой слов, после чего Автомедон хлестнул лошадей поводьями, и колесница тронулась с места. Под бой барабанов и звуки труб – воины задавали ритм ударами мечей о щиты – колонна медленно двинулась вперед. Ожидалось, что мирмидоняне возглавят атаку, потому что они были свежи, и один только вид Ахилла вселил бы ужас в сердца троянцев. Я могла представить себе их смятение и тревогу, когда Приам с крепостных стен и Гектор на поле боя увидят его сияющий шлем с красным гребнем. Гектор не был трусом, он не станет отсиживаться позади, а будет прорубать себе путь к этому гребню. И каждый троянец, дорожащий своей честью, постарается опередить его. Человек, убивший Ахилла, покроет себя бессмертной славой.
Но это был не Ахилл. В то утро я впервые осознала, каково это, – сочувствовать обеим сторонам. Я не решалась молиться, потому что не знала, о чем должна молить богов.
Когда барабанный бой и удары мечей по щитам стихли, в лагере воцарилась зловещая тишина. Ифис пригласила меня зайти, разделить с ней чашу вина, но я отказалась. Сказала, что мне нужно возвращаться. И двинулась по тропе между рядами хижин. Но как только убедилась, что никто меня не видит, замедлила шаг.
Мне хотелось лишь насладиться несколькими мгновениями тишины. Никто не стонал, не просил воды – лишь дверь скрипела на петлях, да чайки кричали над головой. Вокруг не осталось ни души. Воины ушли, женщины разошлись по ткацким мастерским, и уже слышен был дробный стук станков. Я закрыла глаза и прислушалась, как снасти кораблей перехлестываются на ветру, – я успела возненавидеть этот звук. Когда же открыла глаза, то увидела его.
Он не видел меня. Стоял на углу между рядами хижин и смотрел в сторону долины, куда ушло войско. Впервые с тех пор, как услышала его боевой клич под стенами Лирнесса, я подумала, что и он, должно быть, уязвим. Я отступила в тень. Мне стало интересно, каково это – быть единственным невредимым воином в лагере, когда все отправились в бой, даже старики, которые обычно оставались стеречь корабли. Я едва дышала, боялась даже пошевелиться, но Ахилл постоял какое-то время и зашагал прочь.
Как только он скрылся, я почувствовала облегчение. Спустилась к морю и, сразу скинув сандалии, пошла вдоль берега, ступая по подстилке из пересохших водорослей, разбрасывая песок ногами. Время от времени я наклонялась и подбирала ракушку, русалочий кошелек, кости чаек – все, что море выбрасывало на берег. Иногда я поднимала окатыши, но ни один не мог сравниться с оточенным зеленым камешком, что я нашла в ту первую ночь. Я так увлеклась, что не сознавала, куда иду, пока вдруг не почувствовала прохладу. Только тогда подняла голову; надо мной нависал первый из черных кораблей. Его потемневший корпус оброс серыми ракушками. Я прошла вдоль него и попыталась сколупнуть одну из них ногтем, но она держалась слишком крепко. Между кораблями лежала густая тень, воздух был сырой, пропитанный запахом подводного мира. Через какое-то время дышать стало неприятно. Мне захотелось уйти оттуда, и я пошла быстрее, но едва поравнялась с мачтой – и вот снова он, появился словно из ниоткуда.
Мы едва не столкнулись. Ахилл успел остановиться и отступил на шаг. Я заметила, как он побледнел, и в первый миг не сообразила почему. Но потом догадалась, что в этом подводном сумраке он принял меня за Фетиду. Однако я понятия не имела, почему встреча с матерью произвела бы на него такое впечатление. Я знала, что разозлила его, но в этом не было ничего удивительного. Все эмоции Ахилла отражали различные степени злости.
– Ты, – произнес он. – Во имя богов, ты что здесь делаешь?
Я подалась назад и ответила:
– Пришла посмотреть, как они уйдут. – Хоть он и был зол, я не могла не спросить: – С ним все будет хорошо?
– Если сделает все, как я сказал.
– Удивительно; все решат, что это ты…
– Это и должен быть я.
Ахилл все еще злился, и я попыталась обойти его, но Ахилл схватил меня за предплечье. Ногти впились глубоко в кожу.
– И почему я только встретил тебя, – процедил он тихим голосом. – Лучше б ты умерла тогда в Лирнессе.
Он с силой толкнул меня о борт корабля. Я вскинула руки, чтобы прикрыть лицо, но Ахилл ухватился за канат и рывком взобрался на палубу. Я выждала, пока он не отошел, и побежала к хижинам. Когда обернулась, он уже стоял на мачте: высокий, темный силуэт на фоне серых облаков. Он не смотрел на меня, его взор был устремлен на поле битвы.
Я пригнулась, как беглый преступник, и не останавливалась, пока не оказалась в лазарете, с Рицей – в безопасности.
29
Позабыв о встрече с Брисеидой, Ахилл сосредотачивает все свое внимание на поле битвы. Солнце в зените; раскаленное добела, оно безжалостно печет ему голову. Пот режет глаза, то и дело ему приходится отирать лоб. Он пытается отследить гребень своего шлема в круговерти боя, и это приводит его в замешательство – этот неотрывный взгляд на отдаленную фигурку, неотличимую от него самого.
Внизу, словно вымерший, простирается лагерь. Женщины разбрелись по ткацким мастерским и проводят время за болтовней, собаки, вывалив языки, лежат в тени хижин. Подле него стоит кувшин с водой. Но вода теплая и имеет солоноватый привкус, хотя девочка, которая поднесла кувшин, клялась, что ходила к колодцу. Ахилл делает глоток, полощет рот и сплевывает воду на палубу. Даже этого краткого мига достаточно, чтобы потерять Патрокла из виду. Он смотрит на поле боя, не может отыскать взглядом свой шлем и напрягается в ожидании худшего. Но хвала богам – вот он. Патрокл пробивается сквозь ряды троянцев к воротам – и неизбежной встрече с Гектором. Что он творит? Корабли давно в безопасности.
– Возвращайся.
Ахилл сознает, что произнес это вслух. Вокруг него лишь пустая палуба, лагерь опустел, никто не слышит его, и все же он чувствует смущение. Плевать… Он кричит во весь голос:
– Возвращайся, проклятый идиот. Ради всех богов!
Бой сосредоточен вокруг красного гребня. Ахилл не в силах смотреть на это, но и ждать в неведении было бы невыносимо. Четвертый час под палящим солнцем – четвертый, пятый, и дальше…
Поначалу ему легко мириться с курьезностью происходящего, но вот он сам в собственном шлеме. Бронза гудит под ударом меча, Ахилл падает. На мгновение небо становится черным, затем он вскакивает, видит перед собой ворота Трои и издает свой прославленный боевой клич. Земля вокруг него кишит ранеными. И вот сквозь вал сомкнутых тел он замечает Гектора. Но щит такой тяжелый, едва не выворачивает плечо из сустава, тело лоснится от пота, и когда он пытается перехватить копье, пальцы скользят, и…
Ахилл трет глаза, поводит плечами, осторожно поворачивает голову и пытается сосредоточиться на деталях: кувшин у него под ногами, волокнистый узор древесины. Ему необходимо восстановить связь с окружающим, вернуться в реальность, заново взглянуть на мир, не обрамленный пластинами шлема.
Дыхание постепенно выравнивается, но Ахилл еще не вполне сознает себя. Он продолжает смотреть на свои руки, украдкой, словно они принадлежат кому-то другому. Ведь они не могут быть такими большими? Он хватает канат, сжимает крепче, еще раз, пытается развеять морок, и руки медленно возвращаются к своему обычному размеру. Он явно перегрелся, в этом нет сомнений. Ему нужен глоток холодной воды, действительно холодной – не этой теплой жижи. А еще лучше – чаша прохладного вина… С ощущением слабости, какого прежде никогда не испытывал, Ахилл спускается по канату и едва не падает на песок. Несколько минут в тени, и он придет в себя.
Вновь станет собой. Он чувствует, словно впервые слышит эти слова, как нелепо они звучат. Впрочем, все верно. Он весь день не был собой, с самого утра, когда проснулся и увидел Патрокла, обнаженного, стоящего перед бронзовым зеркалом. Друг уже собрал волосы, и длинный хвост ниспадает как продолжение позвоночника.
Он уловил движение в зеркале и с улыбкой повернулся к Ахиллу.
– Ты спал?
– Временами.
– Я храпел?
– Что значит я храпел? Когда ты успел напиться?
– Я немного пил.
Это правда. Он никогда не пьет слишком много и не наедается – и каждый день бегает в полном облачении вдоль берега. У него масса добродетелей, и лишь один – но колоссальный – порок.
– Как ты себя чувствуешь?
Патрокл вновь отвернулся к зеркалу.
– Превосходно.
В дверь постучали. Алким принес поножи, так отполированные, что больно было смотреть на них. Ахилл свесил ноги с кровати и сказал Алкиму, что его помощь не требуется – он сам поможет Патроклу подогнать доспехи. Он говорил так, словно никто, кроме него самого, не мог подогнать эти доспехи под другого человека. Впрочем, он и не предполагал, что когда-нибудь его доспех наденет кто-то еще. Причина была в другом: ему хотелось провести эти несколько минут наедине с Патроклом.
В молчании он помог ему застегнуть панцирь. С петлями нельзя было ничего поделать, но, по крайней мере, ремни удалось подогнать. С пространством под правой рукой пришлось повозиться, но в конце концов получилось приладить все как нужно.
– Вот так удобно?
Патрокл подвигал рукой.
– Да, вполне.
– Теперь попробуй шлем.
Глядя на свое отражение, Патрокл осторожно надел шлем на голову, поправил по высоте и только потом повернулся к Ахиллу. Теперь, оперенный алым гребнем, он как будто стал на голову выше. Шлем почти полностью скрыл его облик, осталась видна лишь узкая полоса между лицевыми пластинами.
– Ну как? Думаешь, они поверят, что это ты?
– Боги, я и сам готов в это поверить.
Ахилл рассмеялся, но чувствовал при этом, что его голос дрожал. Он отвернулся и взглянул на остальные части доспеха: наплечники, поножи, наручи… Он сделал вид, будто увидел на одном из наручей пятно, и принялся натирать его мягкой ветошью, попеременно осматривая этот участок, дышал на него и снова принимался тереть. Стоило ему убрать тряпку, и на поверхности возникало его лицо, искаженное в изгибах металла.
– Возьмешь мое копье?
– Нет, возьму свое. Они не будут смотреть на копье. Ну пока оно не угодит в их внутренности.
Патрокл вновь повернулся к зеркалу. Собственное отражение словно заворожило его – или он смотрел на отражение Ахилла?
– Но меч я возьму твой.
Ахилл взял клинок, но вместо того чтобы передать его, принялся рассекать им воздух, надвигаясь на Патрокла. Лезвие сверкало так, словно бы он размахивал полудюжиной мечей. Патрокл стоял на месте, но выглядел ошеломленным, и Ахилл видел первый проблеск страха в его глазах. В конце концов Ахилл рассмеялся и остановил клинок в вытянутой руке. Но даже теперь он оказался не в силах расстаться с ним. Вместо этого направил острие Патроклу в незащищенное горло; лезвие настолько острое, что даже легкое прикосновение могло рассечь кожу. Острие вздрагивало в такт с сердцебиением Ахилла.
– Помни, что я сказал. Как бы хорошо ни продвигалась атака, возвращайся, как только корабли окажутся в безопасности. И не вступай в схватку с Гектором. Гектор – мой.
– Хорошо. – Патрокл улыбнулся, но было видно, что лезвие меча доставляло ему неудобство. – Хорошо.
Несколько долгих мгновений они смотрели друг на друга. Затем Ахилл с ироничным поклоном отдал Патроклу меч.
– И помни, я жду тебя к ужину!
Патрокл рассмеялся, но его внимание было рассеянно. Ему не терпелось уйти. Доспех Ахилла преобразил его, и в их отношениях произошла перемена. Теперь он стал равным Ахиллу – по крайней мере, в собственных глазах. Уверенность проявлялась в его походке, в движениях, даже в осанке – и от этого преображение казалось крайне убедительным.
– Знаешь, – произнес Ахилл, – я начинаю думать, что у нас получится.
Патрокл снова подвигал правой рукой, но в этот раз с мечом.
– Получится.
– Тебе точно удобно?
– Да, всё в порядке.
– Перестань говорить, что всё в порядке.
Патрокл обнял его.
– Но так и есть.
– Я произнесу речь.
Патрокл пошел впереди него по темному коридору, но у самой двери остановился. Они снова обнялись – объятия уединенные, более близкие, нежели те, что последуют затем на людях. Но даже теперь Ахилл чувствует, как напряжены плечи Патрокла, чувствует его стремление уйти.
Ахилл встряхнул его.
– Просто возвращайся.
С этими словами, натянув на лицо улыбку, он вышел на слепящий свет.
Он входит с яркого света в полумрак коридора и замирает на мгновение, пока глаза не привыкают к темноте. Затем подходит к бочке с водой и окунает голову, распускает волосы, слипшиеся от пота. Остается под водой так долго, пока легкие не начинает жечь. Выныривает. Капли воды прозрачными бусинами покрывают его кожу. Его мелко трясет – определенно солнечный удар. Но он чувствует себя лучше. Во всяком случае, сознание прояснилось.
Однако злость не утихает. Возвращайся, как только корабли будут в безопасности. Не прорывайся к воротам. Не вступай в бой с Гектором. Гектор – мой. Разве можно было донести эту мысль более доходчиво? Что ж, Патрокл не встречался с Гектором – по крайней мере, пока, – но всем остальным пренебрег. Ахилл расхаживает из угла в угол и пинает все, что попадется под ноги, и что-то непременно попадается, кроме собак, конечно, – те благоразумно улизнули во двор. И не в том дело, что он не понимает, почему Патрокл ослушался его. Иногда в пылу боя наступают мгновения безмятежности, когда время останавливается, шум и крики замирают, и ты смотришь в глаза противнику и знаешь – не надеешься, не веришь – знаешь, что не погибнешь. Такие мгновения довольно редки. Во все прочее время война представляет собой утомительное кровавое ремесло, составленное в равной степени из уныния и ужаса. Но потом этот сиятельный миг наступает вновь, когда рокот битвы меркнет, и тело становится столпом, соединяющим небо и землю.
В такие мгновения никто не в силах остановиться и повернуть назад. И Ахилл подозревает, что Патрокл пребывал в этом состоянии – или близком к нему – все утро.
Все равно. Приказы есть приказы, и им следует подчиняться. Разумеется, он поздравит его, похлопает по спине на глазах у воинов, нальет чашу лучшего вина, подаст ему за ужином лучшие куски мяса, будет воспевать его доблесть и возносить благодарности богам… Но позже, когда они останутся наедине, он поставит ублюдка на место. Просто придется – нельзя спустить ему это с рук. Но, конечно, он дождется, пока Патрокл поймет все сам, и тогда он скажет… Что же он скажет?
Ахилл резко останавливается и смотрит в бронзовое зеркало. На его отраженном лице нет и намека на злость – на нем написан лишь страх. Страх, что он ничего уже не сможет сказать Патроклу. Это добивает его. Ахилл сворачивается в постели, еще хранящей запах Патрокла, и произносит его имя, снова и снова, словно сам звук этого имени мог предотвратить катастрофу.
– Патрокл.
И снова, громче:
– Патрокл.
На поле боя Патрокл слышит голос Ахилла и на мгновение теряет бдительность. Но и этого мига достаточно, потому что внезапно перед ним возникает Гектор. Патрокл пытается вскинуть меч Ахилла, но уже слишком поздно. Гектор вонзает копье ему в бок – оно прошивает его с легкостью, – и вот Патрокл уже на земле, извивается, как рыба на суше. Вокруг темные силуэты троянцев загораживают свет.
– Ахилл! – кричит он.
Кровь течет из раны, и дух его уносится во тьму. И снова:
– Ахилл…
Ахилл вскидывает голову. В какой-то миг он услышал, как Патрокл зовет его. Патрокл?.. Нет, этого не может быть. Хотя голос и мужской, что тоже странно, ведь воины все до одного отправились в бой. В лагере остались одни женщины. Осознание этого горечью отзывается в сердце.
Ахилл знает, кому принадлежал этот голос, но страшится думать о том, что это могло значить. И поэтому твердит себе: нет, это была чайка. Иногда их крики удивительно схожи с человеческими голосами…
Он поднимает глаза к потолку и пытается молиться. Но молитвы всегда даются ему с трудом – он сын своей матери и слишком хорошо знает богов. Он произносит несколько неуклюжих слов и бросает попытки. Нет смысла торчать здесь. Пора возвращаться на корабль. Впрочем, если наступление продолжается теми же темпами, то скоро они пропадут из виду.
Он подходит к двери и вновь слышит свое имя. На этот раз ошибки быть не может. Значит, они возвращаются! Богам лишь ведомо, почему, но они возвращаются.
Ахилл распахивает дверь и выходит на веранду, ожидая увидеть, как двор наводняют люди и лошади. Но там по-прежнему никого. Кругом тишина, и лишь где-то в отдалении дверь скрипит на петлях.
Обратно на корабль, посмотреть, что происходит. Он уже взбирается по канату, но вдруг замирает. Глаз выхватывает какое-то движение. Наконец-то он замечает: лошади несутся во весь опор, в клубах пыли показывается колесница. Он вдруг осознает, что должен остановить колесницу, не дать ей приблизиться – ведь если это произойдет, ему придется услышать худшее. Ахилл собирает всю свою волю, чтобы отбросить колесницу назад, но даже он не в силах остановить время или загустить воздух.
Он делает глубокий вдох и спрыгивает на песок. Идет к центру площадки и стоит в ожидании неизбежного. Все вокруг замирает, даже ветер задерживает свое дыхание.
Белое солнце. Резкие черные тени. Безмолвие.
30
На протяжении дня я сидела за столом, растирая травы. Рокот битвы, раскатистый поначалу, постепенно отдалялся, и к полудню слышен был лишь приглушенный гул за горизонтом. Время от времени приходили раненые – всё легкие ранения – и всякий раз приносили хорошие вести. Хорошие для греков. Троянцы отброшены, Патрокл с мирмидонянами пробились к воротам. Не исключено, что к вечеру Троя падет.
Вести расходились по лазарету, и скоро все, кроме самых тяжелых раненых, смеялись и пели. Походные гимны, слезливые песни о доме и матерях, романтичные песни о женах и любовницах, и всё чаще – песни о Елене.
- Эти волосы, эти груди, эти глаза и этот рот,
- Что подвигли несметный греческий флот…
Все они верили, что ее супруг, Менелай, брат Агамемнона, убьет ее, как только вернет, – он сам говорил об этом много раз. Кое-кто считал, что это было бы слишком расточительно. Сначала отыметь ее, а потом убить.
- Отыметь ее лежа,
- Отыметь ее стоя,
- Брюхо вспороть и иметь, пока дохнет.
- А если и мертвой не даст тебе жить,
- Откопать и в падаль всадить.
Они распевали куплеты до хрипоты и требовали крепкого вина. Но Махаон запретил давать им вино, и мы не могли ослушаться его наставлений. Затем наступило затишье. Я разносила кувшины с водой. В шатре стояла нестерпимая духота, воздух был вязкий от запаха крови. После полудня шум битвы вновь стал приближаться. Воины переглядывались. Почему? Неужели греков отбросили? Вскоре последовал наплыв раненых, и с ними пришла чудовищная весть: Патрокл мертв, убит Гектором. Теперь шло сражение за его тело. Троянцы пытались забрать его за крепостные стены, греки же отбивали его. Кто-то из воинов рассказывал, что видел, как Гектор схватил Патрокла за ногу, в то время как Алким и Автомедон ухватились за обе его руки.
– Я думал, они разорвут его надвое.
Мертв. Я не могла поверить в это, хотя знала, – с того мгновения, как он появился в доспехах Ахилла, – что нынешний день окончится его смертью. Я чувствовала, что должна разыскать Ифис – легче было думать о ее скорби, чем о собственной, – но не могла покинуть лазарет при таком количестве раненых.
Поэтому я не была там, когда Ахилл получил известие. Но Ифис смотрела со ступеней веранды, все видела и слышала. Антилох, младший сын Нестора, мальчишка, боготворивший Ахилла, сообщил ему о гибели Патрокла. Едва отзвучали его слова, Ахилл издал громкий вопль и рухнул на колени. Он рыл руками грязный песок и бросал его себе в лицо и волосы. Антилох, испугавшись, что он выхватит кинжал и убьет себя, схватил его за предплечья и держал так. На крик из хижин выбежали женщины и обступили его, и Ахилл лежал, окруженный ими, лишенный сил.
«Внезапно поднялся ветер, взялся словно из ниоткуда, – рассказывала Ифис. – Он задувал в щели под дверьми, трепал гривы и хвосты лошадей, взметал пыльные вихри. Небо потемнело, и плотные черные тучи заволокли солнце».
Антилох растерянно озирался.
– Что происходит?
И тогда они увидели ее, идущую со стороны моря. В серебристо-серых отблесках молний ее кожа и волосы отливали металлом. По толпе прошел ропот.
– Фетида…
Имя передавалось из уст в уста, и внезапно все подались назад. Кто-то падал на колени, касаясь лбом сырого песка, другие толпились в дверных проемах или прятались в хижинах и захлопывали двери. Все пытались убраться, лишь бы не становиться свидетелями этой встречи. Даже Антилох отпустил Ахилла и забился в тень хижины.
Когда она появилась, воцарилась тишина. Те, кто остался снаружи, закрывали глаза руками или отворачивались, оставляя богиню наедине с сыном.
31
В чем дело?
Что случилось?
Где болит?
Старые вопросы. Те, что она задавала всякий раз, когда он приходил в слезах с царапиной на колене или синяком на лбу. Любая ссадина напоминала ей о его смертности. Нельзя сказать, что ее непрестанные утешения были ему в тягость, и все же это нередко сердило его. Какая же мать оплакивает своего сына с самого дня его рождения? Он вырос, обласканный ее скорбью. Он был сильным и здоровым – до тех пор, пока она не ушла, – но это не имело значения. Ничто не могло утолить ее печали.
Что случилось?
Этот печальный голос, солоноватый запах от ее рук, когда она привлекает его к себе. И он больше не в силах сдерживаться: смерть Патрокла – его вина, потому что ничего этого не случилось бы. Он должен быть там, в этих доспехах. И даже теперь воины, не такие искусные в бою, как он, пытаются помешать Гектору затащить тело Патрокла за ворота Трои. Другие гибнут, чтобы защитить тело его друга от осквернения, в то время как он сидит здесь, бесполезный и никчемный.
Но довольно. Этого не изменить. Теперь он желает одного: разыскать и убить Гектора.
Но когда ты убьешь Гектора, то скоро и сам погибнешь.
– Думаешь, меня это заботит? Только это и придает мне сил – мысль об убийстве Гектора. Когда он будет мертв, собственная смерть уже не устрашит меня.
Ты не можешь сражаться без доспехов.
– Почему нет? Если я все равно умру?
Но она, конечно, права. Без доспехов он может погибнуть, так и не добравшись до Гектора.
Воздержись сегодня от мести. Завтра на рассвете я преподнесу тебе доспехи, выкованные богами.
И она уходит в море, погружается в волны. Еще мгновение ее черные волосы распластаны по поверхности – и вот она исчезает.
Он ожидает знакомого чувства утраты, но в этот раз ничего не происходит. Возможно, боль от утраты Патрокла пересиливает все прочие печали.
В следующие несколько часов он глух ко всему и не чувствует собственного тела. Смотрит на свои руки, лежащие на столе, и не в состоянии разделить плоть и древесину. Снова и снова представляет, переживает в галлюцинациях тот миг, когда вонзит меч в горло Гектора. Всякий раз он трясет головой, как бык, возвращая себя к действительности. У него отличная память, он многое помнит еще с детства, но эти несколько часов после смерти Патрокла так и останутся подернутыми пеленой.
Без доспехов он словно улитка без раковины. Бесполезен. Но потом он понимает, что все-таки может кое-что сделать. Взбирается на вал, что высится надо рвом, и, запрокинув голову, издает свой боевой клич. Крик разносится над равниной и долетает до самых ворот Трои. Женщины за ткацкими станками прерывают работу, раненые воины в лазарете переглядываются, и надежда оживает в их глазах, и Брисеида, сидя за длинным столом и растирая травы, с содроганием вспоминает тот день, когда впервые услышала этот клич под стенами Лирнесса.
На поле битвы греки, что сражаются за тело Патрокла, узнают этот клич и оборачиваются. Что же они видят? Могучего воина, стоящего на валу, залитого светом закатного солнца? Нет. Они видят саму Афину, простершую над ним свой сияющий щит, видят сноп пламени, бьющий высоко над его головой. О том, что видели троянцы, летописи молчат. Проигравшие исчезают в пучине веков, и их истории умирают вместе с ними. Трижды Ахилл кричал, и трижды отступали троянцы. На третий раз греки сумели забрать тело Патрокла и возвратить в свой лагерь.
По крайней мере, теперь ему есть чем заняться. Он может умаслить раны, омыть тело – несчастное тело, истерзанное мечами так, что удивительно, как оно не распадается на части. Кто-то обвязал челюсть погибшего полосой материи, и это ему не по душе, потому что Патрокл выглядит от этого слишком мертвым. Но Ахилл не возражает. Он знает, что так нужно. Обнимает тело Патрокла и качает на руках, чувствует отголоски тепла в груди и животе, но руки и ноги уже холодны. Приходит жрец и нараспев произносит молитвы, женщины плачут и бьют себя в груди, друзья хотят обнять его в утешение, но Ахилл стряхивает их руки. Ничто не поможет.
Не в силах больше выносить это, он отправляется к морю, но не входит в воду – возможно, впервые за всю жизнь. Он сохранит скверну на теле, не будет мыться и убирать волосы – не станет даже погребать Патрокла, – пока не увидит Гектора, лежащего у его ног.
Ахилл проводит эту ночь с Патроклом, свернувшись подле него – тело распластано на кровати, холодное и неподвижное.
Перед самым рассветом он уже ждет на берегу. Он не замечает ни жжения в глазах, ни боли под ребрами. Теперь это не имеет значения. Он нетерпеливо расхаживает из стороны в сторону. Иногда мать запаздывает, и порой изрядно. Ахилл никогда не питал уверенности, что она появится. Когда он был еще ребенком, случалось, что она обещала прийти – и не появлялась вовсе. Быть может, в этот раз будет так же…
Но вот она появляется, как всегда, неожиданно; выходит из моря – и несет новые, сияющие доспехи. Щит закинут на изящное плечо – позднее Алким и Автомедон, оба крепкие мужи, с трудом сумеют поднять его. Ради нее Ахилл делает вид, что ему нравятся и щит, и прочие дары, но в действительности он едва смотрит на них. Доспехи нужны ему, чтобы выйти на бой, и только; больше они ничего не значат для него. Фетида всхлипывает и обнимает его, он заставляет себя ответить на объятия, хотя ему не терпится распрощаться. От женских слез – пусть это даже слезы богини – ему сейчас никакого проку.
Война. Гектор. Теперь это все, что его заботит. И не знать ему покоя, пока Гектор не будет мертв.
32
Я услышала его прежде, чем увидела. Он вышагивал по берегу, созывая воинов на битву, и его боевой клич разносился над лагерем.
Раненые переглядывались, лежа на пропитанных по`том матрасах, и те из них, кто держался на ногах, поднимались и ковыляли к арене. Я проскользнула под пологом шатра и побежала к морю, где уже собрались сотни мужчин. Ярко светило солнце, ветер развевал его волосы, и да, на какой-то миг показалось, что его голова объята пламенем.
Все стекались к месту сбора, даже те, кто обычно оставался стеречь корабли. Одиссей, снова раненый, на этот раз в ногу, хромал, тяжело опираясь на копье. Последним явился Агамемнон: пораненная рука безвольно висела на перевязи. С его появлением воцарилась тишина.
Один из его глашатаев увидел меня среди других женщин и – очевидно, по приказу – схватил меня за руку и вытолкнул вперед. Меня трясло: утром ветер был еще холодный. Я смотрела себе под ноги, но чувствовала, как меня буравят взглядами. Где-то рядом заржала лошадь. Внезапно я поняла, что происходит, – Агамемнон хотел в последний момент преподнести все дары, обещанные Ахиллу. Он сдержал обещание, но всем было очевидно, что Ахилл готов сражаться просто так.
Я пыталась не вслушиваться в речи, но для этого пришлось бы заткнуть уши. Эти люди с детства обучались ораторскому искусству, их голоса запросто долетали до самых отдаленных уголков арены. Я позволила себе оглядеться и заметила Гекамеду, стоящую на ступенях перед жилищем Нестора. Я видела, как она вскинула руку, но не осмелилась помахать в ответ. Страшно было даже дышать. Надо мной по-прежнему нависала тень Агамемнона.
Ахилл встал в центре круга. Он говорил, что испытывает лишь стыд, что они с Агамемноном, его соратником, поссорились из-за девчонки, едва не подрались из-за нее, как два пьяных моряка. Лучше б она погибла, когда он захватил ее город, лучше б шальная стрела оборвала ее жизнь. От скольких страданий и потерь это избавило бы греков… Сколько храбрых мужей, ныне мертвых, были бы еще живы…
Он винил меня в смерти Патрокла.
В тот миг я поняла, что надежды нет.
Но теперь довольно, продолжал Ахилл. Это в прошлом. Теперь он готов сражаться. И не успокоится, пока не принесет голову Гектора, насаженную на копье.
Воины ликовали – каждый, кто держался на ногах. Это продолжалось довольно долго, прежде чем Агамемнон смог завладеть их вниманием, – однако то, о чем он говорил, не стоило этого внимания. Долгие тирады самооправдания, за которыми последовало перечисление всех даров, какие он по-прежнему готов был преподнести Ахиллу. Но, строго говоря, теперь в этом отпала всякая необходимость. Я бросила взгляд на Ахилла и заметила, как тот тщетно пытается скрыть нетерпение. Когда Агамемнон наконец-то закончил, ответ Ахилла был краток: пусть обещанные дары преподнесут сейчас, или позже, или вовсе оставят при себе – выбирать Агамемнону. Вряд ли можно было донести это яснее: все это не ради вещей. Вещи теперь не имели значения.
Я решила, что на этом все и закончилось, что мне можно уйти. Но затем поднялся Одиссей и напомнил Агамемнону о его обещании поклясться перед богами, что он не притрагивался ко мне. Будет справедливо, говорил он, если Ахилл убедится, что его не обманывали. В его голосе, исполненном благочестия, сквозило самодовольство. Стоило присмотреться внимательнее, и можно было заметить злорадный блеск в его глазах.
Последовало долгое молчание, и снова все до последнего смотрели на меня. Агамемнон тяжело поднялся. Да, разумеется, он принесет клятву, почему бы и нет? На арену затащили визжащую свинью. Я почувствовала зловоние фекалий и закрыла глаза. Агамемнон вознес молитву Зевсу и всем богам, рассек свинье горло и поклялся, что никогда не возлежал со мной, «как мужчина возлежит с женщиной». Я едва устояла перед нелепым желанием захихикать: ведь это можно было счесть за правду. Агамемнон говорил, что я жила нетронутой среди других женщин, и пусть боги поразят его, если он лжет.
На запачканном лице Ахилла не отразилось никаких чувств. Поверил ли он Агамемнону? Сложно сказать. Возможно. Быть может, он и усомнился в том, что кто-то осмелился солгать перед лицом богов, даже такой человек, как Агамемнон. Но я не думаю, что его это заботило. Патрокл мертв – и ничто больше не имело значения.
С принесением клятвы все оказалось улажено. Агамемнон пригласил всех царей на большой пир, где они с Ахиллом вновь сядут за стол и разделят пищу, как братья. Тем временем мирмидоняне заберут дары и переправят в стан Ахилла. Те тотчас принялись за дело. Треножники, медные котлы, свертки дорогих вышитых тканей, золотые подносы и блюда – все это приносили из хранилищ Агамемнона и грузили в телеги, запряженные мулами. Перед статуями богов совершили молитвы и возлияния, после чего погонщики стеганули мулов, и процессия медленно двинулась с арены. Колонну возглавляла четверка великолепных коней, за ними катили, переваливаясь на ухабах, перегруженные повозки.
Я и семь девушек с Лесбоса шли позади, вместе с остальными вещами.
33
Первое, что я увидела, когда вернулась к Ахиллу, – это тело Патрокла, лежащее на носилках. Ведь это был живой человек, когда меня уводили. Я упала на колени и обхватила его холодные стопы. Думаю, я никогда прежде не чувствовала себя такой одинокой и покинутой, как в те минуты. Другие женщины выбежали на мои безудержные рыдания и плакали рядом со мной.
Полагаю, скорбь по Патроклу в какой-то мере стала для всех нас выражением собственного горя. Я плакала и думала о своих братьях. Думала даже о несчастном Минесе, который мог бы познать счастье с другой женой. Но не стоит думать, что наша скорбь по Патроклу была неискренней или показной. Я держала его стопы и вспоминала, как однажды он успокоил меня и пообещал убедить Ахилла взять меня в жены.
Я не сомневалась, что на поле битвы, в гуще сражения, Патрокл был столь же свиреп, как и остальные. Но здесь, среди пленных женщин и их детей, он всегда бывал добр.
«Да, – скажете вы, – но ведь это лишь часть правды, верно? Ты не просто “вспоминала”, что он обещал убедить Ахилла; ты удостоверилась, что и все остальные об этом не забыли. В особенности Ахилл. Пожелания мертвых имеют огромное значение для живых, тем более если умерший был так же любим, как Патрокл. Ну же, признай это! Ты пыталась устроить свое замужество».
Вот еще! Ахилл только что объявил во всеуслышание, что желал моей смерти!
«Нет, но ты попытала счастья, верно? Как ты дошла до этого? Этот человек убил твоих братьев и твоего супруга, сжег твой город, уничтожил все, что было тебе дорого, – и ты готова была стать ему женой? Не понимаю, как ты могла помыслить о таком».
Наверное, потому что вы никогда не были в рабстве. Уж если так хочется прицепиться к чему-то, отчего бы не спросить, почему я преподношу это как нечто общее? Наша скорбь, наши утраты. Не было ничего нашего. Я сидела у ног Патрокла и сознавала, что утратила лучшего друга, какой у меня был.
Порой ночами я лежу без сна и спорю с голосами у себя в голове.
34
Пир в чертоге Агамемнона продолжался до поздней ночи, но Ахилл ушел еще до полуночи. Эту ночь он снова провел рядом с Патроклом, свернувшись на досках у его носилок.
Я чувствовала, что воины встревожены. Патрокла уже следовало предать огню, вынуть из пепла кости и захоронить, совершив молитвы и возлияния во имя богов. У греков – как и у троянцев – обычай велел сжигать тело перед закатом на следующий день после смерти, но Ахилл по неведомым причинам решил, что с похоронными обрядами нужно повременить. Возможно, он надеялся, что с гибелью Гектора – думаю, он не сомневался, что убьет его, – и собственная смерть не заставит себя ждать, и тогда их с Патроклом сожгут на одном костре. Он хотел бы этого.
На следующий день Ахилл поднялся до рассвета и облачился в доспехи. Сработанные столь искусно, доспехи совершенно не стесняли движений, словно на нем была одна лишь туника. Я столкнулась с ним в тесном проходе между спальнями и залом. Глаза его были налиты кровью, но сам он выглядел спокойным и собранным, как ястреб, готовый ринуться на свою добычу.
Лишь на краткий миг его дух был поколеблен. Ахилл уже подступился к колеснице, но увидел Автомедона на месте возничего и невольно отступил – столько лет это место занимал Патрокл… Однако он быстро оправился. Автомедон подал ему руку, но Ахилл не принял помощи и сам запрыгнул в колесницу. Алким, пошатываясь от тяжести, поднес ему щит.
С боевым кличем Ахилл вскинул копье и подал сигнал к выступлению.
И началось величайшее истребление за всю войну.
Мне известны имена всех, кого он убил в тот день. Я могла бы перечислить их вам, если б это имело смысл.
Ну… Не знаю. Возможно, какой-то смысл в этом и есть.
Ифитион. Восемнадцати лет. Ахилл поразил его мечом в голову, раскроив надвое, словно орех. Несчастный рухнул под колесницу, и лошади втоптали его в землю.
И после…
Демолеон. Копье угодило ему в висок, пробив медный шлем – его доспехи были несравнимы с доспехами Ахилла, – раздробило кость и превратило в месиво мозг.
И после…
Гиподам. Копье поразило его промеж лопаток, когда он пытался спастись бегством. Он упал наземь, и свет померк в его глазах.
И после…
Полидор. Младший сын Приама, пятнадцати лет, еще слишком юный, чтобы сражаться, но в последние недели войны малолетних юношей нередко отправляли на поле боя. Очередной удар копья, и снова в спину – но Полидор не спасался бегством. Похваляясь удалью, он прорвался глубоко в ряды греков, не заботясь о том, кто окажется позади него. Копье вышло чуть выше пупка. Полидор закричал и рухнул на колени, подхватывая выпадающие внутренности.
И после…
Дриоп. Удар меча в шею едва не отделил ему голову от тела.
И после…
Демух. Копье попало ему в правое колено, и Ахилл прикончил его ударом меча в горло.
И после…
Братья Лаогон и Дардан. Они крепко держались в колеснице, но Ахилл легко выбил их, словно стряхнул улиток с листа. А потом, быстро и методично, пронзил одного копьем, второго – мечом.
И после…
Трос. Он умер, обхватив ноги Ахилла и моля о пощаде. Ахилл так глубоко погрузил меч ему в живот, что выпали внутренности, и кровь залила ему стопы.
И после…
Мулий. Копье с такой силой поразило его в ухо, что наконечник показался с другой стороны.
И после…
Эхекл. Удар меча раскроил ему череп.
И после…
Девкалион. Копье рассекло ему жилы у локтя, и меч безвольно повис в руке. Ахилл взмахнул мечом, и голова в шлеме отлетела прочь, Девкалион рухнул в грязь, раскинув руки, и из позвонков брызнула серая жидкость.
И после…
Но что-то не складывается, правда? С чего бы вам испытывать жалость или скорбь, выслушивая это чередование безвестных имен?
Позднее, куда бы ни отправлялась, я всегда разыскивала женщин из Трои, разбросанных по греческим землям. Эта изможденная женщина с пятнами на коже, что ввела меня в хозяйский дом, – неужели это та самая Гекуба, некогда молодая и цветущая супруга царя Приама, что устраивала танцы в его дворце? А эта девушка в поношенном, рваном платье, что спешит к колодцу с ведром, – могла ли она быть одной из дочерей Приама? Или не молодая уже наложница, чья кожа испещрена морщинами, – кто узнал бы в ней Андромаху, жену Гектора, что гордо стояла когда-то на стенах Трои с младенцем на руках?
Я встречала многих женщин, в том числе и простых, чьих имен вы никогда не слышали. И поэтому могу сказать вам, что братья Лаогон и Дардан были не просто братьями, но близнецами. В детстве Дардан плохо говорил, и собственная мать не могла понять его.
– Что он сказал? – переспрашивала она у его брата.
– Он говорит, что хочет кусок хлеба, – отвечал Лаогон.
– Приучи его говорить, – наставляла их бабушка. – Пусть он сам попросит.
– Но я была так занята, – рассказывала мне их мать. – Мне пришлось бы стоять там часами, если б я послушалась ее.
Или мать Дриопа, которая два дня провела в родовых муках.
– Под конец мама отослала повитуху вниз. Сказала, мол, выпей чашу вина, а я побуду пока с ней. А как только та вышла, мама подняла покрывала, и не знаю, что она там сделала, но, боги, наступило облегчение. Не прошло и десяти минут, как он родился. «Ох, – сказала повитуха, – я и не знала, что она так близка». А мама только улыбалась.
Или вот Мулий, которого Ахилл поразил копьем в ухо.
– Он пошел в шесть месяцев. Не ползал, не перекатывался, ничего такого – просто встал и пошел. Я ходила за ним, согнувшись пополам, и придерживала за руки, часами. А стоило ему присесть, как он тут же вскакивал и снова принимался ходить. Спину у меня так и ломило.
А мать Ифитиона вспоминала, как отец впервые учил его ловить рыбу, как тот сосредоточенно хмурился, пытаясь насадить червя на крючок…
– Ох, и только он поднялся, как червяк снова упал. Я с трудом сдержала смех. Бедный мальчик… Но надо отдать должное, он не бросил попыток. Такой он был – никогда не сдавался.
Некоторые из женщин, что помоложе, рожали детей от новых хозяев, и, я уверена, они любили их – как и всякая женщина. Но когда я говорила с ними, они вспоминали троянских детей, мальчишек, что сражались за Трою.
И после…
Ригм. Копье Ахилла поразило его в грудь, и кровь пузырящимся потоком хлынула из пробитого легкого.
И после…
Арейфой. Ахилл ударил его копьем в спину, когда тот пытался развернуть колесницу. Он упал наземь, и напуганные лошади понесли прочь пустую колесницу.
И после…
Впрочем, не имеет значения, кто был после, – Ахилл не помнит тех, кого убивает. Едва он вздернет копье, как сразу ищет взглядом следующую жертву. Так почему же в этой кровавой череде убийств ему запомнилась смерть лишь одного мужа? Он говорит «мужа», хотя скорее подобало бы назвать его «мальчишкой»: мягкий пушок покрывал его подбородок. Его появление на поле боя объяснялось лишь бедственным положением троянцев – или его собственным стремлением сражаться и доказать свое мужество. Как бы там ни было, вот он, выбирается ползком из вод…
Ликаон, сын Приама. Тот, кого Ахилл не в силах забыть.
Ни один из них не удостоился погребальных обрядов, очистительного пламени. Ахилл не собирается прекращать бой, чтобы позволить троянцам забрать убитых, пока Патрокл лежит, непогребенный, в лагере. И он не берет пленных, никого. Убивает всякого, кто попадется ему на пути. Их тела падают под колеса колесницы. Брызжет кровь, мозги, экскременты, и его доспехи покрываются скверной. Он не останавливается и не оглядывается, но смотрит только перед собой, и Автомедон подгоняет лошадей. С каждым убитым воином они подбираются на шаг ближе к воротам Трои, к тому мгновению, когда он сразится с Гектором и убьет его.
Кровь, мозги и экскременты – и он, сын смертного и богини, мчится навстречу славе.
35
Это продолжалось пять дней, и все это время Ахилл почти не смыкал глаз. На него было тяжело смотреть: красные от слез глаза и бледное, осунувшееся лицо под слоем грязи.
Каждый день начинался с созерцания тела Патрокла. Я разворачивала материю, которой мы обертывали его голову, чтобы оградить от мух, и после отступала. От запаха разлагающейся плоти к горлу подступала тошнота. «Сожги его, во имя богов», – хотелось сказать мне, и я была в этом не одинока. Но Ахилл словно не замечал никаких изменений. Всякий раз, прежде чем уйти, он наклонялся и целовал Патрокла в потемневшие губы. Даже при помощи лент, обмотанных вокруг его челюсти, трудно было держать рот полностью закрытым. Когда Ахилл уходил, вокруг тела собирались прачки и ворчали себе под нос, но я не задерживалась и не слышала, что они говорили.
После ужина он снова отправлялся взглянуть на Патрокла, но вечером никому не дозволялось входить с ним в комнату. Как-то раз я услышала, как Ахилл произнес: «Еще не время», – должно быть, он имел в виду, что Гектор еще жив. Алким томился у приоткрытой двери и время от времени заглядывал внутрь: Ахилл не отходил от стола, и его голова покоилась на груди Патрокла. Как-то поздней ночью он издал громкий стон, и Алким уже толкнул было дверь. Но я перехватила его за руку.
– Нет.
– Не следует оставлять его одного.
– Он уже один.
Алким помедлил, затем кивнул и отступил.
Сражение теперь кипело под самыми стенами Трои. Как только мирмидоняне покидали лагерь, я взбиралась на мачту Ахиллова корабля и смотрела. Я была там в то утро пятого дня, когда ряды троянцев наконец дрогнули. Даже тогда я надеялась, что они еще перестроятся, но ворота раскрылись, и воины стали отступать внутрь. Приам перегнулся через парапет, призывая Гектора укрыться за стенами. Гекуба и вовсе обнажила свои морщинистые груди, моля сына спастись, но Гектор не внял мольбам. Он повернулся спиной к дому и спасению – и шагнул навстречу Ахиллу.
Не в силах смотреть, я вернулась в хижину и рассказала другим женщинам о том, что видела. Мы понимали, что наблюдаем последние дни Трои, а с падением города умрут и наши надежды на освобождение. И все-таки жизнь еще текла своим ходом, и ткацкие станки не замирали ни на миг. Медленно, по нитке, росло полотно. Женщины словно боялись, что стоит им остановиться, прервать узор, и мир тоже рухнет.
Но вот за непрерывным стуком челноков мы услышали другой звук. В первые мгновения нам приходилось еще напрягать слух, и кое-кому удалось даже убедить других, что это крики чаек. Но нет, это были женские голоса, и они не смолкали. Один за другим станки замирали, и в повисшем молчании мы ясно услышали плач. И поняли, что Гектор, последний и величайший защитник Трои, пал.
Часть III
36
Я не сразу поняла, что это. Когда же Ахилл направил колесницу в сторону конюшен, я увидела, как по земле за ней что-то волочится. Но прошло не меньше пяти минут, прежде чем я узнала в груде ободранной и окровавленной плоти Гектора. Мирмидоняне гудели от возбуждения. Ахилл не только убил Гектора, но еще трижды проехал с его трупом под стенами Трои. А Приам, отец Гектора, стоял у парапета и смотрел, как его сильный и красивый сын превращается в мешок развороченных внутренностей.
В тот миг греки одержали победу, и все это понимали. Я ожидала пения и плясок, но Ахилл вынес на площадку тело Патрокла и велел мирмидонянам пустить вокруг него колесницы. И они мчались все быстрее и быстрее; храпели лошади, свистели кнуты, и клубы песка взметались из-под колес… Воины и лошади едва не падали в измождении, и только тогда Ахилл остановил свою колесницу. Он соскочил наземь и подошел к Патроклу. Положил руки, красные от крови Гектора, ему на грудь.
– Гектор мертв, – произнес он. – Я исполнил все, что обещал. Теперь упокойся же с миром.
Это был миг скорби после суматохи битвы. Мирмидоняне притихли, некоторые из них плакали.
Но если Ахилл намеревался отметить мгновение своего величайшего триумфа излиянием скорби, то Агамемнон был настроен совсем иначе. Он не только объявил великий пир в честь Ахилла, но сам явился, чтобы проводить его в свой стан, и с ним пришли многие из царей. Вино полилось рекой, все смеялись, хлопали Ахилла по спине, и тот старательно смеялся вместе со всеми. Но при этом у него был такой оторопелый вид, словно он не знал, кто все эти люди и почему он должен говорить с ними.
Ахилл выглядел опустошенным. Все эти убийства, жажда мести… Быть может, он думал, что, каким-то непостижимым образом, если он все исполнит – убьет Гектора, обратит в бегство троянское войско, сломит Приама, – то и Патрокл выполнит свою часть договора и восстанет из мертвых. Все мы пытаемся заключать безумные сделки с богами, зачастую даже не сознавая, что делаем это. И Ахилл не стал исключением – он все исполнил, сдержал все обещания; но тело Патрокла по-прежнему оставалось лишь телом.
Однако он вынужден был пойти на этот пир. Любое «приглашение» от Агамемнона следовало принимать как повеление. Кроме того, оба соблюдали видимость дружбы.
Когда Ахилл ушел, мирмидоняне устроили собственный праздник. Мы с Ифис сбились с ног, разнося кувшины с вином, пока Автомедон не повелел нам удалиться в покои и запереть двери на засов. Он понимал, что предстоит дикая ночь.
Я не могла уснуть. Думаю, отчасти виной тому были крики, пение, шум… И в то же время не давала покоя мысль, что Гектор один, изуродованный, лежит там в грязи.
Через некоторое время я встала, выбрала белую простыню, завернулась в плащ и пробралась к конюшням. Я не издала ни звука, но лошади сразу почуяли мое присутствие. Какая-то из них ударила по двери стойла, другие беспокойно перебирали копытами и мотали головами, и в темноте то и дело вспыхивали отблесками их зрачки. Тело лежало посреди двора, до того покалеченное, что едва сохраняло человеческие очертания. Я заставила себя подойти ближе. Света было достаточно, но я лишь бегло посмотрела на Гектора и отвела взгляд. Затем осторожно накрыла полотном его разбитое лицо и удалилась на носках, а он остался лежать один под безучастными звездами.
37
Еще больше вина. Под топот ног и крики ликования снова поднимаются кубки.
- Зачем родился он красавцем?
- На что родился он вообще?
- Никто не видит пользы в нем!
- Он бестолковый сукин сын!
Воины за столами стучат по доскам кубками и кулаками, но те, что сидят рядом, хлопают его в такт пению: по рукам, по плечам, по голове, по бедрам – куда только могут дотянуться. Им не под силу прекратить это, каждый хочет притронуться к нему, но все его тело ноет после сражения. Нет такого места на нем, которое не болело бы.
Кажется, что этот пир будет продолжаться вечно. А ему хочется вернуться – впрочем, теперь, когда Патрокла не стало, возвращаться некуда. Хочется погрузиться во мрак и безмолвие. Но кувшины крепкого вина по-прежнему кочуют от стола к столу, и каждую минуту кто-нибудь поднимается и произносит тост. Ахилл пьет, потому что должен, потому что нет выбора. Смеющиеся, потные лица расплываются перед ним… Очередная шутка расходится по столам, люди подталкивают друг друга локтями, перешептываются… Как бы убедить его принять ванну? Похоже, смысл в этом. Посмотрите на него! Смотрите на его лицо и его волосы!.. Ахилл заставляет себя улыбаться, показать, что он не против и шутки его не обижают. Однако потом резко поднимается. «Надо отлить», – отвечает он на недоуменные вопросы. Но на всем пути до двери каждому хочется похлопать его по спине и поздравить. Они гудят вокруг него, как шершни, что игриво жалят в плечи и грудь. Все это причиняет боль, и глубоко внутри, где должна бы царить радость, зияет лишь темная пропасть.
Снаружи он приваливается к стене и смотрит, как моча стекает по камням к его стопам. Залитый светом чертог остался чуть правее, но Ахилл не хочет туда возвращаться. Боги, скоро рассвет… ведь он исполнил свой долг? В любом случае они так пьяны, что вряд ли хватятся его. Поэтому он идет вдоль берега к собственному стану. Волны омывают его стопы, и он сбивчиво дышит в унисон с морем. Вдоль гавани всюду горят огни. Ахилл знает, что его с радостью примут у любого из этих костров, и вместе с тем еще никогда в жизни он не чувствовал себя так одиноко.
Агамемнон прикидывается, что разделяет его скорбь по Патроклу… Ублюдок был вне себя от счастья, когда Патрокл погиб, потому что знал, что это вновь вовлечет Ахилла в войну… Ничто другое не побудило бы его к этому. Нет, если он и захочет остаться с кем-то в эту ночь, то со своими мирмидонянами, которые действительно разделяют его утрату. Но когда он приближается к своим кораблям, то понимает, что и этого ему не нужно. Нет, лучше остаться наедине с собой… Может, даже уснуть здесь, на берегу. Почему нет? Он делал так прежде.
Или сначала поплавать? Похоже, все считают, что ему давно пора принять ванну. Быть может, они правы? Он подносит пальцы к лицу и чувствует солоноватый запах спекшейся крови, затем поднимает руки и нюхает под мышками. О боги… да, они, как никогда, правы. Ахилл, не раздеваясь, входит в воду. Волны бьются о его бедра, промежность, живот и грудь. Он поднимается и опускается с каждой волной, пока очередная не накрывает его с головой. Она увлекает его все глубже, в зеленый безмолвный мир, его мир – или таковым он мог быть, если б не эта жгучая боль в легких. Он выныривает, хватая ртом воздух, и ложится на спину, и волны качают его взад-вперед.
Небо еще усыпано звездами, но их свет стремительно меркнет под натиском восходящего солнца. Ахилл сознает, что плачет; слезы скатываются по лицу в соленую воду. И снова мочится – чувствует теплый поток в промежности. Он изливает из себя все: и скорбь, и боль, и потери, – и непрочный мир воцаряется в его душе.
Возвращается на берег. Хруст гальки под ногами приглушает все прочие звуки. Его шатает из стороны в сторону. Пьян? Он и сам не понимает, не помнит даже, сколько выпил. Знает только, что ничего не ел. Но с ним что-то не так, он чувствует себя… странно, как будто его распирает изнутри. Плевать. Что бы это ни было, все пройдет. Гектор мертв, и это главное. Все позади. Он повторяет это всякий раз, когда правая нога ступает по гальке. Позади, позади, позади. Гектор мертв, и без него Троя не выстоит – а решающий удар в этой войне нанес он.
Ахилл прислушивается к себе в надежде уловить хотя бы отдаленное эхо тех почестей, какими осыпали его цари. Но внутри все глухо. Убить Гектора недостаточно. Он понял это в ту же минуту, когда прикончил его. Чего он действительно хотел, так это съесть его – мало кто отважился бы сказать такое, но это так. Ему хотелось зубами перегрызть Гектору горло. Поэтому он трижды протащил его тело под стенами Трои, зная, что Приам смотрит. Но даже это стало жалкой подменой вкусу гекторовой плоти на зубах.
Спать. Он садится, чувствует под ладонями бархатистый песок. Зарывает руки глубже, и вот песок уже жесткий, холодный. Глаза болят, веки болезненно трут по зрачкам всякий раз, когда он моргает. Даже отсюда Ахилл слышит пьяные голоса из лагеря – его собственные воины беззаботно сидят вокруг костров, пичкают себя едой и вином. Он еще может присоединиться к ним, напиться до бесчувствия среди людей, которых любит и которым доверяет. А если нет, то там его ждет мягкая постель, огни, хлеб и маслины на столе, кувшин вина… Но нет Патрокла. Нет, лучше остаться здесь. Ощущая вкус соли на пересохших губах, дышать в унисон с морем.
Он ложится на спину, вдавливает лопатки в песок. Черные пики тростника расчерчивают небо, как струны сломанной лиры. Он мгновенно вспоминает свою лиру, на которой не может больше играть. Не играл ни разу с тех пор, как погиб Патрокл. Оставь ее, оставь. Он моргает несколько раз, точно ребенок старается не заснуть, и резко погружается в сон, неверный и невесомый, как свет.
Проходит несколько минут, и Ахилл снова в сознании: рот раскрыт, язык пересох; он пытается что-то сказать и глотает воздух. Или это по-прежнему сон? Он видит каменистые склоны и пучки травы над головой, но наваждение не проходит. Над ним склонился Патрокл – и не чахлый призрак, а человек, сильный и энергичный, каким он и был при жизни. Но настроенный недоброжелательно и даже враждебно – каким он никогда не был.
Ты пренебрег мною, Ахилл.
– Нет, – пытается сказать Ахилл и не может. Не способен говорить. И двигаться. Пытается дотянуться до Патрокла, но руки не слушаются.
Ты так ценил меня, пока я был жив, но пренебрег теперь.
Он силится произнести:
– Я бился с Гектором ради тебя!
Ты даже не сжег меня! Ты знаешь, каково это, когда мухи откладывают яйца на твоей коже?
Кто это говорит? Это… нечто, что склонилось над ним, образ, столь болезненно похожий на Патрокла, или это его собственные мысли? И вместе с тем Патрокл кажется таким настоящим… Даже одежда на нем такая же, какую он носил при жизни. Высокий, сильный…
Восходит солнце, и свет меняет его лицо.
Сожги меня, Ахилл. Мертвые не принимают меня, не дают пересечь реку. Говорят, я не принадлежу им. Но и в этом мире мне не место. Предай мое тело огню, захорони мои кости в золотой урне, которую преподнесла тебе мать. В ней хватит места для двоих. Будем же неразлучны в смерти, как были при жизни.
Неразлучны в смерти – это не то, что ему нужно. Ему хочется обнять Патрокла, сейчас же. Ахилл снова пытается дотянуться до него, но руки по-прежнему неподвижны.
Помнишь, как мы сидели вместе после трапезы и обдумывали свои замыслы? Я не могу вспоминать об этом без слез…
«Так давай же восплачем вместе, – хочется ему сказать. – Усядемся и завоем, как волки, обо всем, что потеряли».
Внезапно оковы, что сдерживали его, спадают. С криком Ахилл тянется к живому человеку перед собой, но рука хватает пустоту, и дух Патрокла с тонким плачем растворяется в земле.
Ничего. Совсем ничего. Но он был здесь. Ахилл до последнего верил, что Патрокл вернется и поговорит с ним. Он перекатывается на колени и торопливо разгребает серебристый песок, добирается до сырого, холодного слоя. И, остервенело загребая песок, выстраивает маленький курган, чтобы отметить место, где появился Патрокл. Он знает, что, как только тело будет сожжено, дух не сможет вернуться.
Но Гектор убит. Ахилл цепляется за эту мысль – вот реальный, осязаемый подвиг. И все же – в этом чуждом переходном пространстве, между сушей и морем, между жизнью и смертью – он вдруг начинает сомневаться. Если Патрокл жив – и он только что видел его и слышал, – то действительно ли Гектор мертв?
Вот как ему необходимо поступить теперь – увидеть Гектора, что бы там от него ни осталось, а после устроить по Патроклу царские игры.
Он медленно возвращается в лагерь. Быстро светает, но пир еще не окончен. Воины с остекленелыми взглядами бродят по лагерю, до того пьяные, что не узнали бы собственных матерей. Завернувшись в плащ, Ахилл бесшумно проходит между хижинами и направляется к конюшням. И замирает. Тело Гектора по-прежнему лежит в грязи, но теперь накрыто полотном. Кто-то накинул на него покрывало. Немыслимо, чтобы кто-то из воинов сделал нечто подобное. Но кто же тогда? Ни одна из рабынь не осмелилась бы…
Когда Ахилл приближается, им овладевают смешанные чувства. Когда он уходил, то оставил на земле груду плоти и переломанных костей, но тело под полотном имеет человеческие очертания. Глаза видят перемену, но разум отказывается принимать ее. Кто-то сыграл над ним шутку, это не тело Гектора. Не может быть им. Медленно, очень медленно – и ему стыдно сознавать, сколько это требует мужества – он садится и стягивает полотно.
И видит перед собой лицо Гектора, безупречное, каким оно было при жизни. Глаза открыты, но если оставить это без внимания, можно подумать, что он спит на царском ложе, рядом со своей супругой Андромахой. Ахилл не в силах отвести взгляд от этих глаз. Порывается закрыть ему веки, только бы не смотреть в эту пустоту, но это стало бы проявлением почтения – а ему не хочется делать этого. Скорее уж выбить эти глаза. Однако он ничего не делает, просто поднимается и оглядывается, словно ищет виновных.
Никого. Ни души вокруг, все празднуют вокруг костров. Но, как бы там ни было, он сглупил, потому что ни одному человеку не под силу свершить такое. За этим стоят боги. Что ж – ПЛЕВАТЬ НА БОГОВ. Он запрокидывает голову и криком выказывает свое пренебрежение к ним. В стойлах лошади трясут головами, бьют копытами, и их тени мечутся по стенам… Ахилл кричит и кричит, его боевой клич разносится над площадкой. Никому не одолеть его, даже богам. Как только встанет солнце, он еще крепче привяжет Гектора к колеснице и погонит лошадей, и в этот раз не остановится, пока не будет сломана каждая кость в этом теле, пока не сотрутся все его черты… Никто не лишит его права мести, даже боги.
38
Женщины не допускаются на сожжение, поэтому меня не было, когда тело Патрокла предали огню. Но позднее я все услышала от Алкима. Тот говорил безостановочно, запинаясь, словно избегал долгих пауз, страшась собственных мыслей. Он любил Ахилла, но в то же время боялся его – и полагаю, все больше боялся за него.
Ахилл сдержал слово и исполнил все, что обещал Патроклу. Умертвил двенадцать троянских юношей – оттянув их головы за волосы, каждому рассек горло, быстро и аккуратно, словно забивал жертвенных коз. Убил лошадей Патрокла и бросил их в костер. За ними последовали его любимые собаки – те, что жили вместе с ними в хижине. «Столько крови», – говорил Алким; он не представлял, как им удастся разжечь все это. Но в конце концов пламя разгорелось.
Стоя в дверях, мы видели, как пламя и искры взметаются в ночное небо. Я обняла Ифис и увела обратно в хижину.
– Что теперь будет со мной? – повторяла она.
И я не могла дать ответа, потому что сама этого не знала. Ифис была добра ко мне в тот первый день, когда я попала сюда. Теперь я могла хотя бы отплатить ей тем же.
Во время игр по Патроклу женщины готовили еду и питье, но не разносили вино за трапезой. По ахейским обычаям в подобных случаях юноши прислуживали старшим. Наше присутствие никак не отмечалось, но время от времени мы выбирались из хижин и наблюдали за состязаниями. Ахилл поспевал всюду: судил гонки, вручал награды, разрешал малейшие разногласия, прежде чем те перерастали в открытые ссоры, и был столь терпелив и чуток, что я с трудом могла узнать его. Он как будто превратился в Патрокла. Только глаза по-прежнему горели огнем, и так же непросто было выдержать его взгляд.
В основном я оставалась в хижине и время от времени предлагала кому-нибудь из трофейных женщин разделить еду или чашу вина. Помню, в один из таких моментов я оглядела комнату и увидела, как Текмесса о чем-то увлеченно говорит с Ифис. Сложно представить контраст более яркий: Ифис, такая бледная и изящная, и Текмесса, раскрасневшаяся и потная, опустошает блюдо ягнятины с травами. Трудно было найти женщин столь непохожих, и все же в одном они были близки – обе прониклись любовью к своим пленителям. И это ставило меня перед неловким вопросом. Буду откровенна, я презирала Текмессу, но вместе с тем никогда не испытывала презрения к Ифис. Я задумалась. Возможно, причины моей неприязни к ней крылись не только в слепом предубеждении против ее поучений и снисходительности? Я в этом сомневалась. Однако мне нравилась Ифис, я даже полюбила ее, и мне нетрудно было понять, за что она полюбила Патрокла, потому что я сама прониклась к нему любовью.
Я упомянула, что Ахилл вручал награды – и что это были за награды! В память о Патрокле он не жалел ничего: доспехи, треножники, лошади, собаки, женщины… Ифис. Она стала первым трофеем в гонках колесниц. Нас никто не предупредил. Когда Автомедон явился за ней, мы сидели в комнате, чинили одежду. Ифис вцепилась в меня, но Автомедон безжалостно разжал ее пальцы и повел прочь. Остальные женщины последовали за ними и смотрели, как она дрожит под холодным ветром с моря, в ожидании, кто станет ее новым хозяином.
То была невероятная гонка. Воины кричали во все горло, когда Диомед первым пересек линию и с торжествующим смехом остановил лошадей. Покрытый пылью и грязью, он соскочил с колесницы и подошел к Ахиллу. Тот указал на Ифис, его награду. Диомед взглянул на нее с разных сторон, как Ахилл когда-то осматривал меня, затем удовлетворенно кивнул, и они с Ахиллом обнялись. Они стояли так довольно долго, держали друг друга за плечи, говорили и смеялись, в то время как один из воинов Диомеда взял Ифис за руку и увел с арены.
Когда толпа расступилась перед ими, Ифис оглянулась, посмотрела прямо на меня – последний, исполненный отчаяния взгляд, – и вот она уже скрылась из виду.
Без Патрокла и Ифис я чувствовала себя одинокой, как никогда прежде. До того момента, как увели Ифис, я твердила себе, что свыклась с утратами, но, очевидно, это было не так, потому что мне отчаянно ее недоставало. Я подружилась со многими женщинами в стане Ахилла, но не было никого, с кем бы так сблизилась или хотела бы сблизиться. Я просто безучастно сидела за ткацким станком, разливала вино во время трапезы, до боли в ногах гуляла вдоль берега и ничего больше не ждала.
Игры завершились гонкой колесниц, цари разошлись, и Ахилл сел за трапезу один. Когда-то я следила за каждым его движением, подмечала малейшую перемену в выражении лица – теперь же я боялась взглянуть на него. Этот человек дважды говорил, что желал моей смерти, один раз на глазах у всего войска. Я сомневалась, что Ахилл убьет меня, но допускала, что он захочет продать меня работорговцу. Я давно потеряла всякое для него значение. Поэтому смотрела себе под ноги, обходила длинные столы, наполняла кубки один за другим – и, едва освободилась, поспешила удалиться.
Люди были подавлены, скорбь Ахилла омрачала пиршество. Я не чувствовала сострадания к нему. И хоть печалилась по Патроклу, даже моя печаль оказалась пропитана горечью. Да, он был хорошим человеком, да, отнесся ко мне с добротой, – но он был сожжен со всеми почестями, подобающими царскому сыну. А мои братья так и остались гнить.
Я говорю, что избегала смотреть на Ахилла, но постоянно видела его сидящим за столом, который он когда-то делил с Патроклом, – совершенно один в окружении людей, боготворивших его.
И то же можно сказать обо мне. Всякий раз после трапезы я возвращалась в женские хижины, ложилась в постель, которую делила когда-то с Ифис, и накрывалась с головой. Но вскоре – на четвертый или пятый вечер после игр – этому унылому затишью подошел конец. Во время трапезы, как только я первый раз наполнила кубки, Автомедон подозвал меня и сообщил:
– Ахилл ждет тебя сегодня ночью.
У меня подогнулись колени. Я не знала, продолжать ли мне разливать вино или поставить кувшин и удалиться немедленно. Автомедон не дал мне указаний. В итоге я продолжала обходить столы, наполняя кубки, пока трапеза не подошла к концу, и тогда я выскользнула из зала. Собрала волосы, покусала губы, похлопала себя по щекам и села в чулане, куда меня привели в ту первую ночь в лагере. Я вспоминала, как гладила шерстяное покрывало на кровати, водила пальцем по узору, словно могла затеряться в этих завитках, и не пришлось бы больше думать и чувствовать. Затем появился Патрокл и дал мне чашу вина. И в следующую ночь, и многие ночи после рядом со мной была Ифис…
Теперь некому было утешить меня. Я сидела на кровати и тряслась, пока не услышала голоса за дверью: Автомедон и Алким собирались разделить с Ахиллом последнюю чашу вина. Я набралась храбрости и заглянула в щель – и увидела пустое кресло Патрокла. Собак тоже не было, и я удивилась, потому как привыкла, что они всегда лежали у очага. Но потом вспомнила, что Ахилл сжег их на погребальном костре Патрокла. О, я могла себе представить… Он подозвал их, похлопывая по бедрам: «Ко мне, старина! Ко мне!» И собаки приблизились, припав на живот, виляя хвостами и беспокойно облизываясь, сознавая, что сейчас произойдет нечто плохое, но вынужденные повиноваться. Возможно, Ифис все-таки повезло, что она стала первой наградой в гонке колесниц. Собакам Ахилл перерезал глотки.
Наконец разговор в соседней комнате подошел к концу, Автомедон и Алким собрались уходить. Когда они вышли, воцарилось долгое молчание, или оно показалось долгим лишь мне. Но вот за дверью послышались тяжелые шаги. Ахилл медленно отворил дверь, и полоса света легла на пол. Он взглянул на меня и кивнул в сторону своих покоев.
Я последовала за ним и села, насколько было возможно, подальше от него. Пустое кресло Патрокла заполняло собой все пространство. В сравнении с ним даже Ахилл казался эфемерным. Лира в промасленном чехле лежала на столе у его кресла, но он не притрагивался к ней. Я осознала, что не слышала его игры с тех пор, как вернулась к нему.
Тишина угнетала меня. В конце концов я спросила:
– Почему ты не играешь?
– Не могу. Не выйдет.
В постели, под покровом темноты, я стала олицетворением его слов. Ахилл усердно целовал мои груди, словно пытался оживить в памяти то восторженное ощущение. Это продолжалось несколько минут, затем он приподнялся и попробовал ввести в меня свой вялый член. Я, опустив руку, сжимала и ласкала его, стараясь помочь, но все стало только хуже. Я в страхе думала, что значил этот провал – не для него, для меня. Когда стало ясно, что ничего не выйдет, Ахилл со стоном перевернулся на спину. Я скользнула вниз и взяла член в рот, обсасывая его, как сочную грушу, – но, как ни старалась, он оставался вялым, как у ребенка.
В конце концов я сдалась и легла рядом. Любое слово могло обернуться против меня, и потому я молчала. Ахилл лежал очень тихо. Могло показаться даже, будто он уснул, но я знала, что это не так.
– Мне уйти? – спросила я.
В ответ он лишь перевернулся набок. Я скользнула с кровати и стала шарить в поисках одежды. Огонь в очаге почти догорел, лампы давно погасли. Я отыскала и торопливо натянула тунику – задом наперед, как выяснилось позже, – и пробралась к двери. Я не могла вспомнить, где оставила сандалии, и была слишком напугана, чтобы искать их. Стоя на веранде, несколько раз глубоко вздохнула. Вернись я в женские хижины слишком рано, все поняли бы, что я впала в немилость – если они уже этого не знали. Никто не злорадствовал бы, но все взяли бы это на заметку. Я знала по меньшей мере двух девушек, которые понадеялись бы занять мое место.
Меня не волновало, что другая девушка могла стать его любимицей. Я лишь думала, что стала на шаг ближе к невольничьему рынку, – и это занимало меня куда как больше. Я твердила себе, что все не так плохо. Ахилл не избил меня, не пришел в бешенство – не сделал ничего из того, что мог сделать. Поэтому я обхватила себя руками и просто покачивалась из стороны в сторону. Когда же немного оправилась, то пошла, ступая босыми ногами по песку, к женским хижинам.
39
Он не может уснуть. Не может есть, не может спать, не может играть на лире – и теперь, по всей вероятности, не способен к соитию… Бесполезен. Он переворачивается сначала на один бок, затем на другой, подтягивает одеяло до самого подбородка, затем срывает его, раскидывает руки и ноги в стороны и сворачивается в клубок – и все это время думает о Патрокле. Не думает, хочет его. Очертания его лица, маленькая горбинка на переносице, кривая усмешка, широкие плечи, узкая талия, сладковатый запах его кожи… Те мгновения, когда они были вместе…
Он не знал, что скорбь подобна физической боли. И не может успокоиться. Разве теперь ему не должно полегчать? Он сделал все, что обещал, – убил Гектора, умертвил двенадцать троянских юношей и разжег на их телах костер для Патрокла. Он копался в пепле в поисках его обугленных костей, нашел все, вплоть до костяшек пальцев, и захоронил в золотой урне – достаточно большой, чтобы вместить и его останки, когда придет время. И он молит богов, чтобы этот миг настал скорее.
Теперь он осознаёт, что пытается сторговаться со своей скорбью. За всеми его исступленными действиями кроется надежда, что боль уйдет, как только он исполнит все обещания. Но к нему приходит осознание, что скорбь не признает сделок. Невозможно избежать страдания – или хотя бы пережить его поскорее. Оно цепко держит его в своих когтях и не отпустит, пока он не усвоит урок, какой оно несет в себе.
Когда же Ахилл все-таки засыпает, на него сразу нисходит сон, который он видит каждую ночь. Темный туннель. Ахилл ощупью движется по нему и всякий раз спотыкается о тела, невидимые во мраке. Когда он наступает на одно из тел, раздутый живот хлюпает под ногами. Он не видит их и не может сказать, на чьи лица он наступает – троянцев или греков. Но в таком скорбном месте, лишенном света и оттенков, едва ли это имеет значение. Хочется верить, что он в подвалах дворца – Приамова дворца, и это означало бы, что они взяли Трою, что, несмотря на все предостережения матери, он дожил до этого мига, стал частью победы – и теперь бродит по этим катакомбам в поисках напуганных женщин. Он знает, что они здесь, то и дело слышит шорох одежды – и чувствует их страх.
Отчаянно хочется верить в это, но волосы на загривке встают дыбом, и он понимает, что находится в царстве Аида и его окружают тела мертвых.
И он старается ощутить жизнь в собственном теле, сжимает руки, напрягает мускулы, делает вдох, такой глубокий, что легкие отзываются болью. Он движется вперед, и постепенно мрак рассеивается. И вот уже светло настолько, что можно оглядеться. Мертвые лежат кругом, как связки старого тростника, раздутые в своих боевых туниках. Троянцы или греки? Все еще трудно сказать. Он присматривается к ним, расправляет складки на плащах – принимается даже трясти их за плечи и руки, пытаясь пробудить, потому что здесь, внизу, так одиноко… Одиноко быть последним из живых. Ни единого отклика. На него смотрят их почерневшие лица, неподвижные, словно рыбьи, глаза. Им нужен огонь, очистительный огонь, и он дал бы им его, если б только мог. Греки или троянцы – никто не должен истлевать вот так, непогребенным и неоплаканным. Затем один из них вдруг поднимается и устремляет на него неподвижный, жалостный взгляд…
Друг, – произносит он.
И Ахилл тотчас узнает его. Ликаон, сын Приама. Тот, кого он никогда не сможет забыть.
Я не узнаю тебя, – пытается он ответить, шевелит губами и пробуждается…
Ахилл резко садится и озирается в страхе, что мог принести за собой это скверное, неупокоенное нечто. И только когда убеждается, что рядом ничего нет, ничто не крадется в тени, снова падает на подушки. Он чувствует запах собственного пота, в паху мокро. На мгновение Ахилл приходит в ужас от мысли, что обмочился, как это случалось в ту первую зиму, когда мама покинула его. Но нет – он трогает простыни под собой, – нет, всё в порядке, это просто пот. Он скидывает с себя одеяло, чтобы воздух осушил кожу.
Почему Ликаон? Он убил десятки людей после смерти Патрокла и сотни с начала войны – так почему из этой кровавой круговерти ему вспоминается именно Ликаон? Все это слово – друг. Оно привело его в бешенство тогда, и оно же преследует его теперь. Определенно, в самом Ликаоне не было ничего выдающегося. Он походил на утопленную крысу, когда Ахилл впервые увидел его выбирающимся из воды, уже без доспехов. Река была тогда полноводна, и течение жадно подхватывало и уносило прочь каждый труп, который Ахилл бросал туда.
Для него эти несколько минут стали краткой передышкой в бою. Но едва ли он успел перевести дух, потому что появился этот червь, эта мерзость, утопленная крыса без шлема, без щита и без копья. Ликаон бросил их, отчаянно цепляясь за жизнь, и полз на коленях по илистому берегу. Ахилл ничего не говорил, просто стоял и с хладнокровием хищника ждал, когда тот посмотрит на него, узнает и придет в ужас.
Следует отметить, что Ликаон не пытался бежать. Впрочем, и бежать ему было некуда: позади река, а перед ним – Ахилл. Вместо этого он бросился вперед, обхватил его ноги и стал молить о пощаде. Ахилл смотрел на него и слушал, и это существо не пробуждало в нем никаких чувств, и ему даже в голову не пришло, что они с ним могли дышать одним воздухом. Боги, чего он только ни говорил, предавая всё и всех в своем жалком стремлении избегнуть смерти. И Гектору он братом не был; ну пусть и не совсем так, рожденные от одного отца, но разными матерями, – и что до самого Гектора, едва ли тот знал его! И он не имел никакого отношения к смерти Патрокла. «Смилуйся, Ахилл! Подумай, как поступил бы твой друг – твой славный, добрый, отважный и кроткий друг…»
Вот оно, это слово.
«Так умри же, друг, – сказал он тогда. – К чему все эти слова? Патрокл мертв, и он был во сто крат лучше тебя».
Ахилл занес меч и вонзил его в крепкую юношескую шею, точно над ключицей, вогнал клинок так глубоко, как только смог. Ликаон упал вниз лицом, и его алая кровь смешалась с грязью. Еще прежде, чем он перестал дергаться, Ахилл поддел его ногой и столкнул в воду. Несколько минут Ликаон держался на поверхности, и его мокрая туника наполнилась воздухом, но затем течение подхватило его и унесло прочь. Ахилл стоял на берегу и смотрел, пока тело не скрылось из виду. Рыбы обглодают его задолго до того, как оно достигнет моря. Не будет для него ни погребальных обрядов, ни очистительного огня. Отныне никакой пощады троянцам.
И вот теперь мерзавец каждую ночь является ему во сне! Почему, о боги, почему? Если он обречен проводить ночи с мертвым, почему же ему не снится Патрокл? Ахилл сбрасывает одеяло, порывисто встает и подходит к зеркалу. Долго и напряженно смотрит на свое отражение, а между тем за его спиной возникает призрак Патрокла. Ахилл ощущает его присутствие, но даже не думает поворачиваться, поскольку уже знает, что ничего не увидит. И уж точно не сможет к нему прикоснуться.
Он припадает к своему отражению, так что зеркало потеет от его дыхания.
«Так умри же, друг. К чему все эти слова? Патрокл мертв, и он был во сто крат лучше тебя…»
Никто ему не отвечает. Опустошенный, он плетется обратно в постель. О да. Ахилл быстроногий, сотканный из воздуха и пламени, теперь плетется. Волочит ноги. Тащится. Тело, тяжелое от засевшей в нем смерти, тянет к земле.
Скоро рассвет. Не надеясь снова заснуть, Ахилл надевает тунику и выходит. Направляется прямиком к конюшням, где на площадке лицом в грязи лежит Гектор. Никто не решается прикрыть его или оказать иные знаки почтения. И никто не осмелился вновь накрыть его лицо полотном. Тяжело ступая, Ахилл пересекает площадку. Стопы скользят в сандалиях. Несмотря на утреннюю прохладу, тело лоснится от пота. Он и сам едва ли ощущает себя человеком, поэтому неудивительно, что лошади так мечутся в стойлах.
Он несколько раз глубоко вдыхает. Почему легкие так болят, когда он дышит? Быть может, решили замереть на пару недель раньше, чем остальное тело? Или у него начали отрастать жабры? Так о нем говорят за его спиной. Жабры, перепончатые пальцы… Что ж, его мать – морская богиня, чего он ждал? И у него есть перепонки между пальцами на ногах, как и у матери. Впрочем, у нее они прозрачные – а у него плотные, желтого цвета, и он всегда стыдился их. Еще один факт, известный одному лишь Патроклу, – что он стыдился своих стоп. Значительная часть его обратилась в прах вместе с Патроклом, ибо то, что нельзя разделить, теряет свою суть, перестает быть реальным.
Конюхи поднимают головы, прокашливаются и почтительно кивают, но без раболепия. Таковы все мирмидоняне. Известные на весь свет своей отвагой, преданностью долгу и безоговорочным послушанием. Что ж, отвага и верность долгу действительно им присущи… Но послушание? Никогда. Их не впечатлить царской кровью – да хоть бы и божественной. Их уважение следует заслужить. Ахилл знает, что за последние девять лет неоднократно завоевывал их уважение, и все же с недавних пор стал замечать… Не отторжение, нет, но некоторую настороженность. И не его злоба беспокоит их – пусть и внешне сдержанные, мирмидоняне постоянно впадают в ярость. Нет, все дело в его умении сдержать обиды. Да, должно быть, им хочется сказать: он забрал твою девушку, твою награду, он оскорбил тебя – так провалиться же ему, отплывем домой! Они не понимали, почему он держал их здесь, на этой вонючей полоске суши, принуждая сидеть, как горстку старух, между тем как в тысяче шагов сражались и гибли те, кого они прежде считали товарищами…
Но теперь все позади, им стоило бы забыть об этом. Быть может, они и забыли. Возможно, им претит то, что он совершает каждое утро…
Ахилл прикасается к борту колесницы в том месте, где столько лет стоял Патрокл, намотав поводья на пояс. Каждое утро – одно воспоминание, и каждое утро – знакомый укол боли, от которого даже перехватывает дыхание. Однако он давно приучился скрывать свои слабости. Поэтому обходит колесницу, осматривает каждую деталь, наклоняется и проверяет днище. Обычно после сражений там скапливается столько крови и грязи, что вязнут колеса. И нерадивы те конюхи, которые думают, что могут упростить себе работу. О нет, они не пренебрегут лошадьми – они не станут есть, пока не накормят лошадей, – но вполне способны сходить на берег и набрать морской воды, хотя знают, что с годами соль изъест даже лучший металл. Ахилл не устает повторять им: набирать воду только из колодцев, ни капли морской воды. Он облизывает палец, проводит по спицам и кладет палец в рот. Нет, всё в порядке.
Он выпрямляется, чувствуя себя изможденным. Кажется, все силы покинули его. Быть может, не сегодня? Может, хотя бы раз махнуть на все рукой, вернуться в постель и забыться сном? Но нет, ярость, неукротимая злоба подхлестывает его, и он вновь и вновь пытается утолить ее. Так нищий, покрытый струпьями, чешется, пока не раздирает плоть в кровь, и все равно не в силах унять зуд.
Никто на него не смотрит. Пока он здесь, конюхи заняты делом – таскают ведра с водой, натирают и полируют металл, оценивают его блеск и снова трут. Нервно, допуская оплошности, потому что он наблюдает за ними. Поэтому Ахилл заставляет себя отвернуться. Теперь никто не решается смотреть ему в глаза, как будто его скорбь пугает их. Чего они боятся? Что однажды им самим доведется пережить такую же боль? А может, они боятся, что никогда не переживут подобного, что они неспособны к этому, потому что скорбь их столь же глубока, сколь глубокой была любовь.
Теперь, когда Ахилл стоит к ним спиной, работа идет споро. Поэтому он уходит, оставляет их в покое, – а когда возвращается, спустя каких-то десять минут, все уже готово. Бронзовые поручни сверкают, лошади лоснятся. Конюхи не двинутся с места, пока он все не проверит. Они ждут, что он хотя бы кивнет им, проворчит что-то в одобрение, но Ахилл удивляет всех: он улыбается, смотрит им в глаза и благодарит каждого, прежде чем взять поводья в руки. Они кивают, что-то бормочут и отступают. Люди всегда пятятся в его присутствии; это началось с тех пор, как ему стукнуло семнадцать. Возможно, это дань его доблести на поле боя, или страх перед его гневом, или тому есть другие, более неприглядные причины, о которых ему не хочется думать. Он прижимается лбом к лошадиной морде, чувствует разгоряченное дыхание на лице, и это соприкосновение с животным позволяет ему вновь почувствовать себя человеком.
Теперь Гектор. Его ноги все еще стянуты у лодыжек и привязаны к колеснице. Ахилл проверяет узлы, затягивает покрепче и только потом ногой переворачивает тело. Накануне вечером он оставил в грязи ободранную, кровавую массу из костей и плоти. Теперь же Гектор снова выглядит так, словно спит – крепким, спокойным сном, какого лишен Ахилл. Ему хочется запрокинуть голову и взвыть. Но вместо этого он взбирается в колесницу и разворачивает лошадей. Тело Гектора волочится по бугристой земле, сначала медленно, затем все быстрее. Ахилл направляет колесницу прочь со двора, покидает лагерь, удаляется от берега и поля битвы, гонит лошадей по каменистой тропе, что ведет к мысу, где сжигают мертвых.
Как высоко взметалось пламя в ту ночь, когда он сжег Патрокла, как вскипала на углях кровь троянских пленников… Двенадцать юношей, которых он обещал Патроклу, высоких и сильных, гордость своих семей. Но под конец все были послушны и смиренны, как быки бывают покорны перед закланием.
В последний миг перед тем, как разжечь огонь, Ахилл обрезал на себе волосы и намотал пряди Патроклу на пальцы. Прежде чем отплыть в Трою, он дал обет, что не станет стричь волос, пока не вернется благополучно домой. Там, на отроге, открытый всем ветрам, Ахилл смотрел, как густые локоны плавятся и исчезают в языках синего пламени. Нарушив свою клятву, он оставил всякую надежду вновь увидеть отца. Как говорила мать, его смерть последует за смертью Гектора. Он чувствует это. Знает, что не вернется домой. Несколько дней, в лучшем случае недель, а дальше – ничего.
Урна не видна под громадным курганом, который мирмидоняне насыпали для Патрокла. И все же она так же реальна перед его внутренним взором, как в тот день, когда он поместил в нее кости Патрокла. Костяшки пальцев напомнили, как они детьми играли в камешки. Продолговатые бедренные кости пробудили воспоминания о летних ночах на этом берегу, когда они только высадились у Трои. И, наконец, череп – Ахилл гладил обожженными пальцами по лбу, обводил пустые глазницы, вспоминая его плоть и волосы…
И вот с громовым криком он хлещет лошадей и галопом гонит их вокруг кургана.
В лагере воины прерывают свои занятия и поднимают головы. Конюхи переглядываются и уже представляют, в каком состоянии будут лошади; все их внимание занимает эта мысль, потому что они слишком напуганы, чтобы думать о чем-то еще. Снова и снова разносится над лагерем боевой клич Ахилла, и он все гонит взмыленных лошадей вокруг кургана.
Когда он возвращается, тело Гектора представляет собой окровавленную массу вперемешку с раздробленными костями. Лицо содрано, так что его теперь и не узнать. Ахилл спрыгивает с колесницы, бросает поводья хмурому конюху и направляется по узкому проходу к своему жилищу. Навстречу ему попадается Брисеида. Ее облик вводит его в замешательство – в сумеречном свете она напоминает ему Фетиду. Брисеида вжимается в стену, и он чувствует ее страх.
В своих покоях Ахилл снова подходит к зеркалу. Это повторяется каждое утро и стало заученным ритуалом. Он знает, что увидит, но ему необходимо увидеть, убедиться, что он не напуган. Отраженные в полированной меди увечья, что он нанес Гектору, тенью ложатся на его собственное тело. Быть может, поэтому конюхи не хотят смотреть на него, когда он возвращается?
Но затем Ахилл смещается вправо, тени исчезают, и он снова видит собственное лицо. Они иллюзорны, эти отметины на его лице, однако он видит их каждое утро и каждую ночь, и так непросто разувериться в том, что они реальны…
Он ежится и выходит на солнце. Стоя на ступенях веранды, наблюдает, как понемногу оживает лагерь. Зажигаются костры, и уже идут приготовления к его трапезе, растираются ароматные травы для его мяса. На станках для него уже ткут одежду и покрывала. За углом, у конюшен, люди вычищают его лошадей, полируют его колесницу, и скоро Алким явится, чтобы проверить его доспехи. Все, что он видит вокруг, подчинено ему.
И все же каждое утро он вынужден гнать лошадей вокруг кургана Патрокла, осквернять тело Гектора и тем самым – Ахилл ясно это сознает – бесчестить себя. И он не видит возможности положить этому конец.
40
После той зловещей ночи я не ожидала, что Ахилл снова пошлет за мной, но я ошиблась. Это произошло уже на третью ночь.
Ахилл вошел в свои покои и потребовал еще вина. Он почти ничего не съел во время трапезы и теперь сидел, глядя в огонь, не притрагиваясь к кубку, что я наполнила. Автомедон и Алким ерзали на своих стульях и покашливали. Пустующее кресло Патрокла по-прежнему заполняло собой пространство.
Ахилл довольно рано отпустил их, но мне велел остаться. Скованная ужасом, я сидела на кровати и ждала. Когда же Ахилл поднялся, то не стал раздеваться, а достал из резного сундука ножницы. Затем развернул кресло и пододвинул к зеркалу, после чего протянул мне ножницы и показал обрезанные кончики волос.
– Вот, – произнес он, – попробуй что-нибудь сделать с этим.
Я ждала чего угодно, только не этого. Взяла ножницы и огляделась в поисках чего-нибудь, чтобы накрыть ему плечи. На полу валялся боевой плащ, и я взяла его. Затем собрала между пальцами прядь волос и состригла. Меня охватило странное чувство: в каком-то смысле это было подобно близости. Мне стало не по себе, но так или иначе я сумела привести его волосы в порядок. К счастью, ножницы оказались острыми. Очень острыми. Я провела рукой по его волосам, чтобы убедиться, что все ровно, – и внезапно, без предупреждения, увидела его лежащим на полу, в луже собственной крови, с ножницами, торчащими из шеи. Это видение заставило меня замереть. Я почувствовала, как закружилась голова. Когда же я подняла глаза, то заметила, как Ахилл наблюдает за мной.
– Ну же, – сказал он. – Почему ты медлишь?
Мы смотрели друг на друга – вернее, смотрели в зеркало, на отражения друг друга. Мне хотелось сказать: «Потому что тогда твои славные мирмидоняне замучают меня до смерти». Но я знала, что произносить такое опасно, потому просто опустила взгляд и продолжала стричь – и теперь старалась не прерываться, пока не закончила.
После этого Ахилл велел мне оставаться каждый вечер после трапезы. Но никогда не просил остаться на ночь. Я говорю не просил. Просто привычка – он никогда ни о чем не просил.
Как правило, Автомедон и Алким оставались с нами, но Ахилл не задерживал их надолго. Через некоторое время, когда они уходили, он брал факел, велел мне взять второй, и мы выходили на площадку, где лежало в грязи тело Гектора. Обычно Ахилл переворачивал его ногой, опускал факел и смотрел на его лицо. За двенадцать часов, что проходили с того момента, как он волочил его за собой вокруг кургана, лицо становилось прежним. Даже глаза оставались в глазницах – Ахилл специально оттягивал веки, чтобы проверить. Когда же он поднимался – и этого мига я страшилась больше всего, – увечья, что он наносил Гектору, отражались на его собственном лице.
Иногда на этом все оканчивалось. Но порой Ахилл проверял узлы на ногах Гектора, вскакивал в колесницу и в темноте гнал лошадей вокруг кургана. В такие ночи я пряталась в комнате и ждала его возвращения, скованная ужасом – не за себя, но потому, что в нем как будто не осталось ничего человеческого. Он вызывал лишь… Я едва не сказала: страх и сочувствие. Однако он никогда не пробуждал сочувствие. Страх – да. И я не одна это ощущала. Автомедон и Алким, которые любили его и готовы были помочь, если б только могли, – даже эти боялись Ахилла.
Но они, как и он, были втянуты в бесконечный круговорот ненависти и мести. И если они, при всех их привилегиях, не могли избавиться от этого, то что уж говорить обо мне?
41
Каждый вечер Ахилл сидит один за столом, который привык делить с Патроклом. Трапезы его угнетают, потому что никто не принимается за еду прежде него, а ему кусок в горло не лезет. Однако он заставляет себя с видимым удовольствием прожевать немного. Но ему никогда не удается проглотить то, что он сжевал. Поэтому Ахилл украдкой сплевывает комки мяса в ладонь и прячет под краем тарелки. Алким и Автомедон прислуживают ему и после остаются выпить по чаше вина, но Ахилл чувствует их нетерпение. Конечно, им хочется, чтобы все это поскорее осталось позади, хочется выпить вина с друзьями или отправиться в объятия излюбленных девушек. А есть ли у них излюбленные девушки? Ахилл понятия не имеет. Вот Патрокл знал все…
Когда подают последнее блюдо, Ахилл жестом отпускает обоих. Их присутствие начинает раздражать его. Однако он честен перед собой: они ни в чем не повинны, кроме того факта, что ни один из них не сможет заменить ему Патрокла. Алким – славный малый, добрый, верный и храбрый, хорош в бою. Быть может, немного глуп, но время, возможно, еще изгладит этот изъян. Автомедон не таков: высокий и жилистый, превосходный возничий, но всегда хмур, не любит шуток и незыблем в своем благородстве. Это он был рядом с Патроклом в тот день. Он, а не Ахилл, держал умирающего в объятиях. Он, а не Ахилл, слышал его последний вздох. Он, а не Ахилл, отбивал его тело у троянцев. И за все это Ахилл глубоко признателен Автомедону и всеми силами старается скрыть свою обиду. Почему он? Почему не я? Снова и снова он задается этим вопросом, словно надеется, что однажды получит иной ответ и тяжесть вины наконец свалится с его плеч.
Алким и Автомедон: теперь они ближайшие его соратники. С ними он никогда не бывает в одиночестве – и все же они не могут заменить Патрокла, и потому ни с кем он не ощущает себя более одиноким, чем с ними.
Ахилл стискивает пальцами резные подлокотники – головы горных львов изящной работы – и пытается стряхнуть с себя оцепенение, подняться и тем самым позволить остальным удалиться. Но только он собирается встать, как замечает – нет, не смятение – какую-то перемену в дальней части зала. Кто-то отворил дверь, и снаружи повеяло ночной прохладой. Дрожит пламя факелов, вихрится дым, и Ахилл чувствует свежее дуновение на веках. И вот он – появляется внезапно – старик, убеленный сединой, но не согбенный. Опираясь на посох, приближается к Ахиллу. «Отец», – первая его мысль. Но с чего бы тому пускаться в опасное плавание, чтобы повидаться с сыном, – это выше его понимания… Отец не делал этого прежде. Когда же старик подходит ближе, Ахилл видит, что у него нет ничего общего с Пелеем.
Кажется, больше никто не заметил его. И это придает мгновению еще больше таинственности – оно словно выбивается из привычного порядка вещей.
Старец медлителен, но не приходится гадать, к кому он пришел: его взгляд прикован к Ахиллу. Земледелец, если судить по грязной тунике и грубому посоху, да только походка его выдает. В сознании Ахилла уже зреет подозрение, но лишь смутное, потому что подобный исход еще менее вероятен, чем внезапное появление отца. Попросту невозможен.
Но вот старик приблизился, и теперь их разделяют всего несколько шагов. Затем он опускается на пол – слышен хруст старческих коленей – и припадает к ногам Ахилла. Унизительная поза просителя. На мгновение все вокруг замирает, но окружающие уже начинают переглядываться. Старец говорит, не повышая голоса, так, словно в зале нет больше никого, кроме них, – а возможно, и в целом мире. Ахилл чувствует, как поднимаются волосы у него на затылке. Кажется, он пребывает сейчас где-то в отдаленном будущем, оглядывается и видит себя, сидящим на резном кресле, и высокий, убеленный сединами старец кланяется ему в ноги. И оба застыли в этом мгновении, навеки…
Голос возвращает его к действительности.
– Ахилл, – старец хватает ртом воздух, словно само это имя отнимает у него все силы, – Ахилл…
Только имя, без титулов. Если не брать в расчет унизительный поклон, то это явно встреча равных. Руки непроизвольно сжимаются в кулаки, но это лишь рефлекс – Ахилл не ощущает угрозы. Он запросто мог бы разорвать этого человека надвое, как разваренного цыпленка. А все же он напуган…
– Приам.
Ахилл произносит его имя шепотом, так что люди вокруг не слышат. И стоило ему озвучить его, как подозрение становится фактом. И он чувствует мгновенный прилив злости.
– Будь ты проклят, как тебе удалось пройти?
Ближайшие из воинов уже на ногах, на их лицах написаны смятение и стыд. Они еще не знают, кто это, но понимают, что его здесь быть не должно. Этот человек не должен был попасть в стан, не говоря уже о том, чтобы войти сюда и беспрепятственно приблизиться к Ахиллу. Так близко, что можно прикоснуться к нему, чтобы убить его, раз уж на то пошло…
Ахилл вскидывает руку, и воины неохотно, как цепные псы, отступают.
Приам плачет. Слезы катятся по щекам и исчезают в седой бороде.
– Ахилл…
– Ни к чему повторять мое имя. Я знаю, кто я.
В самом деле? Он так потрясен, что теперь ни в чем полностью не уверен.
– Я задал вопрос. Как ты попал сюда?
– Не знаю. Полагаю, меня привели.
– Боги?
– Наверное, так.
– Ого! В самом деле? А ты не подкупил стражу?
– Нет, ничего подобного. – Кажется, Приам удивлен подобным вопросом. – Я слышал, что ты сказал, когда я появился.
– Я ничего не говорил.
– Нет, ты сказал: отец.
Ахилл пытается вспомнить, но сознание его сковано. Он совершенно точно подумал: отец. И вместе с тем убежден, что не произносил этого вслух. И если Приам читает его мысли, это лишь усугубляет странность их встречи.
– Он уже стар, твой отец, – наверное, он ненамного моложе меня…
– Мой отец ничуть не похож на тебя, он… крепок.
– Ты девять лет не был дома, Ахилл… Ты заметишь перемену, когда вернешься.
Я не вернусь.
Ахилл едва не произносит это вслух, но, странное дело, его сдерживает не присутствие Приама, его врага, – а эти лица вокруг, красные и лоснящиеся в свете факелов, лица его друзей. Он не может сказать правду им.
– Отец тоскует по тебе. Но его хотя бы утешает знание, что ты еще жив… Мой же сын убит.
Ахилл ерзает в кресле.
– Что тебе нужно?
– Гектор. Я хочу забрать тело Гектора.
Слова подобны камню, брошенному в колодец, такой глубокий, что можно провести целую жизнь в ожидании всплеска. Ахилл молчит, не намеренно – он бы ответил, если б мог.
– Я пришел с выкупом. – Приам с видимым усилием пытается пробиться сквозь стену молчания. – Можешь сам взглянуть, всё в повозке… или послать кого-нибудь из воинов… – Оглядывает хмурые лица, и на мгновение его голос меркнет, но затем он снова вскидывает голову. – Верни мне сына, Ахилл. Подумай о своем отце; он такой же старик, как и я. Воздай честь богам.
Ахилл все еще молчит.
– У тебя есть сын, Ахилл. Сколько ему?
– Пятнадцать.
– И он готов вступить в войну?
– Еще нет – он дома с отцом своей матери.
– Готов поспорить, ему не терпится отплыть к Трое. Сражаться бок о бок с отцом, доказать свое мужество… Скоро он будет здесь. Что бы ты чувствовал, Ахилл, если б тело твоего сына лежало непогребенным в моих стенах?
Ахилл качает головой. Приам вновь обхватывает его колени, пальцы впиваются в плоть.
– Я делаю то, чего не делал еще никто до меня: целую руки человеку, убившему моего сына…
Ахилл чувствует прикосновение тонких, сухих губ к ладоням, и это ощущение вызывает мгновенный всплеск ярости. Ему хочется отдернуть руку и протащить этот мешок с костями через весь зал. Он вздрагивает, каждый мускул в теле напрягается, но ему удается совладать с собой. Но когда он опускает глаза, то видит, что с его руками что-то не так. Кисти такие большие… Это руки воина, с детства привычные держать щит и копье, но ведь прежде они не были такими массивными? Нечто похожее произошло в день, когда погиб Патрокл. Ахилл пытается согнуть пальцы, но от этого только хуже. Ногти врезаются в надкожицу, однако почему нет ни капли крови?
И вот руки вновь послушны ему. Ахилл отталкивает Приама, но делает это мягко; чувствует выпирающие ключицы под туникой. После он закрывает лицо руками и плачет: по отцу и Патроклу, по живущему и по мертвому. Приам, все еще держась за подлокотник кресла, оплакивает Гектора и всех других сыновей, погибших в этой бесконечной войне.
Они сидят вплотную друг к другу, почти соприкасаются, но скорбят по разным людям.
Вокруг них воины неуверенно топчутся и покашливают. Теперь всем очевидно, кто этот старец. Очевидно, но от этого не менее удивительно. Автомедон идет к двери, убежденный, что увидит отряд троянских стражей – немыслимо, чтобы Приам явился сюда один, без оружия. Чтобы царь Трои под покровом темноты пробрался в самое сердце ахейского лагеря? Без гарантии прохода? Нет, это невозможно. Он не мог явиться хотя бы без телохранителей…
Но мгновением позже Автомедон возвращается и качает головой. Снаружи никого, только крестьянская повозка и пара мулов.
Воины плотно обступают их, но Ахилл бросает взгляд на Автомедона и дергает головой. Автомедон понимает его без слов. Он раскидывает руки в стороны и отводит всех назад. Алким, до этой секунды стоявший как вкопанный, с разинутым ртом, помогает ему. Вдвоем они освобождают пространство вокруг Ахилла и Приама. Теперь в свете факелов видны лишь хмурые лица, но и этого недостаточно. Ахилл обеими руками дает отмашку. Автомедон размыкает кольцо и принимается выпроваживать всех.
– Всё в порядке, – повторяет он, подталкивая воинов к выходу. – Сами видите, всё в порядке…
Некоторые медлят и оглядываются, все еще не в состоянии осознать увиденное, но Автомедон почти выталкивает их за порог. Воины расходятся, и снаружи доносятся их голоса:
– Это он?
– Тоже мне, все хорошо, а?.. У него мог быть нож.
– Никто даже не обыскал мерзавца.
– Какого хрена творят караульные?
– Наверняка их подкупили…
Но постепенно голоса смолкают.
В комнате воцаряется тишина. Ахилл протягивает руку и мягко поднимает Приама на ноги. У старца хрустят колени, и он улыбается, как улыбаются люди в преклонных годах, с горечью признавая свое унизительное положение.
Ахилл пододвигает кресло.
– Ну же, садись. Всё в порядке, можешь забрать своего сына. Но не сейчас, завтра.
Однако Приам не хочет садиться. Внезапно он теряет терпение, как капризный ребенок, не желающий засыпать. Он хочет видеть тело Гектора, и не завтра – СЕЙЧАС. Хочет прикоснуться к нему, завернуть в покрывало, какое найдется, и забрать домой. Хочет дать его матери единственно доступное утешение: подготовить тело к сожжению. Его щеки покрывает лихорадочный румянец, он возбужден, его переполняет восторг – потому что он остался жив. Пришел во вражеский лагерь, прямо в чертог Ахилла – и остался жив. Приам даже не надеялся на подобный исход. Да, законы гостеприимства священны, но не в его случае – он здесь не гость. Впрочем, будь он даже гостем, что значат законы гостеприимства для такого человека, как Ахилл, поправшего все прочие законы?
Где-то в подсознании Приама гложет страх, что тело Гектора давно пошло на корм псам, и Ахилл играет им, преследуя собственные низменные цели. А поэтому: нет, нет, он не станет садиться. С чего бы ему сидеть и разговаривать с убийцей своего сына, в то время как тело Гектора брошено где-то на дворе, оскверненное в лучшем случае, а в худшем – кучей обглоданных костей лежащее в окружении собак? Нет, нет, НЕТ!
– Не проси меня сесть, Ахилл, когда мой сын лежит там, непогребенный. Быть может, скормленный твоим псам…
И вновь его голос звучит как прежде – голос немощного старца.
Вспышка гнева.
– Я сказал: САДИСЬ. – На виске Ахилла вздулась вена, как червяк под кожей. – Если б я скормил его псам, тебе нечего было бы забирать домой. И я имел на то основания, потому что он рассчитывал поступить так же с Патроклом. И ты позволил бы ему. И не говори мне, что это не так.
Даже те два воина – вероятно, ближайшие соратники Ахилла – подаются назад. Приам падает в кресло. Ахилл между тем расхаживает по залу и бьет кулаком по ладони, понемногу успокаиваясь. Наконец он останавливается и смотрит на Приама.
– Ну же, пройдем в мои покои, выпьем вина. Здесь нас могут увидеть. – Внезапно он улыбается. – Полагаю, нет нужды говорить об этом тебе?
Ахилл ведет его в свои покои. Как и всегда, там горит огонь; на столе стоят блюда с фигами, нарезанным сыром и хлебом, кувшин с вином и мед.
– Садись, – говорит Ахилл.
Приам все еще дрожит и, сам того не ведая, садится в кресло Ахилла.
– Брисеида! – кричит во весь голос тот, затем говорит Автомедону: – Скажи, пусть принесет чего-нибудь покрепче. А это девичьи ссаки. – Поворачивается к Приаму. – Не желаешь чашу вина?
Приам прижимает руку к губам, чтобы унять дрожь. Он выглядит напуганным стариком, но это только внешне. В глубине души он по-прежнему упрям и непокорен. Ахилл видит и его страх, и его решимость – и проникается к Приаму уважением.
Алким и Автомедон стоят в нерешительности.
– Вы можете идти, – говорит Ахилл. – Всё в порядке.
Автомедон невольно качает головой.
– Да, и успокойте людей. Не знаю, что вы там сделаете, но пусть они заткнутся. Не нужно, чтобы об этом прознал весь лагерь.
Автомедон неохотно кивает и выходит. Алким, все еще глядя на Приама, следует за ним.
Старик смотрит на огонь, неподвижный, как мышь перед кошачьей пастью. Он думает: в конце концов, чего ему бояться? Все равно он скоро умрет. Даже не будь этой войны, он… Ну как знать? Конец, так или иначе, близок. Так не лучше ли умереть теперь, от кинжала Ахилла, чем страдать еще долгие недели? И все же он хочет жить, хочет поцеловать Гекубу и сказать ей, что он вернул их сына домой…
Появляется девушка с кувшином в руках – и застывает у порога. Не может решить, кому прислужить первому. Ахилл кивает на Приама. Когда их чаши наполнены, девушка отступает в тень, но Приам успевает заметить, как она красива. Даже теперь, на склоне лет, в присутствии врага, он невольно задумывается, каково было бы снова стать молодым и заключить в объятия эту девушку…
Ахилл садится и делает глоток вина, однако он слишком возбужден и вскоре снова вскакивает.
– Мне необходимо кое-что проверить. Если что-то понадобится, спроси Брисеиду. Я ненадолго.
«Мне знакомо это имя», – думает Приам. Он уверен, что уже видел эту девушку прежде – она не из тех, кого можно просто забыть, – но никак не может вспомнить, где именно.
– Еще вина? – спрашивает Брисеида.
И Приам думает: «Почему бы и нет?»
Ахилл возвращается спустя несколько минут. Должно быть, хотел удостовериться, что выкуп достаточно велик. Он подходит прямиком к очагу и потирает руки.
– Я велел принести что-нибудь из еды.
– Я не голоден.
– Но тебе не помешает подкрепиться… Когда ты ел в последний раз?
Ахилл поворачивается к Брисеиде, но та опередила его: стол уже накрывают.
42
Когда Алким и Автомедон внесли в комнату блюда с жареным мясом и расставили их по столу, Ахилл вновь велел им удалиться. Я видела, что Автомедон в бешенстве. Будучи его ближайшим соратником, он должен был прислуживать гостю царских кровей, и мысль, что я займу его место, была для него невыносима. Ему незачем было тревожиться. Ахилл сам прислуживал Приаму, выбирая самые сочные куски и ловко перекладывая их на тарелку.
Я поставила на стол лампу, и блики заиграли на золотых кубках и блюдах. Как правило, принимая кого-то из царей, Ахилл надевал одну из своих мантий, но в тот вечер переоделся в самую простую и грубую тунику, какую сумел найти, очевидно, не желая превзойти своего гостя. Ничто не доставило бы мне большего удовольствия, чем мысль, что Ахиллу неведомы приличия и изящные манеры, но это было не так.
Я поставила кувшин вина рядом с ним и отступила в тень.
Однако возникла проблема: у Приама не оказалось ножа. Ахилл быстро все исправил: просто вытер собственный кинжал о тряпку и протянул его гостю, а я спешно искала для него замену. Знаю, звучит тривиально, но это маленькое недоразумение все изменило. На лице Ахилла ясно читалось недоумение. Он знал, что Приам пришел безоружным – ни меча, ни копья, ни отряда телохранителей за дверью, – но явиться к своему главному врагу, не прихватив даже кинжала… Никто не выходил из дома без ножа, даже рабы. Ахилл был искушен в вопросах отваги на поле боя, но ему еще не доводилось познать мужество в подобном его проявлении. И поскольку он во всем стремился быть первым, я знала, какие мысли его занимали тогда: «А я бы смог так же? Поступил бы я так же, как поступил Приам?»
Хоть это была уже вторая его трапеза, Ахилл ел с большим аппетитом. Впрочем, за ужином он почти ничего и не съел. Жир стекал по его рукам, пока он нареза´л мясо. Приам едва притрагивался к еде, но старался отведать и похвалить каждое блюдо. Однако я видела, с каким облегчением он отодвинул тарелку, когда исполнил свой долг гостя.
Я не слышала их разговор; впрочем, они почти и не говорили – просто смотрели друг на друга, как влюбленные, или как мать смотрит на новорожденного младенца. Как правило, если один мужчина так пристально смотрит на другого, последний видит в этом угрозу. Но Ахилла и Приама это, похоже, ничуть не смущало. То была их первая встреча. Девять лет назад, когда Ахилл только высадился у Трои, Приам был уже слишком стар, чтобы сражаться. Практически каждый день он видел Ахилла на поле боя, и, несомненно, Ахилл время от времени поднимал голову и видел на стенах седого старца, зная или догадываясь, что это Приам. Однако им так и не довелось испытать друг друга в схватке, и это взаимное изучение стало для них неким замещением. Но, кажется, все уходило намного глубже. Они словно находились по разные концы туннеля: Приам видел молодого воина, каким сам был однажды, Ахилл – престарелого и почитаемого всеми царя, каким ему не суждено стать.
Не сомневаюсь, Ахилл видел в этом встречу равных. Мне все виделось иначе. Более сорока лет Приам правил великим и процветающим городом – Ахилл же был вожаком волчьей стаи. Но от этого еще более странно было видеть их вместе, макающими хлеб в общее блюдо. Все казалось в тот вечер не вполне реальным, как во сне, – и зыбким, словно пузыри от волны, что возникают на краткий миг и исчезают навеки.
Под конец трапезы я принесла блюдо с нарезанными фигами в меду, и Приам, к моей радости, немного поел. Должно быть, он достиг той стадии изнурения, когда хочется только сладкого. Когда старец закончил, я поднесла чашу с водой, разведенной лимонным соком и травами, и Приам омыл руки и вытер отрезом мягкого полотна.
После еды он сидел в кресле Ахилла и смотрел в чашу с вином. Ничего не изменилось, но в воздухе вновь повисло напряжение.
– Прошу тебя, – произнес Приам. – Я хочу увидеть Гектора.
Я знала, о чем думал Ахилл: он представил тело Гектора, лежащее на камнях возле конюшен, обнаженное и запачканное нечистотами. Если Приам увидит сына в таком виде, его скорбь мгновенно сменится гневом, и это, в свою очередь, пробудит в Ахилле скорбь по Патроклу и возбудит его гнев. Было видно, как он сдерживает себя, подобно всаднику на измотанной лошади. За всей его учтивостью – и призрачным намеком на сострадание, – думаю, от убийства Приама его отделял один вздох.
– Разумеется, – ответил он, поднимаясь, – но не сейчас. Завтра, первым же делом. Обещаю.
Ахилл наполнил кубок Приама и знаком велел мне следовать за ним. Алким и Автомедон ждали на веранде. Я держала факел, пока они разгружали дары с повозки Приама и переносили в хранилища. Большей частью это были полотна и одежда из дорогой вышитой материи, которой так славилась Троя. Ахилл отобрал лучшую тунику, чтобы облачить в нее тело Гектора. Затем он велел мне устроить на веранде постель для Приама, теплую и удобную, насколько это возможно, – но так, чтобы ее не было видно от главного входа.
– Бери все, что понадобится, – сказал он. – Хоть шкуры с моей кровати. Я не хочу, чтобы он мерз.
Я отправилась в один из амбаров и набрала воловьих шкур, чтобы уложить первым слоем в постели. Запах шкур, как бы тщательно их ни выделывали, был малоприятен, и обычно я не задерживалась там дольше необходимого. Но мне необходимо было побыть несколько минут одной. Меня, как и других, потрясло внезапное появление Приама. Я чувствовала себя сбитой с толку и в то же время все подмечала. До сих пор помню, как Приам умолял Ахилла, призывал его вспомнить о собственном отце, – и гробовое молчание, когда он склонился и стал целовать Ахиллу руки.
Я делаю то, чего не делал еще никто до меня: целую руки человеку, убившему моего сына…
Эти слова эхом отзывались во мне, пока я стояла, окруженная всем добром, которое Ахилл награбил в сожженных городах, и думала: «И я делаю то, что были вынуждены делать тысячи девушек до меня. Раздвигаю ноги перед человеком, убившим моего мужа и братьев».
Это было худшим унижением – хуже, чем стоять полуголой на арене перед ликующей толпой; хуже тех минут, что я провела в постели Агамемнона. И все же этот миг отчаяния придал мне решимости. Я знала, что должна ухватиться за эту возможность, какой бы ничтожной она ни была. Я могла освободиться. Поэтому почти наугад взяла еще несколько шкур и попросила Алкима донести их до веранды. То были хорошие, крепкие шкуры, слишком тяжелые для меня.
Обустройство постели не заняло много времени. Я использовала только лучшие простыни, самые мягкие подушки, самые теплые одеяла и застелила все это покрывалом из пурпурной шерсти, вышитым золотыми и серебряными нитями. Затем поставила чашу разбавленного вина на небольшой столик у ложа и в нескольких шагах – ведро, предусмотрительно прикрытое. Еще девочкой я помогала матери ухаживать за моим дедом и знала о ночных потребностях престарелых людей. Когда я закончила, ложе и в самом деле походило на царское, и я надеялась, что Приам будет доволен подобающим приемом в самом сердце вражеского лагеря.
Я вернулась в покои. Приам, изнуренный после долгой и опасной вылазки, задремал над чашей вина. Но когда вошел Ахилл, резко вскинул голову.
– Я хочу видеть Гектора, – снова проговорил он, очевидно, позабыв, что уже просил об этом.
– Утром, – ответил Ахилл. – Ложись спать.
Приам потер глаза.
– Да, поспать мне не помешало бы…
Он со всей учтивостью пожелал Ахиллу доброй ночи и сумел дойти до дверей, не спотыкаясь. Но стоило выйти на веранду, и его зашатало. Я проводила Приама за угол хижины, и он буквально свалился на постель. Некоторое время сидел на краю, поглаживая обеими руками покрывало, оценивая его красоту. Затем вздохнул с облегчением.
– Кажется, никогда еще я не был так рад оказаться в постели.
Я спросила, не нужно ли ему еще что-то. Тогда он поднял на меня взгляд и спросил:
– Откуда я тебя знаю?
– Мы виделись, но это было давно.
– Где же?
– В Трое. Я жила там два года. Елена приводила меня на крепостные стены.
– Точно! Я знал, что где-то видел тебя, ты маленькая подружка Елены… – Его лицо просияло от радости, присущей всем старикам, когда они узнают кого-то из прошлого. – Кто бы мог подумать тогда, что ты вырастешь в такую красавицу?..
– Я уже не подруга Елены. Я – пленница Ахилла.
Его лицо переменилось.
– Да, я слышал. Женщинам нелегко приходится, когда город захватывают…
Я знала, что он думал о собственных дочерях, которых поделят между собой завоеватели, когда падет Троя. А это было неизбежно. Я взглянула на этого немощного старца, оставшегося без защиты сыновей, и поняла, что надежды нет.
Когда я вернулась в комнату, Ахилл безучастно смотрел на пустые тарелки. Он повернул голову.
– Он в постели?
– Да.
– Уснул?
– Еще нет, но, думаю, скоро уснет.
Ахилл побарабанил пальцами по столу, явно над чем-то раздумывая.
– Подумать только… Ты заметила, у него не было при себе ножа? – Он покачал головой. – Идем, надо омыть тело, а времени не так уж много. Приаму нужно убраться до рассвета. Его убьют, если обнаружат здесь.
43
Ахилл взял факел из крепления у двери и направился к конюшням. Алким и Автомедон последовали за ним. Я увидела тело Гектора, распростертое на земле. Покрытое грязью и нечистотами, оно все же сохранило все человеческие черты. Я вздохнула с облегчением. Мне вдруг подумалось, что боги могли сыграть напоследок злую шутку, и взору Ахилла предстало бы то, что он видел, по крайней мере, всю последнюю неделю: кучу изуродованной плоти и раздробленных костей.
Ахилл взглянул на тело и мрачно кивнул, после чего опустился на колени и взялся за плечо погибшего. Алким без лишних указаний сделал то же с другой стороны. Автомедон ухватился за ноги. Они осторожно подняли Гектора и медленно двинулись по узкому проходу к прачечным, где мертвых подготавливали к сожжению. Лошади в стойлах били копытами и ржали. Я освещала дорогу факелом.
Когда они подошли к двери, Автомедон прошел вперед и придержал Гектору голову, чтобы не стукнулась о порог. Мне вдруг стало смешно: такая забота выглядела просто нелепо после того надругательства, какое Ахилл изо дня в день учинял над этим телом. Я вошла следом и нашла крепление для факела. Пыхтя от натуги, мужчины опустили Гектора на стол и расступились.
Я смотрела на Ахилла поверх тела, как смотрела три месяца назад, когда умер Мирон. Тогда Ахилл не пожелал удаляться, демонстрируя свою власть над прачками, своей собственностью, а те просто стояли, безмолвно заявляя о своем праве убирать умершего. И каково было мое изумление, когда, не проронив ни слова, эти женщины принудили Ахилла уступить. Я чувствовала их незримое присутствие у себя за спиной, но в этот раз их молчаливое влияние мне никак не помогло бы.
Ахилл принялся счищать солому, прилипшую к коже Гектора. Приходилось усиленно тереть, чтобы содрать ее, и я напряглась в ожидании, что вместе с соломой начнут сходить лоскуты кожи. Несмотря на все увиденное, мне до сих пор сложно было поверить в чудесную сохранность его тела. Я склонилась над столом и потянула носом, готовая к резкому зловонию гниющего мяса, – стоит лишь однажды почуять его, и уже не забыть. Но ничего подобного: лишь вездесущий запах сырой шерсти из громадных кадок, в которых замачивалась перепачканная кровью одежда. Гектор покоился на столе, словно погруженный в сон. Даже глаза под полуприкрытыми веками были чисты. И постепенно мой разум свыкся с необъяснимым.
Молчание затягивалось. Ахилл окинул взглядом тело и пренебрежительно прищелкнул языком.
– Узрите же, как боги прекословят мне.
Боги прекословят тебе?
На один жуткий миг мне показалось, что я произнесла это вслух, но, конечно, все было не так. Я вдруг обратила внимание, как тихо стало в лагере. Пьяные воины, должно быть, задремали у костров, стражники на валу боролись со сном, вглядываясь во тьму, и обрубленные деревья принимали людские очертания, начинали подкрадываться… И там, в прачечной, слышно было лишь наше дыхание. Я взглянула на Гектора, словно живого, и уже готова была поверить, что его грудь поднимается и опадает в унисон с моей.
Внезапно Ахилл велел Алкиму и Автомедону выйти. Они выглядели озадаченными, более того – потрясенными. Автомедон даже оглянулся в дверях, словно хотел убедиться, что правильно истолковал слова Ахилла. Я полагала, что выйдут все трое, оставив меня одну, хоть и не представляла, как в одиночку переверну тело. Но Ахилл все еще стоял, глядя на меня поверх Гектора.
– Я могу позвать прачек… – промолвила я.
– Чтобы во всем лагере прознали? Нет, это не дело.
Очевидно было, что он не собирался просто стоять и смотреть, поэтому я набрала воды в два ведра и протянула ему тряпку. Я омывала тело с левой стороны, Ахилл – с правой. Постепенно под грязью стала проступать бледная плоть, как будто мы возвращали Гектора к жизни, создавали его. Потом я сменила воду, нашла чистые тряпки, и мы продолжили; наши размеренные движения напоминали безмолвный танец вокруг тела. В какой-то момент я омывала Гектору ноги, отирая тряпкой между длинными, прямыми пальцами, в то время как Ахилл был занят его руками, отмывая каждый палец, острием кинжала вычищая землю из-под ногтей. Я знала, что он не сможет вымыть ему лицо, поэтому взяла кувшин с водой и полила Гектору голову, вычесывая из волос комки грязи. Помню, понадобилось восемь таких кувшинов, чтобы промыть волосы, и только потом я принялась за лицо. Очистила от грязи ноздри и глаза, вычистила уши и отступила на шаг. Этот человек мог стать царем Трои после смерти Приама, и все-таки он лежал там, бледный и обмякший, как рыбина.
Я пыталась не заплакать. А когда почувствовала, что слезы подступают к глазам, то наклонилась, чтобы прополоскать тряпку. Затем выпрямилась и заметила, что Ахилл смотрит на меня.
– Знаешь, а ведь я мог бы оставить его.
У меня сердце ушло в пятки.
– Но ты принял выкуп…
– Не Гектора – Приама.
Я потеряла дар речи, так мне стало страшно за Приама и за себя. Если он не отпустит Приама, я…
– Что, по-твоему, готовы отдать троянцы за своего царя?
Я лишь помотала головой.
– Все. Все что угодно.
– Но ты…
Ахилл ждал.
– Продолжай.
– Ты уже принял царский выкуп, за Гектора.
– Нет, ты не поняла. Я мог бы обменять его на Елену.
– Елену?
– А почему нет? Им не терпится избавиться от потаскухи.
Разумеется, он был прав. Троянцы обменяли бы Елену на Приама и не колебались бы ни секунды. А это значило бы… Я начала догадываться. Елена вернулась бы к мужу, и не было бы смысла продолжать драку, не осталось бы причин захватывать Трою… Война подошла бы к концу. Война подошла бы к концу. Все могли бы вернуться домой. Воины могли бы вернуться домой. Это казалось невообразимым, немыслимым.
Но затем я подняла на Ахилла глаза.
– Ты не сделаешь этого.
– Он – мой гость.
– Ты не приглашал его.
– Но принял.
То был странный разговор между хозяином и его рабыней, но все происходило под покровом темноты, и мертвец был единственным свидетелем.
Далее мы продолжали работу в молчании, но сам характер молчания переменился.
Когда пришло время накрывать глаза, Ахилл отступил, предоставив это мне. Я обмотала полосу ткани вокруг головы, чтобы удержать челюсть на месте, и огляделась в поисках монет, чтобы положить Гектору на веки. Монет не нашлось, но я обнаружила таз, полный плоских камешков, предназначенных для этих целей. Я выбрала два – помню, это были голыши бледно-серого цвета, с оттенком голубого и тонкими белыми полосками – и ощутила, какие они гладкие и легкие. Мои братья в детстве бросали такие камешки в реку, и Гектор, конечно, тоже делал это мальчишкой. Я положила камешки ему на веки и осторожно приподняла голову. Всегда забываешь, как тяжела человеческая голова; как бы часто ни приходилось поднимать ее, это всегда неожиданно. Я обмотала голову полоской материи, чтобы голыши держались на месте, и отступила. Только теперь Гектора не стало. До тех пор меня не отпускало странное ощущение, что он не вполне мертв.
Мы надели на него тунику, которую отложил Ахилл, после чего завернули в тонкую материю. Я закладывала веточки тмина и розмарина между слоями ткани. Мне хотелось, чтобы женщины, которые развернут тело, его мать и супруга, знали, что его собрали с должными почестями и заботой, а не просто окатили водой и завернули в полотно. В завершение я накрыла его лицо отрезом тонкого, почти прозрачного льна.
Ахилл поднял тело со стола. Я поспешила открыть дверь, и Алким с Автомедоном тотчас оказались рядом, готовые помочь. Однако Ахилл настоял на том, чтобы самому донести Гектора до повозки, что потребовало немалых усилий даже от него. Алким запрыгнул в повозку, чтобы принять тело. Ахилл влез следом за ним и стал привязывать тело к бортам узкими полосками шерсти, чтобы его не бросало из стороны в сторону, когда повозку станет трясти по ухабистой земле. Когда с этим было кончено, все трое уже запыхались.
Ахилл спрыгнул наземь и постоял так, держась за борт повозки. Он выглядел опустошенным, но я могла судить лишь по его позе, поскольку не видела выражения лица в темноте. Наконец Ахилл повернулся к Автомедону.
– Надеюсь, Патрокл поймет.
Мне подумалось тогда – и, как знать, возможно, Автомедону тоже, – что Патроклу изначально не понравилось бы подобное надругательство над телом Гектора. Лишь по милости богов Приаму не пришлось лицезреть утром кучу гниющей плоти, кишащей личинками. И тогда его горе и ужас вновь пробудили бы гнев Ахилла, и… И чем бы все это окончилось? Вполне возможно, Приам лежал бы мертвым в повозке, рядом со своим сыном.
– Пожалуй, нам не помешает выпить.
И мы проследовали за ним в его покои, где я принялась разливать крепкое вино по чашам. Ахилл, против обыкновения, осушил свою чашу в несколько глотков. Алким, молодой и прожорливый, то и дело поглядывал на куски жареной ягнятины, оставленные на тарелках.
– Ну же, угощайся, – сказал Ахилл, принимая из моих рук вторую чашу. И спросил меня: – А себе не нальешь?
Я наполнила себе чашу и села на край кровати. Время от времени, едва уловимый сквозь шум моря, доносился храп Приама. Я смотрела на огонь, и покой разливался в моей душе, но лицо по-прежнему было сковано. Когда они допили вино – и Алким в несколько минут поглотил немыслимое количество мяса, – Ахилл поднялся и пожелал им доброй ночи.
Я видела, что им не хотелось уходить. В их понимании они оставляли Ахилла наедине с троянцем. Да, он старик и, похоже, не вооружен, но все-таки троянец.
– У него не было даже ножа, – устало произнес Ахилл. – Пришлось дать ему свой.
– А девчонка? – спросил Автомедон.
– Останется.
В голосе Ахилла звучало скорее удивление, чем недовольство, но Автомедон счел за лучшее не напирать. Алким, однако, искоса поглядывал на меня, пока они не вышли. Я повернулась к Ахиллу и увидела улыбку на его лице.
– Они думают, что ты в сговоре с Приамом, – сказал он. – И собираешься убить меня во сне.
Похоже, у него полегчало на душе. Тот краткий миг опустошенности, когда он размышлял о том, что подумал бы Патрокл, миновал. И даже в его движениях появилась легкость. Я заметила это прежде, когда он спрыгнул с повозки – бесшумно, как кошка, – но тогда мне могло лишь показаться. Здесь же, при свете факелов, перемена была очевидна. Я смотрела, как Ахилл сбросил сандалии, одну за другой, и подхватил их в воздухе.
Он стянул тунику через голову, и, раз уж мне велели остаться, я тоже начала раздеваться. Это было последнее, чего мне тогда хотелось. Ведь я должна была еще поговорить с Приамом. Однако выхода не было, так что я легла на спину и закрыла глаза в ожидании, когда кровать заскрипит под его тяжестью. Я молилась, чтобы Ахилл поскорее уснул, но его переполняла энергия. Еще ни разу я не видела его таким. Но и это еще не всё. В какие-то мгновения я чувствовала, как он насторожен – нет, он не был робок, ничуть, но, казалось, ждал моего отклика. Когда же все закончилось, Ахилл закрыл глаза, дыша быстро и порывисто. И, что хуже всего, он положил руку мне на грудь, и ее тяжесть придавила меня к постели. Я ощущала холод его пота на коже, но знала, что не посмею шевельнуться.
44
Должно быть, я все же задремала, потому что, когда вновь огляделась, кругом было темно, и я чувствовала себя сбитой с толку и потерянной. Сознание постепенно прояснилось, и я вспомнила, что на веранде спит Приам – Приам, здесь! – прямо по ту сторону двери. Мне необходимо было поговорить с ним. Я лежала и прислушивалась. Удостоверившись, что Ахилл спит, выдохнула, вжалась в постель и попыталась выскользнуть из-под его руки. Но та оказалась слишком тяжелой. Я была прикована.
Лампы медленно догорали, и тени сгущались вокруг постели, словно питаясь от угасающего пламени. Я взглянула на щель под дверью и попыталась определить, скоро ли рассвет.
Тело Ахилла было горячим и тяжелым. Я осторожно подвинула ногу и ощутила прохладу в том месте, где касалась его кожи. Я чувствовала его семя внутри себя. В любую другую ночь мне не терпелось бы спуститься к морю, встать под натиском холодных волн, но только не теперь. Во рту пересохло, и еще оставалось неприятное послевкусие от двух чаш крепкого вина. Ахилл, казалось, и вовсе потел вином – впрочем, он и выпил больше меня.
Где-то залаяла собака, а может, и лисица – по берегу всегда бродили лисицы в поисках мертвых чаек. Должно быть, звук потревожил Ахилла. Он заворчал во сне и перевернулся на другой бок. Я освободилась от тяжести его руки, но не осмелилась сразу скользнуть с кровати. Выждала, пока он снова крепко уснет.
Стянула с себя одеяло и взглянула на свое тело. Положила ладони на живот и ощутила, до какой степени это невообразимое смешение костей, нервов и мускулов принадлежит мне. Вопреки Ахиллу, несмотря на боль в бедрах. От двери тянуло прохладой, и кожа покрылась мурашками, но я не стала укрываться. Я нуждалась в этой прохладе, в дыхании внешнего мира.
Я начала осторожно сползать вниз с постели. Я бы не осмелилась перебираться через Ахилла. Всякий раз, когда раздавался скрип, я замирала и прислушивалась. В какой-то момент Ахилл заворочался, и я застыла на несколько минут. Страшно было даже думать, как будто мои мысли могли его разбудить. С третьей попытки я все же подобралась к изножью кровати и с минуту просто сидела, спустив ноги на овечью шкуру. Как долго я проспала? Десять минут? Полчаса? В любом случае недолго. Я прислушалась к звукам, случайным голосам, пытаясь определить примерное время. Но лагерь еще спал. Даже море было так тихо, что я едва слышала его дыхание. В очаге еще тлели угли. Я подобрала накидку и завернулась. Ахилл теперь спал крепким сном, его губы оттопыривались при каждом выдохе. Очень медленно, внимательная к малейшим движениям в постели, я поднялась – и это словно освободило меня от оков страха. «В самом деле, – подумала я, – чего мне бояться? Если Ахилл проснется и заметит мое отсутствие, я всегда могу сказать, что мне послышалось, будто меня зовет Приам. Ахилл не стал бы упрекать меня в том, что я помогаю его гостю».
Я отодвинула щеколду и приоткрыла дверь. В лицо пахнуло холодом, так что на глазах выступили слезы. Я сделала глубокий вдох и скользнула наружу, убедившись, что задвижка бесшумно опустилась на место. Стояла глубокая ночь, все кругом замерло. Я осторожно двинулась по веранде. Мне была знакома каждая доска, и я знала, куда ступать, чтобы не издавать скрипа, – столько раз мне доводилось сбегать отсюда ради драгоценных мгновений у моря…
Приам спал, лежа прямо и неподвижно. Он мог бы сойти за мертвого на погребальном костре, если не слышать его сопения – приятного слуху, как если б лошадь опускала морду в ясли. Его стопы, как два горных пика, торчали под пурпурным покрывалом. В тот миг Приам напомнил мне моего деда.
Я знала, что не могу просто так разбудить его, поэтому взяла котел и отправилась на поиски теплой воды, чтобы он мог умыться.
В стане всегда горел костер, чтобы Ахилл мог каждое утро принимать ванну. Неважно, как часто он уходил вместо этого купаться в море, – вода в ванне должна была оставаться горячей. Я набрала в котел чистой воды, поставила на тлеющие угли и присела на корточки, плотнее завернувшись в накидку от утренней прохлады. Я видела под ближайшей из хижин силуэты женщин, слишком старых или уродливых, чтобы рассчитывать на место внутри. Все двери были закрыты. Даже собаки спали, хотя время от времени я замечала крыс, снующих между хижинами. Да, крысы вернулись, но уже не в тех количествах, что прежде. Вода нагревалась медленно, а я и не спешила. Мне следовало обдумать все, что я собиралась сказать Приаму. Скоро я услышала шаги за спиной и в ужасе обернулась, ожидая увидеть Ахилла. Однако это оказался Алким, и следом за ним приближался Автомедон. Никто из них не мог сомкнуть глаз, зная, что Ахилл спит в одной хижине с троянцем, пусть это и немощный старик.
Алким наклонился и что-то сказал, но я была слишком напугана, чтобы разобрать слова. Я лишь сказала:
– Грею воду для Приама.
– Он проснулся? – спросил Автомедон.
– Да. Нет, мне просто послышалось, что…
– А что Ахилл?
– Спит.
Алким перегнулся через мое плечо и потрогал воду в котле.
– Нагрелась.
Я намотала на руки подол накидки, чтобы не обжечься, взялась за котел и стала подниматься.
– Я отнесу, – сказал Алким.
Я молча уставилась на него. Чтобы один из ближайших друзей Ахилла таскал воду для рабыни? Нет, не для меня – конечно, не для меня! – для Приама. Хоть тот и был врагом, но оставался царем – и требовал подобающего обхождения. Но затем я заглянула в его глаза и подумала: нет, для меня.
Так или иначе, его помощь оказалась некстати. Я хотела остаться с Приамом наедине, а не выслуживаться перед друзьями Ахилла. Возможно, я и убедила бы Алкима, что справлюсь сама, но с Автомедоном такое не прошло бы. Он вышагивал впереди, бодрый и свежий, словно это не он провел полночи на ногах.
Когда мы подошли к ступеням, я сказала так уверенно, как только могла, заглянув Автомедону прямо в глаза:
– Я управлюсь. Он знает меня. Моя сестра замужем за одним из его сыновей.
Кажется, Автомедон впервые увидел во мне человеческое существо, у которого может быть сестра – и более того, сестра, которая приходилась невесткой царю Приаму. Он помедлил, но затем кивнул, и оба смотрели мне вслед, пока я шла по веранде. Я скорее почувствовала, чем увидела, как они сели на ступенях, дожидаясь, когда проснется Ахилл. Мне показалось, что он ворочается в постели, и я замерла, прислушиваясь. Но, видимо, просто скрипнула доска – полы и стены постоянно трещали. В любом случае это меня напугало. Мои шансы и так были ничтожно малы, и, казалось, они таяли с каждой минутой.
Приам по-прежнему лежал на спине, но когда я приблизилась, то заметила, как напряжены мелкие мускулы вокруг его век, чего прежде не было. Поэтому я не очень удивилась, когда он внезапно открыл глаза. Некогда светло-синие, его глаза годами потускнели, и вокруг зрачков появились серые ободки, как у моего деда. Мгновение Приам выглядел напуганным. Потом я поняла, что он не может меня разглядеть, и шагнула на свет лампы. Приам вздохнул с облегчением. Должно быть, он принял меня за Ахилла.
– Владыка Приам, – промолвила я кротко. – Я принесла воды, умыться.
– Спасибо, ты очень добра.
Он приподнялся на локте. Я намочила тряпку в теплой воде и передала ему. Приам вытер лицо и уши, потом пригладил волосы и бороду и, насколько мог дотянуться, отер шею и грудь. Я следила за ним с тоской и любовью. Он был целиком поглощен своим занятием, как мальчик, которому впервые позволили самостоятельно умыться. В эти несколько минут царь Трои позабыл о войне, об этих скорбных девяти годах – позабыл даже о смерти Гектора. Все прочее утратило для него значение: годы царствования и счастливого брака – он смахнул с себя все это теплой тряпицей. Тронутая такой переменой, я поддалась порыву и провела смоченными пальцами по его волосам, убрав за уши выбившиеся пряди. Приам посмотрел на меня и произнес неожиданно:
– Да, так лучше… Брисеида, верно? Маленькая подружка Елены?
Я видела, как он собирается с мыслями, вновь взваливает на себя груз воспоминаний. Беззаботный мальчик исчез, его место занял немощный старец – старец, который так много повидал и пережил. Но по-прежнему царь. Приам скинул одеяла, свесил ноги с кровати и замер так на мгновение. Очевидно, это было для него нелегким испытанием. Несколько раз он пытался выпрямить колени, затем я взяла его под руку и помогла подняться. Когда Приам оказался на ногах и боли его понемногу утихли, я не смогла больше сдерживаться.
– Возьмите меня с собой, – сказала я.
Приам пришел в замешательство.
– Моя сестра в Трое. Ты помнишь ее? Она замужем за Леандром. Кроме нее, у меня никого больше не осталось.
– Да, я помню… Твой супруг был убит, верно?
– И братья тоже, все четверо. Осталась только она.
– Мне жаль…
– Ахилл убил моих братьев, и я теперь сплю с ним в одной постели.
– Значит, тебе известна участь женщин в захваченном городе. Не проходит и дня, чтобы я не думал об этом. Я смотрю на своих дочерей… – Приам помотал головой, словно пытался стряхнуть наваждение. – По крайней мере, я этого не увижу. Если повезет, смерть настигнет меня прежде.
– Прошу.
Он положил руку мне на плечо.
– Подумай же, дочь моя. Да, сестра даст тебе кров. Уверен, она будет рада, и Леандр тоже. Но что потом? Несколько недель свободы, а после Троя падет, и ты снова окажешься в плену. Только возможно, у человека худшего, чем Ахилл.
– Худшего?
– Разве он не добр с тобой?
– Он убил мою семью.
– Но это война. – Теперь он стоял в полный рост – Приам, царь; от прежней немощности не осталось и следа. – Нет, я не могу сделать этого. Что, по-твоему, подумает Ахилл, если я выкраду его женщину? Мой сын Парис соблазнил Елену, будучи гостем, – и посмотри, к чему это привело.
– Сомневаюсь, что он станет возражать.
– Уверена? Он поссорился с Агамемноном из-за тебя.
– Да, но то была лишь уязвленная гордость.
– А это не уязвит его гордость? Когда он впустил меня, принял как гостя? Он мог убить меня… Нет, прости, – Приам покачал головой, – я не могу.
За спиной послышался шорох. Я обернулась и увидела в тени Ахилла. Сердце подскочило к самому горлу. Как долго он стоял там?
– Вижу, Брисеида присматривает за тобой.
Достаточно долго.
– Да, она очень добра.
Приам тронул мое лицо, погладил по щеке. Но я не могла вынести его взгляда.
– Тебе пора, – сказал Ахилл. – Скоро рассветет; нельзя, чтобы Агамемнон застал тебя здесь.
– Что он сделает, по-твоему?
Ахилл пожал плечами.
– Не хочется выяснять это.
– Но ты бился бы за меня?
– Да, я бился бы. И я не нуждаюсь в поучениях троянца.
Приам бросил тряпку в котел.
– Хорошо. Я готов.
Ахилл не только успел одеться, но и вооружился. Его руки покоились на рукояти меча. Очевидно, он не шутил, когда сказал, что готов драться. Не решаясь смотреть ему в глаза, я глядела на его руки – и заметила, что Приам тоже не в силах отвести взгляд от них. Ахилл отступил на шаг и запахнул плащ, так что его руки – эти чудовищные руки – скрылись в складках ткани. Сомневаюсь, чтобы он стыдился того, что совершил этими руками, – скорее уж гордился, – и все-таки они отражали представления окружающих о нем, и он не мог повлиять на это.
Я взяла плащ Приама и последовала за ними. Теперь я словно не существовала: вновь на первом месте были узы, связывающие гостя и хозяина. Но потом я заметила, как Приам замешкался перед ступенями. Ахилл хотел придержать его под руку, однако старик высвободился – один из тех резких жестов, что служили мерилом той встречи. Я видела, что он уже сожалел о невольной грубости и пытался заставить себя принять помощь от Ахилла… Но тот отступил в сторону и знаком велел мне помочь Приаму. Тот положил руку мне на плечо и справился со ступенями, вздрогнув лишь, когда нога коснулась земли. Ахилл ушел вперед и разговаривал с Автомедоном, возможно, не желая подчеркивать контраст между немощностью Приама и собственной силой. Я подумала, как же мудро поступил царь Трои, напомнив Ахиллу о его отце. Ахилл был неизменно учтив в разговорах со старцами, и такое участие могло брать начало лишь из любви к собственному отцу.
Теперь Приам навалился на меня всем весом. За эту ночь он как будто состарился на десять лет, за считаные часы переступил рубеж между деятельной старостью и дряхлостью. Я чувствовала, как его вены пульсируют под моей ладонью – точно сердце у птенца, обреченного на гибель. Ахилл ждал, пока мы его нагоним.
– Все готово, – сообщил он. – Я проведу тебя до ворот.
К тому времени, когда мы добрались до конюшен, Алким и Автомедон уже запрягли мулов в повозку. Я почувствовала, как задрожал Приам. До сих пор он держал себя в руках, но вот мы приблизились к повозке: мулы жуют удила, колокольчики звенят в упряжи…
Ахилл кивнул Алкиму, и тот поднял факел повыше, так что свет упал на тело Гектора. Я убрала покров, чтобы Приам увидел лицо сына. Тот издал слабый стон, затем нерешительно протянул руку и коснулся волос Гектора.
– Мой мальчик, бедный мой мальчик…
Он заплакал. Поднес руку ко рту, пытаясь унять дрожь в губах, но не мог сдержать судорог.
Мы ждали. Наконец Приам повернулся к Ахиллу.
– Сколько времени тебе нужно, чтобы сжечь его? – спросил тот.
Грубость вопроса ошеломляла. Но затем я осознала, что Ахилл благоразумно предупреждал излишнее проявление чувств, которое запросто могло перерасти в противостояние. Скорбь единила их и в то же время разобщала.
– Ох… – Приам держался за борт повозки и тяжело дышал. – За древесиной путь теперь неблизкий – все деревья ушли на ваши постройки. А люди боятся идти… Нам нужно перемирие.
– И ты его получишь, будь уверен.
– Тогда… одиннадцать дней? Одиннадцать дней на поминальные игры. И на двенадцатый день мы возобновим войну. Если это необходимо…
Это прозвучало как вопрос. «А почему бы и нет? – подумала я. – Почему нет?» Если они с Ахиллом так легко условились о перемирии, почему бы не пойти дальше и не заключить мир?..
– Я проведу тебя до ворот, – сказал Ахилл.
Приам неожиданно улыбнулся.
– Ты уверен? Что же подумают караульные? Великий Ахилл, богоравный Ахилл – и сопровождает крестьянскую повозку?
Ахилл пожал плечами.
– Неважно, что они думают, лишь бы делали, что им велено. Но я тебя понял, нам не нужно эскорта. – Он повернулся к Автомедону и Алкиму. – Вы остаётесь; ждите меня в комнате.
– Полагаю, нам лучше распрощаться здесь, – заметил Приам.
– Нет; ты мой гость, пока не минуешь эти ворота. Если тебя узнают, ничего хорошего из этого не выйдет.
Приам покорно кивнул. Я видела, он хотел, чтобы это все поскорее закончилось и ему снова позволили бы взглянуть на Гектора.
– Но сначала, – промолвил Ахилл, – разделим чашу вина.
Я думала Приам ответит отказом – столь тонким был покров учтивости, наброшенный поверх неистовой злобы. Но я ошиблась. Приам охотно согласился, даже принял помощь от Ахилла, когда они двинулись обратно к хижине. Автомедон и Алким переглянулись, явно раздраженные такой проволочкой, но им ничего не оставалось, кроме как последовать за ними. Я тоже этого не понимала после всего, что было сказано, но это оказалось мне на руку. Никто теперь не следил за мной. Поначалу я просто стояла у повозки, только сместилась чуть левее, так чтобы меня не было видно за высоким бортом, если кто-нибудь вдруг обернется.
Утренняя прохлада освежала. Догорали закрепленные у стен факелы, их скудное пламя трепетало на ветру. Я положила руку на задний борт повозки и дождалась, пока утихнут их шаги. Теперь или никогда. Я знала, что подобной возможности больше не представится. Времени на раздумья не оставалось. Удостоверившись, что меня никто не видит, я забралась в повозку и легла рядом с Гектором, прильнув к его холодному телу. Затем распустила льняное полотно, чтобы самой укрыться в его складках. Я ощущала соприкосновение с холодной, липкой кожей Гектора; аромат тмина и розмарина не скрывал гнилостного запаха. Внешний облик ничуть не изменился, но плоть начинала неизбежно разлагаться. Я не выглядывала, не пыталась отследить их возвращение – прижалась лицом к плечу Гектора, чтобы полотно не вздрагивало от моего дыхания. Стоило Приаму остановиться на мгновение и еще раз взглянуть на тело сына – не могло быть побуждения более естественного, – и все обернулось бы весьма плачевно для меня и, вполне возможно, для Приама. Его заверениям, что он не знал о моем намерении, могли и не поверить.
Я заслышала их шаги и напряглась. Ахилл и Приам говорили вполголоса, и я не могла разобрать слов. Через некоторое время они замолчали, и в этом молчании таилось больше угрозы, чем в словах. Мне показалось, что Приам обходит повозку, чтобы еще раз взглянуть на тело Гектора. Но затем повозка качнулась, и я поняла, что он взобрался на козлы. Тихо зазвенел колокольчик, поводья хлопнули по спинам мулов, и повозка тронулась с места. Холодная кожа Гектора терлась о мою щеку.
Площадка была вся в рытвинах, и даже когда повозка покатила по тропе, колеса то и дело попадали в ямы. Я держалась за Гектора, чье тело, обвязанное полосками шерсти, оказалось более устойчивым. Я чувствовала, что сама холодею, как труп, все мое тело свело судорогой. Но разум лихорадочно работал. Мне представлялась сестра и ее супруг, Леандр, тепло и безопасность их крова – и все это под знаменем вожделенной свободы. Я снова могла стать собой – не вещью, но женщиной – вновь обрести семью, друзей, какое-то значение в жизни… Сколь бы мимолетной ни была эта радость, разве все это не стоило риска?
Но чем больше я раздумывала над этим, тем безумнее казалось мне это стремление к свободе. Если Приам обнаружит меня прежде, чем мы окажемся в Трое, то запросто может согнать меня с повозки – возможно, прямо посреди поля битвы. Те трогательные воспоминания о маленькой девочке, которую он когда-то развлекал фокусами, ничто в сравнении с его долгом перед гостеприимством Ахилла. Он не стал бы рисковать кратким перемирием ради меня.
Но даже если бы мне удалось добраться до Трои и разыскать сестру, что меня ждало? Несколько недель счастья, омраченного страхом, – и вот я уже пряталась бы в другой башне, в окружении других напуганных женщин, в ожидании, когда падет другой город. В ожидании, когда Агамемнон спустит с поводка тысячи пьяных воинов. Я слышала о его намерениях относительно Трои, его и Нестора. Все мужчины и мальчики будут убиты – включая и мужа моей сестры, – беременным пронзят животы, чтобы исключить рождение мальчиков, а участь всех прочих женщин известна: насилие, побои, увечья и рабство. Некоторых из женщин – скорее уж молодых девушек царских и знатных кровей – поделят между собой цари. Но я как бывшая невольница была лишена подобной привилегии. Я запросто могла оказаться среди простых женщин, сносить удары изо дня в день и ночами спать под хижинами. Или, хуже того, предстать перед Ахиллом и понести наказания, неизбежные для беглых рабов. Можно было и не надеяться на милосердие – я знала, насколько мстителен Ахилл…
«Приам прав, – подумала я, – это безумие».
Я смотрела в рассветное небо и пыталась сообразить, как мне теперь выпутаться. Я оказалась в ловушке. Теперь оставалось только лежать рядом с Гектором и ждать, пока повозка не остановится. Если она остановится… Завидев Ахилла, караульные запросто могли пропустить их, не останавливая. Повозки, что выезжали из лагеря, никто и не обыскивал.
Но вот повозка замерла. Ахилл шагал рядом, и я чувствовала его присутствие каждую секунду времени. Теперь же ощущение обострилось до предела. Так прошло несколько минут, затем я услышала, как Ахилл разговаривает с часовыми. Позвякивали в упряжи колокольчики. Приам вздыхал и покашливал – полагаю, от напряжения. Мне тоже хотелось откашляться. Я представила во рту вкус лимонов, набрала слюны и сглотнула, чтобы унять зуд в гортани. Слышно было, как Ахилл смеется вместе с воинами.
В любую секунду повозка вновь могла тронуться с места. Времени не оставалось. Я выбралась из-под покрывала, угрем перебралась через борт повозки и сползла на землю. И сразу зашагала прочь. Холод сковал мускулы, мною овладели страх и отчаяние, липкий пот покрывал тело, кожа еще хранила запах Гектора… Я ощущала на себе цепкий взгляд Ахилла, но мне не хватило смелости, чтобы обернуться и посмотреть, действительно ли он глядит на меня. Хотелось бежать, но я знала, что это лишь привлечет внимание, поэтому плотнее завернулась в накидку и пошла быстрым, но ровным шагом. Я не замечала, куда иду, и постоянно спотыкалась о подол туники. И готова была в любой момент услышать свое имя.
Лагерь уже просыпался. Воины, что пили накануне, зевали и требовали еды. Женщины таскали хворост для костров. Ветер растрепал мои волосы и одежду. Я направилась к группе женщин и попыталась смешаться с ними, даже подхватила пустое ведро, чуть склонившись набок, как если б оно было полное. В конце концов собралась с духом и оглянулась. И поняла, что весь этот спектакль лишен смысла. Повозка Приама уже выкатилась за ворота. Ахилл постоял немного, вскинув руку в прощальном жесте, затем развернулся и зашагал к своему жилищу.
Только теперь я могла вздохнуть с облегчением. Выждала еще несколько минут и последовала за Ахиллом, стараясь занять разум повседневными заботами. Ему захочется принять горячую ванну. Поэтому я сказала женщинам нагреть воду и направилась к хижине. Ахилл сидел за столом, глядя перед собой, но когда я вошла, поднял голову. Мне показалось, он выглядел удивленным.
– Принести что-нибудь поесть? – спросила я.
Ахилл молча кивнул, и я принялась раскладывать на тарелке хлеб, оливы и рассыпчатый козий сыр, какой делали в Лирнессе. Его запах неизменно возвращал меня в детство. Мама любила есть его с абрикосами, что росли на дереве за нашим домом. Я отломила небольшой ломтик и положила в рот. Резкий солоноватый вкус сразу оживил воспоминания о ней. На глазах выступили слезы, но я не могла позволить себе заплакать. Поставила тарелку перед Ахиллом и отступила.
Похоже, Ахилл был голоден. Он отламывал куски хлеба и смачивал в масле, брал ломтики сыра кончиком кинжала и отправлял в рот. Я наполнила его кубок разбавленным вином и поставила рядом с тарелкой.
Затем он спросил, словно бы невзначай:
– Так почему ты вернулась?
Значит, он знал все это время… У меня пересохло во рту, но потом я подумала: «Нет. Он думал, я ушла в женские хижины, и теперь недоумевает, почему я вернулась без приглашения». Я посмотрела ему в глаза и тотчас поняла, что всё не так. Он действительно знал. На мгновение я совсем растерялась, но затем подумала: «Если ты знал, что я в повозке, то почему не остановил меня?»
– Не знаю, – произнесла я медленно.
Ахилл пододвинул ко мне тарелку с хлебом и сыром. Я решила, что он наелся, и приготовилась убрать ее, но запоздало поняла, что Ахилл предлагал мне поесть. Он не снизошел до учтивых приглашений: просто показал на меня, а затем на стул. Поэтому я села напротив него, и мы ели и пили вместе.
Я ответила «не знаю», потому что мне в голову не пришло ничего другого. Все те размышления о падении Трои и о последствиях для меня – все это верно. Но я знала об этом еще до того, как влезла в повозку. Что-то другое заставило меня повернуть назад – что-то, чего я сама пока не сознавала. Возможно, это была убежденность, что теперь мое место здесь – что я должна начать здесь новую жизнь.
Мы ели в молчании, но я чувствовала, что атмосфера переменилась. Я попыталась сбежать, но потом – неважно, по какой причине, – вернулась. Ахилл знал, что я в повозке, и – опять же, неважно, по какой причине, – был готов отпустить меня. И за столом сидели уже не просто хозяин и его рабыня. У меня появился выбор. Или нет? Не знаю… Возможно, я лишь принимала желаемое за действительное – и сомневаюсь, что подобные мысли посещали Ахилла.
Внезапно он отодвинул тарелку и поднялся.
– Нужно переговорить с Агамемноном.
– Он еще не проснулся.
Похоже, его это развеселило.
– И то верно.
Он снова сел за стол, и мы допили вино.
45
Эти одиннадцать дней мира после девяти лет кровопролитной войны…
То было странное время – время вне времени. Мы жили словно под гребнем волны. Каждый день за стенами Трои раздавались крики ликования, когда очередной воин побеждал в гонках и получал награду из оскудевших сокровищниц Приама. Но никому из них не было суждено долго наслаждаться плодами победы.
На второй день Аякс пришел к нам на ужин и привел с собой Текмессу и маленького сына. Мы с ней сидели на веранде и ели сладости, которые так любила Текмесса, – скорее, она ела, а я наблюдала. Мальчик играл деревянной лошадкой, вырезанной ему отцом: прищелкивая языком, издавал цокот копыт. Я прикрывала глаза от солнца и смотрела, как Ахилл и Аякс играют в кости. Они сидели за столом посреди двора, смеялись и подзадоривали друг друга, громко причитали и хлопали себя по лбу, если не выпадали нужные числа. Их жесты выглядели преувеличенно, как если б артисты изображали игру в кости.
Внезапно Аякс вскочил на ноги. Я решила, что он увидел кого-то в дверях, и проследила за его взглядом, но там никого не оказалось. Когда я повернулась обратно, Аякс уже лежал на земле, поджав колени, и выл, как новорожденный младенец. Ахилл не двигался с места, сидел и ждал, когда минует приступ. Наконец Аякс взял себя в руки и вернулся за стол. Не проронив ни слова, они просто продолжили игру, словно ничего такого не случилось. Сам приступ, от начала и до конца, продлился не дольше десяти минут.
Текмесса приподнялась было в кресле, но затем снова села и потянулась за очередной порцией орехов с медом.
– Он совсем не спит, – сказала она. – Его преследуют кошмары. Как-то ночью ему приснилось, что его пожирает паук, и он проснулся с воплем. Ох, а если я спрошу его, что с ним…
– И он не хочет говорить?
– Конечно, не хочет! Мне положено молча мириться с этим, а если я и пытаюсь заговорить, то сама знаешь: «Женщине подобает безмолвие».
Все женщины, кого я знала, впитали эту истину с молоком матери. Мгновение мы молчали, размышляя над этим, а потом внезапно рассмеялись. И то был не просто смех – мы верещали и задыхались, пока мужчины не уставились на нас, и тогда Текмесса зажала рот подолом туники и давилась от хохота. Приступ прошел так же внезапно, как и начался. Мы посидели, утирая слезы, затем я взяла блюдо и предложила Текмессе угоститься еще… Внешне – если не считать сдерживаемой икоты – мы вернулись к обычному своему состоянию, и вместе с тем что-то переменилось. Текмесса никогда мне особенно не нравилась, но с той минуты мы стали подругами.
– Как скоро можно определить, что ты беременна? – спросила я.
Текмесса уставилась на меня.
– Ну по-разному… Я вот сразу поняла: меня мутило уже с первого дня. Но знаешь… У всех по-своему; некоторые говорят, что ничего не замечали, пока не начались схватки. Хоть я не понимаю, как такое можно не заметить. Даже если у тебя продолжаются месячные. Если тебя каждые пять минут пинают в живот, сложно не догадаться… – И все время, пока говорила, она не сводила с меня пристального взгляда. – Он от него?
– Да.
– Уверена?
– Да.
– Не от Агамемнона?
– Невозможно. Задний проход, помнишь?
Текмесса пришла в восторг – чего я не могла сказать о себе.
Тени понемногу становились длиннее. Обычно в это время мужчины поднимались и шли к столу, но в эти несколько минут, когда солнце только коснулось горизонта, никто не двигался. Аякс повернулся в кресле и смотрел в нашу сторону. Сначала я подумала, что он смотрит на маленького сына, который скакал по веранде и кричал: «Мама, посмотри на меня! Смотри на меня!» Но потом я с содроганием заметила, что его глаза абсолютно пусты. Ахилл из кожи вон лез, пытаясь отвлечь Аякса: предлагал выпить, сыграть еще партию в кости, что угодно – и ничего не мог противопоставить этому жуткому взгляду, устремленному сквозь хижину, через двор, над полем битвы, до самых ворот Трои и дальше. Я осознала, что Аякс не смотрел ни на что конкретно. Он смотрел в пустоту.
После трапезы в покоях Ахилла зазвучала музыка. Алким играл на лире, Автомедон обнаружил неожиданный талант в игре на флейте. Впрочем, когда он попытался запеть, это напоминало рев теленка, оторванного от коровы, и все умоляли его прекратить. Они пели о битвах и великих подвигах – песни, которые так любил Ахилл, благодаря которым он и стал собой. Я не видела его таким довольным с тех пор, как погиб Патрокл.
Поздно вечером мальчик раскапризничался. Текмесса вышла с ним на улицу и стала качать на руках, напевая колыбельную. Я помнила эту песенку еще с детства. Мама напевала ее младшему брату, а я сворачивалась рядом и в эти несколько драгоценных мгновений позволяла себе вновь стать маленькой. Один за другим мужчины замолкали и прислушивались к пению Текмессы. У нее был приятный голос. Я огляделась: вот они, все до одного закаленные воины, слушают рабыню, поющую троянские колыбельные своему ребенку, рожденному от грека. И в тот миг я кое-что поняла – это скорее промелькнуло у меня в сознании, но осознала я это много позже. Я подумала тогда: мы будем жить, в наших песнях, наших историях. Греки никогда не забудут нас. Спустя годы, когда умрет последний из воинов, что сражались под стенами Трои, их сыновья будут помнить песни, которые пели им их троянские матери. Мы останемся в их снах – и в худших кошмарах.
Но вот песня отзвучала, и Текмесса еще поворковала над спящим ребенком.
– Что ж, – Аякс хлопнул по бедрам, – пожалуй, нам лучше пойти.
Они с Ахиллом крепко обнялись и стояли так довольно долго, и ни один из них не проронил ни слова. Потом мы стояли на веранде и смотрели им вслед, пока маленькое семейство не скрылось в ночи.
Мы вернулись в комнату и сели у огня. За то короткое время, которое последовало за визитом Приама, я окончательно убедилась, что в наших отношениях произошла перемена. Ахилл больше не посылал за мной. Он просто принял как данность мое присутствие. Я часто думала о той ночи. Оглядываясь в прошлое, я понимаю, что пыталась не только сбежать из лагеря, но и вырваться из тени Ахилла. Потому что это его история; не стоит заблуждаться – его гнев, его скорбь, его история. Я гневалась, я ощущала скорбь, но по неясной причине это не имело значения. Вновь я была на своем месте, ждала, чтобы Ахилл решил, когда нам отправляться в постель. Я увязла в его истории, но вместе с тем не играла в ней никакой роли.
Но все могло измениться. Я смотрела в огонь и сознавала, что должна сказать ему. Не знаю, что меня сдерживало. Остальные женщины твердили: ну же, расскажи ему, ради богов, чего же ты ждешь? Это был мой шанс обеспечить себе достойную жизнь или нечто похожее на нее. Я вспоминала, что говорила Рица о Хрисеиде: стоило ей родить Агамемнону сына, и ее жизнь преобразилась бы. И все-таки я молчала, потому что сознавала: моя жизнь изменится, как только я признаюсь. Я стану матерью – вероятно, стану – троянца и грека. И тогда старые привязанности, старые убеждения – все то немногое, что у меня осталось – канут в прошлое. Поэтому я смотрела в огонь, потягивала вино и молчала.
46
Ему пришлось попотеть, чтобы выбить одиннадцать дней перемирия, обещанных Приаму. Пришлось убеждать не только Агамемнона, но и всех остальных царей. Все настаивали на том, чтобы, наоборот, усилить натиск – теперь, когда Троя обескровлена после смерти Гектора. И, в сущности, их доводы были неоспоримы. Но каким-то образом ему все же удалось их убедить. Патрокл гордился бы им. И даже Одиссей, который искусно опровергал все его доводы, в конце концов сказал:
– Что ж, это было неожиданно. Быть может, мы сделаем из тебя дипломата – однажды…
Ахилл лишь рассмеялся и покачал головой.
«Однажды» уже ничего не будет.
Каждое утро он отправляется на берег и, стоя на полосе твердого песка, ждет появления матери.
Сначала видит лишь темное пятно на белой занавеси тумана. Но вот она выходит из воды, приближается по мелководью, и можно разглядеть серебристый отлив на ее коже. Он тоскует по этим мгновениям и одновременно страшится их, потому что каждая их встреча – как затянувшееся прощание. Он устал и хочет, чтобы это поскорее закончилось. Вся его жизнь была пропитана ее слезами. И поэтому, когда она наконец-то скрывается в пенистых волнах, он чувствует затаенное облегчение. Туман, что возвещает ее появление, начинает рассеиваться, и вот перед ним уже простирается море, подернутое тонкой, прозрачной пеленой. Как заживающая рана под нежной пленкой кожи.
К тому времени, когда он возвращается, солнце испаряет последние клочья тумана, и в лагере закипает жизнь. Женщина склонилась у костра и раздувает угли, подкладывая горсть сухой травы в пламя. Лошади прячут морды в своих кормушках и сопят. Конюхи разглаживают им ноги, поднимают копыта и проверяют, нет ли застрявших камней. Ничего нового, Ахилл наблюдает это каждое утро на протяжении девяти лет, и все же до этой минуты он не видел этого с такой ясностью, не ощущал той любви, которой оно заслуживало.
Каждое утро Алким сидит на ступенях веранды и полирует его доспехи. Иногда Ахилл берет тряпку и присоединяется к нему, не обращая внимания на возмущение Автомедона. Великому, богоравному Ахиллу не пристало начищать собственные доспехи. Но занятие доставляет ему удовольствие: взять в руки ветошь, оттереть неподатливое пятно и в награду полюбоваться сияющей бронзовой гладью. Когда мать преподнесла ему эти доспехи, он едва взглянул на них. Все его помыслы были заняты местью. Теперь в его распоряжении все время мира, чтобы оценить красоту щита: стада быков пасутся у реки, юноши и девушки кружатся в танце, солнце, луна и звезды, земля и небо, ссора и судилище, брачный пир… Неясно только, чего она добивалась этим подарком. Это самый крепкий, самый красивый щит во всем мире, но даже он не сбережет ему жизнь. Его смерть предопределена богами. Однако каждое утро этот щит напоминает о тех прелестях жизни, которых ему не суждено познать.
Полируя щит, он часто думает о матери. Теперь, под занавес жизни, ему кажется вполне естественным вернуться к началу, замкнуть круг. Ребенком, когда ему позволяли остаться после вечерней трапезы, он, борясь со сном, смотрел на маму и замечал, как воспалены ее глаза.
– Это все огонь, – говорила она, – и дым.
Но Ахилл знал, что это не так. Ночами ей бывало трудно дышать. Затем у нее трескалась кожа. И всегда это начиналось с уголков рта. Потом трещины становились глубже и начинали источать влагу. Вскоре после этого она исчезала. Ахилл бродил по берегу, одинокий и безучастный ко всему, пока мать внезапно не появлялась. Тогда она привлекала его к себе и целовала. Глаза ее вновь были чисты, кожа сияла, блестящие черные волосы пахли солью.
Но со временем становилось только хуже. Бывало, отец касался ее руки – и она позволяла ему, никогда не отстранялась, но Ахилл чувствовал ее затаенное отвращение. Она была гневливой женщиной, гневной на богов, что обрекли ее на брак со смертным. Все это было ей ненавистно: омерзительное человеческое соитие и деторождение. Ей пришлось даже вскармливать грудью младенца… Ахилл представляет – это фантазии или воспоминания? – как она сидит, напряженная, и пытается не отрывать от себя этот слизистый комок, что, подобно морской анемоне, вцепился в ее сосок и вытягивает из нее молоко, кровь, жизнь и надежду, еще крепче связывая ее с бренной землей. Эта брезгливость, воображаемая или реальная, оставила на нем свой отпечаток. Близость, с женщиной или мужчиной, никогда не приносила ему радости. Плотское удовлетворение – да… Но не более того. И даже Патроклу приходилось расплачиваться за подобное наслаждение.
Всю свою любовь и доброту он дарит отцу. В первую очередь он – сын Пелея. Это имя известно всем до последнего в войске – его первый и самый важный титул. Но таков Ахилл лишь на публике. Когда он один, особенно по утрам, когда приходит к морю, то становится самим собой – сыном своей матери. Она покинула его, когда ему исполнилось семь. Возраст, когда мальчик покидает женские покои и вступает в мир мужчин. Быть может, поэтому он так и не сумел преодолеть эту грань, хоть это и привело бы в изумление воинов, что сражались с ним бок о бок. Конечно, он никому не говорит об этом. Это изъян, слабость, и Ахилл умело скрывает его от мира. И только ночью, в миг, когда стирается грань между сном и явью, он возвращается в солоноватую темноту материнской утробы, и ошибка смертной жизни наконец-то искуплена.
Даже скорбь по Патроклу переносится легче с приближением собственной смерти. Он не ощущает привычной боли утраты, скорее умиротворение, как будто Патрокл раньше него вышел из комнаты. Он часто говорит о нем, рассказывает Алкиму и Автомедону – слишком молодым, чтобы запомнить первые годы войны, – о прошедших битвах и морских переходах. Но наедине с Брисеидой он предается воспоминаниям о детстве, которое делил с Патроклом, вплоть до первой их встречи.
– Я никогда не встречал его прежде, и все-таки, едва взглянув на него, подумал: «Я знаю тебя».
– Вам повезло встретить друг друга, ведь так?
– Скорее уж мне. Не знаю, насколько посчастливилось ему. Будем откровенны, не повстречай он меня, то, возможно, был бы сейчас жив.
– Сомневаюсь, что он выбрал бы иную жизнь.
– Нет, но я выбрал бы за него, – Ахилл пожал плечами. – Его терпению можно было позавидовать. Из него вышел бы прекрасный земледелец. И хороший царь. Он преуспел бы в любом нудном занятии, в судебных тяжбах или вроде того…
Когда он с Брисеидой, то всегда ощущает присутствие Патрокла, иногда столь явственно, что трудно сдержаться и не заговорить с ним. Он никогда не спрашивал Брисеиду, чувствует ли она то же самое, поскольку знает, что это так. С самого начала в основе их отношений – если можно их так назвать – лежала общая любовь к Патроклу.
Ахилл живет настоящим. Он помнит о прошлом, да, сожалеет о чем-то, но не чувствует негодования. Он редко задумывается о будущем, потому что у него нет будущего. Удивительно, как легко он принял это. Его жизнь – как головка одуванчика на ладони, столь невесомая, что даже легкий ветерок способен подхватить ее и унести прочь. Он не понимает, откуда это взялось, – возможно, от Приама, – но примирился со смертью, как это бывает с людьми в преклонные годы. Он сознает, что у него нет будущего, и его это не тревожит.
И вот однажды Ахилл просыпается один в постели. Он уже привык, что Брисеида остается с ним, поэтому поднимается и разыскивает ее. Она снаружи, согнулась пополам, и ее рвет на песок.
– Что случилось?
– Ничего.
– Я бы так не сказал…
– Я беременна.
Мгновение он переваривает услышанное. Затем спрашивает:
– Ты уверена?
Кто-то рассказывал ему, будто женщина не понимает, что беременна, пока ребенок не начнет толкаться. Это правда? Он ничего в этом не понимает.
Брисеида смотрит ему в глаза.
– Да.
Ахилл верит ей. Она не из тех, кто лжет. Не солгала даже, когда Агамемнон заверял, что не притрагивался к ней, хотя солгать было в ее собственных интересах. И вот в считаные секунды он обретает будущее. Пусть он и не может быть его частью, но должен считаться с ним.
Мысль об этой новой жизни просачивается в его сознание. И вновь просыпается страх смерти. Он просыпается посреди ночи, весь в поту, и раздумывает над тем, как окончится его жизнь. Ему ведомо все о смерти на поле брани, он видел худшее – потому что сам становился тому причиной. Но после, когда это произойдет, он окажется голым и беспомощным во власти женщин… Он и сам не понимает, почему это так заботит его. Ведь в каком-то смысле его там уже не будет.
И все же он раздумывает над этим – долгими часами в темноте. Но утром ночные тревоги забываются.
Все это время его лира, завернутая в промасленный чехол, покоится в резном сундуке. Порой он достает ее и касается струн, однако всякий раз откладывает в сторону.
Но как-то вечером, уже под конец перемирия, он ловит себя на мысли: «С чего я решил, что не смогу?» Правда в том, что он этого не узнает, пока не попробует. Поэтому Ахилл садится, берет лиру в руки и наигрывает самую простую мелодию, какую знает, – детскую колыбельную. Сыграв ее несколько раз, вскакивает и расхаживает по комнате, слишком возбужденный, чтобы усидеть на месте.
После этого он не расстается с лирой. Следующим вечером, после трапезы, они с Алкимом играют на пару. Песни следуют одна за другой, и куплеты всё непристойнее, так что под конец все давятся со смеху. После, в своих покоях, он играет мелодии, которые любил мальчишкой, песни о битвах, о дальних плаваниях, о приключениях, о славной смерти героев… Он счастлив, что снова может играть, а не просто сидеть и слушать других.
Брисеида смотрит на него, лежа в постели. Уже поздно.
– Совсем забыл. Надо еще кое-что уладить.
Ахилл встает и выходит из комнаты.
Стоя на ступенях веранды, он громко зовет Алкима. Тот спешит к нему, бледный и напуганный, словно допустил какую-то оплошность, что-то фатальное – как если б Ахилл обнаружил пятно на своем чудесном щите. Ахилл усаживает его за стол – в зале, потому что не хочет говорить об этом в присутствии Брисеиды, – наливает чашу вина и пытается объяснить. Облегчение Алкима столь велико, что в первую минуту он лишь изумленно таращится на Ахилла. Кажется, он не понял ни единого слова.
– Если я умру… – снова начинает Ахилл.
На сей раз до Алкима доходит, и он вскидывает руки, словно это худшие слова, какие ему доводилось слышать. «Что ж, если я могу принять это, то примешь и ты», – думает Ахилл, теряя терпение.
– Если я умру… Я не говорю, что так и будет. Если…
Алким все еще в ужасе.
– Послушай, у меня нет никаких предчувствий или чего-то такого… – Это не предчувствие, но уверенность. – Я просто хочу уладить кое-что на будущее.
Алким таращится на него. Сложно определить, что из сказанного до него дошло.
– Брисеида беременна. – Так, это дошло. – Если я умру, то хочу, чтобы ты взял ее в жены и… – Он вскидывает руку. – Если. Если. Я хочу, чтобы ты доставил ее к моему отцу, чтобы мой ребенок жил во дворце моего отца.
Пауза.
– Ты согласен?
Алким произносит жалостливо:
– Я не заслуживаю такой чести.
– Но ты исполнишь просьбу?
– Да.
– Клянешься?
– Да, конечно, я клянусь. – И затем: – Она знает?
Ахилл качает головой.
– Пока нет нужды говорить ей об этом.
Он желает Алкиму доброй ночи и возвращается в свои покои. Брисеида ждет его в постели. Ему хочется лечь рядом, однако он не поддается мимолетному порыву. Настроение меняется, становится мрачным с наступлением ночи. Поэтому он садится и снова берет в руки лиру. Пытается вспомнить песню, которую сочинял, пока Патрокл был еще жив. Она стала частью тех последних дней, проведенных вместе. Ахилл не уверен, что сможет сыграть ее, даже теперь. И действительно, с первых же нот к глазам подступают слезы. Но проходит несколько минут, и он пробует вновь. И на этот раз играет мелодию от начала до конца. Впрочем, она не окончена. Теперь Ахилл припоминает, что это не давало ему покоя. Никак не удавалось завершить проклятый мотив. И Патрокл был не в силах помочь.
– Не понимаю, что с ней не так; по мне, так звучит вполне сносно…
Ахилл играет мелодию еще раз. Брисеида наблюдает за ним, он чувствует это – и еще острее ощущает присутствие Патрокла. Тот смягчился за последние несколько дней и приходит каждый вечер с тех пор, как Ахилл вновь взялся за лиру. Сложно удержаться и не спросить его мнение. Впрочем, он знает, что сказал бы Патрокл, – всегда знал.
– Во имя богов, ты можешь сыграть что-нибудь радостное? Тоска берет от этих звуков.
Ахилл улыбается воспоминаниям и проигрывает мелодию еще раз, затем лишь, чтобы вновь запнуться на этих последних нотах. Затишье после свирепой бури: капли дождя срываются с ветви и падают в стремительный поток… Да, да, но что дальше?
И внезапно он понимает: ничего. Ничего, потому что это и есть конец – всегда был перед его носом, и он просто не был готов увидеть его. Чтобы убедиться – потому что ответ кажется ему слишком простым, слишком очевидным, – он играет мелодию еще раз, с самого начала. Нет, он прав, это и есть окончание. Ахилл смотрит на Брисеиду.
– Вот оно, – произносит он, поглаживая струны. – Окончание.
47
Отзвучали последние ноты. Ахилл убрал лиру в чехол и аккуратно отложил в сторону. В эти мгновения время словно замерло, и, казалось, волна, что катила на нас, никогда не разобьется.
Конечно, это заблуждение. Будущее неслось на нас вихрем, и жизнь Ахилла теперь измерялась считаными днями.
Утром двенадцатого дня он встал на ступенях веранды и громовым голосом позвал Алкима. Тот, как всегда, примчался незамедлительно. Его округлое искреннее лицо блестело от пота. Он выглядел перепуганным. Я лежала в постели и жевала сухую хлебную корку. Рица сказала, что если заставить себя съесть что-нибудь, прежде чем встать, то мутить по утрам не будет. Что ж, меня по-прежнему мутило, но стало действительно чуть легче. Отныне я прятала под подушкой ломоть хлеба. Чего бы Ахилл ни хотел от Алкима, я сомневалась, что это касалось меня, и поэтому заставила себя проглотить последний кусок, после чего осторожно перевернулась на бок.
В этот момент дверь распахнулась, и появился жрец. Без предупреждения. Без пышных церемоний. Вряд ли сыщется еще одна такая невеста: заспанная, растрепанная, завернутая в простыню, с хлебными крошками в волосах. Алким, весь в пунцовых пятнах, от ушей и до шеи, не сводил с меня отчаянного взгляда. Его хотя бы спросили, хочет ли он этого? Когда короткий ритуал подошел к концу, он вышел из комнаты, оставив меня наедине с Ахиллом. Тот бросил коротко:
– Так лучше. Он – хороший муж.
Но потом, вероятно, заметив мое смятение, немного смягчился. Тронул мой подбородок большим и указательным пальцами и приподнял.
– Он будет добр к тебе. И позаботится о ребенке.
А спустя несколько часов – известие о смерти Ахилла. И звенящая пустота в его комнате.
Ахиллу не пришлась бы по душе такая смерть: стрела между лопатками, пущенная Парисом, мужем Елены, в отплату за смерть Гектора. Злые языки утверждают, что стрела была отравлена. Другие говорят, что Парис пустил стрелу ему в пятку, единственное уязвимое место на его теле. Пригвожденного к земле и беспомощного, Ахилла пронзили копьями. Так или иначе, оружие труса в руках труса – так расценил бы это Ахилл. Но, полагаю, ему польстил бы тот факт, что он погиб непобежденным на поле брани.
Ахиллесова пята. Из всех легенд, что овеяли его, эта самая нелепая. Фетида в отчаянном стремлении сделать сына бессмертным окунула его в воды Леты. Но она держала его за щиколотку, и только эта часть его тела осталась уязвимой для оружия. Только эта часть?.. Все его тело покрывали шрамы. Поверьте мне, я знаю.
Другая легенда гласит, что его лошади были бессмертны. Подарок богов по случаю свадьбы Фетиды и Пелея – дар во искупление, скажете вы. Утверждают, что лошади исчезли после его смерти. Порой я представляю их, щиплющих траву на зеленом лугу, вдали от рокота битв, под надзором конюха, слишком занятого собственными мыслями, чтобы дивиться, почему его лошади никогда не стареют. Мне нравится эта история.
В первые дни после смерти Ахилла я сидела в его покоях и прислушивалась к воплям зрителей на поминальных играх. В комнате царило безмолвие; возле очага, друг напротив друга, стояли два пустующих кресла. Не оборачиваясь, я чувствовала бронзовое зеркало у себя за спиной и, как это порой бывает, ощущала на себе взгляд кого-то незримого. Есть поверье, что зеркала – это порталы между нашим миром и царством мертвых. Поэтому их иногда закрывают в дни между смертью и сожжением. Несколько раз я порывалась вскочить и набросить на зеркало полотно – если и был дух, способный пересечь эту грань, то это дух Ахилла. Но в конце концов я решила не накрывать его. Даже если б он вернулся, я знала, что мне ничто не грозит.
В ночь, когда Троя наконец-то пала, – понадобилось три полных дня, чтобы обчистить город, – Агамемнон устроил пир. Одним из почетных гостей стал сын Ахилла, Пирр[2], который убил Приама – скорее уж просто зарезал. Пирр прибыл сюда, охваченный страстным желанием сражаться бок о бок с отцом: миг, ради которого он упражнялся с тех самых пор, как взял в руки меч. Но к тому времени, как он достиг Трои, Ахилл был уже мертв. Взору Пирра предстали лишь пустые покои и высокий курган. Во время трапезы я видела, как он бродит по комнатам. Его свежее юношеское лицо сникло от шока и опьянения. Юноша переводил взгляд с одного лица на другое и ждал, что воины, которые знали его отца и сражались рядом с ним, скажут, как он похож на Ахилла. Ну разве не вылитый он? Клянусь, как будто сам Ахилл вернулся… Но все молчали.
Во время пира Агамемнон так напился, что дважды падал. И второе падение, должно быть, перетряхнуло его затуманенный разум. Алким занимал почетное место за столом – поскольку выказал храбрость в сражении, в чем бы это ни проявилось в разграбленном городе – и слышал, как Агамемнон заплетающимся языком твердил Одиссею:
– Ахилл… Ахилл…
– Что с ним? – Одиссей тоже был пьян, но сознание его оставалось ясным, как и всегда.
– Помнишь, ты ходил к нему с примирением?
– И?..
– Я обещал ему двадцать самых красивых троянских женщин…
Одиссей еще не понял, к чему клонил Агамемнон.
– И?..
– Ну не думаешь ли ты, что нужно дать ему обещанное?
– Хм… нет, не думаю. Он мертв. Ему не нужно двадцати женщин, даже одна была бы расточительством.
Но Агамемнон был непреклонен: Ахилл должен получить свою долю. Конечно, ему было страшно – и сомневаюсь, можно ли винить его в этом. Я сидела спиной к зеркалу и чувствовала, какой довлеющей силой обладал еще дух Ахилла. Но ужас Агамемнона переступал пределы разумного. Он наклонился к Одиссею и тряс его за плечо. Мол, вспомни, какие беды навлек на них Ахилл из-за одной женщины. Одна девчонка, и он отказался сражаться, потому что не мог больше владеть ею…
– Будь я проклят, мы тогда почти проиграли войну.
Одиссей стряхнул его руку.
– Что ж, теперь эти беды нам не страшны. Ты победил.
– Нет, но Ахилл не даст нам вернуться домой…
– Не представляю, каким образом. – Одиссею уже не терпелось вновь увидеть Пенелопу. – Нужно лишь дождаться попутного ветра. И через три дня мы будем дома.
Но со временем опасения Агамемнона переросли в убежденность. Ахилл должен заполучить девушку, и не какую-нибудь – лучшую из доступных.
И выбор пал на Поликсену, непорочную дочь Приама. Я помнила ее с того времени, как побывала в Трое: крепкая маленькая девочка, сложенная как горная лошадка, с короткими ногами и гривой каштановых волос. Она была младшей из многочисленных дочерей Гекубы, всегда бегала за своими сестрами, и всюду был слышен детский крик: «Подождите меня! Подождите меня!»
Я всю ночь не смыкала глаз, думала о ней. Утром заставила себя подняться с ощущением ее ужаса перед грядущим днем. Но мне и в голову не могло прийти, что наши судьбы переплетутся.
Перед завтраком прибежала девочка, что была на посылках у Гекамеды.
– Гекамеда хочет видеть тебя, – сообщила она, задыхаясь, – и спрашивает, можешь ли ты прийти сейчас же?
Я решила, что Гекамеда больна – ничего другого на ум не пришло, – и потому всю дорогу бежала, не останавливаясь. Ну или пыталась бежать. Моя беременность как раз начала проявляться внешне. Воины все еще спали после разгульной ночи, и стражи Нестора не были исключением. Но сам Нестор был уже на ногах и одет. Гекамеда жестом пригласила меня внутрь.
– Ты уже слышала о Поликсене?
Я кивнула. Слова были излишни, и мы просто стояли в полумраке, глядя друг на друга. Затем Гекамеда сказала:
– Нестор хочет, чтобы я сопроводила ее. Он говорит, что сестрам и матери не позволят быть рядом, и… Поликсена не может пройти туда одна. – Она теребила пальцами уголок своей вуали. – Пойдешь ли ты со мной?
Я уставилась на нее в изумлении. Я видела, как она бледна и напугана – а эта женщина всегда была добра ко мне, когда это действительно имело значение.
– Да, конечно, я пойду, – сказала я.
Гекамеда кивнула. Затем повернулась к столу и принялась раскладывать медовые печенья на поднос.
– Они там ничего не ели.
Голос у нее дрожал. Ей необходимо было чем-то занять себя, лишь бы не думать. Я помогла ей разложить печенье, и прислужники Нестора взялись отнести их на арену. Я сомневалась, что хоть немного из этого будет съедено, но видела, что Гекамеда не сможет сидеть сложа руки. Мы подготовили еще пару блюд с печеньем, после чего приготовились к тому, что нам предстояло увидеть.
Женщин из царского дома – вдову Приама, его дочерей и невесток – содержали в той же хижине, куда меня поместили в ту первую ночь. Внутри было не протолкнуться – даже хуже, чем в прошлый раз. Некоторые из девушек вынуждены были сидеть на голом песке. Спутанные волосы, лица в синяках, глаза налиты кровью, туники изорваны… Родные, и те с трудом признали бы их. Елену разместили в отдельной хижине. Возможно, это и к лучшему: сомневаюсь, что она пережила бы эту ночь в одной хижине с троянскими женщинами. Менелай по-прежнему говорил, что убьет ее, но отказался от изначального замысла. Он решил, что позволит своим землякам убить ее – скорее всего, забить камнями, – но сначала доставит Елену домой. Никто ему не верил. Все знали, что она еще задолго до этого найдет способ пробраться к нему в постель.
Мы прокладывали себе путь сквозь толпу. То и дело на глаза попадались женщины, кормящие грудью новорожденных дочерей. Маленькие девочки безучастно играли в песке. По старой памяти я оглядывала лица, хоть и не надеялась отыскать там сестру. Я высматривала ее среди женщин, когда их гнали по грязной тропе, что вела с поля битвы в лагерь, сбитых в кучу, как стадо овец, ведомое на убой. Если какая-то из женщин падала, ее били древками копий и заставляли подниматься. Я не заметила среди них ни одной беременной или женщины, ведущей за руку малолетнего сына, – Агамемнон был верен своему слову. Я переводила взгляд с одного напуганного лица на другое, но страх придавал им всем сходство. Прошло немало времени, прежде чем я убедилась, что сестры среди них нет. Позднее кто-то рассказал мне, что несколько женщин бросились с башни, когда увидели греков, рвущихся в ворота. Я не знала этого точно, но сразу подумала, что моя сестра могла оказаться среди них. Ианта была способна на такое, я – нет.
Мы разыскали Гекубу и Поликсену, сидящую у нее в ногах. Рядом сидела Андромаха, вдова Гектора, и смотрела в пустоту. Стоящая рядом женщина объяснила мне: Андромахе только что сообщили, что она достанется Пирру, сыну Ахилла, – мальчишке, который убил Приама. Глядя на ее лицо, нетрудно было заметить, как мало ее это волнует. Меньше часа назад Одиссей взял за ногу ее маленького сына и сбросил со стен Трои. Единственный ее ребенок мертв, а ночью ей предстояло раздвинуть ноги перед новым хозяином: безусым юнцом, сыном человека, который убил ее мужа…
Глядя на Андромаху, я вновь услышала последние ноты скорбной песни, сочиненной Ахиллом, – словно я слушала ее долгие месяцы. Слова засели у меня в мозгу, как полчище паразитов, и я чувствовала омерзение. Да, гибель молодого мужчины на поле брани – это трагедия, и не было нужды напоминать мне об этом: я потеряла четырех братьев. Несомненно, эта трагедия заслуживала скорбных песен – но их постигла не худшая участь. Я смотрела на Андромаху, обреченную провести остаток покалеченной жизни в рабстве, и думала: «Нам нужна другая песнь».
Все худшее в судьбе Андромахи уже случилось, но в ногах Гекубы сидела Поликсена – пятнадцать лет, вся жизнь впереди – и пыталась утешить мать.
– Лучше умереть на кургане Ахилла, – говорила она, – чем жить в неволе.
Ох уж это непокорство юности…
Гекамеда продвинулась к Гекубе и что-то быстро ей сказала, после чего отступила в тень. В тот миг наше присутствие было лишним.
У стены бродила Кассандра, другая дочь Приама, заламывала руки, причитала и время от времени пронзительно выла. Я думала, что кто-то из сестер попытается успокоить ее, но от нее отвернулись даже родные. Кассандра была жрицей Аполлона, который поцеловал ее и наградил даром провидения. Однако она отказала ему в близости, и тогда он плюнул ей в рот, и с тех пор никто не верил ее предсказаниям. Алые ленты по-прежнему увивали ее одежды, но цветы в ожерелье уже зачахли. Как ни странно, Агамемнон выбрал именно ее. Лишь богам ведомо, почему: возможно, он решил, что еще слишком мало оскорблений нанес Аполлону. Кассандра всем мешала и всех раздражала, металась по хижине, расталкивая всех, кто попадался на пути. Когда слуги Агамемнона явились за ней, все вздохнули с облегчением. Под конец Кассандра прильнула к матери, бормоча что-то о путах и топорах. Она говорила, что смерть настигнет ее вместе с Агамемноном, что, выбрав ее, он обрек себя на гибель. Никто ей не верил. В таком состоянии слуги и увели ее, проклятую своим же богом.
Когда ее вели мимо меня, один из стражей произнес:
– Будь я проклят, если б лег с ней в постель.
– Да уж, – отозвался второй, – с ней и заснуть побоишься.
Следующей увели Андромаху. Поглощенная своим горем, она даже не заметила, как ее уводили. Но для меня это стало ударом, потому что за ней явился Алким. Наверное, я должна была предвидеть это. Алким служил Ахиллу, а теперь – и его сыну. Само собой, явиться за ней должен был он. Прежде я нечасто видела Алкима. По правде говоря, последние несколько дней я и вовсе избегала его. Мне предстояло провести с ним остаток жизни, и непросто было примириться с этим, зная, что он совершал в последние дни и часы Трои. Теперь я знала одно: что он стал человеком, который увел Андромаху.
Держа ее за руку, Алким остановился подле меня. Я спросила вполголоса:
– Скоро мы отплываем?
– Еще нет, все пока спят. – Он кивнул в сторону Поликсены. – Да еще это…
«О да, – подумала я. – Еще это».
Часы тянулись мучительно долго. Лагерь понемногу возвращался к жизни. Все, что могло быть сказано, уже прозвучало. На лицах были написаны страх и тоска. Люди хотели, чтобы это поскорее осталось позади, и в то же время стыдились своего желания, потому что это были последние мгновения в жизни Поликсены.
– Может, он передумает, – промолвила Гекамеда.
Я знала, что этого не случится. Разве только Агамемнон мог позабыть о сказанном, что было вполне допустимо, если учесть, сколько он выпил накануне. Впрочем, ему бы все равно напомнили: например, Одиссей, который так настаивал на том, чтобы убить сына Гектора. А кроме того, Агамемнон страшился Ахилла, возможно, даже больше, чем боялся его при жизни. При жизни можно было, по крайней мере, задобрить ублюдка – ну или попытаться. Но полагаю, именно эту цель он и преследовал, принося в жертву Поликсену. Нет, Агамемнон не мог отступиться. Он был готов на все, лишь бы удержать непокорный дух Ахилла под землей.
Уже перевалило за полдень, когда за ней пришли. Два воина попытались взять Поликсену под руки и вывести прочь, но Гекуба встала перед ними и посмотрела в глаза сначала одному, затем второму. Напуганные или пристыженные, стражи потупили взоры. В рваной и запачканной тунике Гекуба по-прежнему оставалась собой – царицей. В сущности, применять силу и не потребовалось: Поликсена готова была идти сама. В чистой белой тунике, принадлежавшей Кассандре, и с убранными волосами, она выглядела еще моложе своих лет и была совершенно спокойна, в последний раз обнимая мать и сестер. Мы с Гекамедой встали по обе стороны от нее и в сопровождении стражей двинулись к выходу.
Едва мы оказались на улице, Гекуба взвыла, как волчица, на глазах у которой забили ее последнего детеныша. Поликсена хотела обернуться, но один из воинов грубо схватил ее за руку. Я шагнула вперед и сказала:
– В этом нет нужды.
И, к моему удивлению, воин отпустил ее.
Путь к мысу занял немало времени. Мы шли на шаг позади Поликсены, готовые поддержать ее, если понадобится. Я непрестанно вспоминала ту маленькую девочку, что бежала за сестрами, выкрикивая: «Подождите меня!»
Все войско дожидалось ее появления.
Поликсена твердой поступью приблизилась к подножию кургана, где стояли Агамемнон и Пирр. Пирр стал всеобщим любимцем, потому что убил Приама, и удостоился чести принести жертву над могилой отца. Удивительно, каких почестей заслуживал юноша лишь за то, что зарезал немощного старика. Поликсена дрогнула.
Нестор выступил вперед, что-то шепнул Гекамеде и протянул ей ножницы. Затем, избегая смотреть в глаза, вложил мне в руку нож. Поликсену поставили на колени, и Гекамеда, тщетно пытаясь унять дрожь в руках, стала состригать ее косы. Однако ножницы оказались тупые, и густые пряди застревали между лезвиями. Нам пришлось прерваться и сначала расплести косы – под палящим солнцем, на глазах у многотысячного войска. Наконец-то ее волосы, еще волнистые от тугих лент, рассыпались по спине, ниспадая до самой талии. Каким-то образом нам удалось срезать густые пряди, но к тому времени, когда мы закончили, меня трясло наравне с Поликсеной, и во рту пересохло; то и дело приходилось сглатывать, чтобы унять тошноту. Я помню черные тени на утоптанной земле, палящие лучи, обжигающие шею. Потом, без предупреждения, Поликсена вдруг поднялась, шагнула вперед и начала говорить. Все оцепенели от ужаса. Возможно, они решили, что Поликсена собирается проклясть их, а проклятие из уст идущего на смерть имеет особую силу. Она успела произнести лишь имя Агамемнона, после чего один из стражей схватил ее, а второй вложил между зубами полоску черной материи и крепко стянул на затылке. Затем ей заломили руки и связали за спиной. Остриженная и связанная, лишенная возможности говорить, Поликсена издала глубокий, гортанный рев. Так, бывает, ревут быки у жертвенных алтарей.
За спиной Агамемнона в два ряда выстроились жрецы в красных и черных одеждах и принялись возносить гимны во славу богов.
Поликсену вывели вперед и заставили опуститься на колени в тени кургана. С болезненным видом Пирр шагнул вперед и стал выкрикивать имя отца:
– Ахилл! Ахилл!
И после, дрогнувшим голосом:
– Отец!
В тот миг он показался мне маленьким мальчиком, напуганным темнотой. Схватив Поликсену за остатки волос, Пирр оттянул ее голову назад и занес нож.
Один быстрый и точный удар. Думаю, Поликсена была мертва еще прежде, чем коснулась земли. Или мне хочется верить в это. Так или иначе, нам пришлось смотреть, как ее тело содрогается в предсмертных судорогах.
Никаких церемоний. Всем, включая Агамемнона – в особенности Агамемнону, – хотелось поскорее убраться. А вообще, сомневаюсь, чтобы смерть Поликсены сильно его тронула. Этот человек принес в жертву собственную дочь ради попутного ветра. Я смотрела ему вслед и видела в нем человека, который ничему не учился и ничего не забывал, труса без чести и достоинства. Полагаю, я смотрела на него глазами Ахилла.
Мы с Гекамедой стояли в стороне и подождали, пока разойдутся мужчины, после чего стали спускаться по склону. Мы почти не говорили. Думаю, мы обе замкнулись в себе, сопротивляясь собственным чувствам. В какой-то момент встали и оглянулись на пылающий город. Пламя полыхало красным и оранжевым, и в небо над цитаделью поднимался гигантский столб черного дыма. Меня трясло еще сильнее, чем в тот миг, когда Поликсена упала мертвой. Почему я смотрела на это? Я могла отвернуться или опустить глаза, чтобы не видеть миг ее смерти. Но я хотела, чтобы у меня было право сказать, что осталась с ней до самого конца. Хотела увидеть все сама.
У подножия холма мы остановились. Мы могли вернуться в стан Нестора, засесть в его винном погребе и остаток дня напиваться до бесчувствия. Сомневаюсь, чтобы кто-то попрекнул нас в этом. Но вместо этого, даже не сговариваясь, мы вернулись к хижине, где держали троянских женщин. Внутри стояла невыносимая духота, воздух был пропитан запахом материнского молока и менструальных выделений. Гекуба сидела в оцепенении. Мы сели перед ней на колени и рассказали, как храбро, быстро и легко умерла Поликсена. Гекуба кивала и переминала в руках клочок материи. Не знаю, много ли из сказанного она поняла. Какая-то женщина пыталась дать ей воды, но Гекуба лишь смочила губы и отдала чашу.
Спустя почти час в духоте хижины я почувствовала недомогание, и мне пришлось выйти на арену. Даже там воздух казался раскаленным и напоенным пылью. В дрожащем зное мерцали длинные ряды черных кораблей. Кто-то приближался ко мне сквозь марево, и я присмотрелась к искаженному силуэту: Алким. Он нес в одной руке громадный сияющий щит, а на сгибе другой – сверток, с первого взгляда похожий на связку тростника. Когда он подошел ближе, я увидела, что это мертвый ребенок, и невольно отступила. Я подумала, что должна поскорее вернуться в хижину и предупредить женщин, потому как сразу поняла, что Алким принес маленького сына Гектора. Я не представляла, кто бы еще это мог быть. Но все же я дождалась Алкима у двери.
Мы стояли друг напротив друга, мужчина и женщина, грек и троянка, разделенные мертвым ребенком. Алким рассказал мне, что произошло. Представ перед Пирром, своим новым хозяином, Андромаха упала на колени и молила его не оставлять тело ее сына гнить под стенами Трои, но позволить ему упокоиться рядом с Гектором, на отцовском щите. Ее просьба граничила с безумием – и это касалось не столько погребения, с которым два человека управились бы за час. Андромаха просила щит. Этот щит Ахилл забрал у Гектора в день, когда убил его, и являл собою главную ценность, какую Пирр унаследовал от отца. Щит Гектора занял бы почетное место в чертогах Пелея – в напоминание грядущим поколениям.
Но, стоит отдать ему должное, Пирр согласился. Хоть и не позволил Андромахе самой подготовить ребенка к погребению. Он собирался отплыть, как только переменится ветер, и ей надлежало оставаться на корабле.
– Ну… – произнес Алким. – Вот он. По пути я омыл его в реке. У них не будет на это времени.
Он уложил маленькое тельце на щит и внес в хижину.
Поначалу на него не обратили особого внимания: очередной греческий воин проталкивается сквозь толпу… Но потом кто-то внимательнее взглянул на его ношу. Новость расходилась из уст в уста, и мгновенно хижину наполнил скорбный плач. Гул голосов достиг своего пика, но стал постепенно угасать, когда Алким положил щит у ног Гекубы.
Ничто не помогло бы ей подготовиться к такому. Конечно, она знала, что ее внук мертв, но знать – это одно дело; увидеть же искалеченное, разбитое тело у своих ног – совсем другое. Гекуба рухнула на колени рядом с мертвым младенцем и стала трогать его. В какой-то миг она готова была взять тело на руки, но отстранилась и оставила его лежать в углублении отцовского щита. Не уверена, сознавала ли Гекуба, кого оплакивала в те минуты. Несколько раз она назвала его сыном, словно видела перед собой Гектора – Гектора, каким он был в миг, когда она впервые укачала его на руках.
Алким шепнул мне:
– Я вырою могилу. Мы готовы отплывать; он только ждет, когда сменится ветер. Знаю, это тяжело, но им лучше поторопиться.
Гекамеда сбегала в стан Нестора за белым полотном, и мы помогли подготовить ребенка к погребению. Некоторые из женщин поднесли мелкие украшения – все, что стражи еще не сорвали с них, – и мы повесили их на шею младенца, так, чтобы погребение хоть отдаленно напоминало царственный ритуал.
Гекуба под конец успокоилась, но зияющая рана на голове ребенка причиняла ей страдания.
– Не могу скрыть ее, – повторяла она.
Гекамеда сложила полотно так, чтобы прикрыть младенцу голову, но это не помогло. Гекуба продолжала повторять:
– Не могу скрыть ее, не могу скрыть ее…
Она переминала в руках подол туники и переводила невидящий взгляд с одного лица на другое.
– Не могу скрыть ее.
«Нет, – подумала я. – И никто не сможет».
Потом Гекуба резко села, так, словно ей вдруг стало все безразлично.
– Мы сделали все, что могли, – сказала она, – и теперь должны оставить ребенка. Гектор позаботится о нем в ином мире.
Все мы вздохнули с облегчением. Я только тогда осознала, что проделывала все затаив дыхание.
Алким вернулся с Автомедоном, который помог ему вырыть могилу. Они вместе вынесли щит на улицу.
Гекуба по-прежнему стояла на коленях, раскачиваясь из стороны в сторону, потирая бедра ладонями.
– Им безразлично, – говорила она о мертвых. – Безразлично, проводят им пышные обряды или нет. Все это имеет значение для живущих. Мертвым нет дела.
После этого она притихла. И мы вместе с ней. Но все переменилось, когда вернулись Алким с Автомедоном.
– Нам пора, – обратился последний к Гекубе громким голосом, словно говорил с глухой или помешанной. – Одиссей готов отплывать.
Одиссей убил ее внука, и теперь Гекуба стала его рабыней. Я смотрела, как две женщины помогли ей подняться. Она казалась такой хрупкой, такой тонкой – как листок, до самых прожилок источенный зимними бурями… Казалось, она не сможет пережить даже путь до кораблей. Я надеялась на это, ради ее же блага.
Появились стражи. Теперь не было места мягкости и почтению к старости и немощности. Женщин выгнали на арену и построили в колонну. Мне захотелось взглянуть еще раз на курган, и я направилась было в другую сторону, но один из стражей занес копье, и я отступила.
– Эй, – окликнул его кто-то. – Ты что себе позволяешь? Это жена Алкима.
И воин мгновенно опустил копье.
И вот я вернулась к кургану. Я знала, что должна сделать это. Тело Поликсены лежало там же, где его и бросили. Белая накидка трепетала на ветру, который унесет нас прочь от Трои. Собравшись с духом, я перевернула ее на спину. Глубокий разрез поперек горла напоминал второй рот. Но Поликсена хранила молчание.
Женщине подобает безмолвие…
Я стала распутывать узел у нее на затылке, но тряпка запуталась в волосах, и я провозилась довольно долго. И все это время Поликсена смотрела на меня невидящим взором. Когда я управилась, у меня стучали зубы. Я не выдержала и отвернулась.
Посмотрела вниз. Воины, подобно колоннам черных муравьев, несли на корабли нажитое добро. Скоро в хижинах ничего не останется. Я представила, каким будет лагерь следующей зимой, как ветер будет гулять по пустым комнатам. А весной, через год или два, в канавах прорастут молодые побеги, застрельщики леса, и однажды тот отобьет потерянные позиции. И на побережье ничего не останется, лишь несколько выбеленных солнцем балок. Лишь разрушенные, почернелые башни Трои будут по-прежнему стоять.
Я взглянула на курган и попрощалась с Патроклом, который всегда был добр ко мне. И с Ахиллом. Я не скорбела по нему, не скорблю и теперь. Но я часто о нем думаю. И как не думать? Ведь он отец моего первенца. Но в тот день прощание далось нелегко. Я вспоминала, как он держал меня за подбородок и рассматривал мое лицо, а после вышел на середину арены, поднял руки и сказал воинам: Молодцы, сойдет. И снова, перед самым концом, взял меня за подбородок и приподнял голову. Алким – хороший муж. Он будет добр к тебе. И позаботится о ребенке. Этот голос, довлеющий над всеми другими голосами…
Но чаще мне вспоминаются девушки. Арианна, как она взяла меня за руку, стоя у края башни, а затем развернулась и ринулась навстречу смерти. Или Поликсена, живая еще пару часов назад. Лучше умереть на кургане Ахилла, чем жить в неволе. Я стояла на ветру, ощущая всю низменность и вульгарность своего существа в сравнении с их беспредельной чистотой. Но потом почувствовала, как толкается ребенок, и положила руку на живот. Я не жалела, что выбрала жизнь.
Алким уже торопливо поднимался по склону. Очевидно, корабли были готовы к отплытию. Я в последний раз взглянула на курган. Где-то внизу, под толщей земли, насыпанной мирмидонянами в память о своем предводителе, покоились в одной урне останки Ахилла и Патрокла. Даже с моря виден был этот бурый холм, обожженный солнцем. Наверное, он и по сей день там, только зарос густой травой.
Алким приближался, а я все никак не могла подобрать прощальные слова. Подумала тогда: вот бы предположить – только предположить, – что с течением веков коварные боги сдержат слово и Ахилл обретет бессмертную славу взамен на раннюю смерть под стенами Трои… Какими предстанем мы перед людьми спустя столетия? Я знаю одно: людям не захочется слушать о завоеваниях и рабстве, об убитых мужчинах и мальчиках, о порабощенных женщинах и девочках. Им не захочется знать, что мы жили среди насилия. Нет, им придется по душе нечто более нежное. Быть может, история любви? Я лишь надеюсь, они сумеют разобраться, кто и кого любил…
Его история. Его, не моя. Она оканчивается у его могилы.
Алким уже рядом, я должна идти. Алким, мой супруг. Возможно, немного глуп, но, как сказал Ахилл, хороший муж, который будет добр ко мне и позаботится о ребенке. В конце концов, жизнь с глупцом – еще не худшая участь. Я разворачиваюсь спиной к кургану, и Алким ведет меня к кораблям. Однажды, не так давно, я попыталась оставить историю Ахилла – и не сумела. Теперь начинается моя собственная история.
